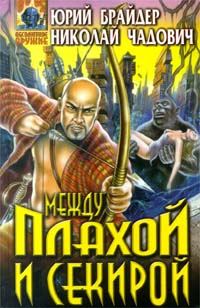
Юрий Брандер, Николай Чадович
Между плахой и секирой
(Миры под лезвием секиры — 2)
Под кем-то лед трещит, а под нами уже ломится.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
И вот они наконец оказались в стране, к которой так стремились все эти последние мучительные дни. Кто-то из смельчаков, побывавших здесь ранее, нарек ее Эдемом, и, по слухам, это было один к одному то самое благословенное местечко, из которого в ветхозаветные времена создатель изгнал строптивых и ослушливых прародителей человеческого племени, сохранившего тем не менее ностальгию о своем счастливом и безгрешном детстве на долгие-долгие века.
Чтобы добраться сюда, им пришлось преодолеть пять совершенно непохожих друг на друга миров, в каждом из которых шанс погибнуть был намного выше шанса уцелеть. Страну эту окружала гибельная для всего живого пустыня, а ближайшие рубежи стерегли могучие и неуязвимые иносущие создания.
Они надеялись обрести здесь покой и спасение, но, еще не успев отдышаться и как следует осмотреться, уже инстинктивно ощутили тревогу. Кто-то напролом шел к ним через волшебный эдемский лес, круша на ходу нежную поросль и с шумом раздвигая густую листву, чья прихотливая и непривычная для человеческого глаза цветовая гамма впечатляла не меньше, чем панно, исполненное великим художником. Что-то недоброе слышалось в этой нарочито тяжелой, уверенной поступи.
Рука Зяблика непроизвольно легла на рукоятку пистолета, а Смыков шепотом спросил Артема:
— Вы, когда здесь шлялись, ничего подозрительного не заметили?
— Нет, — тот отрицательно покачал головой. — Да я и был-то в этих краях совсем недолго. Пока ту траву волшебную отыскал, пока убедился, что это именно она, а не что-нибудь другое, уже пора было к вам на выручку спешить.
Артем был, как всегда, спокоен, ну разве что казался чуть более сосредоточенным, чем обычно.
Кроны деревьев вздрагивали уже на самой опушке леса, но внезапно шум шагов затих. Неведомое существо остановилось и с расстояния полусотни метров разглядывало людей сквозь трепещущую завесу листвы.
— Интересно… — Артем прикрыл глаза ладонью, как будто зрение могло сейчас помешать другим, куда более тонким чувствам. — Это не животное. Но и не совсем человек… Я не могу разобраться в его мыслях… Нам оно явно не симпатизирует… Хотя и ничуть не боится… Уверено в своей силе… Агрессивно… Впрочем, особой опасности пока нет…
— Так вы и мысли читать умеете? — Смыков опасливо покосился на Артема.
— Читать не умею. Но кое-что иногда угадываю… Артем еще не успел закончить эту фразу, как из колеблющегося лесного сумрака выступило существо, вне всякого сомнения принадлежащее к роду человеческому, да еще и не к худшим его образцам. Это был совершенно голый мужчина с длинными волосами и молодой курчавой бородкой. Впрочем, отсутствие одежды компенсировалось наличием чрезвычайно развитых мышц, больше похожих на неуязвимые доспехи, чем на человеческую плоть.
Мужчина направлялся прямо к тому месту, где расположилась донельзя измученная последними приключениями ватага. Выражение лица при этом он имел несколько странное — словно видел перед собой не чужих людей, а каких-то давно примелькавшихся мелких зверюшек, особого внимания не заслуживающих, но чем-то приманчивых нынче, не то шкурками своими мягкими, не то нежным мясцом.
— Не киркоп ли это? — растерянно молвила Верка, сама киркопов никогда не видевшая, но по рассказам Зяблика составившая о них весьма нелестное представление.
— Какое там! — небрежно ответил Зяблик, уже изготовившийся к стрельбе. — Киркопы все сплошь волосатые и рожей на Смыкова смахивают, если того, конечно, ваксой намазать. А это прямо Аполлон Бельведерский!
— Оружия он вроде при себе не имеет, — заметил Смыков, пропустивший очередную подколку приятеля мимо ушей.
— Как же, не имеет! — горячо возразил Зяблик. — Ты посмотри, какая дубина у него между ног болтается! Как для кого, а для нашей Верки оружие прямо смертельное!
— Завидно тебе стало! — огрызнулась Верка. — А ведь и в самом деле красавец… Я себе праотца Адама таким представляла.
— У праотца Адама пупа не было, а я как раз туда целюсь…
Тут в разговор вступил Цыпф. Слова его, как всегда, были скучноваты, зато аргументированы:
— Никакой это не киркоп, а уж тем более не Адам. Это Сергей Рукосуев из ватаги Сарычева. Хотя, конечно, по фигуре не скажешь… Сильно возмужал… Но наколку его я хорошо запомнил.
Голый мужчина тем временем приблизился к ним почти вплотную и присел на корточки, вызвав этим одобрительное замечание Зяблика и возмущенное фырканье Лилечки. Глаза у него были пугающе светлые, как бы совершенно лишенные зрачков, а на левом плече красовалась татуировка, исполненная в два цвета: «Группа Сов. войск в Германии. 1970–1972». Синие буквы выглядели очень четко, а ядовито-розовые расплылись на коже, как на промокашке.
— Здравствуйте, Рукосуев, — не совсем уверенно произнес Цыпф. — Как поживаете? Узнаете меня?
Голый мужчина мельком и без всякого интереса глянул на него, выдернул из земли какой-то корешок и стал грызть, как морковку. Песок противно скрипел на белых, ровных зубах.
— Да он, бедняга, наверное, с ума спятил, — дрожащим голоском сказала Лилечка. — Его приодеть надо да накормить.
— Все, что ему надо, он привык брать сам, — возразил Артем. — Поэтому сохраняйте спокойствие и осторожность.
Было понятно, что голый здоровяк имеет к людям какой-то свой интерес, впрочем, мало чем отличимый от того, который он только что проявил к благополучно схрумканному корнеплоду. Полностью игнорируя присутствие мужчин, он переводил свой жуткий взор с Лилечки на Верку и обратно, словно сравнивая их между собой. Лилечка поспешно спряталась за спину Цыпфа, и даже ко всему привычная Верка поежилась, как от холода.
— Ты буркалы-то на чужое сильно не пяль… — сказала она без обычной своей категоричности. — Лучше иди ровненько туда, куда шел…
Эти слова как будто бы и определили окончательный выбор голого молодца. Чересчур разговорчивая Верка сразу перестала его интересовать, и он сгреб в свои объятия Лилечку. Лева Цыпф, предпринявший героическую попытку защитить девушку, покатился в сторону Нейтральной зоны с такой скоростью и энергией, словно забыл там что-то чрезвычайно для себя важное.
Пинок ногой отбросил Смыкова в противоположную сторону, а от пистолета Зяблика обитатель Эдема, как щитом, оборонился телом Лилечки. Единым духом проделав все эти сложные маневры, он несуетливо, но вместе с тем весьма проворно попятился в сторону леса и лишь в двух шагах от него был остановлен Артемом, действовавшим не менее стремительно и ловко.
Друг с другом они столкнулись всего на одно мгновение, почти неуловимое на глаз. После этого Артем, держа Лилечку наподобие куля под мышкой, отпрянул назад, а жуткое существо, некогда носившее человеческую фамилию Рукосуев, пало на четвереньки. Впрочем, почти сразу стало заметно, что земли оно касается только тремя точками — ногами и левой рукой, — а правую руку, неестественно вывернутую, бережно держит на отлете.
— Слушай, неинтересно с тобой, — поморщился Зяблик. — Вырубаешь всех подряд. Так и квалификации недолго лишиться. Можно, я его добью?
— Стоит ли? — пожал плечами Артем. — Зачем творить беспричинное насилие? Разве вы забыли Талашевский трактат? Ведь он, кажется, составлен не без вашего участия.
— Вот-вот, — поддакнул Смыков, потирая зашибленный бок. — Никаких самосудов. Это может расцениваться как превышение допустимых пределов обороны. Он ведь никого из нас вроде убивать не собирался. Бабу полапал, вот и все.
— Что с вами, либералами, базарить впустую! — Зяблик сунул пистолет за пояс. — Сейте это свое… разумное, доброе, вечное. А взойдут на ваших пашнях одни только драконьи зубы!
Рукосуев, продолжая оставаться в прежней позе, обвел всех мертвящим взором и вдруг оскалился по-звериному.
— Р-р-р-р, — это были первые звуки, которые он издал после того, как появился из леса. — Р-р-разрази вас гром! Зачем руки ломать?
— Уж больно длинные они у вас, — добродушно ответил Смыков, в случае необходимости умевший находить подход и к степнякам, и к арапам, и даже к киркопам, членораздельной речью не владеющим. — Это вам, братец мой, вроде как урок. Чтоб с гостями себя впредь прилично вели. А то встречаете нас без штанов, деретесь, женщин обижаете…
Рукосуев молчал, продолжая сверлить обидчиков своими бешеными бельмами, и каждый, кто встречался с ним взглядом, невольно отводил свой в сторону.
— Вот тут мы уже можем наблюдать плачевные результаты злоупотребления хваленым эдемским снадобьем, — медленно произнес Артем. — Человек по собственной воле превратился в жестокого и всемогущего скота, не ограниченного никакими рамками морали или разума.
— Что хотел, то и получил, — буркнул Зяблик. — Позавидовать можно.
— А если его жизнь заставила? — заступилась за Рукосуева Верка. — С волками жить — по-волчьи выть…
— Какие еще волки в раю, — возразила изрядно помятая Лилечка.
— А это мы скоро узнаем…
— Рациональное зерно этого спора состоит в том, что каждый человек в глубине души стремится ощутить себя в шкуре всемогущего скота, — высказался Цыпф.
— И ты тоже, Левочка? — ужаснулась Лиля.
— Бывает… — потупился Цыпф.
— Давно я говорил, жечь надо этот бдолах проклятый! — Смыков почему-то погрозил пальцем Зяблику. — Жечь и корчевать! И только в одном месте сохранить маленькую деляночку для специальных нужд. При условии строжайшего контроля общественностью.
— Как вы выразились? — переспросил Артем. — Бдолах?
— Да, бдолах, — поспешно пояснил Цыпф. — Это не мы такой термин придумали, а аггелы. Вернее, даже не придумали, а позаимствовали из библейского текста. Там сказано, что Эдем, кроме всего прочего, богат еще и бдолахом, хотя что это такое конкретно, не разъясняется.
— Пусть будет бдолах… — Артем сделал несколько шагов по направлению к Рукосуеву, который при этом весь буквально ощетинился. — Спокойно… спокойно… Никто не собирается причинять вам вред… Вера Ивановна, вы сможете вправить ему руку в локтевом суставе?
— Да ну его! Еще укусит.
— Не бойтесь. Я вас подстрахую. Рукосуев вел себя как попавший в капкан зверь — зло щерился на людей, всем своим видом демонстрируя готовность к схватке, разве что ушей не прижимал. Едва только Верка опасливо попыталась приблизиться к нему с правой стороны, как последовал молниеносный выпад. Пришлось Артему вмешаться и придавить неукротимого молодца к земле.
Пока Верка возилась с поврежденной рукой, Зяблик со стороны подавал советы:
— А что, если его заодно и кастрировать? Ведь такого амбала можно вместо вола в телегу запрягать.
— Я тебя, дешевка, сам сейчас кастрирую! — прохрипел Рукосуев, садясь, но все еще придерживая правую конечность левой.
— Спокойней, спокойней… — Артем, словно невзначай, провел ладонью по его волосам.
— Убери грабли! — Рукосуев вновь оскалился. — Нет у меня рогов, нет! Не ваш я!
— Да ведь и мы сами вроде не рогатые. — Артем отступил в сторону и сделал глазами знак Смыкову: приступай, мол, к допросу.
Тот с готовностью пересел поближе и участливо поинтересовался:
— Вам без штанов удобно?
— Не твое поганое дело! — огрызнулся Рукосуев.
— Я как лучше хочу. У меня запасные имеются. Правда, галифе. Могу одолжить.
— Они самому тебе скоро пригодятся. Надоест менять.
— А такое здесь, значит, возможно?
— Сплошь и рядом.
— Но ведь это же Эдем, так?
— Ну и что?
— А то, что в Эдеме все Божий твари обязаны в согласии жить. И люди, и звери, и даже мошки.
— Про мошек не знаю… А люди здесь точно как звери.
— Вы аггелов имеете в виду?
— Это уж мое дело, кого я имею…
— А Сарычев сейчас где? — заковыристый вопрос прозвучал совершенно невинно.
— Кто? — презрительно скривился Рукосуев.
— Сарычев. Ему полагалось здесь миссию Отчины основать.
— Не знаю я никакого Сарычева!
— А вас как прикажете величать?
— Как хочешь, так и величай… Но за сустав вы мне, сволочи, ответите.
— Рукосуев, — вмешался Цыпф. — Вы должны меня помнить. Ваша ватага перед походом в Эдем у меня припасы и экипировку получала. Сарычев тогда куда-то отлучался, и вы за него расписывались. Я вам еще комплект нижнего белья заменил. Пятьдесят второй размер на пятьдесят четвертый.
— А-а, — безумный взор Рукосуева переместился на Цыпфа. — Так это ты, сморчок, нас рогатым сдал?
— Ну что вы, в самом деле… — обиделся Цыпф.
— Подожди, приятель, — Зяблик в раздражении хлопнул себя по коленям. — Ерунда какая-то получается! Тебе вроде досталось от аггелов. Так и нам они поперек горла давно стоят. Вот давай и объединимся против них.
— Против аггелов? — подозрительно кротко переспросил Рукосуев.
— Ага. Против аггелов, — кивнул Зяблик.
— С ногами у тебя что? На сковородке прыгал?
— Принудили.
— Ну, попрыгай еще. А когда надоест, приходи. Я тебе рога подровняю, если к тому времени отрастут. — Рукосуев вскочил и прежде, чем кто-нибудь успел удержать его, скрылся среди разноцветных лент, полотнищ и перьев дивного леса.
— Кажется, он нас с кем-то путает, — помолчав, сказал Смыков.
— Да у него просто крыша поехала, — сплюнул Зяблик. — Помешался от страха. А может, от одиночества. Видно, аггелы их тут крепко в оборот взяли. Кого побили, а кого на свою сторону перевербовали. Помните ту котельную в Талашевске, где Лева Цыпф боевое крещение принимал? Одного покойника он тогда опознал. Тоже из ватаги Сарычева. Я, Лева, прав?
— Как всегда… Хотя полной уверенности у меня до сих пор нет… Но очень был похож, очень…
— Я одного понять не могу, — Верка почему-то переглянулась с Лилечкой. — У этого Рукосуева действительно память совсем дырявая, или он только прикидывается?
— Дядя Тема, это к вам вопрос, — Лилечка сразу сообразила, что от нее хочет подруга. — Вы же у нас вроде как знаток человеческой натуры.
— А почему Вера Ивановна сама не спросит? — поинтересовался Артем.
— Стесняюсь, — потупилась Верка и незаметно ущипнула Лилечку за бок. — Это я только среди своих такая смелая…
— Возможно, это побочное действие все того же бдолаха. Каждый человек подсознательно желает избавиться от горьких и постыдных воспоминаний. И если таковых чересчур много, в памяти появляются зияющие пробелы.
— Значит, так! — заявил Зяблик веско. — С бдолахом завязываем. Тут Смыков прав. Иногда с ним бывает… Ну если только еще по щепотке для окончательного выздоровления. А все остальное, что добудем, — в неприкосновенный запас. Согласны?
— Мы-то, может, и согласны, — вздохнула Верка. — А как же ты, зайчик, без него обойдешься? Ты ведь форменный алкаш. Тебя все время к какой-нибудь дури тянет. То вином травишься, то махоркой. А тут их нет. Не выдержишь. Сначала одну щепотку примешь, потом другую… А после без штанов будешь ходить, как Рукосуев. Или, как Колька Мутные Глаза, умом тронешься…
— Предлагаю прекратить бессмысленные дебаты, — перебил ее Смыков. — Цели мы своей достигли. До Эдема дошли. И даже без потерь. Если не считать имущества и аккордеона. Сейчас запасемся бдолахом, продуктами на обратную дорогу и кратчайшим путем возвращаемся в Отчину.
Смертельно оскорбленный Зяблик наконец обрел дар речи. Метнув в Верку испепеляющий взгляд, он процедил сквозь зубы:
— Ты, клизма дырявая, не каркай. Умная очень… На себя посмотри, какая от курева стала… И ты, Смыков, тоже хорош… Порешь горячку, в натуре. Эдем тебе не Агбишер какой-нибудь занюханный. И даже не Баламутье. Нам про него, считай, почти ничего и не известно. А место козырное, хоть и засоренное всякими зловредными элементами. От него, бляха-муха, возможно, спасение человеческое зависит. Уж если мы сюда раком по буеркам добрались, то надо все толком разузнать.
— Что — разузнать? — Смыков сделал страдальческое лицо.
— Как что? Есть ли тут сейчас аггелы? Если есть, то сколько? Где их базы? Кто тут еще сшивается? Союзники они нам в перспективе или враги? Какой дорожкой сюда первые аггелы притопали? Ведь никакого бдолаха у них в то время, надо думать, не было. Да и Сарычев свою ватагу в Эдем благополучно довел. Значит, есть какой-то безопасный путь в обход Нейтральной зоны.
— Любопытно бы также узнать, какие страны простираются за Эдемом дальше, — добавил Цыпф.
— План на пятилетку, — подвела итог Верка. — А ты, Толгай, почему все время молчишь?
— Акыл жыю, — ответил Чмыхало скромно. — Ума набираюсь… Не мне тут спорить…
— Тогда голосуем, зайчики. Есть два предложения: побыстрее уйти или чуток подзадержаться.
— Мне позвольте не участвовать, — попросил Артем. — Как-никак, а я здесь вроде бы посторонний.
Переубеждать его не стали. И так было понятно, что в этой компании он экземпляр случайный — совсем как кречет, затесавшийся в воробьиную стаю. И пусть нынче им выпало лететь одним путем, кречет рано или поздно взмоет под облака, а воробьи приземлятся у ближайшей свалки…
Предложение Зяблика неожиданно поддержали все, даже (после недолгого колебания) Смыков.
— Хм, — сказал Зяблик, когда они углубились в райские кущи на приличное расстояние. — Уши прожужжали этим Эдемом! А что здесь, спрашивается, особенного? Ну не растут, допустим, в Отчине или Кастилии такие деревья. Согласен. Зато в Киркопии я еще и почище чудо встречал. С виду гнилой пятиметровый гриб торчит, ни дать ни взять, а дырочку в коре проделаешь — натуральный сидр хлещет. Градусов так примерно семи-восьми. Киркопы как налижутся его, так сразу драться начинают. Тут тебе, значит, и вино, и зрелище, и закуска, потому что древесина у этого гриба нежная, как плавленый сырок. Правда, слегка тухлым яйцом попахивает.
— Везет тебе, зайчик, — с неискренней завистью сказала Верка. — Из гнилых грибов тебе сидр хлещет, от красавиц иноземных отбоя нет, все-то ты на свете видел и слышал, даже людоеды-киркопы о твою задницу зубы поломали. Неспроста это.
— Баланс, — коротко объяснил Зяблик. — Сегодня везет, завтра нет.
Шли они пока что по следу, оставленному Рукосуевым, полагая, что он должен миновать все опасные места, а уж в лапы к аггелам точно не заведет. Деревья и кусты (хотя деление это было чисто условное, зависящее не от морфологии растений, а только от их высоты) росли чрезвычайно густо, но людям не оказывали почти никакого противодействия — хрупкие ветки легко ломались, мягкая листва расступалась даже не от прикосновения, а от одного дыхания, лианы рвались легко, как паутина, шипов и колючек не было и в помине.
— Дядя Тема, — вежливо спросила Лилечка, — вот вы про этого Рукосуева сказали, что он под воздействием бдолаха превратился в жестокого и всесильного скота. Но ведь к аггелам он так и не примкнул. А почему?
— Если бы я знал ответы на все вопросы, девочка… — рассеянно улыбнулся Артем. — Не всегда один хищник идет в услужение к другому. Не все бандиты ладят между собой. Временами случается и так, что злу приходится сражаться на стороне добра. У аггелов немало врагов, но не все они ваши друзья. Вспомни хотя бы инквизицию.
— А Рукосуеву можно как-то помочь? Вернуть его в первоначальное состояние?
— Галифе, скажем, мы на него натянуть сумеем. А вот насчет остального… Пойми, бдолах сам по себе не рождает ни пороков, ни добродетелей. Он лишь освобождает их от оков сознания, выпускает на волю. Добрый и порядочный человек таким и останется, даже если мешок бдолаха съест. Но если в душе червоточина имеется, она очень скоро может превратиться в большую гниль.
— А эта червоточина… откуда она берется? Прямо от рождения? Моя бабушка так говорила: всякий родится, да не всякий в люди годится.
— Мудрая женщина твоя бабушка. Люди действительно рождаются разными, и тут уж ничего не попишешь. Кто-то больше склонен к созерцанию, кто-то к борьбе. Одному на роду написано счастье, другому горе. Некоторые способны жить в согласии с окружающей действительностью, а некоторые стремятся переиначить ее под себя. Это, наверное, предопределенность. Хотя великие подвижники, как и великие злодеи, являются на белый свет не так уж и часто. А у большинства людей в душах примерно всего поровну намешано, и хорошего и плохого. Эти к кому угодно могут примкнуть. Вот за них-то изначально и идет борьба между силами добра и зла.
— Ну и на чьей стороне, по-вашему, успех?
— Если брать в общем, то, по-видимому, ничья. Равновесие.
— Бывают, правда, места и моменты, когда что-то одно сильно перевешивает,
— вступил в разговор Зяблик. — В условиях перебора добра мне жить не приходилось, врать не буду, зато на злодейство человеческое насмотрелся… Занятные людишки в зоне встречались. Я ведь все больше на строгом режиме кантовался. Червонец у нас детским сроком считался. Бригадир — убийца, нормировщик — убийца, каждый второй в отряде тоже убийца. Ну ладно, если ты человека по пьяному делу грохнул или, там, в драке. Это понять можно. Все в жизни бывает. А как понять того, кто маленьких детей ловил и сутки напролет в подвале мучил, щепки и гвозди под ногти загонял? Кто мать родную из-за копеечного наследства подушкой задушил? Или взять того же Ламеха, который сейчас у аггелов в авторитетах ходит. Я его по Талашевской зоне знал. В то время он еще на кличку Песик отзывался. В шестерках крутился. Но уже тогда за ним немало душ загубленных числилось. Хотя на суде всего один эпизод проходил. От вышки Песик только тем отмазался, что все его прошлые дела уже на других лопухов расписаны были, а следователи не сумасшедшие, чтобы под себя копать… Вот вы и скажите теперь, откуда такая мразь отмороженная берется?
— Выродки они, — ответил за всех Смыков. — Больные люди.
— Больные совсем в другом месте сидели! — уже завелся Зяблик. — В психушке! Бессрочно! А к нам только тот попадал, кого экспертиза вменяемым признавала! Может вменяемый человек изнасилованной бабе еще и ножку от стула в задницу загнать?
— Не надо ссориться, друзья, — мягко сказал Артем. — Три тысячи лет назад какой-то безвестный египтянин сочинил притчу о правде и кривде. Кончается она тем, что кривда, олицетворяющая зло, ослепляет правду, олицетворяющую добро. При этом всесильные боги приняли сторону зла. Пройдет, наверное, еще три тысячи лет, а люди по-прежнему будут мучиться вопросом, откуда берется зло и почему оно нередко оказывается сильнее добра.
— Вы хотите сказать, что эта проблема будет существовать до тех пор, пока существует род человеческий? — на ходу обернулся Цыпф.
— Можно сказать и так, а можно наоборот, — усмехнулся Артем, которого этот разговор начал забавлять. — Род человеческий будет существовать до тех пор, пока существует эта проблема. А если проблема добра и зла вдруг утратит свою актуальность, значит, мы имеем дело уже не с людьми, а совсем с другими созданиями, у которых и проблемы другие.
— Позвольте не согласиться с вами, — влез Смыков, когда-то имевший по диамату твердую четверку. — Добро и зло неразрывно связаны с конкретными противоречиями общества. На это есть прямые указания в трудах основоположников. Как только будут устранены социальное неравенство и эксплуатация человека человеком, зло исчезнет само собой. В бесклассовом обществе про эту проблему забудут.
— Опять двадцать пять! — застонал Зяблик. — Лично тебя кто-нибудь эксплуатирует? Ты социальное неравенство испытываешь? Тогда какого же хрена ты зло творишь?
— Какое зло? — взбеленился Смыков, очень гордый своим предыдущим высказыванием. — Кому я что-нибудь плохое сделал? Попрошу привести примеры!
— Уголовные дела на невинных людей стряпал? Стряпал… — начал загибать пальцы Зяблик. — В инквизиции сексотом состоял? Состоял… На Верке жениться обещал? Обещал… Обманул? Обманул… Меня под пули подставлял? Подставлял, да еще сколько раз…
— Тьфу! — сплюнул в сердцах Смыков. — Какой абсурд вы, братец мой, несете! Мы же говорим о зле в философском, так сказать, плане… При чем здесь я? Я продукт своей эпохи! Не забывайте о наследии проклятого прошлого, отголосках классовой борьбы и враждебном окружении!
— Какое наследие? Какие отголоски? Какое такое враждебное окружение? — Зяблик постучал себя пальцем по лбу. — Просто у тебя башка дубовая! Заучил когда-то чушь собачью и твердишь ее, как дурной поп свои святцы. Справедливое общество полвека строили! Так где же оно? Мешали вам все время! То буржуи, то троцкисты, то кулаки, то вредители, то жидомасоны! Кила вам собственная мешала, которую вы нажили, читая труды основоположников! Кто может помешать человеку справедливым быть? Сосед? Жена? Участковый?
Смыков уже собирался в своей обычной манере возразить, что все наскоки Зяблика голословны и базируются не на знании законов общественного развития, а на личных обидах и беспочвенных амбициях, но ему помешала Верка, не терпевшая в последнее время идеологических споров.
— Тихо вы, самцы! И что у вас за порода такая горластая? Орете, как петухи, на всю округу! Да хоть бы по делу! А ведь ни яйца снести, ни даже курицу толком оттоптать не умеете! Только бы все на глотку брать! Станешь тут с вами… этой… как ее…
— Феминисткой, — подсказал Цыпф.
— Да нет, лесбиянкой!
Смыков, уже и не знавший, с кем спорить — то ли с Зябликом, то ли с Веркой, — просто махнул рукой и прибавил шагу. Артем, как бы подводя итог бурных прений, сказал Зяблику:
— Тяга к мечте так же свойственна роду человеческому, как и вечные метания между добром и злом. Разве вы не согласны со мной? Любая религия есть не что иное, как детально разработанная мечта. Мечта о спасении души, о воздаянии по заслугам, о пришествии царства Божьего. Поэтому я не вижу ничего плохого, если кто-то мечтает о справедливом обществе и грядущем братстве людей.
— Когда зек на нарах дрочит, он тоже кое о чем мечтает. — Зяблик деликатно откашлялся в кулак. — Но вреда от этого, кстати, никому нет. А если его ради чьей-то мечты насильно в позу ставят, это уже совсем другой коленкор. По закону квалифицируется как уголовное преступление. Как же тогда, спрашивается, к тем козлам относиться, которые ради своей мечты о справедливом обществе целый народ изнасиловали? Уж извините за грубое сравнение…
— Ничего, — улыбнулся Артем. — Грубо, зато убедительно… Да только история прямых путей не знает. Слепа она, как и эволюция. Тычется наугад носом. То в огонь угодит, то в родниковую воду…
— То в дерьмо, — подсказал Зяблик.
— Не без этого…
— Короче, не способны люди дерьмо от родниковой воды отличить? В историческом смысле?
— Пока не вляпаются по уши. Хотя из кучи дерьма выбраться еще можно. Есть вещи похуже. Знали бы вы, сколько смертоносных ловушек расставлено на путях истории.
— А вы знаете? — Зяблик покосился на Артема.
— Никто этого не знает… Однако мне приходилось видеть, как в таких ловушках гибли великие народы. Парадоксально, но самые опасные ловушки они строили своими собственными руками.
— А я про что? Лепили башню до неба, а оказались в вонючей яме.
— Ну все! — спустя несколько часов не выдержала Верка. — Не могу больше! Разве это лес? Да тут и двух одинаковых деревьев не найдешь! Я в соснячок хочу! В березняк! Чтобы ягоды можно было собирать, чтобы иголки за шиворот сыпались, чтобы мошкара кусалась! В гробу я ваш рай видала! Тут даже под кустик присесть совестно! Ну прямо как на приеме у английской королевы!
— Действительно, — согласился Зяблик. — Странное место. Не лес, а пшик какой-то. Ни тебе плодов, ни орехов. Так и ноги с голодухи протянуть недолго.
— Все вам не слава Богу! — возмутился Смыков. — Рай и тот не нравится. Лишь бы только охаять! Да вы в таком месте отродясь не бывали. Под ноги себе гляньте! Ни ветки сухой, ни пенька гнилого, ни бурелома. Парк, а не лес.
Они уже давно оставили след Рукосуева и все больше забирали вправо (Смыкову показалось, что в той стороне шумит река). В зарослях насвистывали, верещали и попискивали какие-то живые существа, но до сих пор на глаза людям попадались только порхающие у самой земли студенистые создания — что-то вроде летающих медуз — да фантастического вида полунасекомые-полуцветы.
— Вы бы нам хоть бдолах тот показали, — обратилась Верка к Артему. — Любопытно знать, как он в природе выглядит. Или это секрет?
— Нет, не секрет, — неохотно ответил Артем. — Только бдолах в лесу не растет.
— А как вы его сами нашли?
— Долгая история…
— Не хотите, значит, рассказывать, — томно вздохнула Верка.
— Тут и рассказывать нечего. Совершенно случайно наткнулся. На вид это ничем не примечательное растение. Вроде одичавшего ячменя. Запах, правда, незабываемый. Голова кругом идет. Если вы на бдолах случайно наткнетесь, то сразу об этом догадаетесь. Ощущение возникает такое… словно ненароком забрел на плантацию созревающего опиумного мака.
— А следов вы там подозрительных не видели? — поинтересовался Смыков. — Тропинок, кострищ, выкошенных участков?
— Нет. Я ведь уже говорил, что в первый раз пробыл здесь совсем недолго…
— Атанда! — цыкнул на них шагавший в авангарде Зяблик. — Замрите! Поблескивает что-то прямо по курсу.
И действительно, среди мельтешения тончайших разноцветных полотнищ впереди можно было заметить отблески холодного серебра. Зяблик, сделав рукой предостерегающий жест, скользнул дальше, а все остальные присели на корточки. Очень не хотелось верить, что здесь, в благодатном Эдеме, их может подстерегать какая-нибудь опасность.
В тягостном ожидании тянулись минуты. Наконец издалека донесся вполне будничный голос Зяблика:
— Подгребайте сюда. До реки Евфрат дошли.
Берег спокойной и широкой реки подступал прямо к опушке леса, и пышные гирлянды листьев лежали на воде, как волосы дриад. У дна шныряли речные существа, совсем не похожие на рыб: пестрые шары, при каждом движении превращавшиеся в блин, толстые червяки с роскошными крыльями-плавниками, какие-то корявые обрубки, чьи головы украшали целые гроздья глаз.
Сначала река показалась Цыпфу удивительно мелкой (каждый камушек на дне можно было различить), но, внимательно присмотревшись, он понял, что это всего лишь иллюзия, причина которой — удивительная чистота воды. На самом деле даже у берега глубина превышала человеческий рост.
— А почему вы эту реку Евфратом назвали? — спросила у Зяблика любопытная Лилечка.
— Да так, просто на ум взбрело… Лева, какая там река Эдем орошала?
— В Библии она не поименована, — ответил Цыпф. — Но древние могли подразумевать под ней и Тигр, и Евфрат, и даже Инд.
— Тогда отметим это дело! — Зяблик встал на колени и зачерпнул пригоршню воды. — Вкуснятина! Не хуже нарзана.
— Вы по берегу без толку не шатайтесь, — недовольно буркнул Смыков. — Не у себя дома… Кто жажду утолил, пусть лучше в кустах отдыхает.
Однако никто не принимал его ворчание всерьез — уж очень мирный, умилительный пейзаж расстилался вокруг. Лилечка и Верка ушли вниз по течению, сказав, что им нужно кое-что простирнуть. Зяблик, выломав длинную ветку, пытался загарпунить какую-нибудь речную тварь. Толгай, ощущавший себя здесь почему-то не в своей тарелке, всячески отговаривал его от этого сомнительного эксперимента. Смыков, взобравшись на достаточно прочное дерево, придирчивым оком озирал райские дали. Словом, все были заняты делом, кроме Артема и Цыпфа, босиком прогуливавшихся по бережку.
— Внешний вид здешней флоры и фауны наводит на мысль, что эта страна никогда не принадлежала планете Земля, — сказал Цыпф, нюхая пальцы, которыми он перед этим тщательно растер пучок травы.
— Или такой планета Земля будет через миллионы лет, когда воспоминания о человечестве уже сотрутся в ее памяти, — произнес Артем, внимательно озираясь по сторонам. — Столь упоительный воздух и столь кристальная вода бывают, наверное, только в необитаемых мирах.
— Раньше вы не встречали ничего похожего?
— Трудно упомнить все, что я встречал, — уклончиво ответил Артем.
— Однако ваше поведение выдает неподдельный интерес к окружающему. Все остальные места, где нам пришлось побывать до этого, вызывали у вас скорее скуку.
— Я и сам не знаю, в чем тут дело… Вроде бы этот мир и не представляет из себя ничего особенного… Но зачем тогда его стерегут Незримые?
— А их самих нельзя спросить? — осторожно поинтересовался Цыпф. — Вы ведь вроде имеете отношение ко всяким сверхъестественным созданиям…
— Спросить можно, — рассмеялся Артем. — Но это примерно то же самое, что спросить у деревьев, почему они растут вверх кроной, а не корнями… Человек не способен вступать в контакт с Незримыми. Хотя есть отдельные личности, предназначение которых как раз и состоит в том, чтобы служить посредниками между людьми и подобными существами. Их иногда называют Всевидящими Отче. С некоторыми мне даже довелось когда-то водить дружбу.
В обычно бесстрастных глазах Артема промелькнуло нечто такое, что Цыпф определил как тень воспоминаний, и скорее всего воспоминаний невеселых. Будучи от природы человеком деликатным, он поспешил перевести разговор на другую тему.
— Выходит, вы и сами не знаете, чем вас так заинтересовал Эдем?
— Вот это как раз и есть то, что называется сакраментальным вопросом… Где-то на Тропе или в одном из ее закоулков должен существовать так называемый Изначальный мир. Все остальные миры лишь его неудачные копии. Именно туда лежит мой путь. Только там я узнаю о своем предназначении. Вот я и подумал…
— Что Эдем и есть тот самый Изначальный мир? — едва не ахнул Цыпф.
— Примерно так… Но очень скоро я разочаровался. Изначальный мир невозможно спутать ни с каким другим. Он узнается сразу, как покинутый в детстве родной дом, как заветная, много раз виденная во сне мечта… Это должно быть как удар, как озарение… А здесь, увы, все совсем не так, хотя и есть что-то, отличающее Эдем от прочих миров… Вот только что именно?
— Давайте возвращаться, — Цыпф оглянулся назад. — А не то товарищ Смыков вынесет нам выговор с последним предупреждением.
— Одну минуточку… — Артем придержал Цыпфа за рукав. — Я специально искал случай, чтобы переговорить с вами наедине. Не хочу обидеть ваших товарищей, но вы мне кажетесь наиболее здравомыслящим из них. То, что я собираюсь сообщить вам, в условиях публичного обсуждения может вызвать… неоправданно бурную реакцию.
— Нам опять грозит какая-нибудь опасность? — насторожился Цыпф.
— Сам не знаю… Но разговор пока не об этом. Дело давнее… Перед тем как отправиться в странствия по Тропе, я получил от своих покровителей инструктаж… Или, если хотите, пророчество. Кроме многого другого, мне было также предсказано, что, странствуя из мира в мир, я буду постепенно меняться, приобретая новые качества, необходимые для успешного завершения этой тайной миссии. Так оно и случилось… Сначала я приобрел неуязвимость и силу, затем способность перемещаться во времени.
— Разве такое и в самом деле возможно? — У Цыпфа от удивления полоски бровей выгнулись домиками.
— Представьте себе, возможно. В мироздании все сущее связано между собой — и пространство, и время, и разум, и дух, и живая и мертвая природа. Все это родилось в одной колыбели и со временем ляжет в одну могилу или скорее всего сгорит в одном грандиозном аутодафе (Аутодафе— публичное сожжение осужденных по приговору инквизиции.). В каком-то смысле структура времени так же родственна нам, как это небо, эти камни, эти деревья и эти бессловесные твари. Стихии не тяготеют над людьми, люди сами есть частичка всех стихий. Проникновение во время — это всего лишь очередной этап проникновения в окружающий мир. Здесь нет ничего принципиально невозможного.
— Вы хотите сказать, что прямо сейчас можете отправиться в прошлое или будущее? — Цыпф снял и опять надел очки, от волнения едва не угодив дужкой в глаз.
— Совершенно верно. Но каждый раз это сопровождается грандиозными катаклизмами, последствия которых невозможно предсказать… Но и об этом как-нибудь в другой раз. Дело в том, что совсем недавно я приобрел еще одну не совсем обычную способность.
— Перемещаться в пространстве?
— Можно сказать и так… Проникать сквозь не воспринимаемые человеческими чувствами стены, разделяющие мироздание на отдельные миры. Первый мой опыт подобного рода вы видели в окрестностях несчастного города Сан-Хуан-де-Артеза. Моим невольным учителем стал варнак, зачарованный Лилечкиным музицированием, а вся, так сказать, техническая работа была проделана существом, претендующим вместе со мной на эту телесную оболочку, — Артем ткнул себя в грудь большим пальцем правой руки.
— Кешей? — уточнил Цыпф.
— Кешей, — кивнул Артем. — Хотя надо признаться, что действовал он из чисто эгоистических побуждений. Если бы не его своевременное вмешательство, силы, возникающие при пробое межпространственной стены, превратили бы меня в нечто столь же бестелесное, как тень отца Гамлета, но куда более безобразное… Ясно, что это не устраивало Кешу, успевшего обжиться в моей шкуре… А теперь представьте себе, какие последствия может иметь это событие?
— Вы сможете по своей воле покидать Тропу и снова возвращаться на нее, — не задумываясь ответил Цыпф.
— Естественно. Ради этого я и охотился за варнаками. Хотя мой путь по Тропе это вряд ли сократит… Что еще?
— М-м… — Цыпф наморщил лоб. — Еще это обеспечит вашу личную безопасность. Вы можете бесследно исчезнуть в любой момент и в любом месте.
— Вот именно! Догадались. Но первым об этом догадался Кеша. В прагматизме ему не откажешь. Он стал свободно пользоваться этой возможностью и даже не спрашивает моего согласия. Вот как, например, выглядело мое первое пребывание в Эдеме. Едва я проник сюда через мир варнаков, как Кеша полностью завладел нашим общим сознанием. Обычно я не сопротивляюсь этому, зная, что он не подведет. Следующее, что я помню, — поле, сплошь заросшее бдолахом. Кеша сам вывел меня к нему. Но едва я успел наполнить сумку, как он буквально выпер меня из Эдема. Хорошо хоть в Нейтральную зону, а не обратно к варнакам… Что-то ему здесь определенно не нравится. — Артем вновь оглянулся по сторонам.
— А сейчас он вас не донимает?
— Притих. Чувствует, что я больше не позволю застать себя врасплох. Копит силы. Подгадывает момент.
— Значит, когда он скопит силы и подгадает момент, вы можете просто исчезнуть с наших глаз?
— Увы, — развел руками Артем. — Но я не хочу, чтобы вы воспринимали это как бегство. Хотя, думаю, и вам здесь задерживаться не следует. Соберите побольше бдолаха и возвращайтесь в Отчину.
— Где же его искать?
— Если бы я знал… Помню только, что это было открытое место, вроде степи. Ни реки, ни леса я поблизости не заметил.
— Жаль, что мы отпустили Рукосуева, — посетовал Цыпф. — Уж он то, наверное, мог вывести нас куда надо.
— Сомневаюсь… Как я понял, обычными средствами его к сотрудничеству не склонить. Я имею в виду уговоры, угрозы, подарки… Он не доверяет нам.
— Вы допускаете присутствие в Эдеме какой-то серьезной опасности? Но ведь Рукосуев прожил здесь больше года — и ничего.
— Вы хотите стать похожим на него?
— Лично я — нет.
— Вот видите… Поэтому не стоит понапрасну рисковать. Это не ваш мир, пусть он и в самом деле выглядит как земной рай. Я к таким делам привычен, а вы можете попасть в неприятную историю. Обычная логика и благоприобретенный опыт здесь не только бесполезны, но и опасны. Шаблонные действия равносильны самоубийству, а научиться всему сначала способен далеко не каждый. Пока я здесь, бояться нечего, но… не забывайте, что в любой момент вы можете остаться в Эдеме одни.
Уже издали было слышно, как Смыков и Зяблик что-то бурно обсуждают, а в их спор то и дело вплетается ехидный голос Верки. На обычные препирательства бывшей жертвы режима и бывшего его столпа это не походило.
— Наша работа, наша, — твердил Зяблик. — Заточки всякие бывают. И длинные, и короткие. Смотря для какой нужды. Фраера в толпе пырнуть — одно дело, а от ментов отбиваться — другое.
— А паз зачем? — не соглашался Смыков. — Вы мне, братец мой, объясните, для чего здесь паз проточен.
Вся ватага, сбившись в кучу, рассматривала какой-то предмет, находившийся в руках Смыкова. Цыпф, обеспокоенный мрачными предостережениями Артема, спросил с тревогой:
— Что там у вас случилось?
Зяблик с досадой отмахнулся, зато Смыков стал с готовностью рассказывать, как бы желая склонить Цыпфа на собственную сторону. При этом он демонстрировал свою находку: полуметровый металлический стержень, один конец которого был заточен, а второй расклепан на манер ласточкина хвоста.
— Вот, обнаружил случайно… В дереве торчал. Зяблик доказывает, что это обыкновенная бандитская заточка, а по-моему, это стрела или дротик местного производства. Посмотрите, острие закалено. А тут стабилизатор с пазом для тетивы.
— Где ты, голова садовая, видел, чтобы стрелы целиком из железа делали? — накинулся на Смыкова Зяблик. — Это то же самое, что свиней апельсинами кормить. Бесполезно и накладно.
— А арбалеты, по-вашему, чем стреляли? — хитро ухмыльнулся Смыков.
— Дурак, у арбалета стрела вот такой длины была, — Зяблик пядью расставил большой и указательный палец. — Не стрела, а болт. Тем более, ты арбалет с луком не ровняй. У того тетива втрое мощней… А это заточка из электродной стали. Что я, заточек не видел?
— Хорошо, а стабилизатор зачем? — не сдавался Смыков.
— Кто тебе сказал про стабилизатор? Сюда ручка деревянная насаживалась, понятно? Серьезная вещь. Не иначе как аггелы потеряли.
— Зачем аггелам заточки? Мало у них пистолетов и штык-ножей?
— А стрелы им тем более ни к чему. Видел ты хоть одного аггела с луком или арбалетом?
Дискуссия зашла в тупик. Не находя больше существенных доводов в свою пользу. Зяблик и Смыков принялись обмениваться советами: в какое конкретно место каждый из них может засунуть загадочную железяку. Чаще всего почему-то упоминались различные полости человеческого тела.
— Дайте-ка. — Артем вдруг заинтересовался предметом спора.
Взвесив стержень на ладони и по принципу коромысла определив центр тяжести, Артем несколько раз метнул его в ближайшее дерево (острие всякий раз глубоко вонзалось в податливую древесину), а потом легко согнул на манер кочерги.
— Мне кажется, что правы вы оба, — сказал он, закончив свои эксперименты.
— Один из вас прав в том, что это, несомненно, метательное оружие. В противном случае оно было бы закалено по всей длине. А другой прав в том, что изготовлено оно в Отчине из сварочного электрода.
— На кого же здесь с такими стрелами охотятся? — удивилась Лилечка.
— На людей, вестимо, — с постным выражением лица объяснила Верка. — Вот тебе и рай земной! Везде одно и то же.
Цыпф, который старался никогда никому не навязывать своего мнения, тут не утерпел (слова Артема не шли у него из головы):
— Стоит ли придавать такое значение всякой ерунде? Железо наше по всем странам расползлось от Киркопии до Баламутья. Ведь никто и не доказывает, что Эдем — необитаемое место. Бывали здесь люди до нас. Не только Сарычев со своей ватагой да аггелы, но, наверное, и еще кто-то. И что тут удивительного, если они были вооружены луками. Пистолетов на всех не напасешься… Я это к чему говорю? Не надо забывать цель нашего путешествия в Эдем. Не до расследований сейчас. Каждая минута дорога. Бдолах надо искать и назад подаваться. Не в гостях мы…
Возразить тут было нечего. Один лишь Зяблик отбросил кривой стержень в сторону, буркнул про то, что для нормального дела и стрелы нормальные ладятся, а железная стрела то же самое, что серебряная пуля, — на того рассчитана, из кого жизнь вот так запросто не вытряхнешь.
На его брюзжание никто внимания не обратил, и решено было отправляться в глубь Эдема за бдолахом. Немедленному началу экспедиции мешали два обстоятельства — достаточно глубокая река, отсекавшая райский лес от райских лугов, и чувство голода, к этому времени уже достигшее интенсивности настоящей пытки.
Чистейшая эдемская вода не умаляла, а, наоборот, возбуждала аппетит. Речная живность легко уходила от примитивной остроги Зяблика, да и мелка была чересчур, чтобы насытить всю компанию. Вспомнив пример Рукосуева, стали выдергивать из земли все, что видом напоминало корнеплоды, а размером превосходило мизинец.
— Вы, Вера Ивановна, ежели добродушно настроены, как нас называете? — спросил Смыков, ножом очищая что-то похожее на редиску.
— Зайчиками… — внятно говорить Верке мешал набитый рот.
— Правильно называете! — Смыков ухмыльнулся своей собственной шутке.
Некоторые корешки сильно горчили, другие были безвкусны, как мякина, но попадались и такие, что могли привести в восторг и самого взыскательного гурмана.
— Вы вот это попробуйте, лиловенькое, — советовала Лилечка. — Ну прямо настоящий шоколад.
— А ты шоколад пробовала? — поинтересовался Зяблик.
— Бабушка рассказывала.
— Анекдот про шоколад хочешь послушать?
— Если похабный, то не хочу.
— Самый что ни на есть приличный. В детском саду можно рассказывать… Приезжает, значит, чукча в Москву…
— Кто? — переспросила Лилечка.
— Чукча. Народ такой был, вроде тех гавриков, что сейчас по Хохме на бегемотах разъезжают. А Москва — это город такой. Вроде Талашевска. Только побольше. Столица нашей бывшей родины.
— Про Москву я что-то слышала, — кивнула Лилечка.
— Просто замечательно. Можно продолжать?
— Ага.
— Какие там дела у чукчи в Москве были, не знаю, но кто-то его шоколадом угостил. Целой плитки не пожалел. Шоколад, к твоему сведению, в плитках выпускали. Вот… Вернулся, значит, чукча домой. Позвал в свой чум соседей и давай рассказывать, какой это замечательный город Москва. А напоследок говорит, дескать, довелось мне там одно лакомство попробовать. Шоколадом называется. Коричневое, квадратное, а вкус такой, что и описать невозможно. Соседи, само собой, удивляются. Неужели вкуснее жареной оленины? Вкуснее, отвечает чукча. Неужели вкуснее мороженой рыбы? Вкуснее. Соседи уже на рогах стоят, не верят ему. Неужели вкуснее тухлой моржатины? Вкуснее, упирается чукча, ну так вкусно, так вкусно… как будто бабу трахаешь!
Лилечка заалела личиком и бросила в Зяблика недоеденным лиловым корешком, а Верка не без сарказма заметила:
— Тебе-то самому, зайчик, тухлая моржатина наверняка вкуснее бабы.
Короче, наесться толком не наелись, но хоть животы набили. Пора было и к переправе приступать.
Половина ватаги сразу понурила головы. Если не считать Артема, более или менее прилично на воде держались только трое: Зяблик, Смыков и, как ни странно, Верка. Цыпф и Лилечка, взрослевшие в эпоху тотального обмеления водоемов, плавать почти не умели, а Толгай вообще чурался водных процедур, как паршивый кот.
— Давайте брод поищем, — неуверенно предложил Цыпф.
— Давайте поищем, — Зяблик зловеще прищурился. — Авось, через недельку и найдем. Сам же говорил, оратор хренов, что каждая минута дорога. Навязались на мою голову…
— Аркан давай, — нагло заявил Толгай. — Я аркан на тот берег брошу. По аркану быстро-быстро переберемся.
— Рожу я тебе аркан, что ли? Вот, бери все, что есть! — Зяблик рванул брезентовый ремень, подпоясывавший его штаны, да, видно, перестарался — ремень лопнул, лишив своей поддержки пистолет. Пришлось Зяблику переложить его в карман куртки. Без матюгов, естественно, не обошлось.
— Вы в самом деле хотите перебраться на тот берег? — поинтересовался Артем.
Недоумевая по поводу столь риторического вопроса, ватага тем не менее была вынуждена подтвердить свое намерение, хотя и на разные лады, начиная от решительного «Еще как!» — Зяблика и кончая уклончивым «Ну наверно…» — Лилечки.
— Нет, не верю, — покачал головой Артем. — Никакой страсти. Вы не хотите, а только соглашаетесь. А надо гореть желанием. Просто разрываться от чувств.
Только теперь его мысль стала доходить до понимания широких масс.
— Вы думаете, бдолах поможет? — воскликнула Лилечка.
— Непременно. Но для этого нужно очень захотеть.
— Я хочу, но боюсь.
— Чего боишься?
— Захлебнуться.
— Смерти, проще говоря, боишься. А если смерти боишься, значит, жить хочешь. Сейчас, правда, не очень сильно хочешь, но когда захлебываться начнешь
— захочешь по-настоящему. И тогда бдолах начнет действовать.
— Неужели он меня плавать научит? — Лилечка еще раз продемонстрировала степень своей наивности.
— Нет, конечно. Но зато поможет тебе выжить. Даст новые силы, изменит активность газообмена в крови, блокирует накопление углекислоты… В этих вопросах я, признаться, не специалист, но, думаю, на какое-то время твой организм станет как у ныряющего кита. Они ведь воздухом дышат, а под водой и по часу могут находиться. Главное, не впадать в панику и постоянно хотеть, желать, алкать спасения.
— Но я все же не понимаю… — Лилечка зябко передернула плечами, словно уже ощутила кожей холод речных глубин. — Плыть-то как? Я ведь даже по-собачьи не умею.
— Ты ходить умеешь?
— А разве не заметно? — обиделась Лилечка.
— Вот и решение проблемы. Ты не поплывешь, а пойдешь по дну. Вода чистая, дно песчаное, с пути сбиться невозможно. Всего-то и надо сделать шагов пятьдесят. На всякий случай тебя будут страховать. Один человек на том берегу, второй на середине реки, третий здесь. Согласна?
— А разве есть выбор? — Губы Лилечки дрогнули, а в глазах блеснула предательская влага.
— Выбор есть почти всегда… Оставайся на этом месте и жди нашего возвращения. Или добирайся до Отчины самостоятельно, — голос Артема внезапно приобрел необычную для него резкость.
— Нет-нет! — Лилечка испугалась уже по-настоящему. — Я с вами!
Пока Смыков — по его собственному заявлению, лучший пловец ватаги, не тушевавшийся ни перед крутыми волнами Карибского моря, ни перед мутными, кишащими крокодилами водами Лимпопо, — классическим брассом пересекал реку (имея на голове сверток одежды, в середину которого было запрятано личное оружие), Цыпф, Лилечка и Толгай лошадиными дозами поглощали бдолах. Свою долю попытался урвать и Зяблик, уже раздевшийся до кальсон (во время подводной переправы ему поручалось патрулирование по стрежню реки), но получил от Верки по рукам.
— Не трогай! — прикрикнула она. — Мало ли что тебе в воде захочется! Еще акулой себя возомнишь. Придется вырезать плавники и жабры.
Выждав для верности несколько минут (бдолах был сырой, неочищенный и мог действовать с замедлением); Приступили к форсированию райской реки. Первым пустили Толгая — как личность с наиболее устойчивой психикой. Глядя, как он, держа перед собой вместо балласта увесистый камень, осторожно входит в воду, Верка процитировала по памяти неизвестно из какой книжки:
— Сначала всегда кормили дедушку. Если по прошествии часа он не проявлял признаков отравления, за трапезу принималась вся семья.
Толгай, видевший смерть чаще, чем иные — срамное место своей жены, на этот раз заметно трусил. Причина его водобоязни, возможно, проистекала из того же источника, что и страх средневековых европейцев перед явлением кометы — в этих столь разных природных стихиях недалеким людям чудилась злая воля высших сил.
— Вдохни поглубже! — посоветовал Артем, когда над водой осталась торчать только голова Толгая.
Однако тот так оробел, что перестал ясно понимать русскую речь и вместо глубокого вдоха сделал глубокий выдох. Так он и ушел на глубину, даже пузырей не пустив, а для наблюдателей, оставшихся на берегу, сразу как бы укоротившись вдвое.
Цыпф, с трепетом следивший за тем, что в самое ближайшее время предстояло проделать и ему самому, по привычке отсчитывал время по ударам собственного пульса. Он прекрасно понимал, что идти под водой, борясь одновременно и с течением, и с удушьем, и с выталкивающей силой, совсем не то же самое, что праздно разгуливать по бережку, но тем не менее в душе клял Толгая за медлительность. Наконец тот достиг середины потока — об этом взмахом руки известил Зяблик, плывший параллельным курсом. После этого темп подводного марша еще более замедлился, — и две или три минуты спустя Толгай все еще продолжал топать по дну. Это скорее радовало, чем пугало, — любой другой на его месте, исключая разве что профессиональных ныряльщиков, уже давно бы захлебнулся. Следовательно, расчеты на всесильность бдолаха оправдались.
Никому из оставшихся на этой стороне уже не было видно Толгая, но и Зяблик и Смыков жестами сигнализировали, что все покуда в порядке.
Вскоре вода у противоположного берега забурлила, и на поверхности показалась голова — круглая, сплошь облепленная волосами и поэтому похожая на черный бильярдный шар.
— Уф! — облегченно произнес Толгай, предварительно выпустив изо рта фонтанчик воды. — Хелден тайдылар… Из сил выбился.
— Зато можешь еще года два не мыться! — крикнула со своего берега Верка.
Смыков помог Толгаю выбраться на сушу, а Зяблик поплыл обратно.
— Ну, кто следующий? — спросил Артем.
— А можно мы вдвоем? — Выражение на лице Лилечки было примерно такое же, с каким королева Мария-Антуанетта всходила на эшафот.
— Да-да! — заторопился Лева Цыпф. — Мы вместе…
— Как угодно, — кивнул Артем.
— Очки не забудь снять, кавалер, — добавила жестокосердная Верка.
Заранее заготовленные камни лежали на берегу. Лилечка взяла один в охапку, осторожно, как мину. Лева зажал другой под мышкой, а свободной рукой обнял спутницу за талию.
— Так и пойдете? — удивилась Верка. — Не раздеваясь?
— Так и пойдем, — ответила Лилечка без выражения.
Обнявшись, они ступили в воду (кто-то при этом еле слышно ойкнул), но уже через пару шагов случился конфуз — подол платья надулся пузырем, грозя на глубине завернуться хозяйке на голову. Впрочем, Лилечка очень быстро нашла выход из положения — сунула в подол балластный камень. Верка позади нервно хохотнула, а Смыков, такой маленький на своем недостижимо далеком берегу, ободряюще крикнул:
— Смелее! Никакого страха нет!
Если бы!.. Был страх! Страшны были уже первые шаги по круто уходящему вниз дну, но неизмеримо страшнее был миг, когда колеблющаяся поверхность воды, холодным языком облизав лицо, сомкнулась над головой. Сразу стало сумрачно, неуютно, холодно. Даже звуки изменились — в ушах что-то гулко забухало и забубнело. На тело со всех сторон навалилась тяжесть, ничуть не меньшая, чем в мире варнаков.
Речные твари нагло шныряли вокруг, едва не тыкаясь в людей. Цыпф попытался ухватить одну, самую надоедливую, но промахнулся — водная среда искажала расстояние.
Далеко вверху в ореоле радужных пузырьков скользила тень — раскорячившийся лягушкой Зяблик. Неприятные громыхающие звуки, больно бьющие по барабанным перепонкам, производил скорее всего именно он.
Дно все понижалось. Ближе к середине реки его сплошь покрывали водоросли — длинные бурые извивающиеся ленты, в которых путались ноги.
Внезапно в лицо Лилечке ткнулось что-то омерзительно-податливое, скользкое и еще более холодное, чем придонная вода. Забыв, где она находится, девушка вскрикнула, и воздух одним огромным пузырем вырвался из ее легких. Обгоняя его, метнулась прочь виновница происшествия — студенистая колоколообразная тварь с пучком щупалец вместо головы.
В последний момент Лилечка все же успела закрыть рот, но ее опустевшие легкие съежились наподобие пробитого футбольного мяча. Цепкие объятия речной глубины еще сильнее сдавили тело, а особенно — грудь.
Вот когда Лилечка испугалась по-настоящему. Все вылетело из ее головы. Как будто бы не было предупреждений Артема о недопустимости паники, как будто бы ее не хранил чудодейственный бдолах, как будто бы не было поблизости верных друзей, всегда готовых прийти на помощь. Может, Лилечка и желала сейчас спасения, но ее желание тонуло в омуте черного страха, точно так же, как она сама тонула в этой коварной и обманчивой реке.
Багровые пятна заплясали в ее глазах, в голове загудело (не только в ушах, а сразу во всей черепной коробке), ноги налились свинцом.
Смерть уже была рядом, уже хватала за горло своими клешнями, уже укутывала в обрывки собственного савана, но кто-то этой смерти мешал, кто-то не давал Лилечке выронить камень, кто-то зажимал ее полураскрытый рот, кто-то силой тащил ее дальше, сквозь плавно колеблющиеся заросли траурно-бурых водорослей.
О Леве Лилечка вспомнила лишь тогда, когда его горячие губы (все вокруг было холодное, как в могиле, а эти губы — горячее углей) с почти голливудской страстью впились в ее безвольно расслабленный рот. Лилечка рванулась было — девичью честь полагалось блюсти и на пороге небытия, — но тут же сомлела, почувствовав, как в легкие вливается живительный воздух.
Оказывается, это был вовсе не поцелуй, а что-то вроде искусственного дыхания по системе «рот в рот». Лева отдал ей весь запас своего воздуха без остатка, да и было того воздуха, может, всего литра два, но главным оказалось совсем не это, а то, что Лилечкин черный страх улетучился. Теперь она была не одна, рядом находился еще один человек: живой, теплый, сильный, сообразительный, а главное — готовый защитить ее от любой напасти.
Страх ушел, а жажда жизни осталась. Тут уж за дело пора было браться бдолаху. Не разнимая объятий, они не выбрались, а буквально вылетели на берег, едва не сбив при этом Смыкова, в целях опорожнения ушей от воды прыгавшего на одной ноге.
— Лихо вы, граждане водолазы! — похвалил их Зяблик, все еще остававшийся на воде. — Вам бы в свое время за сборную общества «Водник» выступать. В подводном беге с препятствиями.
Он и не заметил заминку, случившуюся с Лилечкой и Цыпфом на дне.
А на другом берегу к заплыву готовились Артем и Верка. Он и сапог снимать не стал, только перевесил сумку с остатками бдолаха с пояса на шею. Она же скинула с себя абсолютно все и, связывая одежду в узел, который, по примеру Смыкова, собиралась пристроить на голове, извиняющимся тоном сказала:
— Боюсь, как бы не полиняло барахлишко. Как я тогда перед местными женихами выглядеть буду…
Эта маленькая победа окрылила всю ватагу, а в особенности тех, кто напробовался бдолаха. Обычно молчаливый Толгай, мешая слова родного языка с русским и пиджином, горячо и во всех подробностях описывал жуткие перипетии своей подводной прогулки: как боязно ему было поначалу одному на дне реки, где, по рассказам шаманов, должен обитать многоногий и многорукий злой дух Чотгор, и как он потом изрубил саблей этого духа, посмевшего высунуться из логова.
— Борын… морда, значит, вот такой! — он широко раскинул руки. — Усы еще больше… Явыз… Злой… Страшный…
— Сильно злой? — рассеянно поинтересовался Смыков.
— Сильно! Как пьяный Зябля.
Сам Зяблик в этот момент пытался разжечь костер, сложенный из сырых сучьев какого-то райского кустарника. Был он в этом деле общепризнанным корифеем (на лагерном лесоповале и не такому можно научиться), но нынче его безотказная зажигалка, еще в Отчине заправленная самогоном-первачом, давала осечку за осечкой. Искры от кремня сыпались исправно, но фитиль зажигаться не хотел. Зяблик остервенело тряс зажигалку, обнюхивал ее со всех сторон и громко материл неизвестного злоумышленника, подменившего самогон водой.
— Сам, наверное, и выжрал, а теперь виноватых ищешь, — сказала продрогшая Верка, ошивавшаяся рядом в тщетном ожидании тепла.
Не стесняясь ни ветхого вафельного полотенца, составлявшего весь ее наряд, ни своей мальчишеской груди, ни безобразного ножевого шрама под пупком, она для сугрева принялась вытанцовывать что-то, напоминающее канкан.
Оглянувшись на подружку, Лилечка тоже поборола стыд и, стянув мокрое платье, принялась с помощью Цыпфа выкручивать его. При этом она беспричинно улыбалась налево и направо. На девушку сейчас было любо-дорого глянуть: щеки разрумянились, глаза сияют, высокая грудь вздымается как бы в предчувствии счастья, пышные формы вовсе не портят фигуры, а, наоборот, придают ей особую пикантность. Не то это бдолах продолжал действовать, не то она внезапно влюбилась.
Последнее предположение косвенно подтвердилось, когда Лилечка в сопровождении Левы отправилась в чащу кустарника, дабы развесить там для просушки свою одежду.
Многозначительно глядя им вслед, Верка сказала:
— Какой же рай без Адама и Евы!
— Подожди, вот скоро змей поганый приползет, — мрачно предрек Зяблик, расстроенный отказом зажигалки.
— Сплюнь через левое плечо.
Лева и Лилечка тем временем выбирали куст, наиболее удобный для такого ответственного дела, как просушка платья. Эти поиски постепенно уводили их все дальше и дальше от реки.
— Спасибо тебе, — вдруг сказала Лилечка.
— За что? — Лева остановился, словно к месту прирос.
— Ведь ты же спас меня!
— Разве? — в голосе Левы звучало опасливое удивление.
— А то нет! Ты же мне свой воздух отдал.
— Я сам испугался тогда, — честно признался Лева. — Если бы ты захлебнулась, я бы тоже спасаться не стал. Не знаю даже, как это получилось… Я не нарочно… Я только поцеловать тебя хотел… На прощание… Воздух перетек сам собой. По принципу сообщающихся сосудов. — Он опустил глаза.
— Ты бы хоть раз соврал, — вздохнула Лилечка. — А впрочем, какая разница… Главное, что мы живы. Но я как порядочная девушка просто обязана вернуть тебе поцелуй.
— Прощальный?
— Ну почему же! Пусть он будет… как бы это лучше сказать… обещающим, что ли…
— Залогом будущих встреч? — просиял Лева.
— Вот-вот! Господи, откуда ты только слова такие знаешь.
— Тогда я согласен… Давай, возвращай! — Лева быстро снял очки и пригладил растрепавшиеся после купания волосы.
— Что значит — давай? — возмутилась Лилечка. — Так с девушками не разговаривают. Ну-ка вспомни что-нибудь соответствующее моменту.
— Сейчас… э-э-э… — Лева опять нацепил очки, в которых ему всегда лучше думалось. — Даруй поцелуй мне, принцесса.
И пусть я от счастья умру, волшебное это мгновение жизнь скрасит в загробном миру…
— Все-все-все! Молодец! — Лилечка захлопала в ладоши. — Только про загробный мир больше не надо… Ты это сам придумал?
— Нет. Стихи принадлежат одному малоизвестному кастильскому менестрелю. Но перевод мой.
— Ах, жалко, я ничего такого наизусть не знаю, — опечалилась Лилечка.
— Тебе это и не нужно… Воспевать страстную любовь — дело мужчин. А женское дело — страстно любить.
— Ага! Хочешь сказать, что курицам не положено кукарекать? — возразила скорая на обиду Лилечка.
— Ты, кажется, забыла, о чем у нас шел разговор, — набравшись смелости, напомнил Лева.
— А ведь верно. — Лилечка озадаченно умолкла. — Ты сам все время меня сбиваешь. Так нельзя.
— Больше не буду. — Лева нервно откашлялся и, чуть приоткрыв рот, наклонился к Лилечке.
— А ты хоть раз целовался, певец страстной любви? — хихикнула Лилечка.
— Целовался, — кивнул Лева.
— С кем это, интересно? — Лилечка подбоченилась. — А ну, отвечай!
— С тобой. На дне реки. Ты разве забыла?
— Это меняет дело, — обреченно вздохнула она. — Ладно уж… Только губы-то не поджимай, не укушу.
После первого поцелуя Лева почувствовал себя так, словно его укачало на карусели. Чтобы не упасть, он вцепился в Лилечку, и они вместе сели под куст, на котором наподобие флага победы полоскалось ее платье, кстати, уже почти сухое.
— Ну что, понравилось? — спросила Лилечка шепотом, словно боялась, что их могут подслушать. — Еще?
— Еще! — простонал Лева, чувствуя, как его покидает не только обычная рассудительность, но и разум вообще.
— Ах какой ты хитрый… Но что уж тут поделаешь, раз начали… Только не надо меня руками лапать.
С запоздалым стыдом Лева убедился, что его руки находятся совсем не там, где полагается быть рукам воспитанного человека — правая на чашечке Лилечкиного лифчика, левая на ее округлом и гладком бедре.
Он попробовал было целоваться без рук, но не выходило. Прежней близости не хватало, что ли. Пришлось обхватить девушку за плечи. Впрочем, она сама, целуясь, обняла Леву за шею и даже запустила пальцы в его шевелюру.
Невинная забава, начатая нашей парочкой под кустом, похоже, затягивалась, и Лилечка устроилась поудобнее, да так, что куда бы Лева теперь не тыкался губами, попадал только в ее лицо или шею.
На лифчике что-то само собой отлетело (Лева себе такую вольность никогда бы не позволил), и бретельки сползли с плеч девушки. Она попыталась было что-то возразить, но сумела выдавить только нечленораздельное мычание — в этот момент ее язык находился в Левкином рту.
Пространство для ласк сразу увеличилось — даже неискушенный в любовных утехах Лева догадался, как можно с приятностью использовать два эти сокровища, буквально свалившиеся ему в руки. Но прежде, чем припасть ртом к ее соскам — таким же алым, как и губы, — Лева, не лишенный дара эстетического восприятия, успел отметить, что за долгие годы эволюции природа не сумела создать ничего более гармоничного по форме, чем молодые женские груди.
— Не надо, не надо… — шептала Лилечка, лобзая Леву в макушку, а сама все плотнее прижималась к нему и даже груди свои для его удобства поддерживала снизу ладонями.
Старательно делая все то, к чему его побуждало неосознанное телесное желание и ненавязчивый Лилечкин напор. Лева каким-то никогда не дремлющим уголком сознания понимал, что это не все, что игра зашла слишком далеко, чтобы окончиться безрезультатно, и что ему еще предстоит нечто такое, что может принести и несказанное наслаждение, и несмываемый позор. Все говорило за то, что Лилечка не такая уж простофиля в любовных делах, как это могло показаться вначале, и одними ласками ее до экстаза не доведешь. Пора было переходить к решительным действиям, но страх опростоволоситься перед любимой (что для него являлось уже неоспоримым фактом) одолевал плотскую страсть.
Развязка тем не менее приближалась — на Лилечке уже вообще ничего не было, и он даже не понимал, как это могло случиться. Все тело ее влажно блестело от поцелуев, а кое-где в особенно нежных местах расцветали пока еще тусклые розы легких кровоподтеков.
Была не была, решил он, ощущая себя как неопытный циркач, которому впервые в жизни предстоит пройти по натянутому над бездной канату. Пан или пропал! Ведь когда-нибудь да надо начинать.
Продолжая целовать уже порядочно распухшие девичьи губы, он попытался расстегнуть свой ремень, на котором чего только не висело: и пистолет в кобуре, и пустая фляжка, и штык-нож, и брезентовый подсумок со всякой всячиной. Однако мягкий живот навалившейся на него Лилечки мешал добраться до пряжки, а отклониться назад не давал куст. Когда же Лева с грехом пополам освободился наконец от своей амуниции, загремевшей и залязгавшей при этом, Лилечка резко отстранилась.
— Ты чего? — недоуменно спросила она.
— Ничего… — Ну что еще мог ответить на этот вопрос бедный Лева?
— Не смей! — Туман, заволакивавший до этого глаза девушки, быстро рассеивался. — Ишь, какой быстрый… Я ему как другу доверяла, а он скорее штаны снимать!
— Я как ты… — растерянно пробормотал Лева.
— Как ты… — передразнила она его. — Это совсем разные дела! Да и не снимала я ничего. Ты мне сам все белье изорвал.
Действительно, лифчик требовал серьезной починки, а на трусики Лева даже глянуть боялся.
— Отвернись! — приказала она.
За спиной Левы зашуршал куст, а потом затрещала материя платья.
— Во, блин! — с досадой сказала Лилечка. — Что за напасть сегодня такая? Все по швам расползается… Можешь теперь повернуться, только штаны сначала подтяни.
Послушно исполнив все указания, Лева увидел, что Лилечка старается приладить к платью оторвавшийся рукав.
— Как же я в этой рвани ходить буду? — сетовала она, критически оглядывая свой наряд. — Ведь такое крепкое платье было! Я его и надела специально… Ладно, не стой столбом. Пошли, — она взяла Леву под руку. — А теперь послушай меня, миленький. Договоримся раз и навсегда. Всякому баловству пределы есть. Я не Верка, чтобы под всех подряд ложиться. Хочешь со мной дружить — дружи. Станет тоскливо, приходи, я тебя всегда пожалею. А о серьезных вещах поговорим после того, как домой вернемся. Согласен? Что молчишь?.. Понимаю, что ты обо мне сейчас думаешь. Дескать, если уж мне так с варнаками повезло, значит, я последняя потаскуха, да? Я ругань вашего Зяблика по гроб жизни не забуду! Никогда его не прощу! Пережил бы хоть кто-нибудь из вас то, что я тогда пережила! Не на варнаков я в обиде, а на вас, охламоны!
Она вырвала свою руку, заплакала и побежала вперед, сверкая прорехами в платье…
Приближаясь к бивуаку, разбитому на речном берегу, Цыпф ожидал всего чего угодно: грубых шуточек, ехидных советов, многозначительных взглядов — но, как ни странно, его появление прошло почти незамеченным. Общество было целиком занято новой и весьма серьезной проблемой, возникшей буквально на пустом месте.
С чем-то похожим Лева уже успел столкнуться под кустиком, давшим им с Лилечкой недолгий приют. Одежда, еще вчера вполне добротная, сегодня расползалась на части. Ватага выглядела, словно шайка оборванцев. Неизменный малахай Толгая светился проплешинами, будто бы его моль побила. У Смыкова на ботинках отвалились подошвы. Зяблик, лишившийся ремня еще на том берегу, теперь даже шевелиться боялся — при каждом резком движении его куртка и брюки осыпались трухой. Верка, все еще обернутая в полотенце, демонстрировала всем свои превратившиеся в кисею одежды.
— Да это речка наверняка виновата! — доказывал Зяблик. — Не вода в ней, а кислота какая-то!
— Была бы кислота, у вас бы, братец мой, шкура чесалась, — возражал Смыков. — Я, между прочим, при переправе ничего своего не замочил, а результат тот же.
— Не зря, выходит, тот красавец голышом бегал, — вспомнила Верка. — Нельзя по Эдему в одежде разгуливать. Вы что, про Адама с Евой забыли?
— Им-то что… они стыда не знали, — печально вздохнула стоящая в стороне Лилечка.
— Стыд, как говорится, не дым, глаза не выест. — Зяблик выглядел как никогда хмуро. — Одежду в крайнем случае можно и из листьев сделать. Тут позаковыристей дела могут прорезаться… Я, значит, разобрал все же свою зажигалку. Все в ажуре — и кремень, и фитиль. Зря на них грешил. Только вместо самогона девяностоградусного в зажигалке вода оказалась. И хихикать тут нечего…
Ни слова не говоря, Артем пустил по кругу сумку, в которой хранился бдолах.
— Не понял… — Зяблик носом втянул воздух. — Сюда что, коты нагадили?
— Да, запашок… — скривился Смыков.
— А внутри-то, внутри! — ужаснулась Верка. — Слизь какая-то!
— Подумать есть над чем. — Артем покосился на Цыпфа. — Что-то наш профессор приуныл. С чего бы это?
— Неудовлетворенные желания приводят к депрессии, — авторитетно заявила Верка. — В особенности неудовлетворенная похоть.
— Вам виднее, — вяло огрызнулся Цыпф, у которого и без того сердце было не на месте.
— Признаться, мне импонирует коллегиальность, с которой вы решаете важные вопросы, — сказал Артем. — Вот и попробуем разобраться во всем случившемся совместными усилиями. Пусть каждый постарается вспомнить то, что лично ему здесь показалось особенно странным. А глубокоуважаемый Лев Борисович эти факты сопоставит и проанализирует.
— А что же вы сами?..
— Я, конечно, не останусь в стороне. Но тут важна не логика, а знание точных наук. По крайней мере, мне так кажется. Ну, начинаем!
— Мне, например, больше всего запомнился этот голый красавчик, — мечтательно произнесла Верка. — И совсем не за то, о чем вы подумали. Странно все же… Здесь хоть и рай, но ходить без трусов очень неудобно.
— У Веры Ивановны, конечно, своя точка зрения, — ухмыльнулся Смыков, — но лично меня удивило другое. Почему в здешнем лесу нет ни пней, ни валежника, ни опавшей листвы. Вы наши леса вспомните. Из-за бурелома да сухостоя дальше опушки не сунешься. Куда это все девалось? Дворники тут, думаю, штатным расписанием не предусмотрены.
— Теплее, — кивнул Артем. — Уже теплее… Кто следующий?
— Я свое замечание уже высказал, — жуя незажженную самокрутку, буркнул Зяблик. — Ладно, самогон, конечно, может выдохнуться, но не за такое же время! И вот еще что, — кончиком языка он попробовал крупицу махорки. — Знатное курево было. До потрохов пробирало. А теперь — натуральная солома.
— Табак, следовательно, разделил участь бдолаха, — Артем слегка прищурился. — Все один к одному… А ты, Лилечка, что скажешь?
— Не знаю, — девушка пожала плечами. — Вы спрашиваете, что мне здесь кажется странным… Мне все странно… Вроде бы рай. Тихо, красиво… А на душе тревожно… Как будто бы кто-то над нами опыты ставит… Заманили в ловушку и проверяют, что мы делать будем, если голыми останемся. Про следующий опыт и догадываться боязно. Читала в одной книжке, как люди когда-то над подопытными собаками издевались. Бр-р-р…
Последним пришла очередь Толгая, от которого, впрочем, ничего путного и не ждали. Ход его мыслей и принципы логики были так же путаны и непредсказуемы, как заячьи петли.
— Черу сгнил, — Толгай продемонстрировал всем свой пришедший в негодность малахай, а потом постучал пальцем по голове. — Баш целый… Кыны сгнил, — он отбросил в сторону ножны, — кыпыч целый… — сабля в его руках описала стремительную дугу, под корень срезав ближайший куст. — Зачем бояться?
— Действительно, на металлах пребывание в Эдеме никак не сказывается, — задумчиво произнес Артем. — Та стрела, наверное, попала в дерево довольно давно… Ну как, Лев Борисович, посетила вашу башку какая-нибудь светлая, я хотел сказать, мысль.
— Подождите… Сейчас… Сначала надо выстроить логическую цепочку… Итак, что мы имеем… Отсутствие следов отмерших растений на фоне довольно богатой эдемической флоры… Разрушение предметов одежды и снаряжения без признаков негативного воздействия на человеческие организмы…
— Не только одежды, но и табака, спирта… — добавил Артем.
— Пластмассы. — Верка вертела в руках расческу, которая выглядела так, словно ее довольно долгое время держали над огнем.
— Что же здесь общее… что? — бормотал Цыпф, полузакрыв глаза.
— Люди и деревья живые, а пни и одежда — нет, — безапелляционно заявил Смыков.
— Металл тоже неживой… Нет, тут что-то другое… Хотя мысль интересная…
Лева торопливо вытащил из кобуры пистолет, довольно уверенно проделал все необходимые для подготовки к стрельбе манипуляции и, направив ствол в небо, нажал на спуск. Боек четко клацнул по донышку патрона, но выстрела не последовало. Тогда Лева передернул затвор и повторил все сначала, но с тем же результатом. Пораженная публика молчала, только Зяблик удивленно присвистнул.
— Понятно, — сказал Лева как бы самому себе и попытался засунуть пистолет обратно в кобуру, разлезшуюся по швам и сейчас очень похожую на растоптанную ночную туфлю.
— Ты пояснее выражайся! — Зяблик повысил голос. — Тебе, может, понятно, а нам нет.
— Все вещества в природе делятся на органические и неорганические, — в устах Левы этот неоспоримый факт звучал как печальная новость. — Основное их отличие состоит в том…
— Ты нам Лазаря не пой, — прервал его Зяблик. — Покороче давай. Все в школе химию изучали.
— Кроме меня, — возразила Лилечка.
— И Толгайчика, — добавила Верка.
— Впрочем, детали здесь несущественны, — продолжал Лева. — Важно, что это принципиально разные. по строению вещества. Деревья, спирт, пластмасса, человеческое тело, почти вся его одежда — это органика. Железо, камень, вода, песок — нет. Скорее всего, в Эдеме присутствует какой-то неизвестный природный фактор, разрушающий мертвую органику. Именно мертвую, как только что справедливо заметил товарищ Смыков.
— Вот хорошо, — сказала Верка. — Ни могил не надо, ни помоек, ни туалетов…
— Порох тоже органика? — поинтересовался Зяблик, внутренне уже готовый к ответу.
— Конечно. Бездымный порох производится на основе нитроцеллюлозы, а в состав дымного входит древесный уголь.
— Теперь, братец мой, вам наконец понятно, почему стрела была цельнометаллической? — совсем ни к месту оживился Смыков.
— Понятно… Мне все теперь понятно… Скоро такие стрелы у нас с тобой в брюхе торчать будут. Безоружными мы остались! Пара ножей на всех, да Толгаева сабля. Теперь нас любой гад голыми руками возьмет. Сваливать отсюда надо срочно.
— Без бдолаха? — удивился Цыпф.
— Да хрен с ним!
— Без бдолаха Нейтральную зону не пройти.
— Тихо! — Смыков наподобие ветхозаветного пророка воздел к небу руки. — Попрошу внимания! Тут двух мнений быть не должно. Оставаться в Эдеме опасно, уходить без бдолаха — смертельно опасно. Самое дорогое для нас сейчас — время. Нужно не только найти этот проклятый бдолах, но и успеть уйти отсюда прежде, чем он сгниет. Поэтому предлагаю до конца пребывания в так называемом Эдеме ввести единоначалие. В виде исключения.
— В начальники ты, естественно, предлагаешь себя? — нехорошо прищурилась Верка.
— А кого же еще? — искренне удивился Смыков.
— Есть тут и более достойные кандидаты. Лично я предлагаю передать руководство человеку, на деле доказавшему свои необыкновенные способности и неоднократно выручавшему нас в самых безвыходных ситуациях. — Верка многозначительно покосилась на Артема.
— Спасибо, как говорится, за доверие, но боюсь, что не оправдаю его, — ответил тот. — Есть причины, в силу которых я могу покинуть Эдем буквально в любой момент… Лев Борисович, подтвердите.
— Да, — кивнул Лева. — Такие вот дела… Нам следует надеяться только на свои силы.
— Желательно на свежие — вставил Зяблик. — Предлагаю в бугры Левку. Молодой, башковитый, а кусаться еще научится.
За это предложение, кроме самого Зяблика, проголосовали Верка и Толгай, Смыков был категорически против. Лилечка воздержалась. Попытка самоотвода была пресечена самым решительным образом.
— Не брыкайся, тебя общество выдвинуло. Обязан подчиниться, — сказал Зяблик. — Принимай власть. Скипетра или там гетманской булавы у нас не имеется, но на первое время сойдет и так. Со своей стороны обещаем беспрекословное подчинение, хотя волюнтаризма не потерпим. Запомни, как мы тебя выдвинули, так, в случае чего, и задвинем.
Убедившись в бесполезности споров, Лева уступил воле большинства и уже спустя пять минут отдавал на диво толковые и лаконичные распоряжения. Первым делом разобрались с остатками одежды. Органика пострадала вся без исключения, но по-разному. Если ситцевые и льняные вещи уже рассыпались в прах, то брезент, кожа и особенно кирза еще держались. Из сапожных голенищ, рюкзаков и ремней для Верки и Лилечки на скорую руку соорудили что-то вроде бикини, а для мужчин — набедренные повязки. В дальнейшем предполагалось использовать для одежды листву, луб и ветки местных растений — на день-два авось и хватит. Все ненужное, в том числе и пистолеты, запрятали в кусты. Потом провели инвентаризацию всех имеющихся колюще-рубящих металлических предметов. Выяснилось, что члены ватаги вооружены следующим образом: Толгай — саблей, Зяблик — финкой, Смыков и Цыпф — штык-ножами, Верка — скальпелем, а Лилечка — парой шпилек для волос. Посетовали на то, что так безалаберно распорядились найденной в лесу железной стрелой, но возвращаться за ней не стали — плохая примета. Перекусили все теми же изрядно поднадоевшими корешками и без промедления тронулись в путь. Ватагу вел Артем — была надежда, что загадочный Кеша сжалится над своим партнером по телесной оболочке и выведет его прямиком на плантацию бдолаха.
Эдем был уныло и однообразно прекрасен — глазу не за что зацепиться. Возможно, предание о том, что горы, болота и пустыни создал не кто иной, как дьявол, имело под собой основание. Ведь давно известно, что ад куда более веселое место, чем рай.
Живность, попадавшаяся на пути, размерами не превышала кролика, но не могла быть отнесена ни к млекопитающим, ни к рептилиям, ни даже к насекомым. Скорее всего это был конечный этап эволюции слизней, улиток и медуз. Аппетита они не вызывали даже у малоразборчивого в пище Зяблика.
Ватага двигалась по двенадцать часов в сутки. Но никто не уставал, питались кое-как, но голода не испытывали, спали на голой земле, но видели сладкие сны. Оставшийся без письменных принадлежностей Цыпф рисовал карту похода куском графита на спине Толгая, который имел теперь законное право избегать купаний в попадавшихся на пути ручьях и речках.
На третий день пути все уже носили пышные и легкомысленные, но недолговечные костюмы лесных нимф и сатиров, которые приходилось менять после каждого перехода. Раны Зяблика зажили окончательно, у Верки на лице появился румянец, Цыпфа перестала мучить хроническая зубная боль, а Толгай избавился от фурункулеза. Что ни говори, а климат в этих местах был благодатный.
— Я, наверное, так хорошо себя с тех пор не чувствовал, как первый раз ширнулся, — говорил Зяблик. — Гадом буду, брошу все и останусь тут. Буду на манер этого Рукосуева корешки грызть и голяком бегать. Не жизнь, а малина.
— Вы, братец мой, слова Рукосуева забыли, — напомнил Смыков. — Про здешний люд, который зверям ни в чем не уступает.
— Туфту он заряжал. Нас отвадить хотел. Где это зверье двуногое? Я всякую срань за десять верст чую. Хоть в аду, хоть в раю… Нет, тут, похоже, все чисто. Может, и наведываются аггелы изредка. Накосят бдолаха и сразу назад тикают.
Ватага наудачу плутала среди рощ и лугов Эдема, не удаляясь от границ Нейтральной зоны дальше чем на один-два перехода. Плантации бдолаха должны были находиться где-то поблизости, иначе все предприятие теряло смысл — за пределы земного рая попало бы не волшебное зелье, а ком вонючего гнилья.
За это время ничего из ряда вон выходящего не случилось, и Цыпфу так и не представилось повода использовать свои диктаторские полномочия. Лилечка демонстративно сторонилась его, и несчастный Лева отводил душу только в беседах с Артемом. Обычно тот больше слушал, чем говорил, лишь изредка вставляя веское слово, но иногда на него накатывало…
Благодаря этим редким вспышкам откровения Лева узнал о необыкновенных мирах, похожих на Землю ну разве что только составом атмосферы, и о необыкновенных народах, чья психология отличалась от человеческой еще кардинальней, чем психология дельфинов или орангутангов.
Перед ним открылась даже не бездна, а бездна бездн, наполненных бесчисленными мирами, в каждом из которых зарождались, возносились и обращались в тлен могущественные цивилизации, где племена, несметные, как песок на океанском берегу, шли друг на друга. войной, где рядом с кровожадными дикарями жили изнеженные полубоги, где свет добра мешался с заревом злодейства, где не существовало такой истины, какую нельзя было бы оспорить, и таких законов, какие нельзя было преступить…
Однажды как бы сам собой зашел разговор о загадочном существе по имени Кеша, тень которого, говоря возвышенным слогом, незримо витала где-то рядом.
— Создания, обделенные разумом, встречаются на каждом шагу, а вот создания, обделенные телом, — это какой-то феномен, — осторожно, чтобы никого не обидеть, произнес Цыпф. — Даже трудно представить, каковы естественные условия существования таких особей, как он.
— Скорее всего Кеша и сам не знает, какой мир и для каких целей породил его. Я встретился с ним не по своей воле в странном месте, называемом городом Стеклянных Скал, в дебрях проклятой стихиями Времени и Пространства, обреченной на гибель страны. Он напал на меня первым, но не смог одолеть. Я к тому времени уже обладал способностью защитить свое сознание от подобных наскоков. Да и слаб он был тогда, неопытен… Не знаю почему, может, из жалости, может, из любопытства, я позволил Кеше поселиться в уголке моего мозга. С тех пор мы вместе. Сейчас он уже окреп, и между нами случаются нешуточные конфликты. В такие моменты люди воспринимают мое поведение как приступ шизофрении. Хотя это совсем не так… Когда-то человек обрел разум для того, чтобы успешнее удовлетворять потребности тела. Но все со временем меняется. Человеческое тело медленно и верно превращается в инструмент для удовлетворения потребностей разума. Похоже, что цель эволюции именно такова… Вот так и получилось, что у этого инструмента, — Артем похлопал ладонью по своей груди, — нынче два хозяина. Один пользуется им в ситуациях обыденных, а значит, почти постоянно. Другой изредка, но в ситуациях необычных, чему вы были свидетелями во время гибели города Сан-Хуан-де-Артеза.
— А вдруг Кеша когда-нибудь пожелает стать единоличным владельцем вашего тела? Вы этого не боитесь?
— Ничуть. Как я понял, для Кеши это лишь временный союз. Одна из метаморфоз, которую он должен пройти, прежде чем стать полноправным представителем своей расы. Но это случится еще не скоро. А пока мы неплохо уживаемся вместе.
— Ну дай-то Бог… А выдворить вас из Эдема он больше не пытается?
— Как я догадываюсь, этот замысел не отменен. Но Кеша отлично понимает, что я буду сопротивляться всеми доступными мне средствами. Поэтому он не решается идти на конфликт. В нашем с ним положении это чревато обоюдными потерями…
— А если… — Цыпф понизил голос. — Если ему предложить компромисс?
— Интересно, какой? — Слова Левы, судя по всему, заинтриговали Артема.
— Он, конечно, не забыл местонахождение плантации бдолаха? Вот пусть и проведет нас прямиком к ней. После этого мы не будем задерживать его, то есть вас, в Эдеме, — охотно объяснил свой план Лева.
— Вы уверены, что потом сумеете самостоятельно выбраться отсюда? — Артем внимательно глянул на Цыпфа.
— Почему бы и нет?
— Допустим, с помощью бдолаха вы осилите путь через Нейтральную зону, хотя еще неизвестно, какие новые ловушки могут подстерегать там человека… Но ведь и после этого вас будет отделять от родных мест довольно приличное расстояние… Хохма, Трехградье, так, кажется, называются эти страны?
— Да.
— Как вы думаете пробраться через них? Без оружия, без припасов, почти голые?
— Там будет видно, — с напускной беззаботностью ответил Лева, и сам уже много думавший над этой проблемой. — Как говорится, даст Бог день, даст Бог и пищу.
— Поговорка хорошая, но не забывайте, что Бог давно отнял у вас не только день с ночью, но и многое другое… Так мог говорить, лежа на печи, крестьянин, а вам, прежде чем лезть в пекло, надо все хорошенько обдумать.
— У нас еще будет на это время. — Цыпф был явно смущен столь резкой отповедью. — Главное сейчас — бдолах.
— Да, задали вы мне задачку… — Артем поскреб затылок. — Ну хорошо. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваше предложение дошло до моего компаньона. Дальнейшее будет зависеть только от него. Думаю, результат станет ясен в самое ближайшее время.
Результат стал ясен уже через пятьдесят минут, если только часам Смыкова можно было доверять (Зяблик, дабы уязвить своего вечного оппонента в идеологических спорах, распустил слух, что некоторые детали механизма «командирских» изготовлены из синтетических смол, а значит, принимать всерьез показания стрелок уже нельзя).
Артем, до этого выбиравший путь исключительно по принципу «куда глаза глядят», резко свернул с заранее намеченного маршрута и повел ватагу к маячившим на горизонте пологим, густо поросшим лесом холмам, то есть в места, которые он раньше избегал (картина, запечатлевшаяся в его сознании, свидетельствовала о том, что плантация бдолаха расположена на открытом пространстве).
Пройдя еще пять или шесть километров, в седловине между двумя холмами, столь живописно украшенными райской растительностью, что на любом из них вполне мог располагаться Божий престол, они наконец нашли то, что так долго и упорно искали.
Поле бдолаха выделялось на фоне обычного эдемского пейзажа примерно так же, как холщевая заплата — на парадном фраке. Сухие и жесткие кустики, густо усыпанные сизоватой рыхлой крупой — не то листочками, не то цветами, — резко контрастировали с обычной для этих благословенных мест нежной и шелковистой травой.
Зато уж запах вокруг стоял действительно необыкновенный — тут Артем оказался прав на все сто процентов. Сладкий, густой и дурманящий аромат кружил голову и томительно-приятно сжимал сердце. И пары минут не прошло, как люди забыли, для чего сюда пришли, какие опасности им угрожают нынче и какие тяжкие лишения предстоят впереди. Кто-то задремывал стоя, кто-то бездумно пялился на окружающие райские кущи, кто-то, по примеру Зяблика, обрывал верхушки кустиков и, растерев их в ладонях, жадно глотал.
Леву Цыпфа, впавшего в сладостное оцепенение одним из первых, вернул к реальности увесистый тумак Артема.
— Лев Борисович, не забывайте о своих непосредственных обязанностях! Ваше войско на грани морального разложения.
Возможно, дело не ограничилось только физическим воздействием и этими словами, потому что Лева вдруг ощутил в своем сознании такую необыкновенную ясность, словно все извилины его мозга щеточкой почистили.
— Прекратить! — он шлепнул Зяблика по рукам, на что раньше никогда бы не решился.
То же самое пришлось проделать и с Веркой, внезапно утратившей свою обычную профессиональную осторожность, а Толгая и Смыкова он просто хорошенько встряхнул. Зато к Лилечке Лева притронуться не посмел, и та продолжала грезить наяву.
— Скорее, скорее! — подгонял ватагу новоявленный командир. — Рвите бдолах! Каждый должен взять столько, сколько сможет унести! Поторапливайтесь! Здесь нельзя долго задерживаться! Обрывайте только верхние веточки!
— Куда этот чертов бдолах девать! — озлился Зяблик. — Ни мешка, ни сумки, ни карманов… Может, я его, как хомяк, за щеку буду складывать?
— Ты его в сноп вяжи, — посоветовала Верка, в школьные годы неоднократно выезжавшая в подшефный колхоз на уборку льна. — Сначала собираешь пучок потолще… Вот так… Потом из тех же стеблей делаешь обвязку. Перевясло называется… Закручиваешь — и готово.
— Ну уж нет! — уперся Зяблик. — Не получается, хоть убей. Дачные гарнитуры из лозы вязал, а сноп не могу… Лучше ты за меня сделай.
Кто-то растолкал Лилечку, и она, опомнившись, включилась в общий трудовой процесс. Сооруженный ею сноп в прежние времена мог украсить Талашевскую районную выставку достижений народного хозяйства.
В заготовках не участвовали лишь двое — Артему бдолах был без надобности, а Лева не желал подрывать свой авторитет руководителя, рабочим органом которого, как известно, является горло и лишь в крайнем случае указательный палец.
— Как обратно идти, знаете? — с тревогой спросил у него Артем, чье пребывание в Эдеме, похоже, заканчивалось.
— Карта есть. Не ошибемся, — Лева кивнул на Толгая, чья спина была сплошь разрисована графитом. — Лишь бы не употел сильно… Эй, батыр, не налегай так! Хребет береги!
— Как только до Нейтральной зоны доберетесь, бдолах просушите… Да и смолоть его не мешало бы.
— Незримых нам нужно опасаться?
— Нет. Те, кто идет из Эдема, их не интересуют.
— Ну и слава Богу. Значит, вернемся той же дорожкой, что и пришли.
— Было бы неплохо. Я когда вас, беспомощных, в Эдем тащил, не все вещи успел подобрать. Аккордеон остался и, кажется, пара дорожных мешков. Вам бы они сейчас здорово пригодились.
— Постараемся найти.
— Ну тогда, наверное, все, — Артем похлопал Цыпфа по плечу. — Пойду, пока люди делом заняты. Потом объясните им что к чему. Лилечке особый привет.
— Мы уже не увидимся? — Цыпфу почему-то стало нестерпимо тоскливо, словно с ним прощался не чужой человек, а старый и добрый приятель.
— Сам не знаю… Кое-какие незаконченные делишки еще остались… Возможно, я загляну напоследок в Отчину. Тогда и свидимся. А пока желаю всем удачи.
Его рука опять легла на плечо Цыпфа — не только легла, но и легонько подтолкнула его вперед. Так взрослые прогоняют от себя детей, чтобы те не видели их в момент горя или слабости.
Лева сделал по инерции несколько шагов, выждал пару минут и только тогда посмел оглянуться. На том месте, где только что стоял Артем, порхали черные пушистые снежинки.
Лилечку подвело чрезмерное усердие в работе. Сильно опередив других сборщиков бдолаха, девушка добралась почти до центра плантации. Наклонившись в очередной раз, она увидела в путанице сизых веточек нечто такое, что заставило ее издать звук, обычно определяемый словарями как визг, только куда более пронзительный. Не исключено, что слышать его можно было даже в ультразвуковом диапазоне.
Все дружно бросились к Лилечке на помощь, но первым, как ни странно, успел Цыпф, находившийся от места происшествия дальше всех. Напрочь забыв прошлые обиды, девушка вцепилась в него, как испуганный детеныш обезьяны — в свою мамашу.
— Ну все, все, — Лева гладил ее по волосам. — Он же мертвый, он не кусается…
— Действительно, — сказал Смыков, раздвинув рукой заросли бдолаха. — Как он может кусаться? Головы-то нет.
— Ты, Верка, права оказалась, — скривился Зяблик. — Жмуриков тут хоронить не надо… Сами на нет сходят. Но зато как перед этим выглядят… Тьфу!
— И головы нет, и пальцев. На правой руке. — Смыков преспокойно продолжал осмотр неведомо откуда взявшегося трупа.
— Может, отъел кто-нибудь? — высказал свое предположение Зяблик.
— Кто здесь мог их отъесть? Мышки-норушки? Разве вы местную живность не видели?
— Мало ли что мы видели… Прилетели стервятники откуда-нибудь.
— Стервятники бы первым делом потроха склевали. Вон они, все наружу торчат. И печенка, и селезенка… Хоть анатомию изучай, — авторитетно заявил Смыков.
— Ты, главное, позыркай, нет ли при нем какого-нибудь оружия.
— Ничего! — Смыков ногой перевернул мертвое тело, которое тут же развалилось на части, как трухлявая колода. — Ни оружия, ни одежды. Если что и было, так те, кто его убил, все забрали.
— Убили, думаешь? А не мог он сам загнуться, бдолахом обожравшись?
— Нет! Вы, братец мой, сюда посмотрите. Голова отчленена вместе с ключицей, наискосок. Страшной силы удар! А пальцев потому нет, что он рукой прикрывался.
— Башку надо искать, — сказал Зяблик. — По башке определим, кем он был на этом свете.
— Если она тут осталась, то найдем… Так, упал он сюда… Удар, значит, с этой стороны нанесен. Следовательно, искать надо в том направлении. — Смыков взмахом руки очертил примерный район поисков. — Далеко она, конечно, улететь не могла, но метров пять я гарантирую.
Остальные члены ватаги молчали, с почтением прислушиваясь к профессиональному диалогу бывшего убийцы и бывшего сыскаря, только Лилечка продолжала всхлипывать: «Какой ужас, ведь я на него чуть не наступила!»
Отсутствовавшую голову отправились искать всем гамузом, за исключением женщин и Цыпфа, прикованного к месту объятиями не на шутку перепуганной Лилечки. Однако, вопреки прогнозам Смыкова, она не обнаружилась ни в пяти, ни даже в десяти метрах от трупа. Стали высказываться предположения, что, дескать, голову мог унести с собой убийца, пожелавший изготовить из нее памятный сувенир, или что обезглавленный прибежал сюда самостоятельно, совсем как оказавшийся в аналогичной ситуации петух (еще неизвестно, на какие чудеса способен наглотавшийся бдолаха человек).
— Тут она! Нашел! — объявил наконец Зяблик, добравшийся чуть ли не до края плантации.
Подняв за волосы черный, изъеденный молниеносным гниением обрубок, все еще взиравший на мир широко открытыми и на удивление ясными глазами. Зяблик спросил:
— Может, узнает кто?
Общее мнение сошлось на том, что в таком виде этого бедолагу и мать родная не узнает.
Тем не менее Зяблик, утративший брезгливость много лет назад в своем первом следственном изоляторе, продолжал старательно изучать жуткую находку.
— Иди-ка сюда, — позвал он Смыкова. — Пощупай.
— Зачем? — Чувствовалось, что Смыкову очень не хочется марать перед обедом руки.
— Нет, ты пощупай, пощупай, — настаивал Зяблик.
— Я и так вижу, — ответил Смыков, неохотно подходя к нему. — Ну и что?
— Это я у тебя хочу спросить — ну и что?
— Обыкновенная шишка, — Смыков прищурился, со всех сторон рассматривая мертвую голову. — Ты что, шишек никогда себе не набивал?
— Какая это шишка? Это рог! Глаза разуй! — нахмурился Зяблик.
— Рога парами растут. А где тогда второй? Нетути…
— Еще не вырос. Рога, как зубы, режутся. Могут сразу оба, а могут поодиночке.
— Вам, братец мой, аггелы за каждым кустом чудятся… Имелись бы настоящие рога, тогда бы и спора не было. А это ни то ни се.
— Какой из тебя следователь! — Зяблик скривился, как от зубной боли. — Никакого любопытства. Лишь бы с рук скорее сбыть. Вот подожди, нарвемся на аггелов, они нам этого мертвеца припомнят.
— Вот мы вас, такого любопытного, и оставим с ними объясняться, — ухмыльнулся Смыков. — Ну что, закончилась экспертиза?
— Закончилась… Хотя нет! — Зяблик, уже собравшийся забросить голову куда-нибудь подальше, вдруг передумал. — А ведь он в кольчуге был!
— С чего вы это взяли?
— А вот! — Из черной коросты, в которую успела превратиться запекшаяся кровь, Зяблик, морщась, выковырял что-то вроде обрывка цепи, составленной из круглых плоских звеньев. — Теперь будешь спорить?
— И в самом деле! — Смыков подбросил железные кольца на ладони. — Кольчуга… От воротника кусок остался… Это же какой удар был! Кстати, я такие кольчуги и на наших ребятах видел. Вот только не спросил, где они их берут.
— С мертвых аггелов снимают. Это я точно знаю… Ну, убедился?
— Я и без вас знаю, что аггелы здесь бывают, — пожал плечами Смыков. — Подумаешь, новость!
— Бывать — это одно. Счастье на земле, говорят, тоже бывает, да как его найти? А здесь конкретный случай. Аггелы где-то поблизости. Этого лопуха позавчера пришили, если еще не позже. Он или разведчиком был, или бдолах охранял. Его хватиться скоро должны, если уже не хватились.
— Пусть себе… Мы же здесь лагерем становиться не собираемся. Наберем бдолаха — и вперед. Если повезет, завтра в это время уже по Нейтральной зоне топать будем.
— Ты пойми, голова садовая, что наследили мы здесь! — Зяблик уже едва сдерживался. — Поле вытоптали, травы помяли, вон лапа твоя босая на земле отпечаталась. Найдут нас по следу, если вовремя погоню организуют. До самой Хохмы будут гнать, а может, и до Отчины. Чем отбиваться станем? Вот этим веником? — он встряхнул снопом бдолаха.
— Товарищ Цыпф! — Смыков поискал глазами Леву. — Тут ко мне какие-то претензии. Вы разберитесь, пожалуйста. Для чего вас главным выбирали?
— Я все слышал… — Лева нехотя освободился от Лилечкиных объятий. — Зяблик, я с тобой совершенно согласен. Но только ты, извини уж, прекращай каркать. А то запугал всех. Надо конструктивные предложения выдвигать, а не страшилки рассказывать.
— Конструктивное предложение хотите? Пожалуйста! — Зяблик мотнул головой, словно хотел забодать кого-то. — Жрем бдолах, а после на всех парах дуем в Нейтральную зону.
— Ты уже нажрался! — этих слов и этого тона Лева и сам от себя не ожидал, но положение обязывало. — Поэтому и деловой такой! Бдолах тебе не сало и даже не водка, чтобы его просто так жрать. Это наркотик, только особенный. Про то много раз говорено. Пока мысль о том, что спасение зависит только от скорости передвижения, до самых костей не дошла, бдолах не поможет, а, наоборот, навредит. У каждого в отдельности своя скрытая мечта прорежется, и будем мы как лебедь, рак и щука в той басне.
— Короче, начальник, куда ты клонишь? — набычился Зяблик. — Ты, значит, лебедь белый, Смыков — щука зубастая, а я рак поганый? Дохлятиной питаюсь и черт знает где зимую. Так?
— Только, ради Бога, не надо утрировать. — Цыпф уже и сам был не рад, что позволил втравить себя в этот дурацкий разговор. — Сами же меня начальником выбрали. А если не нравлюсь — все! Снимайте.
— Нет, ты командуй! — Зяблик смерил его презрительным взглядом. — Командуй, а мы посмотрим…
— Тогда немедленно выступаем в сторону Нейтральной зоны. Бдолах разрешаю употреблять только в крайнем случае, если погоня начнет наступать нам на пятки.
— Лева, я вот что хочу спросить, — Верка бесцеремонно отпихнула в сторону разобиженного Зяблика. — Куда это наш милый дружок, бывший Дон Бутадеус подевался?
— С ним мы скорее всего больше не увидимся, — твердо сказал Цыпф. — Поэтому прошу отныне полагаться только на собственные силы.
— Крысы бегут с корабля, — саркастически усмехнулся Смыков.
— Ты… это самое… не трожь его! — Зяблик погрозил пальцем. — Он мне жизнь спас… Да и тебе тоже… Хотя тебе и не стоило бы…
Три следовавших друг за другом ближайших ориентира они отыскали легко, по памяти. Но спустя пять или шесть часов Цыпф стал все чаще поглядывать на жилистую спину Толгая. К сожалению, быстрая ходьба с редкими передышками давала о себе знать — карта была уже порядочно подпорчена выступившей на коже испариной.
Зяблик всю дорогу демонстративно молчал. Получивший временную передышку Смыков незлобиво потешался над недавним испугом Лилечки.
— Разве вы в первый раз покойника увидели?
— Такого — в первый, — Лилечка передернулась от одного воспоминания.
— Жаль, не приходилось вам принимать участие в эксгумациях. Там и почище экземплярчики попадаются. Особенно если почва заболоченная… Как, по-вашему, какие части трупа дольше всего сохраняются в земле?
— Кости, наверное… волосы, — Лилечка отвечала через силу, но и отношений со Смыковым портить не хотела — он ей прямо какой-то трепет внушал.
— Кости и волосы само собой. Но самое интересное, что из мягких тканей более всего устойчивы к гниению глазные яблоки… Да-да, не удивляйтесь. На черепе уже ни кожи, ни мышц не осталось, а они себе лежат в глазницах, как два яичка.
— Вынимай и сразу в суп, — негромко сказала шагавшая последней Верка. — Смыков, ты думаешь, что это очень интересно?
— Но, скажу я вам, есть и более впечатляющие зрелища, — не обращая внимания на ее слова, с жаром продолжал Смыков. — Как вы думаете, какие?
— Утопленники? — выдавила из себя Лилечка.
— Ну что вы! Свежий утопленник как картинка. Обряжай и сразу в гроб клади. Самое неприятное, что мне доводилось видеть, — это жертвы железнодорожных происшествий. Народ у нас всегда несознательный был. На крышах ездили, на подножках, пути перебегали перед самым локомотивом. Ну и самоубийцы, конечно… Этих больше всего… Зря Лев Николаевич Толстой такую рекламу Анне Карениной сделал. Плохой пример заразителен. Уж лучше бы она, если так невтерпеж было, стрихнином отравилась… Ну так вот, был у меня в практике один эпизод. Шла ночью баба через пути, и зажало ей ногу автоматической стрелкой. Это похуже волчьего капкана. Ни туда ни сюда. А тут и грузовой поезд на полном ходу подлетел. Бабу эту, само собой, в клочья. То, что это баба была, а не мужик, мы по лифчику определили, который за костыль зацепился. Дело это, конечно, должна вести линейная милиция, но пока их дождешься… Вот и приходилось территориалам отдуваться. Только осмотр места происшествия закончили, по рации сообщение. Разбойное нападение совсем в другом конце района. Опергруппа сразу туда подалась, а меня возле трупа оставили. Ждал я, ждал, потом пошел звонить на переезд. Из милиции отвечают, что транспорта нет, добирайся, значит, до города своим ходом. Вместе с покойницей, естественно. Такие безобразия у нас сплошь и рядом практиковались. А электричка на ближайшем полустанке только два раза в сутки останавливается. Да и неудобно как-то с покойницей в электричку лезть, хоть эта покойница, так сказать, и находится в компактном состоянии. Хорошо, хоть дежурный по переезду душевным человеком оказался. А может, просто самогонку гнал и на этой почве милиции боялся. Угостил он меня чайком и посоветовал идти на шоссе, попутку ловить. Там от путей до шоссе всего с километр было. Взяли мы мешок, тачку, вилы…
— А вилы зачем? — удивилась Лилечка.
— Не руками же мясо собирать. Дежурный выпил двести граммов для храбрости, и тронулись мы. Собрали все, что от гражданочки этой осталось. Как раз в мешок уместилось. Килограммов пятьдесят или чуть больше. Тем временем уже светать стало. Добрались кое-как до шоссе. Час хоть и ранний, но машины ходят. Я в форме был и первый же грузовик без труда остановил. Хорошо помню, что он картошкой был гружен. Дежурный помог мне мешок в кузов забросить и назад подался, допивать. А я, значит, в кабине еду. Болтаем с водителем о том о сем, но преимущественно о политике. Пиночета ругаем. Он как раз в то время законного президента скинул. В город въехали, водитель и спрашивает, куда меня подбросить? Я спокойно отвечаю, туда мол. А адресок известный. Там и морг, и бюро судебно-медицинской экспертизы под одной крышей. Редкий покойник эту контору миновать может. Побледнел мой водитель и по тормозам. Зеркальце заднего вида на кузов направляет. А мешок промок насквозь. Картошка под ним как в томатном соусе. Начал тогда водитель ругаться! В мат-перемат! Это же, говорит, картошка не колхозная, а моя личная! От тещи везу.
— Ну и чем все это закончилось? — Рассказ Смыкова в конце концов заинтересовал и Верку.
— А ничем… Думаю, он ту картошку все равно съел.
— Слушай, Смыков, а у тебя самого эти дела на аппетите не отражались?
— Сначала, конечно, воротило. Особенно от мясных блюд. А потом ничего, привык. Приходилось иногда прямо возле трупа пить и закусывать.
— Господи, разве вы другого места найти не могли? — вырвалось у Лилечки.
— Зачем же нам другое место… Если эксперт режет труп, который по нашему делу проходит, мы всегда присутствуем. Коли в прозекторской стол свободный есть, на нем накрываем. Или на подоконнике. Водочка там, селедка, грибки, огурчики… Закуска в таких случаях должна быть обязательно острой. Сами-то мы не очень налегаем, главное — эксперта накачать.
— Никогда не поверю, чтобы менты за просто так кого-нибудь поили, — недоверчиво покачала головой Верка. — Вы сами до халявы большие любители.
— Если эксперта не напоить, он такое может написать… Ого!
— Недобросовестные, значит, эксперты вам попадались?
— Наоборот! Все как на подбор мастера своего дела. Даже заслуженные врачи были. В прошлом, конечно. Погорели на чем-то, вот и попали на эту службу. Когда руки от водки начинают трястись, к живому человеку со скальпелем уже не подойдешь. А на жизнь-то зарабатывать надо. Куда им, беднягам, деваться? Если только мясником на рынок. Да и нравилась многим эта работа. Были такие, что стонали от удовольствия, трупы кромсая. Клянусь партбилетом! Спецы, одним словом. Если нужно, комариный укус на теле найдут. А это как раз и не всегда нужно.
— Почему? — спросила Верка недоуменно.
— А вы в наше положение войдите. Привожу простой пример. Однажды под Новый год пропала девчонка. Так, вертихвостка… Пила, гуляла. Мы ее месяц честно искали. Все чердаки и канализационные колодцы обшарили. Никаких следов. Объявили без вести пропавшей, дело законным путем приостановили. А в мае месяце она взяла да и всплыла!
— Где всплыла? — у Лилечки округлились глаза.
— В озере одном. От Талашевска недалеко. Лед растаял, ее к берегу и прибило. Тело, само собой, сразу на экспертизу, хотя козе ясно, в чем тут дело. Ни колготок, ни трусов, ни сапог на девчонке нет. Ну и там телесные повреждения всякие имеются… Если эксперт даст заключение, что имел место факт изнасилования, мы хлопот не оберемся. Опять возобновляй дело, ищи убийцу и все такое прочее. А убийца, может, уже в город Махачкалу съехал или в армии служит. Ищи-свищи! Такие дела у нас «глухарями» называются. Перспективы расследования никакой, зато прокурор каждую неделю нервы треплет. Раскрываемость, само собой, падает. А это в нашей работе основной показатель. Должно быть процентов девяносто-девяносто пять, не ниже. Иначе тебя самого зашлют, куда Макар телят не гонял… Вот и стелешься перед экспертом, лишь бы только он соответствующее заключение дал. Якобы причиной смерти является утопление и следы прижизненных травм отсутствуют.
— И соглашались эксперты на такое? — ужаснулась Лилечка.
— Не все, конечно… В семье не без урода. Но только тот, кто нам палки в колеса ставил, долго на своем месте не задерживался. Конфликтовать с органами опасно для карьеры.
— Вот! — не утерпел Зяблик. — Наконец-то сам признался, что занимался фальсификацией!
— При чем здесь фальсификация? — возмутился Смыков. — Девчонку-то все равно к жизни не вернешь! Зачем же людям лишние хлопоты? На каждом оперативнике и так куча дел висит! Только успевай поворачиваться! Сначала надо соответствующие штаты дать, технические средства, транспорт, а потом уж спрашивать.
— Ты еще про законы забыл сказать! — напомнил Зяблик. — Законов вам подходящих не дали, чтобы человека без суда и следствия в течение двадцати четырех часов к стенке.
— А и неплохо было бы! — огрызнулся Смыков. — Вывели бы кое-кого в расход, зато порядок был бы.
— Правильно! Если треть народа в расход пустить, а еще треть пересажать, остальные порядок зауважают.
— Опять вы, братец мой, за свое! Демагогия это. К тому же махровая. Вот увидите, скоро народ сам осознает необходимость сознательной дисциплины.
— Уже осознал, — с горечью сказал Зяблик. — Недаром некоторые Каина на царство зовут… Разговор этот прервал звук, весьма необычный для местности, где отсутствуют птицы и никогда не дуют сильные ветры, а именно — свист чего-то летящего. Железная стрела, теряя на излете силу, спикировала по крутой дуге и до половины вонзилась в мягкую землю. Запасливый Смыков тут же выдернул ее — железо все-таки, да еще острое.
— Начинается! — голос Цыпфа непозволительно дрогнул. — Теперь можно и бдолаха откушать. Кроме того, попрошу с шага перейти на бег.
— Эх, тоска! — простонал, оглядываясь, Зяблик. — Разве это дело — от врага бегать. От стрелы, как и от пули, не убежишь. Драться надо.
— Чем? — попытался урезонить его Смыков. — Зубами и ногтями? Твоей финкой? Не такие деятели, как вы, применяли в случае необходимости стратегическое отступление.
— Ты отступление с бегством не путай! Отступают к врагу лицом, а убегают задницей! Улавливаешь разницу?
Смыков начал было разлагольствовать о том, что бывают случаи, когда необходимо поступиться задницей, дабы сберечь лицо, но посвист новой стрелы не дал ему развить эту тему. Они уже видели своих неизвестно откуда взявшихся врагов — кучку людей в кольчужных рубашках до колен. Пока те держались компактной группой, определить их точное число было затруднительно, но то, что преследователей куда больше, чем преследуемых, не вызывало сомнения.
Кроме численного превосходства, у них было и подавляющее преимущество в вооружении — если не все, то по крайней мере передовые бойцы имели при себе мечи и луки (последние, учитывая необычную специфику Эдема, были сработаны из рессорной стали и металлических струн, издававших при выстреле высокий вибрирующий звук, похожий на печальный вскрик).
Стрелы покуда падали негусто и весьма неточно. Наблюдая через плечо за их полетом, Толгай, большой специалист в этом вопросе, высказался в том смысле, что лук не пистолет, за один день стрелять не научишься.
— А за сколько научишься? — мерно дыша, спросил Зяблик.
— Мне биш лет было, — он показал пять пальцев, — когда я его в руки взял… С тех пор ату… стреляю… Вся жизнь нужна…
Погоня продолжалась уже около получаса, но расстояние между преследуемыми и преследователями не сокращалось — давало знать о себе тяжелое вооружение последних, да и второпях принятый бдолах начал действовать. Вполне возможно, что его употребляли и аггелы (теперь, когда люди в кольчугах растянулись длинной цепью, стало видно, что у некоторых из них на головах черные колпаки, тоже кольчужные), но, как известно, у оленя и волка разные точки зрения на погоню, и если один стремится утолить голод, то второй — спасти жизнь. Ясно, что попавший в положение оленя человек испытывает более сильные чувства, чем его противник, а это при употреблении бдолаха имеет немалое значение. Яркой иллюстрацией этого тезиса служила Лилечка — никогда не преуспевавшая в беге, зато больше всех напуганная, она сейчас опережала выносливого, как верблюд, Толгая.
Даже хищник, убедившись в недосягаемости намеченной цели, прекратил бы погоню, но аггелы упорно продолжали ее, все шире растягиваясь по многоцветной эдемской равнине. Цыпф попробовал было пересчитать их, но на числе тринадцать сбился.
— Река! — с хрипом выдохнул Зяблик. — Река! Цыпф глянул вперед, но ничего похожего на серебристую гладь новонареченного Евфрата не увидел. Удивившись этому обстоятельству, он уже хотел пошутить над Зябликом, которого начали одолевать галлюцинации, но тут внезапно до него дошел роковой смысл этих слов.
Аггелы гнали их к реке точно так же, как волки загоняют оленей в болото или на лед, где преимущество в скорости сразу сходит на нет и все решают только острые клыки да численное преимущество. Река, еще недавно утолявшая их жажду и ласкавшая разгоряченные тела, теперь должна была стать рубежом жизни и смерти.
Будь даже все члены ватаги отличными пловцами, переправа неминуемо задержит их на некоторое время, что позволит аггелам преспокойно перестрелять всех на воде.
Река еще не появилась в поле зрения, но она была уже где-то рядом, возможно, за тем ближайшим леском. Времени для принятия спасительного решения — того самого гениального хода, который в записи шахматной партии отмечается несколькими восклицательными знаками, — оставалось в обрез. Это прекрасно понимал Лева Цыпф, большой любитель шахмат, но человек по натуре нерешительный.
— Все, я больше не командир! — крикнул он так, чтобы услышала вся ватага.
— Отказываюсь! Сами распоряжайтесь!
— Посмей только, гаденыш! — прохрипел Зяблик. — Так разделаю, что аггелам ничего не достанется! Раз поставили тебя, командуй! Аж до самой Нейтральной зоны… Там разберемся…
— Совершенно верно, — поддержал его Смыков не без ехидства. — Козлов отпущения не меняют… Ни на переправе, ни после…
Угрозы, как ни странно, придали Цыпфу уверенности в себе. Надеяться было не на кого, наоборот, все надеялись на него, что волей или неволей побуждало к действиям, а у Левы любому действию предшествовала кропотливая умственная работа. Элементарная логика подсказывала, что нужно поворачивать влево и уходить вдоль реки в сторону Нейтральной зоны, надеясь, что погоня рано или поздно выдохнется. Однако у этого плана было немало минусов.
Во-первых, существовала серьезная опасность, что река, петляя, рано или поздно все равно преградит им путь. Во-вторых, было неизвестно, как выглядят ее истоки (которые обязательно должны были находиться в Эдеме, потому что в Нейтральной зоне никаких рек вообще не существует, — возможно, это сплошные топи или большое озеро, на чьих берегах и суждено было произойти последней безнадежной схватке.
И, наконец, в-третьих, аггелы, похоже, уже предугадали этот маневр, иначе зачем они так растянули свой левый фланг. Если бы ватага повернула сейчас в сторону Нейтральной зоны, ей пришлось бы некоторое время бежать перпендикулярно цепи аггелов, что позволило бы лучникам вести прицельную стрельбу.
Быстро пересчитав все эти варианты — совсем как попавший в цейтнот гроссмейстер, — Цыпф, увлекая за собой ватагу, повернул направо, чего не ожидали от него ни враги, ни друзья. Аггелы сразу приотстали, что подтвердил и запоздалый залп лучников — ближайшая стрела вонзилась в землю далеко позади Толгая, следовавшего в арьергарде (обладание саблей делало его сейчас наиболее боеспособной единицей отряда).
И все, возможно, сложилось бы удачно, не подведи их в этот решающий момент Верка (именно Верка, старый и испытанный товарищ, а не Лилечка, которую некоторые заранее считали слабым звеном). Она вдруг прилегла ничком на райские травы и отрешенно сказала:
— Не могу больше. Без меня, зайчики, бегите.
Верку начали трясти, уговаривать, пичкать бдолахом, но она оставалась непреклонной. Легче, наверное, было сдвинуть с места заупрямившегося ослика.
— Бесполезно, — твердила она. — Ну нажрусь я этой соломы, а что дальше? На восемь метров прыгнуть можно, а на восемьдесят нельзя. Даже с бдолахом. У меня ног нет, понимаете? Отнялись напрочь. И внутри все давно оборвалось. Если добить не можете, так оставьте. Я умереть хочу.
— Хватайте ее под руки и тащите вон к тому лесу! — распорядился Цыпф. — Нельзя, чтобы аггелы это видели.
Однако скрыть такую заминку на ровном, как ладонь, месте, а особенно если за тобой следят десятки пар ненавидящих глаз, не очень-то и простое дело. Волки поняли, что дичь притомилась, и травля возобновилась с новой силой.
Ватага тем временем приближалась к лесу, который по земным меркам и на рощу-то не тянул. В длину он был метров двести, а в ширину не превышал и полусотни. Даже Дюймовочка не смогла бы спрятаться в нем от врагов.
Бежавшие последними Толгай и Цыпф переглянулись. Ни разу до этого они не беседовали между собой по душам (Толгай не улавливал и десятой доли из того, что говорил Цыпф, а тому Толгай казался недалеким, хотя и безвредным увальнем), но сейчас поняли друг друга почти без слов.
Гроссмейстер, человек прагматичный и в то же время деликатный, решил ради спасения партии пожертвовать фигуру — верткого и удачливого коня, — но совестился сделать это без его согласия.
Сразу догадавшись, какая проблема мучит Леву, Толгай приложил руку к сердцу и кивнул едва ли не с благодарностью. Умереть за своих друзей, а в особенности за Верку и Зяблика, он искренне почитал за Честь, и это еще раз доказывало, что суровые законы круговой поруки, с помощью которых Чингисхан сплотил свое войско, родились не в его больном воображении, а были древним и непреложным принципом существования степняков.
Они влетели в гущу трепещущего даже под самым слабым ветром радужно-пестрого леса — словно вдруг оказались внутри огромного, непрерывно меняющегося калейдоскопа — и здесь расстались, обменявшись на прощание только взглядами: извиняющимся Цыпфа и жизнерадостным Толгая.
Пробившись сквозь стену деревьев, Лева легко догнал спутников, почти волоком тащивших Верку. Смыков при этом натужно сопел, а Зяблик в неприличных выражениях благодарил Бога за то, что тот не позволил Верке нагулять больше четырех пудов веса.
Аггелы, на время потерявшие объект своей охоты из вида, разделились на три группы. Средняя, рассыпавшись цепью, вслед за ватагой нырнула в лес, а обе фланговые бросились в обход, дабы пресечь возможную попытку преследуемых еще раз круто изменить курс. Почти одновременно оказавшись на открытом месте и вновь увидев беглецов, аггелы разразились торжествующими криками, которые для Цыпфа и его друзей прозвучали как сатанинские вопли. Впрочем, куда более зловещим предзнаменованием была для них блеснувшая впереди полоска воды. Судя по всему, погоня вступала в завершающую стадию.
А между тем в лесу произошло одно немаловажное событие, до поры до времени оставшееся незамеченным для обеих сторон.
Распрощавшись с Цыпфом, Толгай использовал все известные ему приемы, дабы получше замаскироваться, что для него, с детских лет охотившегося на осторожных тарбаганов и пугливых дроф, не составляло проблемы, особенно учитывая пышный и феерический характер эдемской растительности.
Толгай уже давно приметил, что отряд аггелов в ходе погони растянулся как по фронту, так и в глубину. Это не имело значения на равнине, где каждый поддерживал с каждым зрительную связь, зато в чаще леса обрекало самоуверенных охотников на относительное одиночество, чреватое опасными сюрпризами.
Его расчет в принципе оправдался. Вступившие в лес аггелы сразу как бы обособились друг от друга. От разноголосой переклички, которую они продолжали между собой вести, толку не было никакого. Она лишь заглушала посторонние звуки.
Конечно, аггелы старались не забывать об осторожности, но эта осторожность скорее была напускная, чем истинная, — ну как можно всерьез опасаться немногочисленных, голых и почти безоружных беглецов.
Аггел, имевший несчастье напороться на Толгая, скорее всего даже не успел ничего ощутить, кроме, возможно, мгновенной искристой вспышки, переданной в мозг рассеченными зрительными нервами. Хорошо отточенная сабля, в доли секунды разрубающая голову от макушки до гортани, не успевает причинить боль.
Осторожно уложив мертвеца под куст, Толгай принял оружие из его конвульсивно подергивающихся рук. Меч, чересчур тяжелый и неудобный, он без сожаления отбросил в сторону и занялся луком. Сразу бросалось в глаза, что делали его дилетанты, даже не имевшие перед собой стоящего образца. В родной степи у Толгая был совсем другой лук — с тисовой кибитью (Кибить — основная часть лука, гнутая над паром деревянная дуга.), подложенной изнутри козлиным рогом, и с точеными модянами (Moдяны — кольца, за которые крепится тетива лука), за которые цеплялось очко тетивы, свитой из жил кабарги.
Впрочем, Толгай, никогда слыхом не слыхавший о Паганини, в жизни придерживался тех же принципов, что и великий маэстро: хороший исполнитель обязан демонстрировать мастерство и на никуда не годном инструменте. Прихватив пучок железных стрел, скрученных тугой пружиной, сжимавшейся по мере их убывания, он прокрался на лесную опушку.
Аггелы успели выбраться на открытое место — потери товарища еще никто не заметил, — но находились пока недостаточно далеко и в случае тревоги могли быстро вернуться назад. Отпустив подальше цепь, начавшую загибаться флангами вперед, Толгай открыл стрельбу.
Он посылал стрелы не целясь, точно так же, как Зяблик не целясь нажимал на спуск пистолета. Когда ты делаешь привычное, до автоматизма доведенное дело, да к тому же не пьян и не ранен, ошибиться почти невозможно. Первая стрела, правда, ушла в сторону, но это была лишь пристрелка, испытание боевых качеств лука, его точности, дальнобойности и силы.
Сначала Толгай перебил приотставших аггелов, дабы не посеять среди остальных преждевременной паники. С такого расстояния тяжелые стрелы пронзали людей насквозь даже через кольчугу. Шесть самозваных сыновей Каина полегли прежде, чем кто-то из бежавших в первом ряду, случайно оглянувшись, не заметил потерь в отряде..
Вот когда аггелам самим пришлось лихорадочно решать почти неразрешимую задачу! То, что стрелы летят из леса, они поняли сразу, вот только не могли определить количество стрелков, засевших там. Продолжать погоню, оставив в тылу столь грозных противников, было равносильно самоубийству. Возвращение назад грозило полным провалом уже почти удавшейся операции. Выиграв хотя бы четверть часа, беглецы смогли бы благополучно переправиться через реку и раствориться в простиравшихся за ней бескрайних лесах.
Тот, кто верховодил у аггелов, надо отдать ему должное, выбрал наиболее приемлемый в этой ситуации вариант действий. Человек десять продолжили погоню, и примерно столько же, низко пригибаясь, двинулись обратно к лесу.
Дураки, уж лучше бы они бежали во весь дух! Воин, облаченный в кольчугу и увешанный оружием, пробегает сто метров по пересеченной местности секунд за тридцать-сорок. За это время можно сделать не более пяти результативных выстрелов. Следовательно, почти половина аггелов имела шанс благополучно добраться до леса, чаща которого свела бы на нет все преимущества невидимого лучника.
Пересчитав стрелы, Толгай убедился, что их количество не позволяет ему ошибиться больше двух-трех раз. После этого он занялся планомерным уничтожением аггелов. Понеся первые потери, они залегли и теперь двигались к лесу по-пластунски, однако колеблющиеся головки высоких луговых злаков выдавали их.
Четыре стрелы ушли друг за другом по назначению, и только однажды Толгаю, чье ухо не уловило характерного щелчка пробиваемой кольчуги, пришлось произвести повторный выстрел. Как ни парадоксально, но планы Толгая разрушил страх, обуявший аггелов. Все уцелевшие затаились в траве, неизвестно чего ожидая. Спешить на тот свет они не собирались.
В отличие от аггелов Толгаю было дорого каждое мгновение — погоня, уже еле видимая отсюда, продолжалась, и только он один мог предотвратить ее трагическую развязку. Все, кто препятствовал этому, заслуживали смерти — если не из засады, то в открытом бою. Но для этого сначала нужно было покинуть лес. Толгай понимал, что тем самым, возможно, он совершает непростительную ошибку, но иного выхода не было. Не беда, что аггелы узнают истинную численность своего противника. Ведь для того, чтобы убить его, нужно как минимум приподняться из травы — лук не арбалет, лежа из него не очень-то постреляешь. А уж тут все будет зависеть от ловкости, самообладания и опыта бойцов. Так верткий и быстрый мангуст смело вступает в схватку с целым выводком ядовитых змей. Держа в зубах саблю, а в руках натянутый лук, Толгай смело выступил из-под прикрытия леса на белый свет. Как прореагировали на его появление аггелы, осталось неизвестным — нигде не шевельнулась ни единая травинка. Наученные горьким опытом враги понимали, что желтолицего и косоглазого молодца, уже успевшего сразить не менее десятка их сотоварищей, вот так просто не возьмешь.
Напряженную до звона в ушах тишину разорвала команда, смысл которой Толгай не разобрал, потому что стремительно метнулся в сторону еще до того, как успел отзвучать первый ее слог.
Пять человек вскочили на ноги в разных местах поля, и пять стрел почти одновременно запело в воздухе, но одна из этих стрел принадлежала Толгаю, а тот из аггелов, кому она предназначалась, даже не успел толком натянуть лук.
Все остальное длилось не дольше минуты и происходило в сумасшедшем темпе. Толгай метался из стороны в сторону, падал, перекатывался — то с боку на бок, то через голову, — снова вскакивал и снова метался, выписывая в истоптанной траве умопомрачительные зигзаги, совсем как шаман, упившийся настоем мухомора. Саблю он давно выронил, зато с луком не расставался, посылая в аггелов стрелу за стрелой. Ничего сложного в этом для Толгая не было — со скачущего наметом коня он всегда стрелял ничуть не хуже, чем с места.
Когда последний из врагов, пораженный прямо в надключичную впадину, мешком осел в траву, в пружинном колчане Толгая осталась одна-единственная стрела. Утерев пот, обильно выступивший за эту сумасшедшую минуту, он, желая пополнить свой арсенал (главный бой предстоял еще впереди), шагнул к ближайшему мертвецу, но тот внезапно сел и в упор разрядил свой лук.
Такого подвоха Толгай не ожидал. У него просто вылетело из головы, что аггелы перед схваткой с ним могли принять бдолах и в отличие от тех других, застреленных в спину, имели сейчас не одну и даже не две жизни.
Сила удара усадила его на землю. Лук отлетел куда-то в сторону, а где осталась сабля, Толгай сейчас не мог даже вспомнить. Стрела прошила правую сторону его груди и вышла бы навылет, если бы ее стабилизатор не застрял между ребер. Резкая боль в легких не позволила Толгаю сделать вдох. Во рту он ощутил противный вкус крови, пенящейся, как свежий кумыс.
Аггел тем временем дрожащими руками вкладывал в лук новую стрелу. Он и сам был не жилец на этом свете, но, навечно сходя в преисподнюю, старался рассчитаться с последними долгами.
Толгай машинально пошарил вокруг, но не нашел никакого другого оружия, кроме своей последней стрелы. Действуя скорее по наитию, чем по расчету, он, словно дротик, швырнул ее в аггела. В этом виде воинского искусства Толгай не обладал нужной сноровкой, но промахнуться с такого расстояния не смог бы даже Лева Цыпф.
Стрела пронзила аггелу кисть правой руки и, задев тетиву, когда-то служившую басовой струной в гитаре, заставила ее тревожно загудеть. Не давая врагу опомниться, Толгай встал — тошнотворная боль, переполнявшая его грудь, на мгновение замутила сознание, — кое-как утвердился на ногах, подобрал оброненный кем-то из аггелов меч и принялся методично обрабатывать им своего обидчика. Лезвие было широкое и тяжелое, но тупое. Удары скорее получались мозжащие, чем рубящие, и голова, на которой уже явственно были заметны короткие розовые рожки, отлетела только после пятого или шестого из них.
Еще одна стрела, пущенная сзади, застряла у Толгая в бедре. Не оборачиваясь, он доковылял до своей сабли, косо торчащей в земле, и, лишь ощутив ладонью ее холодную шершавую рукоятку, почувствовал себя более или менее уверенно.
Довольно ловко отмахиваясь клинком от новых стрел, он последовательно обошел всех аггелов, не пропуская даже тех, кто не подавал признаков жизни. Отрубая очередную голову, он на всякий случай откатывал ее подальше в сторону. Береженого, как говорится, и Бог бережет. Мало ли на какие чудеса способны эти козлорогие, преклоняющиеся перед злодеем, неизвестно за что убившим родного брата!
Покончив с этой довольно неприятной процедурой (одно дело одолеть врага в честном бою, а совсем другое — кромсать его неподвижное тело), Толгай смог наконец заняться своими проблемами. Ухватившись пальцами за торчащий между ребер стабилизатор стрелы, он стал перегибать его в обе стороны, пока не отломал напрочь. Только после этого удалось извлечь стрелу из раны. Дышать стало немного легче, хотя при каждом выдохе рот по-прежнему наполнялся кровавой пеной. Из дырки под соском тоже перли гроздья розовых пузырей.
Стрелу из бедра Толгай вырвал силой, оставив на наконечнике клок собственной плоти. На всякий случай он понюхал ее, но не ощутил никакого подозрительного запаха. (Некоторые воины-степняки имели привычку перед боем выдерживать наконечники стрел в гниющем мясе или в собачьих экскрементах, что зачастую делало смертельной даже легкую царапину.) Уже одной этой раны на бедре хватило бы, чтобы умереть от потери крови или горячки. А о сквозной дырке в груди и говорить нечего — даже великая шаманка Верка не взялась бы ее зашить.
Толгай с тоской вспомнил о снопе бдолаха, забытом где-то в лесу. Искать его даже и не стоило — каждый лишний шаг обходился ему теперь пригоршней крови. Ощущая во всем теле быстро нарастающую слабость, он обшарил тела ближайших аггелов, но ни у кого из них не обнаружил знакомого кисета с волшебным снадобьем. Да и не могло оно долго сохраняться в Эдеме, где даже отрезанные волосы через пару дней обращались в прах.
Тут взгляд Толгая совершенно случайно упал на колчан того самого аггела, который вогнал ему в грудь роковую стрелу. Среди стрел торчали свежие веточки недавно сорванного бдолаха. Такие же заначки имелись и у других мертвецов.
Рожденный в мире, где человек еще окончательно не отделился от природы, Толгай привык жить по законом вольного зверя. Он легко переносил голод и жажду, но при каждом удобном случае нажирался до отвала. Этого же принципа он придерживался и при лечении бдолахом.
Сжевав все веточки, до которых можно было дотянуться, он принял позу, наименее бередящую раны, и, помня наставления Верки, стал страстно желать исцеления. Получалось это плохо — не давал сосредоточиться звенящий гул в ушах, клокочущая в горле кровь и сжигающая нутро острая боль.
По мере того как его глаза застилала мгла, жизнь теряла свою привлекательность и казалась уже не волшебным даром, а постылой, унизительной обузой. Смерть же, наоборот, обещала скорое избавление от забот и страданий… А что, если Зяблик прав и бессмертная человеческая душа, покинув разрушенную оболочку, каждый раз начинает новое существование?
Подумав о Зяблике, он сразу вспомнил и всех остальных: занудливого, но незаменимого Смыкова, добродушного, хотя и не в меру разговорчивого Цыпфа, восторженную Лилечку, отчаянную Верку. Где они сейчас, что с ними, живы ли еще? Поминают ли его добрым словом или клянут? Ведь он так подвел друзей, понадеявшихся на него в этот грозный момент…
И вот тогда-то Толгаю захотелось жить по-настоящему — жить, чтобы снова встать на ноги, чтобы сражаться, чтобы спасать дорогих ему людей, чтобы тайно любить Верку, чтобы выслушивать брань Зяблика, чтобы…
Внезапно сделалось совершенно темно, словно на его голову накинули глухое траурное покрывало. Земная твердь разверзлась, превратившись в черный бездонный колодец, и он, с каждой секундой чувствуя себя все более легким и бесплотным, помчался по нему — вниз, вниз, вниз…
В том диком и суровом краю, где суждено было появиться на свет Толгаю, шанс новорожденного выжить и впоследствии превратиться во взрослого человека едва ли превосходил его шанс в другой, уже выигранной лотерее (очень уж щедра на них матушка-природа!), участниками которой являлись сонмы сперматозоидов, стремящихся овладеть одной-единственной уже готовой к слиянию яйцеклеткой.
Как бы там ни было, но на земле появилось еще одно живое, а в перспективе даже разумное существо. И не важно, что это случилось не в самое подходящее время и не в самом лучшем месте, а студеной февральской ночью, в разгар метели да еще в только что разоренном ауле захудалого кочевого рода, где-то посреди центральноазиатской лесостепи.
Свидетелями его рождения были две дюжины женщин разного возраста и куча мурзатых ребятишек, не спавших в столь поздний час по причине страха, передавшегося им от взрослых.
Мужчин старше двенадцати лет не было никого — одни, в том числе отец и братья Толгая, лежали в глубоком снегу, пронзенные стрелами врагов, а другие, незадолго до набега отлучившиеся на охоту, теперь вели преследование.
Несколько лошадей, в темноте и метели отбившихся от угнанных табунов, вернулись назад. Однако захромавшего жеребца пришлось прирезать — никакой другой пищи в ауле не осталось. Мясо матерого жеребца, вволю поносившегося по степи за кобылицами, совсем не та пища, вкус которой доставляет удовольствие, но от голода случается жевать и не такое. Недаром старики, вспоминая лихие годы, которых немало было в их жизни, говорят: «Всем нам тогда приходилось питаться мясом жеребцов».
Разбойники, напавшие на кочевье, были злы, как вампиры-мангасы, пьяны от араки и действовали вопреки всем степным законам: не пощадили никого из мужчин, даже тех, кто просил об этом, подчистую угнали весь скот, не оставив и десятка баранов (это в разгар-то зимы!), и надругались над всеми женщинами, которых только смогли поймать. Беременная на последнем месяце мать Толгая, конечно же, далеко убежать не смогла, и то, что с ней случилось, стало причиной преждевременных родов.
Сейчас она сидела спиной к промерзшей стенке кибитки и держала на руках завернутого в овечью шкуру новорожденного, а со всех сторон к ней жались еще трое детей, мал мала меньше. Кроме этих детей и прикрывающей тело одежды, у нее теперь не было ничего своего. Даже овечью шкуру ей одолжила древняя старуха, всю свою жизнь прислуживавшая шаманам и пережившая не одного из них. Ее просторная юрта сгорела со всем скарбом, муж и два старших сына, уже умевших не хуже взрослых стрелять из лука и бросать аркан, погибли, а стада, подгоняемые злыми людьми, канули в глухой зимней ночи.
Однако она не предавалась горю, как это делала бы любая женщина из другого времени и другого народа, оказавшаяся на ее месте, не кляла судьбу и не просила сочувствия у окружающих. Полуприкрыв воспаленные глаза, она дремала, не забирая изо рта ребенка грудь, которая не только кормила, но и согревала его, и ждала, когда утихнет ветер и наступит день, чтобы можно было заняться делом: раскопать пепелище своей юрты и спасти хотя бы металлические вещи, обойти окрестности и попытаться найти нескольких бесприютных лошадей или баранов, обрядить тела мужа и сыновей в то, что удастся выпросить у родни, а затем достойно проводить их в мир мертвых.
Мужчины вернулись ни с чем, хорошо хоть сами живы остались. Буран замел все следы, а разбойники были явно не из этих мест и могли угнать стада куда. угодно, даже на самый край степи к кипчакам или уйгурам.
Кочевью, чтобы выжить, нужно было ограбить кого-нибудь из соседей или наняться в услужение к богатому и сильному роду. На первое, увы, недоставало сил, пришлось, скрипя зубами, идти в добровольное ярмо.
Лошадей не хватило даже на то, чтобы усадить на них всех стариков. Хорошо хоть, что уцелела парочка вьючных верблюдов — разбойники не позарились на этих медлительных и упрямых животных.
После того как старая шаманка (мужчин, умеющих управляться с бубном, в роду не осталось) совершила все приличествующие случаю обряды, караван, в котором пеших было больше, чем конных, тронулся в нелегкий путь. Метель то утихала, то вновь начинала свою круговерть — стоял последний месяц зимы, когда злые северо-восточные ветры дуют не переставая.
Выступая в поход, мать Толгая заранее знала, что всех детей сохранить не сумеет, однако была готова бороться за каждого из них до конца, как защищающая свой выводок волчица.
Никто не считал ни дней, от света до света сплошь состоявших из упорного продвижения сквозь снега, ни ночей, проведенных под открытым небом, без юрт, возле чадящих костров. Старики умерли, не одолев и половины пути. За ними наступила очередь детей, — взрослые не могли взять их с собой в седло. Первой упала семилетняя сестра Толгая, которой приходилось тащить суму с едой. Она была еще жива и смотрела на мать глазами, полными боли и печали, но остаться с ней — значило погубить всех остальных. А по пятам за караваном шли степные волки, еще более голодные, чем люди.
До кочевья многочисленного и богатого рода куянов добралась едва ли половина из тех, кто отправился в это опасное путешествие. Оба верблюда уцелели, зато почти всех лошадей пришлось прирезать в пути на мясо. У Толгая на этом свете не осталось ни одного родного человека, кроме матери, но он еще не знал об этом.
Ханы куянов приняли их под свою крепкую руку, но, понимая, что несчастным людям податься больше некуда, условия оговорили крутые — весь первый год работать только за пищу, кров над головой и защиту от лиходеев и лишь на следующее лето брать себе жеребят из приплода.
На окраине чужого кочевья поставили юрты, тоже чужие, истертые и полинявшие — после чего зажили так, как жили много веков до этого: в тяжком каждодневном труде и в постоянной борьбе за выживание.
Это только говорится, что степняк вольный человек, не зависящий на этом свете ни от кого, кроме доброго коня, харлужной сабли и дальнобойного лука. На самом деле он не в меньшей степени, чем земледелец, страдает и от козней природы — разлива рек, слишком сухого лета, чересчур снежной зимы, неурожая трав, — и от мора, нападающего на стада чаще, чем хотелось бы, и от соседей, среди которых никогда не бывает добрых.
Сравнительно безопасен был только север, заросший непроходимыми лесами и утонувший в комариных болотах. С востока регулярно наведывались многочисленные и хорошо вооруженные отряды властелина Поднебесной империи, во главе которых стояли хитрые и проницательные чиновники, умеющие все сосчитать и записать. Они брали дань скотом, шкурами, утварью, а главное — людьми. Каждый год самые лихие молодые воины под конвоем отправлялись в столицу империи, чтобы пополнить там ряды дворцовой гвардии. Никто из них никогда не возвращался назад — то ли слишком сладка была жизнь на чужбине, то ли они не доживали до окончания срока службы.
С полудня, не менее регулярно, только в другие сроки, налетала стремительная конница шахов и беков, веривших, по их словам, в праведного Бога, но на деле творивших неправедные дела. Повадками они были похожи на саранчу: брали все, что могли захватить с собой, а что не могли — уничтожали. После их набегов степь превращалась в пустыню, кое-где помеченную пепелищами и погостами…
С запада не давали покоя свои же братья кипчаки, несколько веков назад откочевавшие в сторону великих рек и там набравшие нешуточную силу. У них вошло в обычай пополнять свои богатства за счет окрестных народов. Исключение не делалось и для бывших соплеменников. За одно дерзкое слово, за один косой взгляд рубились головы и поджигались кочевья, а скот и люди угонялись в полон.
Да и в самой степи давно не было порядка. Племя вставало на племя, род на род. Сильные отбирали у слабых стада, пастбища, водопои. Просторная на первый взгляд страна не вмещала своих сыновей. Женщины, несмотря ни на что, производили живых душ больше, чем уносили войны, болезни и голод.
Вскоре у Толгая, носившего тогда другое, детское имя, появился отчим, дядя отца, взявший свою овдовевшую свояченицу третьей женой — в степи не должно быть вдов и сирот. До трех лет Толгай жил среди своих сверстников, как жеребенок в стаде, — следил за старшими и старался подражать им.
На четвертое лето жизни его детство кончилось. Толгаю вручили игрушечный аркан и игрушечный лук, из которого, впрочем, можно было запросто подстрелить зазевавшегося тарбагана, а потом стали сажать на спокойного конька. С пяти лет он уже помогал женщинам по хозяйству, а с шести приглядывал за котными овечками и ягнятами.
Мир вокруг был суров, опасен и не прощал ошибок. Выжить в нем мог только тот, кто в степи был как рыба в воде или как птица в небе. Толгай старательно учил книгу жизни, где на несколько черных страниц приходилась лишь одна светлая. Вскоре он знал десятки небесных знамений, предсказывающих ясный день или разрушительную бурю. Он отличал каждого коня в своем табуне и помнил особенности его характера. Он умел лечить лошадей от вздутия живота, трещин на копытах, слепоты и излишней резвости, которая проистекает от страсти жеребцов к кобылам.
Не выходя из юрты, он мог с удивительной точностью определить время дня, ориентируясь на солнечный зайчик, падающий вниз через отверстие дымохода, — в разные часы он освещал разные жерди стен и разные предметы обихода, разложенные в раз и навсегда заведенном порядке.
Малые расстояния Толгай мерил арканами, каждый из которых в длину равнялся тридцати человеческим ростам, а большие — конскими перегонами. Он знал целебные свойства медвежьего сала, сушеной смородины, кобыльего молока, пареного мха, а в случае нужды мог наложить на рану целебную повязку из сосновой заболони или сделать кровопускание.
Завидев вдали сплоченные массы скота или отряды врагов, он с помощью ладони, плети или лука легко определял их примерную численнность. Находясь вдали от дома, он питался одним только мясом. Утром совал сырой кусок под седло, а когда чувствовал голод, доставал его — мягкий, душистый, сочный, хорошо упревший в конском поту.
Прежде чем напиться из речки или напоить коня, он испрашивал на это разрешение у водяного хозяина и никогда не обижал рыб, его слуг. Дважды в детстве он попадал в половодье и не хотел вновь накликать на себя гнев столь могущественной стихии.
В десять лет ему доверили зарезать на празднике барана. С тринадцати лет он систематически участвовал в облавах на волков и схватках с разбойниками. В этом же возрасте он сразил стрелой первого врага и получил первую боевую рану. Теперь он уже хорошо знал степь и не боялся заблудиться, даже отъехав от родного кочевья на десять дневных переходов. Тысячи примет, накрепко засевших в памяти, связывали Толгая с домом. Он знал каждый изгиб реки, каждое озерцо и каждую гряду сопок на огромном пространстве вокруг.
Толгай свято верил рассказам стариков об устройстве всех трех сущих миров, о четырех углах света, о добрых богах и вредоносных духах, о повелителе неба грозном Тенгри и его плодовитой супруге Умай, о древних героях, чьим подвигам люди обязаны жизнью, и о том, что, если долго ехать в сторону заката, можно добраться до благословенной страны, где в юртах из серебра живут белолицые красавицы, а хорошая еда и арака никогда не иссякают.
Мать его продолжала трудиться на свою новую семью, каждый год исправно рожая по ребенку, и у Толгая уже было пять единоутробных братьев и сестер. Он по-прежнему пас лошадей хана, но имел уже и свой небольшой косяк. В соседнем ауле ему была сосватана девушка из небогатой, но уважаемой семьи. На последнем осеннем празднике он оказался в числе лучших удальцов — без промаха стрелял на скаку из лука, в борьбе одолел шестерых соперников и, если бы не засечка лошади, мог бы выиграть даже конные состязания.
Этот успех едва не сгубил Толгая. Как известно, дятел первыми склевывает тех жучков, которые неосмотрительно высовываются из своих щелок.
Едва замерзли реки, явился китайский мытарь, сопровождаемый отрядом наемников-киданей, и стал отнимать у степняков то, что по праву сильного принадлежало императору. Вот тогда-то ханы куянов вспомнили о лихом, но безродном пастухе, в младенческом возрасте прибившемся к их племени. Уж если и приходится оплатить дань кровью, то лучше это делать за счет чужаков.
До границ Поднебесной новобранцев из предосторожности везли в путах и развязывали лишь по ту сторону Великой Стены, мощь и несокрушимость которой должны были отбить у дикарей всякую охоту к неповиновению.
Толгай так и не узрел это чудо средневековой архитектуры. Ему не понравились веревки, скручивавшие руки, не понравилась непривычная пища, в которой бледное вываренное мясо было перемешано с зерном, не понравились плети конвоиров, гулявшие по его спине при малейшей провинности, не понравился язык новых хозяев, на слух напоминавший чириканье птиц, а больше всего не понравилось то, что из вольного степного волка он должен был превратиться в цепного пса, стерегущего чужое добро.
На одной из стоянок, когда караульных сморил сон, он зубами перегрыз веревки, похитил пару свежих коней, которых приглядел заранее, и ускакал. За ним гнались долго и упорно, а отстали только в дикой, изрезанной глубокими оврагами местности, имевшей дурную славу не только среди императорских прислужников, но и у окрестных жителей.
В этом скудном краю нельзя было прокормить скот, но было очень удобно скрываться от могущественных врагов. Издавна сюда стекались все те, кто не ладил со степными законами, кто смел перечить ханам, кто жирной пище и сладкому сну предпочитал вольную волю. Этих смельчаков так и называли — «люди вечной воли».
Возвращаться в свое кочевье не имело смысла — его бы немедленно выдали обратно, но уже не для службы, а для расправы. Не по собственной воле, а по безысходной нужде пристал Толгай к шайке вольных людей, кроме набегов кормившихся еще и выполнением всяких деликатных поручений сильных мира сего (хороший хан своего нукера на отчаянное дело не пошлет).
Первое время Толгай все мечтал о том, как тайком вернется в родные края, заберет мать, похитит невесту и ускачет с ними далеко-далеко в счастливую страну заката. Однако вскоре до него дошли слухи, что мать утонула, провалившись в заметенную снегом полынью, а бывшая невеста теперь жена другого.
С тех пор единственной семьей Толгая стали вольные люди. С ними он вдосталь помотался по земле: видел и минареты Бухары, и горы Алатау, и даже ту самую Великую Стену, до которой однажды уже едва не добрался.
Он участвовал во многих стычках, не все из которых заканчивались в пользу его отряда. Тело его носило отметины и от стрел, и от сабель, и от топора, и от женских ногтей. Не единожды его жизнь висела на волоске. Спасала Толгая природная быстрота, редкая ловкость, звериная живучесть да еще, пожалуй, удача, без которой нельзя прожить вольному человеку. Все его сокровища по-прежнему вмещались в переметной суме, зато лошадям завидовали даже могущественные ханы. Как и все его нынешние сотоварищи, он жил одним днем, никогда не строил никаких планов и уже начал постепенно забывать прошлую жизнь пастуха.
Однажды глава рода кушулов пообещал старейшинам отряда хорошее вознаграждение за то, что они сожгут кочевья рода тузганов, а их стада рассеют по округе. Однако тузганы тоже оказались не дураки, вызнали как-то о грозящей беде и наняли себе в защиту другой отряд вольных людей.
Оба отряда съехались в чистом поле, переговорили между собой и стали думать совместную думу. Ни о каком сговоре, конечно, не могло идти и речи — кто бы потом их нанял для лихого дела? Но и рубиться насмерть тоже не хотелось: все были хорошо друг с другом знакомы, да и награда ожидалась не ахти какая.
Решили выставить поединщиков, пусть они и решают судьбу тузганов — гореть им сегодня в своих юртах или спать спокойно. Очень скоро выяснилось, что супротивная сторона недаром сама предложила этот план. Единоборец у них был приготовлен заранее и вид имел столь грозный, что среди сотоварищей Толгая, мало кого боявшихся на этом свете, включая китайского императора, прокатился нехороший шумок сомнения. Еще даже не начав схватку, они заранее смирились с поражением.
Поединщика, которого выставили защитники тузганов, звали Темирче-батыр. Родом он происходил из восточных тургутов, жены которых, как известно, совокупляются со злыми шулмасами. Башка у него и вправду была уродливая, как у демона, зубы — как у жеребца, а грудь — как котел. С любым всадником он мог сразиться спешившись, так был высок ростом и длиннорук.
Силой его одолеть было невозможно, оставалось надеяться на быстроту и ловкость таких удальцов, как Толгай. Сам же он и вызвался на единоборство — если бы струсил сейчас, потом бы вечно себя корил.
Готовились к поединку неспешно. Сначала тщательно выбирали коней. Толгай оседлал не самую резвую, но очень поворотливую и послушливую кобылу, к тому же еще злую в бою. Темирче — громадного черного жеребца-аргамака, неизвестно из каких краев попавшего в степь.
Затем возник спор относительно оружия. О саблях или топорах даже речи не шло, как-никак все здесь были свои люди. Решили драться на плетях, что для степняков вполне пристойно. Старейшины, щадя молодую жизнь Толгая, предложили ограничиться обычными камчами, имевшими на конце кожаную нашлепку, смягчающую удар. Он же сам, справедливо полагая, что хлестать такой погонялкой Темирче то же самое, что щекотать верблюда, выбрал тяжелые камчи-волкобои.
Затем Толгай разделся до пояса и все снятое с себя — бухарский теплый халат, кожаный панцирь, китайскую шелковую рубашку и стальной нагрудник — на случай своей смерти завещал недавно приставшему к шайке мальчишке, своих доспехов пока еще не имевшему. Остальное его имущество, согласно обычаю, в равных долях полагалось разделить между всеми сотоварищами.
Затем оба отряда отъехали подальше друг от друга, освобождая место для схватки, и после недолгих торжественных церемоний выпустили своих бойцов, словно стравливаемых на потеху псов.
В мгновение ока они оказались рядом, и, когда Темирче занес для удара свою камчу, Толгай проворно нырнул под брюхо лошади. Этот прием он повторил несколько раз подряд, ожидая, какая реакция последует со стороны противника. Голова у того хоть и была велика, но скорее всего за счет толщины костей, а вовсе не от большого ума. Темирче только бранился, брызгал слюной и обвинял Толгая в трусости. Молодой, но уже достаточно опытный воин вполне резонно отвечал издали, что только глупый волк открыто бросается на взбесившегося быка. Умный всегда дождется удобного момента.
В очередной раз оказавшись под конским брюхом. Толгай не ускакал, как прежде, прочь, а соскользнул на землю. Пока Темирче взором провожал его кобылу, он проворно вскочил и огрел противника камчой по лбу. Не дожидаясь ответного удара, Толгай, как под перекладиной храмовых ворот, проскользнул под черным жеребцом и вскочил на свою лошадку, послушно вернувшуюся назад с другой стороны.
Кровь залила Темирче глаза, и он погнался за обидчиком, как зимняя буря за припозднившимся с отлетом в теплые края лебедем. За то время, что он в пустую гонял Толгая по полю, можно было сварить и съесть жирного барана. Кобылка, проворная, как стриж, легко уворачивалась от тяжеловесного жеребца, с морды которого уже хлопьями летела серая пена.
Теперь уже и Толгай стал время от времени налетать на соперника, не столько, правда, донимая его камчой, сколько глумливыми речами.
— Возвращайся домой, Темирче! — говорил он. — Твое место у котла, среди женщин. Какой ты воин, если не можешь догнать врага даже на таком крошечном клочке земли! Твоя мать согрешила не с шулмасом, летающим по небу подобно молнии, а с медлительным верблюдом.
Темирче, вспыльчивый, как и все дураки, после таких слов во весь опор кидался на обидчика, но тот всякий раз ускользал то влево, то вправо, не забывая при этом довольно успешно пользоваться камчой. Толгай стремился утомить и взбесить противника, а когда тот окончательно потеряет осторожность, закончить дело точным ударом в висок.
Пока все шло, как он и планировал. Темирче уже пребывал в такой степени бешенства, что, в очередной раз промахнувшись камчой по всаднику, изо всей силы хлестнул по лошадиному крупу, да так, что располосовал кожу. Настоящий воин такого себе никогда бы не позволил, и старейшины имели полное право прекратить схватку, но никто не посмел встать между поединщиками. Все уже понимали, что дело может закончиться только смертью одного из них.
— Темирче, зачем тебе боевой конь и оружие? — продолжал издеваться Толгай.
— Посмотри себе под ноги! Ты вспахал это поле копытами лучше, чем земледелец плугом! Сажай пшеницу, как трусливый уйгур, и больше не показывайся среди воинов! Такое занятие тебе больше подходит.
Упреждая очередной яростный наскок великана, Толгай послал свою лошадку вперед, а когда враги почти соприкоснулись стременами, резко вскинул ее на дыбы. Темирче от копыт каким-то чудом увернулся, но из седла вылетел. Такой прием в единоборстве не возбранялся, но среди вольных людей не приветствовался. Сделано это было для того, чтобы еще больше взбесить Темирче, и так хладнокровием никогда не отличавшегося.
Старейшины усадили его в седло и, слегка пожурив за невыдержанность, вновь отпустили в схватку. Толгай в это время гарцевал невдалеке и продолжал психологическую атаку.
— С кем ты посмел связаться, сын крысы и змеи? Разве ты не знал, что меня нельзя одолеть ни оружием, ни злым колдовством. Отец всех шаманов Шелдер-хан обучил меня своему искусству! Созови ты себе на помощь даже тысячу богатырей, я погублю всех, обрушив на их головы нижнее небо.
И все же в какой-то момент Толгай переусердствовал. Нельзя безнаказанно нанести сотню ударов и ни одного не получить в ответ. Победа капризная госпожа
— если ее сразу не прибрать к рукам, может и ускользнуть.
В очередной молниеносной стычке кобыла Толгая, так хорошо показавшая себя до этого, вдруг припала на задние ноги, да и не удивительно — смешанная с пылью кровь покрывала ее круп, как толстая попона. Жеребец Темирче, воспользовавшись этим, ударил ее грудью в бок. Лошади крутанулись на месте, и тут уж гигант не прогадал — так перетянул Толгая камчой от плеча через спину, что у того в глазах потемнело.
С полминуты, сцепившись лошадьми, они осыпали друг друга ударами. Толгай, лишенный свободы маневра, оказался в убийственном положении. Камча в могучей лапе Темирче была не менее страшна, чем шестопер, и каждый новый удар мог стать роковым.
Конечно, можно было спрыгнуть с седла и попросить пощады, но прежде, чем старейшины успели бы прийти на помощь, почуявший вкус крови Темирче затоптал бы его на ровном месте конем.
Кобылица, едва не погубившая хозяина, в конце концов и спасла его, жестоко укусив жеребца в пах. Тот, дико вскрикнув, рванул в сторону (точно так же на его месте поступило бы любое существо мужского пола), и скакуны вновь унесли своих седоков в разные концы ристалища. Но Толгай уже растерял прежнее преимущество — лошадь его шаталась и шла с перебоем, а сам он чувствовал себя так, словно побывал под колесами арбы.
— Почему замолчал, ученик великого шамана? — Темирче захохотал и заухал, как хищная ночная птица. — Почему не обрушишь мне на голову небо? Струсил? Если хочешь жить, оставь седло, ползи сюда на брюхе и целуй копыта моего благородного коня!
— Даже если я останусь на этом поле пищей для ворон, тебе не доведется увидеть сегодня закат, собачье дерьмо! — Безжалостно хлестнув свою несчастную лошадь, Толгай понесся на врага, заранее готовый принять его удары.
Ни хитрость, ни ловкость уже не могли спасти его, а только одна удача. Чья-то камча сейчас должна была оказаться точнее, а это уже не зависело ни от силы, ни от сноровки, ни от ярости поединщиков, а лишь от воли судьбы.
Скакуны еще не успели толком разогнаться, как на землю внезапно пал сумрак. Солнце продолжало висеть на прежнем месте, но было уже не ослепительным диском, а мутным белесым пятном, дыркой в небосводе. Полуденная лазурь померкла, а с запада и с востока лезли из-за горизонта серые языки мрака, слизывающие не только ясный день, но, казалось, и саму идею жизни.
Как ни возбуждены были кони поединщиков, они сразу сбились с намета на шаг и тревожно заржали. Более близкие к природе, чем люди, они гораздо острее ощущали приближение большого бедствия.
Темирче так и застыл с воздетой камчой в руке. Происходящее светопреставление подействовало на него, как взгляд удава — на кролика. Толгай, поборов странное оцепенение, охватившее все его члены, подъехал к сопернику вплотную и даже не ударил, а только толкнул его рукояткой камчи в бок. Тот сразу рухнул, как рушатся под ударами ветра сгнившие изнутри гигантские кедры.
Две кучки всадников, разделенных изрытым конскими копытами полем, застыли в полной растерянности. Они прекрасно знали, как следует поступать при внезапном нападении врага, при степном пожаре, при буране и при наводнении, но не имели никакого представления о методах противодействия небесным катастрофам. То, что человеком двадцатого века воспринималось как аномальное, но вполне безобидное природное явление, для полудиких степняков, с детства уверовавших в незыблемость и рациональность окружающего мира, выглядело — по крайней мере внешне, — как непоправимая трагедия.
Две страшные горсти, все глубже и глубже охватывающие поблекший небесный купол, похоже, всерьез собрались раздавить его. Для этого им не хватало самой малости — сомкнуться в зените. И когда это в конце концов произошло, все невольно зажмурили глаза. С коней никто не слезал — уж если степняку суждено умереть, то лучше это сделать в седле.
Спустя некоторое время старый Чагордай, самый уважаемый человек в отряде, осторожно приоткрыл один глаз и, глянув в небо, посетовал:
— Ай-я-яй, совсем проклятые мангасы обнаглели! Уже и солнышко с неба украли! Что же это дальше будет?
Потом старик осторожно глянул по сторонам. Внимание его сразу привлек бегающий без всадника черный жеребец.
— Неудачный день мы выбрали для набега на тузганов, тут уж ничего не поделаешь… — пробормотал он. — Но если наш волчонок одолел чужого быка, значит, это знамение свыше. Род тузганов, наверное, прогневил богов. Придется ему сегодня испытать еще одно горе.
Речь лукавого Чагордая следовало понимать примерно так: у небожителей свои дела, а у нас свои, солнцу мы все равно ничем помочь не можем, а награду, обещанную за разорение тузганов, упускать не стоит.
Пока эта несложная мысль доходила до туповатых мозгов простых воинов, старик первым подъехал к Толгаю, еще не до конца поверившему в победу, и сам помог ему облачиться в боевые доспехи.
— Ты одолел страшного Темирче-батыра, ты и поведешь нас в поход на тузганов, — сказал Чагордай, вручая Толгаю почетное белое знамя.
Отряд Темирче почтительно расступился, давая дорогу победителю. Несколько воинов из его состава тронулись вслед за Толгаем. Так они скакали во весь опор под мрачным, оцепеневшим небом, и азарт предстоящей схватки отвлекал людей от тяжелых дум.
От места поединка до становища тузганов ходу было всего ничего — жеребенок не утомился бы. Накануне там уже побывали лазутчики и убедились: все юрты стоят на своих местах, народ никаких признаков тревоги не проявляет, ханы преспокойно пируют, видимо, крепко надеясь на своих защитников.
Первая неожиданность подстерегала их сразу за озером, называемым Санага (по преданию, это был отпечаток черпака, оброненного кем-то из великих предков). Дорогу отряду пересек небольшой табун мелких диких лошадей, бегущих с такой прытью, словно их кусали за бабки волки. Уже издали Толгай заприметил что-то странное и в их неуклюжих фигурах, и в непривычной посадке головы, и в чересчур куцых гривах, и даже в манере скакать, а приблизившись на расстояние двух полетов стрелы, ужаснулся — шкуры у лошадей были полосатые, как хвост степной кошки.
Такого чуда не мог упомнить никто, даже Чагордай, много лет пробывший в плену у южных народов, вожди которых любили украшать свои дворцы разным диковинным зверьем.
Среди воинов пронесся ропот. Говорили о том, что небеса, вероятно, повредились куда сильнее, чем это кажется на первый взгляд, и оттуда на землю вырвались табуны заколдованных коней, принадлежащих злым духам.
Это мнение получило всеобщую поддержку, когда вдали показались новые табуны странных коней. Были среди них не только полосатые, но и рогатые, а некоторые отличались непомерно длинной шеей. Только огромный демон-мангас, в брюхе которого вмещается целое стадо скота, мог надеть уздечку на такое чудовище.
Не ожидая приказа, воины повернули назад и только тогда заметили такое, на что раньше из-за бешеной скачки не обращали внимания: трава, ложащаяся под копыта лошадей, совсем не походила на привычную степную траву, да и почва вроде была иной, помягче и рыжего цвета. Степняки умели скрывать свои чувства, а в особенности страх, но сейчас в толпе воинов послышались горестные стенания. Во всем почему-то винили коварных тузганов, которые с помощью злого колдовства сначала испортили небо, а потом заманили их всех в страну чудовищ.
Вскоре отряд достиг реки, какой никогда не было ни в ближних, ни в дальних окрестностях. Воды ее имели желтый цвет, как после недавнего бурного ливня. Местность, простиравшаяся за рекой, чем-то напоминала родную степь, по крайней мере полосатых и змееголовых лошадей там не наблюдалось. Решили искать брод и переправляться.
Рысью поскакали вдоль берега, время от времени посылая к воде разведчиков, но она везде была глубока, да и противоположный берег вздымался неприступной кручей. Наконец нашли место с относительно пологими берегами, основательно разбитыми копытами быков и коней, что указывало на возможность переправы.
Осторожный Чагордай посоветовал сначала пустить через реку лошадь без всадника. Особой проблемы это не составляло, потому что почти все воины шли одву-конь. На переправу отправили хитрого и злобного жеребца, не любившего седло. Подчиняясь понуканиям хозяина, он неохотно вошел в желтую воду и стал пробиваться поперек быстрого течения к противоположному берегу.
Почти до середины реки все шло гладко. Самые нетерпеливые всадники уже хотели начать массовую переправу, но жеребец внезапно истошно заржал и с головой окунулся в воду. Там, где он нырнул, вода закипела бурунами. Жеребец раз за разом вздымался из мутных волн и снова исчезал, словно кто-то тянул его на дно. Эта борьба непонятно с кем длилась нестерпимо долго. Воины пробовали бросать арканы, но ни один из них не достал до бедного животного, чье истеричное ржание уже начало беспокоить других лошадей.
В очередной раз из воды показалась уже не голова, а все четыре нелепо растопыренные ноги жеребца. Вода вокруг него окрасилась зеленым. Перед тем как идти в набег, лошадей на всю ночь отпускали пастись, и в брюхе у каждой содержалось изрядное количество травяной жвачки.
— Не иначе как проклятые тузганы решили извести нас окончательно! — Чагордай ухватил себя за волосы. — Теперь вот и речных демонов наслали!
Жеребец был давно мертв, но ему по-прежнему не давали покоя — мотали из стороны в сторону, таскали и переворачивали под водой. Зеленый цвет успел схлынуть, зато появился алый. Вниз по течению поплыли куски кишок.
Хозяин жеребца пустил стрелу, и та вонзилась во что-то живое, находящееся совсем неглубоко под водой. Вслед за первой понеслись и другие стрелы, но Чагордай поспешно остановил бессмысленную стрельбу, ведь еще неизвестно было, когда представится возможность пополнить запас железных наконечников.
Несколько стрел все же попали в цель и потревожили подводное чудовище. Рядом с растерзанным, ободранным до костей трупом жеребца появились две пары довольно далеко отстоящих друг от друга шишек — глаза и ноздри, — а потом и вся морда, количеством клыков в пасти превосходящая даже злого оборотня-чотгора. О размерах речного демона можно было только догадываться, но, судя по волнению воды, погибшего жеребца он превосходил длиной раза в два, а то и больше.
Неведомое страшилище смотрело на гарцующих вдоль берега всадников с таким страстным вожделением, что у тех враз отпала всякая охота соваться в реку. Нашлись трезвые головы, предложившие вернуться назад по своему следу, хотя это и было не в обычаях степняков, с детства привыкших иметь в своем распоряжении весь простор необъятной степи, а не какие-то там истоптанные стежки-дорожки. Впрочем, времена наступили такие, что о прежних привычках нужно было забывать. Сделав изрядный крюк и чудом избежав стычки с уже совершенно невероятным зверем, имевшим на носу единственный, зато преогромный рог, отряд в конце концов прибыл на то место, где происходил поединок.
Ни поверженного Темирче, ни его сотоварищей там конечно, уже не было. Решили больше не испытывать судьбу и не связываться с коварными колдунами-тузганами, пусть мор поразит их стада, а женщин — бесплодие! Самое верное решение в этой ситуации было таково: вернуться в родное становище, плотно поесть, напиться араки и завалиться спать — авось к утру все само собой образуется.
Однако их дальнейший путь оказался чрезвычайно запутан и странен — за хорошо знакомыми местами пошли неизвестно кем распаханные поля, какое-то мерзкое мелколесье с уже пожелтевшей, несмотря на разгар лета, листвой и вовсе уж невиданные здесь торфяные болота.
Все изрядно притомились и проголодались, да и лошадей пора было кормить, но Чагордай не торопился делать привал. Что-то не устраивало его в этом краю. Не нравились ему, хоть убей, ни эти чахлые пески, ни поля, такие обширные, что их только на драконах пахать, ни странные следы на земле, словно огромные змеи здесь ползали, а в особенности маячившие на горизонте решетчатые столбы неизвестного назначения.
Да и пахло тут странно — так никогда не пахнет на вольном просторе. Подобный запах мог стоять только в подземной кузнице царства мертвых, где ладятся железные оси для дьявольских повозок.
Вскоре передовые всадники узрели дивное диво — путь их от горизонта до горизонта пересекала невысокая щебенистая насыпь, по верху которой были уложены две железные полосы, сверкающие как самые лучшие клинки. Только неземные существа могли устроить такое чудо — человек никогда не бросит под открытым небом столько доброго железа. Чуть поодаль от насыпи ровной линией торчали столбы, связанные между собой множеством тонких жил. Все это вместе взятое выглядело до того несуразно, что по общему заключению старейшин могло означать лишь одно: границу, отделявшую мир живых от мира мертвых.
Весть сама по себе была малоприятная, но ни чувства голода, ни чувства усталости она не умаляла. Степняки легко могли обходиться без еды и отдыха по много суток подряд, но сейчас вдруг на всех напала какая-то предательская вялость. Головы отяжелели, как после перепоя, руки и ноги затекли, даже языки ворочались еле-еле. Лучшим лекарством у этих удальцов всегда считалась жирная пища и крепкая арака, но нынче их переметные сумы были пусты — кто же идет в набег на богатое кочевье со своими припасами? Надо было срочно искать место, населенное живыми людьми, желательно гостеприимными и нежадными.
Стараясь держаться подальше от загадочных железных полос (дьявольской кузницей воняло именно от них), отряд шагом тронулся в неизвестность. В поле зрения давно не было ни одного знакомого ориентира. Солнце, по которому можно было определить стороны света, исчезло совершенно, а само небо имело такой вид, что на него даже не хотелось поднимать глаза.
Оставалась надежда на скорый приход ночи — не было еще случая, чтобы заветная звезда кочевников Железный Кол не указала им правильного пути. Однако время шло, а сумерки по-прежнему не сгущались, оставаясь на промежуточной стадии, одинаково свойственной и раннему утру, и позднему вечеру.
Вскоре впереди показалось несколько сооружений весьма нелепого вида. Впрочем, после всего, что довелось увидеть степнякам в течение этого долгого дня, какие-то там каменные многооконные юрты с серыми волнистыми крышами впечатляли уже не очень. Поперек железных полос в этом месте проходила обыкновенная грунтовая дорога, разъезженная глубокими колеями и залитая грязью. Длинные полосатые жерди, скорее всего служившие заградительными перевесами, были подняты. Всадников как бы приглашали в неведомую страну.
Из расположенной поблизости халупы выскочило человеческое существо, одетое наподобие китайского мандарина — халат до колен, желтая безрукавка, волосы сзади собраны в косицу. Только лицо у человека было каким-то странным — белым, безбородым и безусым, с круглыми вытаращенными глазами.
Размахивая зажатыми в руке флажками, человек пронзительно закричал нечто неразборчивое, и по голосу сразу стало ясно, что это женщина или, в крайнем случае, скопец.
Чагордай попытался ласково заговорить со стражем, охраняющим столь важные ворота, но тот, продолжая вопить, побежал прочь. Манера бега не оставляла никаких сомнений — это женщина.
Вдогонку послали двух всадников, и они мигом доставили беглянку назад. Флажков она из рук по-прежнему не выпускала, хотя обувь потеряла. Среди потока слов, которыми она осыпала степняков, чаще всего слышалось «ироды» и «фулиганы».
Кто-то высказал предположение, что это, возможно, одна из ведьм-шулмасов, которые сбивают с дороги одиноких путников и губят их потом своими зверскими ласками. От простых женщин эти прислужницы зла отличаются необычным видом срамного места, которое и является главным орудием их лиходейства.
Женщину в мгновение ока вытряхнули из одежд, но при самом пристальном рассмотрении ничего сверхъестественного в строении ее тела обнаружено не было. Однако, поскольку такого случая, чтобы голая баба без ущерба для себя смогла вырваться из толпы лихих воинов, никто припомнить не мог, решили старым обычаем не пренебрегать.
Снимать первые сливки любострастной забавы полагалось Толгаю, как особо отличившемуся накануне, но он вдруг неизвестно почему закочевряжился и уступил свое законное право Чагордаю, который хоть и был давно сед, но до блудодейства оставался весьма охоч.
Пока одни степняки забавлялись с полоненной ведьмой, другие занялись привычным делом — грабежом. Что из того, что солнце пропало, что земли и воды кишат дьявольскими тварями и что в любую минуту чудовища с железными крючьями вместо лап могут потащить их на неправедный и скорый суд? Жить-то пока все равно надо! А истинной жизнью для соратников Толгая как раз и был грабеж. Вот почему слетали с петель двери, звенели разбитые стекла, метелью носился пух от вспоротых подушек и на улицу из домов летело все, начиная от пустых бутылок и кончая телевизорами.
Меру съедобности каждой незнакомой вещи проголодавшиеся степняки определяли по запаху, в крайнем случае — по вкусу. Вскоре появились и пострадавшие, неосмотрительно продегустировавшие горчицу, аджику, хрен и сапожную ваксу.
Попутно было захвачено и много добротной одежды: черные суконные кафтаны с блестящими пуговицами вдоль переднего разреза, такого же цвета малахаи с длинными ушами и всякое исподнее белье, до которого было немало охотников во владениях китайского императора. Даже лошадям нашлось редкое лакомство — отборная пшеница в мешках и ржаные булки, формой напоминавшие кирпичи. Но наибольший восторг вызвали белые, хрустящие на зубах кубики, куда более сладкие, чем мед диких пчел.
Перепробовав всего понемногу, перекусили поосновательней, изжарив на кострах пару коз и безхвостого пуделя, в суматохе принятого за овцу (ошибка простительная, поскольку в степи таких чудных собак отродясь не видели). Пищу запили хмельной бурдой, целая бочка которой была обнаружена в подвале одного брошенного дома. Насытившись и сразу повеселев, стали сетовать на то, что жители поселка успели сбежать и не с кем потешить истосковавшуюся без женщин плоть.
Желудки у степняков были как у гиен, бараньи мослы могли переварить, а тут вдруг подкачали, особенно у тех, кто злоупотребил комбикормом, маргарином, моченым горохом и томатной пастой. На целых полчаса железнодорожный переезд превратился в огромное отхожее место.
Временная потеря бдительности едва не обернулась для степняков крупными неприятностями, поскольку, фигурально говоря, как раз в это время из-за кулис (то есть из-за соснового перелеска) на сцену (то есть на несчастный полустанок, в панике оставленный населением) явилось новое действующее лицо, облаченное уже не голословной, а вполне реальной властью и вооруженное отнюдь не разноцветными сигнальными флажками.
К занятым своими утробными неурядицами сотоварищам Толгая катил на двухколесной, ни в какое тягло не запряженной тележке человек (а может, и демон), голову которого украшала красивая, частично красная, частично серая, шапка с круглым верхом.
Эта удивительная тележка, с колесами, поставленными не как у всех нормальных экипажей, рядом, а одно за другим, неслась со скоростью хорошей лошади и причем совершенно бесшумно. Зрелище было настолько пугающее, что у некоторых степняков, уже почуявших было облегчение, понос возобновился с новой силой.
Человек в красно-серой шапке (сверкавшей вдобавок еще и золотом) прислонил свою самобегающую тележку к первому подвернувшемуся столбу и проницательным взором окинул разоренный полустанок. Чуть дольше обычного его внимание задержалось на голой, зареванной и вывалявшейся в грязи бабе, принявшей на себя сегодня огромную, но, как выяснилось, вполне посильную нагрузку, на сорванных дверях буфета, на догорающих кострах и на пасущихся вокруг лохматых лошадках.
После этого он достал что-то из треугольной кожаной сумки, притороченной к поясу, пустил в небо грохочущую молнию и внятно произнес фразу, смысл которой, конечно же, никто из степняков не понял:
— Этот денек вы, морды цыганские, по гроб жизни помнить будете!
Из сказанного можно было сделать вывод, что участковый линейного отдела милиции ошибочно принял степняков за цыганский табор. Немало их кочевало по железной дороге, занимаясь мелким вымогательством, жульничеством и кражами. Учитывая сложившуюся чрезвычайную обстановку, в высших инстанциях было решено примерно проучить мародеров.
Сделав предупредительный выстрел, предназначенный исключительно для спокойствия прокурора, человек в красной шапке принялся хладнокровно расстреливать степняков, не готовых ни к бегству, ни к обороне. На их счастье и на собственную беду, участковый имел только две табельных обоймы, да и целился не особенно тщательно, поскольку акция эта носила не карательный, а скорее превентивный характер. Насмерть он уложил только трех или четырех степняков, обильно обагривших кровью свое собственное дерьмо. Примерно столько же подранил.
Степняки, конечно же, были поражены и напуганы этим происшествием (причем появлением самобегающей коляски ничуть не меньше, чем ручной молнией, насмерть поражающей людей), но не в их обычаях было впадать в панику или молить о пощаде. Еще не подтянув портки, они схватились за луки. Человек в красной шапке сразу стал похож на густо ощетинившегося иголками дикобраза (только почему-то он ощетинился не со спины, а с живота и груди).
Благодаря этой маленькой победе степняки сразу воспрянули духом. Демоны, способные на расстоянии поражать людей молниями, сами оказались уязвимыми для обыкновенных стрел. Это подтвердила и расправа над самобегающей тележкой. Покорно рухнув под ударами степняков, она даже не пыталась оказать сопротивление.
О возвращении никто уже и не заикался. Впереди лежала неведомая, возможно даже, заколдованная, но необычайно богатая страна, обещавшая несметную добычу, белолицых пленниц и ратную славу. А что еще нужно в этой жизни вольному степняку?
Собрав стрелы, без задержки двинулись дальше. На многих всадниках уже были надеты железнодорожные шинели, плюшевые старушечьи кацавейки и оранжевые жилеты дорожников. Сам Чагордай красовался в милицейской фуражке.
Волшебная страна оказалась населенной не менее густо, чем местность вокруг столицы Поднебесной империи. В этом степняки убедились уже через полчаса, напоровшись на очередное селение, почти сплошь состоявшее из многоэтажных каменных домов. На всех окрестных курганах торчали огромные решетчатые крылья.
Вот уж где добра было немерено! Даже с первой попавшейся им в руки пленницы, кроме одежды, удалось снять целую пригоршню золотых украшений необычайно тонкой работы. Табун лошадей можно было купить за такие сокровища!
Правда, доступ к домам преграждала ограда из тонкой проволоки, о которую в кровь изрезались как люди, так и лошади, но в конце концов ее наловчились рубить саблями. На пришельцев высыпали поглазеть многочисленные обитатели этого уже обреченного селения: гладкие, пестро разряженные бабы, один вид которых вызывал у похотливых степняков зубовный скрежет, не менее аппетитные детишки, за которых можно было взять хорошую цену на любом невольничьем рынке, и мужчины, интересные только тем, что большинство из них носило одежду травяного цвета. Мужчин предполагалось изрубить и рассеять в самое короткое время.
Десять веков, разделявших два эти человеческие сообщества, сыграли злую шутку как с теми, так и с другими. Потомки никак не могли взять в толк, что за маскарад происходит под их окнами, а предки никогда не вняли бы предупреждению, что на военный гарнизон, пусть даже носящий голубые петлицы военно-воздушных сил, заведомо означающие недисциплинированность и расхлябанность, нападать все же не стоит.
Летуны пребывали в бездействии лишь до тех пор, пока первые из них не рухнули под ударами сабель, а чумазые косоглазые бандиты, всем своим видом сразу напомнившие легенду о скором пришествии свирепых народов гог и магог, не стали врываться в богато обставленные офицерские жилища. На первых порах для обороны использовались охотничьи ружья, сельскохозяйственный инвентарь вроде тяпок и вил, офицерские кортики и кухонные принадлежности.
На шум побоища из караулки немедленно прибежала только что сменившаяся с постов дежурная смена под началом сержанта-разводящего. Начальник караула, в нарушение устава хлебавший щи на собственной кухне, стал одной из первых жертв неизвестных налетчиков.
Затем по тревоге подняли роту охраны, имевшую на вооружении не только карабины «СКС», но и ручной пулемет. Дежурный по части, правда, сначала не хотел вскрывать оружейку (такой приказ ему мог отдать только командир, накануне вылетевший в Талашевск на экстренное совещание), но, узнав, что среди прочих изнасилованных воендам числится и его теща, сам повел роту в атаку.
Оказавшись под плотным свинцовым градом, степняки понесли ужасающие потери. Смертельную рану получил Чагордай, нижняя челюсть которого улетела вслед за пронзившими ее крупнокалиберными пулями. Рухнул вместе с лошадью богатырь Илгизер, прославившийся во многих сражениях. Бывалый Ертык, вылетев из седла, зацепился за проволоку, и его, как барана, закололи штыком. Лишившийся предводителей отряд сразу превратился в ораву случайных людей, каждый из которых дрался только сам за себя и спасал лишь собственную жизнь, что неминуемо должно было привести к полному поражению.
И тогда Толгай отличился второй раз за одни сутки. Была, знать, у него жилка, благодаря которой человек может не только постоять за себя, но и повести за собой других.
Так громко и убедительно он до этого не орал еще ни разу в жизни (нужно ведь было как-то заглушить грохот выстрелов, крики дерущихся и вопли раненых). Привыкшие соблюдать в бою дисциплину, степняки повернули коней и помчались прочь, сознательно бросив на произвол судьбы тех, кто остался безлошадным — в столь неудачно сложившемся бою они были заведомо обречены на смерть или плен.
Скакать до ближайшего укрытия было не так уж близко, и на каждом шагу этого трагического пути ложился трупом или конь, или человек. Невидимая смерть визжала вокруг и кусала насмерть.
До оврага, склон которого скрыл степняков от взоров врагов и от посылаемых ими разящих молний, доскакало три дюжины лошадей и вдвое меньше седоков. Разгром был полный. За колючей проволокой остались не только трупы товарищей, но и награбленное добро. Спасаясь, степняки бросили все: седла, поклажу, запасную одежду, оставив при себе лишь оружие.
Люди были не то чтобы сильно испуганы, но в конец дезориентированы. Все чаще они косились на Толгая, после гибели других вожаков ставшего в отряде главным авторитетом. Приняв на себя это ярмо, как нечто само собой разумеющееся, он велел уцелевшим спутникам забинтовать раны тряпьем и древесным лубом, перекусить тем, что осталось, пересесть на свежих лошадей и скакать вслед за ним.
Из всего случившегося Толгай сделал два, в общем-то справедливых, вывода. Первый: нужно держаться подальше от всего, что изготовлено людьми-демонами для их собственных непонятных целей — домов, как больших, так и маленьких, всевозможных столбов, обвешанных разными видами железной проволоки, и того, что напоминает дороги. Второй: жителей этой страны лучше не трогать, а если трогать, то лишь женщин и одиночных мужчин, но ни в коем случае не тех, кто носит одежды травяного цвета, красивые шапки и раскатывает на самобегающих тележках.
Таясь, как волки, человеческого жилья, почти не давая отдыха ни себе, ни лошадям, ночуя по лесам и оврагам, питаясь чем придется, они пересекли всю эту равнинную страну и увидели на горизонте громады гор. К сожалению, в отряде уже не было ни одного достаточно опытного воина, способного опознать их. Сам Толгай видел горы только в Джунгарии, но там они были совсем другие — крутые, уходящие за облака, с белыми ледяными вершинами.
За все это время ни солнце, ни луна так и не показались на небе, а ночь ни разу не одарила землю прохладой и покоем. Над головой, в незыблемых прежде чертогах богов творилось что-то неладное: то по серому фону пробегали исполинские черные тени, то словно пожар разгорался на одном из сводов верхнего мира.
Люди изголодались так, что вместе с лошадьми поедали пшеницу прямо из колосьев и не брезговали падалью, которой, как всегда в лихие годины, хватало с избытком.
Вокруг уже расстилалась совсем другая страна — скудная и каменистая, еще в большей мере не похожая на родную степь. Что бы они делали здесь без своих надежных и неприхотливых коньков-бахматов, находивших пропитание там, где подохли бы от бескормицы даже козы? Постепенно лошадей становилось все меньше, да и людей поубавилось — кто-то умер от воспалившейся раны, кто-то сорвался в пропасть, кто-то не вернулся из дозора. В отряде начался ропот. Однажды воины с обнаженными саблями в руках окружили Толгая.
— Куда ты ведешь нас, сын гадюки? — стали спрашивать они. — Не видишь разве, что скалы становятся все круче, а воздух холоднее? Только горные козлы могут жить в этих краях! Посмотри на наших лошадей, посмотри на нас самих! По твоей воле мы превратились из воинов в жалких нищих! Почему ты запрещаешь грабить оседлый люд? Почему завел нас на край света?
Толгай, стараясь говорить как можно доброжелательнее (хотя и наметил уже в толпе зачинщиков, с которыми следовало рассчитаться в первую очередь), изложил им собственную версию строения вселенной. Весь сущий мир, по его словам, состоит из земной тверди и окружающего его бескрайнего океана. Суша, в свою очередь, равномерно делится на степь, леса и горы. Родная степь и лесистая страна, населенная демонами, осталась позади. Скоро должны закончиться и горы, за которыми опять расстилается степь, в которой им и предназначено поселиться. А пока, учитывая бедственное положение отряда, он позволяет разграбить первое попавшееся на пути селение.
Смягчив конфликт методами дипломатическими, Толгай на следующий день окончательно разрешил его методами силовыми, спровоцировав на ссору сразу двух наиболее горластых бунтарей и доказав всем на деле, что одна искусная сабля сильнее пары неумелых.
Впрочем, и обстоятельства благоприятствовали ему. Горы пошли на убыль, на их склонах обильно зазеленела трава, изредка стали попадаться не очень тщательно охраняемые стада овец и человеческие поселения, одно из которых они, не выдержав соблазна, все-таки ограбили.
Сам Толгай в нападении не участвовал, наблюдая за окрестностями с вершины господствовавшего над местностью холма. Инстинктивно он чувствовал, что эта новая страна, быт которой весьма отличался от того, что ему довелось видеть во владениях людей-демонов, также таит в себе некую опасность, хотя и другого свойства.
Догадки его подтвердились. Не успели степняки вволю нажраться бараньего мяса, набить добычей сумки и всласть натешиться с женщинами, как на горной дороге, по которой они сами прибыли сюда, показался мчащийся во весь опор конный отряд. Всадники сверкали сталью тяжелых доспехов и сжимали в руках длинные пики, а их скакуны в холке едва ли не в полтора раза превосходили ростом степных лошадок.
Люди-демоны поражали свои жертвы молниями даже с расстояния тысячи шагов, но никогда не преследовали побежденных. Закованные в железо воины швырять смерть до горизонта не умели, зато оказались настойчивы и неутомимы в погоне. Из всего отряда спастись удалось только Толгаю, да и то лишь потому, что он остался незамеченным.
Лежа вместе с верным конем в какой-то ложбине, он имел возможность наблюдать, как всех степняков, которых миновали клинки и пики, на веревках привели в деревню, едва успевшую оправиться после разгрома.
Люди в черных одеждах пробовали снять допрос с диковинных пленников, но скоро убедились в тщетности своих попыток. Степняки не могли понять чужой язык даже под воздействием раскаленного железа. Те, кто выдержал все муки, были подвергнуты позорной казни — побиванию камнями. Жестокая процедура растянулась надолго, поскольку палачами в ней выступали главным образом обесчещенные женщины и их родня.
Толгаю пришлось оставаться в своем убежище до тех пор, пока железные всадники не покинули селение (а провели они там по самым скромным подсчетам дня три и ущерба запасам вина и продовольствия, а также женской чести нанесли куда больше, чем это успели сделать степняки). Все это время он кормил лошадь корой и ветками растущих поблизости деревьев, а свои собственные голод и жажду утолял исключительно кровью из ее жил.
В дальнейшем наученный горьким опытом Толгай неукоснительно следовал своим принципам: избегал жилья, горных дорог, открытых мест и никогда не обижал местное население. Редкие странники принимали его за нищего мавра и зачастую одаривали куском хлеба или сыра из своих скудных запасов. Таким образом, не зная ни языка, ни географии, ни обычаев Кастилии, он пересек ее от границ Отчины до никому тогда еще не известной Киркопии.
Очередная страна разочаровала Толгая — вместо долгожданной степи он опять попал в лес, да еще какой! Стволы деревьев, каждый толщиной в несколько обхватов, уходили высоко вверх и там смыкались кронами, образуя некое подобие зеленых шелестящих небес, под сводами которых жили лошади величиной с собаку, кабаны, размером превосходящие быков, дикие кошки с непомерно длинными клыками и множество другой диковинной живности.
Скакун, преодолевший вместе с хозяином столько опасностей и лишений, в этом сытом краю неожиданно околел — не то обожрался с непривычки, не то случайно проглотил какую-нибудь отраву. Толгай снял с него уздечку, легкое деревянное седло (безлошадный степняк заслуживает жалости, а степняк, не имеющий при себе даже сбруи, вообще не человек) и двинулся дальше пешком.
Со своим оружием — саблей и луком — он не расставался. Стрелы, правда, давно иссякли, но Толгай наловчился мастерить их из веток и такой тупой снастью успешно бил птиц, ныне составлявших его основной рацион. Спал он, забравшись повыше на деревья, да и то вполглаза — огромные кошки шастали по верхотуре не менее шустро, чем по земле.
Вначале Толгай очень опасался диких зверей, но вскоре убедился, что при встрече с ним те хоть и не выражают особой радости, но особо и не наглеют. Отсюда напрашивался вывод, что паскудная натура двуногих существ хорошо известна представителям местной фауны.
Надежда когда-нибудь вернуться в родные места постепенно меркла. Во время одной неудачной переправы он потерял седло и теперь выглядел обыкновенным бродягой — чумазым и оборванным. На некую связь с цивилизацией указывала одна только сабля, клинок которой носил загадочные клейма древних мастеров. За время одиноких скитаний Толгай сильно стосковался по человеческому обществу и решил пристать к первому попавшемуся на его пути племени, пусть даже не конному. Здравый смысл подсказывал, что людей нужно искать не в лесной чаще, а вблизи рек, которые благоприятствуют и торговле, и обороне.
Теперь он прокладывал свой путь по течению ручьев, в сторону более пологих мест. Вскоре поиски Толгая увенчались первым успехом — он набрел на большое кострище, еще хранившее в своих недрах слабый жар. Здесь останавливался на отдых и трапезу довольно многочисленный отряд. Люди были сплошь босые и очень крупные — даже обутая стопа Толгая не могла целиком накрыть ни одного следа.
Дабы определить, кто это был — охотники, воины, торговцы или такие же, как он, бесприютные бродяги, — Толгай разрыл кострище. Неизвестные люди питались на зависть обильно и разнообразно. Костей было много — и огромных бычьих, и поменьше, вроде заячьих. Рыбьи хребты перемешались с раковинами моллюсков, яичной скорлупой, огрызками фруктов, орехами и рачьими панцирями.
Однако вершиной этой роскошной коллекции объедков были два человеческих черепа. Имевшиеся на них явственные следы зубов свидетельствовали, что эта находка не имеет отношения ни к погребальным, ни к жертвенным ритуалам. Людей просто скушали на второе или третье блюдо, между салатом из даров реки и яблочным десертом.
Толгай с детства слышал страшные рассказы о людоедах, но, признаться, никогда не верил в них. Очень уж неаппетитно в сравнении с барашками или жеребятами выглядели все знакомые ему люди. Но сейчас жуткие подробности этих бабушкиных сказок всплыли в памяти, подняв заодно и обильную муть страха.
Он выхватил саблю и с тревогой огляделся по сторонам. Однако все вокруг было спокойно: на разные лады чирикали птицы, стрекотали белки, мычала и ухала всевозможная травоядная живность, пара диких кошек тянула невдалеке любовную песнь. Жизнь шла своим чередом, словно в природе не случилось никакой катастрофы и не висело над головой это тяжелое каменное небо.
Теперь Толгай старался не только избегать встреч с местными жителями, но и тщательно маскировал свои следы — водой шел чаще, чем сушей, а всем другим путям предпочитал каменистые осыпи и прибрежные галечники. Кострища попадались ему все чаще — и старые, сквозь которые уже трава проросла, и совсем свежие, еще дымящиеся. В большинстве из них он находил человеческие останки — не только взрослых, но и детей.
В одном месте, где пировало не меньше сотни каннибалов, в грудах золы и угля обнаружился полный комплект воинских доспехов. Точно в такие же латы были облачены всадники, уничтожившие отряд Толгая. Панцирь вначале почернел и деформировался от огня, а уж потом был распорот вдоль груди. Судя по всему, кавалериста испекли прямо в нем, словно черепаху.
Для себя Толгай решил так: «Если наскочу на людоедов, буду драться до последнего, а когда никакой надежды не останется, сам себе перережу глотку». Любоваться на подготовку банкета, где главным блюдом предстоит быть ему самому, он не собирался.
Однако все случилось совсем не так, как предполагалось. Кострища стали попадаться все реже, а потом и вовсе пропали. Толгай решил, что наконец-то покинул охотничьи угодья любителей человечинки. После всех пережитых треволнений мелькавшие в лесном сумраке желтые кошачьи глаза вызывали у него едва ли не умиление. Если четвероногие хищники чувствуют себя здесь раздольно, значит, двуногие хищники наведываются в эти края не так уж и часто.
Впрочем, осторожность, ставшую уже неотъемлемой частью его натуры, Толгай никогда не терял и, однажды заслышав приближающееся похрустывание сухих веток, устилавших лесной дол, сразу затаился под кучей бурелома, как змея под колодой. Судя по всему, шел сюда не зверь, а человек, да к тому же одиночка. С равной вероятностью это мог быть и выслеживающий добычу людоед, и его жертва, хоронящаяся в лесной чащобе.
Наконец ветки кустарников раздвинулись, и взору Толгая предстало существо женского пола — босое и растрепанное, обряженное в легкомысленный передник из пушистого белого меха.
Была эта дамочка крепка в кости, коренаста, слегка сутула и странна лицом, чтобы не сказать более. Влажные глаза серны, узенький лоб, на котором едва помещались брови, твердые скулы, почти не выраженный подбородок и полные сочные губы производили в сочетании весьма необычное впечатление. Тяжелую обнаженную грудь и гладкие бедра покрывал нежный светлый пушок, сама же женщина была смугла, как уроженка полуденных стран.
Назвать ее красавицей нельзя было даже с натяжкой, более того, некоторые черты лица, взятые в отдельности, выглядели отталкивающе, но тем не менее это была молодая цветущая женщина, от которой исходил терпкий и зовущий аромат самки, сразу вскруживший голову двадцатилетнему Толгаю.
Все правила, которые помогали ему выжить в этом долгом и опасном путешествии, разом забылись. Ведь давно известно — если похоть бурлит в крови, голова перестает соображать. Впрочем, Толгай вовсе и не хотел причинять этой женщине вред. Наоборот, он собирался проявить по отношению к ней всю нежность, на которую только был способен. На почве чувственных ласк он надеялся найти с ней общий язык, а потом, возможно, и подружиться. Юное лесное создание почему-то не ассоциировалось у него с образом кровожадного людоеда.
Самыми ответственными обещали быть первые минуты знакомства. Надо было постараться не напугать женщину, а еще лучше сразу внушить ей доверие.
Однако, помимо воли залюбовавшись туземкой, Толгай упустил момент, когда еще можно было изобразить из себя невинного козлика, случайно забредшего в чужой огород. Женщина обладала очень тонким слухом, а может быть, и чутьем. Стоило Толгаю тихонечко вздохнуть, как она сразу вздрогнула и насторожилась.
Отсиживаться дальше в укрытии не имело смысла.
Выскользнув из-под нагромождения погубленных бурей деревьев, Толгай выпрямился во весь рост, хотя резких движений старался не делать.
Если женщина и испугалась, то виду не подала. Ее глаза сузились, а ладное и крепкое тело подобралось, как у готовящегося к прыжку зверя.
— Толгай! — он постучал себя по груди и сделал осторожный шаг вперед.
В тот же момент женщина сделала синхронный шаг назад, всем своим видом демонстрируя, что намерена соблюдать статус-кво.
— Я человек! — раздельно произнес он и на всякий случай повторил эту короткую фразу по-уйгурски. — Я добрый. Иди сюда.
Женщина что-то нечленораздельно, но, похоже, радостно замычала и улыбнулась странной улыбкой паралитика, у которого действует только половина лицевых мышц.
Решив, что его наконец поняли, Толгай смело шагнул к женщине, но на какое-то время потерял способность не только двигаться, но и соображать. Случилось это так быстро, что он даже боли от удара не ощутил. Очнувшись через пару секунд на земле, с башкой, гудящей так, словно в ней вместо мозгов болталось чугунное било, он увидел только голую спину улепетывающей женщины. Сзади весь ее наряд состоял лишь из тесемочки от передника.
Боль, обида, ярость и страсть, еще больше распалившаяся от вида сверкающих смуглых ягодиц, толкнула его в погоню, хотя делать этого как раз и не нужно было. Степняку трудно тягаться в скорости передвижения с полуженщиной-полуобезьяной, особенно если та находится в своей родной стихии.
Толгай уже не видел ее больше, а только слышал быстро удаляющийся шум проворных прыжков. Затем впереди раздался высокий гортанный крик, явно адресованный кому-то. В ответ с разных сторон донеслись другие крики — с той же интонацией, но куда более грубые.
Толгай, сразу сообразивший, в какую ситуацию он попал и чем может грозить ему плен, зайцем метнулся назад и буквально через пару шагов получил то, к чему так стремился. Внезапный испуг, предельное физическое напряжение и неудовлетворенная похоть вызвали бурное семяизвержение, возможно, последнее в его жизни…
А всего через несколько минут он оказался в лапах грубых волосатых мужиков, чуть менее уродливых, чем гориллы, но столь же диких и злобных. Видя, как к его голове стремительно приближается суковатая дубина, Толгай успел подумать: «Ну какой вкус во мне, ведь только кожа да кости остались!»
Когда Толгай очнулся, киркопы (именно под таким названием этот первобытный народ позже вошел в историю Отчины, Кастилии и Степи) волокли его по земле к тому месту, где он должен был принять не только жуткую смерть, но и позорное погребение в утробах кровожадных дикарей.
Вдоль фасада легкой свайной постройки пылал длинный костер. От него исходили ни с чем не сравнимые ароматы жареного мяса и каких-то пряных трав. В прежние времена Толгай и сам любил посидеть возле костра, на котором подрумянивались жеребячьи окорока и цельные туши баранов. Вот только раньше он никогда не задумывался над тем, что ощущают идущие на заклание бараны и жеребята.
Бедлам вокруг творился неимоверный: ревело пламя, мычали дикари, стучали друг о друга деревянные и костяные дубины, кто-то пробовал плясать, кто-то награждал друг друга увесистыми тумаками. Все — и мужчины и женщины — были одеты лишь в передники из луба, все вели себя как пьяные, и все грызли кости.
Понял Толгай только одно: его употребят не сию минуту, а чуть попозже. Первым на разделку шел некто косматый, похожий на пирующих, как родной брат, но, видно, проштрафившийся чем-то или по рождению относящийся к другому племени.
Привыкший к жестокости точно так же, как другие привыкли к утреннему кофе, Толгай не отвел глаз ни когда киркопа повалили на землю, ни когда ему дубиной перебили суставы, ни когда у еще живого целиком выдрали потроха.
Печень с великим тщанием поджарили и унесли в дом, внутренностями завладели самые почетные гости, а все остальное было распределено строго по старшинству — кому достался филей, а кому и рулька. Огонь, облизав нанизанное на палки мясо, затрещал веселее.
Шальная мысль вдруг обуяла Толгая: а что, если дикари сейчас нажрутся до отвала и уже не позарятся на его донельзя исхудавшее в странствиях тело? Однако, видя, с каким вожделением дикари раздирают плохо прожаренное мясо и крушат зубами кости, он понял, что те способны слопать все, до чего только смогут дорваться.
Когда с шашлыком из киркопа было покончено, наступила очередь отбивных из молодого степняка. Его схватили за шиворот, как щенка за холку, и поволокли к тому месту, где вершили свой нелегкий труд местные повара. Вот уж в ком даже с первого взгляда можно было сразу признать потомственных каннибалов!
Худоба Толгая не вызвала у них ни удивления, ни досады — здесь привыкли есть всех без разбора. Один из поваров легко скрутил несчастного степняка в бараний рог, а, второй потянулся за дубиной — прежде чем приступить к разделке, жертву полагалось обездвижить.
Свет в глазах должен был вот-вот померкнуть, и Толгай с отчаянием пялился в серое, словно скованное грязным льдом небо — последнее, что выпало ему увидеть в этой жизни.
Затем на сером фоне появился темный вертикальный силуэт. Над ним склонилась та самая женщина, из-за которой (да еще из-за собственной глупости) он оказался здесь. Вновь она была одета в свой меховой передничек и вновь пристально смотрела на Толгая диковатыми янтарными глазами. Губы ее обильно лоснились, возможно, от только что съеденной печени киркопа.
Гримаса, исказившая черты женщины, едва ли поддавалась расшифровке, но скорее всего это было торжество. Наглый насильник получил по заслугам. Людоедская справедливость восторжествовала.
Внезапно выражение лица дикарки да и вся ее поза неуловимо изменились. Она стала чем-то похожа на гончую, почуявшую долгожданную добычу. Еще не было сказано ни единого слова (да эти существа и не говорили между собой, а только обменивались жестами и мычали на разные лады), но повара, больше похожие на заплечных дел мастеров, уже отступили прочь. Дубина вернулась на прежнее место. Эта женщина пользовалась здесь абсолютной, непререкаемой властью. Если ей хотелось мяса, она получала лучший кусок. Если ей хотелось, чтобы это мясо еще немного пожило на белом свете, голодным людоедам не оставалось ничего другого, как утереться.
Толгай, уже опаленный жаром пиршественного костра, в свое спасение верил слабо. Случившуюся заминку он полагал лишь временной отсрочкой. И зря! Приглядевшись к королеве каннибалов повнимательнее, он сразу бы заметил то, что объединяет между собой пустующую суку, корову в течке и влюбленную женщину. Неукротимый зов плоти сжигал это странное существо, одной частью своей натуры уже пребывавшее в мире людей, а другой все еще погрязшее в трясине дикости. В Толгае она признала достойного себя самца и, презрев все условности, свойственные родному племени, хотела зачать от него потомство.
Вот почему Толгая не стали разделывать на порционные куски, а поволокли целехонького в апартаменты королевы, куда доступ мужчинам был строжайше запрещен. Посмотреть на диковинного пленника сбежались все домочадцы королевы — кормилицы, плясуньи, обиральщицы насекомых, телохранительницы, знахарки и повивальные бабки. Выбор властительницы был единодушно одобрен. И действительно, в сравнении с неуклюжими, косматыми и звероподобными киркопами Толгай выглядел настоящим красавчиком. Наследники от него должны были получиться славные.
Случку решили начать безотлагательно. Даже с хряком, выполняющим эту работу на свиноферме какого-нибудь зачуханного колхоза, обращались лучше, чем с Толгаем в Киркопии. Никого не интересовало: сыт ли он, здоров ли и вообще, имеет ли тягу к подобному мероприятию.
Хорошо еще, что Толгай был молод, вынослив, небрезглив и не склонен к рефлексии. В своем духовном развитии он ушел от киркопов не так уж и далеко, а потому на многие аспекты бытия имел сходный с ними взгляд. К противоположному полу, например, он относился со здоровым прагматизмом, много веков спустя сформулированным в народной мудрости: «Забавы ради сгодятся все бляди».
Беда состояла еще и в том, что в одних ситуациях киркопы вели себя уже почти как люди, а в других — совсем как обезьяны. К этим последним относилось все, что было связано с естественными отправлениями организма: едой, питьем, дефекацией, размножением.
Они не ели, а жрали. Не пили, а лакали. Не испражнялись, а срали. Не любовью занимались, а совокуплялись. Толгаю пришлось приложить немало смекалки, настойчивости и чисто мужской силы, чтобы заставить киркопку принять более или менее приемлимую для него позу. И все равно, вплоть до самого последнего мгновения, она извивалась, повизгивала и пробовала кусаться.
Но, как вскоре выяснилось, и это было не самое страшное. По обычаю обезьяньего стада доминирующий самец (а Толгай сразу стал таким, едва был допущен к телу королевы) обязан был обслуживать всех находившихся в детородном возрасте самок. У него сразу возник обширный гарем, нагло и настойчиво требовавший осуществления своих законных прав на деле.
Для Толгая наступили ужасные времена. Пища не насыщала его, а сон не давал отдохновения. Везде ему чудились тугие, равномерно раскачивающиеся груди и еще более тугие, сотрясающиеся в любострастной лихорадке зады. Он уже начал жалеть о том, что в первый свой день здесь избежал зубов каннибалов.
Толгай неоднократно пробовал бежать (и однажды добрался почти до Гиблой Дыры), но каждый раз безо всякого ущерба для себя насильно возвращался в прежнее состояние дамского угодника.
Мало-помалу он обрюхатил всех своих обожательниц, но на смену им почти сразу пришли новые. Теперь Толгай уже жил с младшей сестрой королевы (существом, в чувственном плане куда более привлекательным), а также с сестрами, племянницами, тетками и подружками бывших фавориток.
Учитывая все эти обстоятельства, невозможно было даже представить себе, в чем держится его душа. Толгай уже давно еле ноги таскал, чему также способствовала и вегетарианская диета — мяса он не ел ни под каким предлогом, опасаясь подвоха, а охотиться самостоятельно уже не мог.
Он сумел досконально разобраться в незамысловатом устройстве киркопского общества. Царил там оголтелый матриархат, а отношение к мужчинам напоминало сущий геноцид. Мальчиков с самого раннего возраста воспитывали вдали от отцов, внушая им беспрекословное повиновение всем, кто вместо дурацкого пениса имел такое сокровище, как вульву.
Жалко было смотреть на могучих, как буйволы, и ужасных ликом киркопов, которыми распоряжались в первую очередь их королева, а потом по нисходящей: матери, жены, сестры и вообще все бабы племени подряд. Неудивительно, что потом мужчины вымещали копившуюся годами ярость на своих врагах.
А вообще-то, как убедился Толгай, киркопы в основной своей массе были добродушные, наивные и привязчивые люди. Пленников они пожирали вовсе не от голода или извращенности, а по давно и прочно укоренившейся привычке, да и то не всех подряд, а лишь тех, кто сражался против них. Сойтись с дикарями поближе мешало отсутствие у них членораздельной речи, но Толгай вскоре наловчился объясняться знаками.
Сплошь все мужчины племени имели на Толгая зуб, но не смели перечить своим повелительницам. Немалого труда стоило убедить наиболее радикально настроенных киркопов в том, что не женщина истинный хозяин жизни, а, наоборот, мужчина, поскольку он заведомо сильнее, быстрее и сообразительнее, и что не женщина должна брать мужчину по своей воле, а он ее, в пользу чего есть масса доводов, главный из которых такой: женщину можно использовать столько, сколько заблагорассудится, и на протяжении почти всей жизни, а мужчину не так уж долго и не ахти как часто.
Под влиянием этой агитации в недрах племени постепенно вызрел антифеминистский заговор. Женщины прозевали его потому, что не могли себе даже представить возможность бунта мужчин. Помыкая своими сужеными, беззастенчиво пользуясь их трудом да еще предаваясь безудержному разврату с чужаком, они оторвались от реальности, что в плане историческом неоднократно повторялось в другие времена и с другими владыками.
И вот наступил день, когда в королевские апартаменты, устроенные примитивно, как мышиное гнездо, ворвались грубые мужланы и, дико гикая, дабы превозмочь свой собственный страх, за волосы поволокли женщин на пиршественную площадь. Там их долго насиловали, колотили, заставляли грызть сухие кости и лизать собачий помет, а потом приставили к тяжелой и позорной работе, которую прежде выполняли мужчины: собирать съедобные коренья, толочь их каменными пестиками в муку, таскать воду, строить шалаши, лепить горшки, заготовлять дрова, поддерживать огонь в очагах и отгонять мух.
Вдохновитель этого, без ложной скромности говоря, всемирно-исторического переворота скромно держался в тени, наслаждаясь заслуженным покоем. Победителям пока хватало собственных забот, и, не желая стеснять их своим присутствием, да и опасаясь мщения за прошлый позор, Толгай незаметно ускользнул из людоедского поселка.
На этот раз никто его не преследовал. Осторожный, как матерый лис, крепко наученный лучшим на свете учителем — бедами, он прошел насквозь Киркопию и Кастилию, по пути заглянул в Агбишер, миновал сотни ловушек, ускользнул от тысячи врагов и в конце концов добрался до родимой степи, где долго не мог досыта напиться кобыльего молока и вволю наговориться на языке своего народа.
Вокруг кипела кошмарная, лишенная причин, логики и пощады война. Черные арапы шли на желтых степняков, те отбивались и от них, и от кастильцев, и от жителей Отчины, а потом вместе с последними шли на первых, со вторыми — против третьих, и снова в одиночку сражались против всех разом.
В огне, в крови, в победных походах и трагических отступлениях было не до чувственных утех, но иногда Толгай с непонятной тоской вспоминал и королеву людоедов, и ее юную сестричку, и многих других любвеобильных киркопок.
Все это забылось в единый миг, когда после жестокого разгрома на подступах к Талашевску, раненный несчетное количество раз, сброшенный с лошади и покинутый сподвижниками, он разлепил склеившиеся от крови веки и увидел над собой женщину — беловолосую, как богиня метели, и хрупкую, как одуванчик. В руке она сжимала автомат, а в губах — окурок самокрутки. И то и другое дымилось.
Увидев Верку в первый раз, Толгай влюбился сразу и навсегда…
Аггелы, продолжавшие преследование, неизвестно каким образом узнали, что их тыловое прикрытие уничтожено неведомым врагом. Это, естественно, не добавило им прыти, но и не отвратило от погони. Впрочем, не исключено, что сейчас они больше беспокоились о собственной безопасности, чем о травле жалкой кучки почти безоружных людишек.
Верка кое-как отдышалась и теперь бежала сама, хотя ее продолжали поддерживать с двух сторон Зяблик и Смыков. Лилечка неизвестно какими усилиями воли продолжала держаться впереди, а обязанности замыкающего принял на себя Цыпф. Ему полагалось как можно чаще оглядываться и в случае возникновения каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств (резкого ускорения темпа погони, появления у противника свежих сил, подготовки лучников к залпу) своевременно информировать об этом остальных членов ватаги.
Слева от них все шире разливалась река, а справа опять подступал лес, оставляя для прохода лишь узкую полоску берега. Аггелы с бега постепенно перешли на легкую рысцу, то же самое по команде Цыпфа проделали и преследуемые. Оба отряда по-прежнему разделяло метров восемьсот — дистанция, в несколько раз превышающая полет стрелы.
— А не хитрят ли они? — произнес Смыков с подозрением. — Нарочно нас придерживают, пока другие в обход леса бегут.
— Пусть бегут, — тяжело отдуваясь, буркнул Зяблик. — Тут уж ничего не попишешь. Пока силы есть, будем драться.
— А потом?
— А потом в реку бросимся. Чапаев под пулеметным огнем до середины Урала доплыл. А здесь как-никак Евфрат… Божья река… Может, кто и спасется…
— Дался вам этот Евфрат, — поморщился Смыков. — Не могли какое-нибудь достойное название придумать. Без религиозной подоплеки…
— Какое? — Зяблик через плечо мельком глянул на аггелов, все еще продолжавших висеть на хвосте ватаги, но что-то подрастерявших былую агрессивность. — Пролетарка? Октябрина? Комсомолка? А может, Смыковка?
— Опять вы, братец мой, утрируете!
— Ничего подобного. Имею массу жизненных примеров. Однажды попал мне в руки сборник законов Верховного Совета за шестьдесят четвертый год. Половина законов там как раз и касалась переименований. Ухохотаться можно. Деревня Блядово в Победное. Ракоедовщина в Славное. Поселок Рыгаловка в Советск. Реку Смердечку в Розовку. Озеро Могильное в Первомайское. Даже хутор Нью-Йорк почему-то переименовали. Представьте себе, в Новый Быт. Какая тут логика?
— А какая логика в том, что это гадкое место Эдемом назвали? — голосок Лилечки дрогнул. — Скоро все листья, которые на мне висят, развалятся. Разве это хорошо?
— Ну не скажи… — многозначительно произнес Зяблик. — Я лично в этом ничего плохого не вижу.
— А я вот что предлагаю! — уже и Верка повеселела. — Если спасемся, так и назовем речку Удачей. А нет — пусть Смыковкой остается.
— Я попрошу… — начал было Смыков, но закашлялся, подавившись на бегу какой-то мелкой летающей тварью.
— А где же наш Толгаюшка пропал? — опечалилась вдруг Лилечка.
— За Чмыхало не переживайте, — авторитетно заявил Зяблик. — Он калач тертый. Видите, аггелов наполовину меньше стало… Его работа, по почерку вижу. Ты, Лева, веришь мне?
— Хотелось бы, — вздохнул Цыпф.
Болтая таким образом и все время посматривая назад, они как-то забыли про остальные стороны света. Поэтому человек, внезапно возникший на их пути, был воспринят ватагой как весьма неприятный сюрприз. Лилечка взвизгнула, Верка выругалась, остальные приготовили оружие к бою.
Свободное от деревьев пространство здесь резко расширялось, образуя довольно обширную поляну, с трех сторон ограниченную лесом, а с четвертой — рекой. Незнакомый человек стоял на противоположной стороне этой поляны, у самой воды, как бы загораживая уходящую вдаль узкую тропку.
Как истинный обитатель Эдема, он был совершенно гол, да и богатырским телосложением напоминал Рукосуева, только ростом немного уступал. Лицо незнакомца казалось отрешенным, а выражение глаз отсюда нельзя было разобрать. В левой руке он сжимал какой-то черный клиновидный предмет.
— Здравия желаю, — на всякий случай поздоровался Смыков.
Голый человек внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил.
— Не уважает, — тихо молвил Зяблик. — Дай лучше я с ним покалякаю… Эй, приятель, нам мимо тебя пройти надо. Тут, понимаешь, небольшая заварушка назревает… Хотят некоторые проверить, в чем наша душа держится. Мы вообще-то люди не пугливые, да уж больно много их. Потому, само собой, и рвем когти.
Ответа опять не последовало, хотя голый детина, казалось, ловил каждое слово Зяблика.
— Может, он глухонемой, — пожал плечами Зяблик. — Или русского языка не понимает… Пошли, может, все и обойдется. Мы его не трогаем, и он пусть не лезет.
Они осторожно пересекли поляну. Позади уже явственно слышался топот приближающихся аггелов.
— А если… ножик ему под ребро, — шепотом предложил Смыков. — Уж очень подозрительный тип. Не внушает он мне доверия. Да еще камень в руках держит.
— И это говорит бывший работник правоохранительных органов! Ай-я-яй! — покачал головой Зяблик. — Не-е, про это я уже думал. Он ножик вместе с рукой оторвет. Помнишь, как меня в тот раз Рукосуев мотанул? С такими только знаменитому Дону Бутадеусу силой меряться.
— Стойте! — резко приказал загадочный незнакомец.
— Но мы же вроде договорились! — заканючил Смыков. — Пропустите, пожалуйста.
— В сторону, — голос был подчеркнуто бесстрастен, но глаза — черные, с расплывшимися на всю роговицу зрачками — дико поблескивали, словно в них белладонны закапали.
— Лева, тебе решать, — негромко сказал Зяблик.
— Я бы подчинился, — ответил Цыпф. — По-моему, у этих людей нелады с аггелами. А как известно, враг моего врага…
— И мне тоже может оказаться врагом, — закончил Зяблик, однако первый сделал шаг в сторону.
Держась опушки леса, они отошли от берега шагов на десять. Верка и Лилечка, спрятавшись за куст, занялись починкой своих изрядно обветшавших нарядов, а мужчины, не зная, как быть — готовиться к схватке с аггелами или улепетывать в лес, — топтались на одном месте.
— Сидеть! — последовало новое лаконичное распоряжение.
— Ты Жучкой своей командуй! А тут как-никак люди! — огрызнулся Зяблик, но сел, по-турецки скрестив. ноги.
— Вы Рукосуева знаете? — спросил Цыпф ни с того ни с сего.
— Знаю, — все так же сдержанно ответил строгий незнакомец.
— Привет ему передавайте! — Цыпф многозначительно переглянулся с Зябликом.
— Обязательно.
— А вас самих как зовут?
— Эрикс.
— Вы не русский?
— Что? — знакомый Рукосуева так глянул на Цыпфа, что тому сразу стало не по себе.
— Нет, ничего… — растерянно пробормотал Лева. Этот странный Эрикс между тем занялся делом — несколькими ударами своего камня, формой напоминавшего примитивное рубило, отделил от дерева увесистый сук, расщепил конец, засунул туда камень (получилось что-то вроде первобытного топора) и принялся крест-накрест обматывать его гибкими прутьями лозы. Делал он все это сноровисто и быстро, словно солдат, увязывающий свою видавшую виды скатку.
— Обсидиан, — косясь на Эрикса, сообщил Цыпф.
— Что? — не понял Смыков.
— Обсидиан, говорю. Вулканическое стекло. В Нейтральной зоне оно на каждом шагу попадается. Использовалось древними людьми для изготовления оружия. Ножей, топоров, копий…
— Ножи из него до самого недавнего времени делались, — сказала Верка, закончив ремонт своего гардероба. — Но только медицинские. Для микрохирургии. У нас в больнице целый комплект когда-то был. Импортный. Острее ничего не бывает. Разве что алмаз…
В этот момент аггелы, изрядно употевшие в своих кольчугах, высыпали на поляну. Присутствие голого атлета удивило преследователей еще больше, чем беглецов, но, в отличие от последних, они знали, с кем имеют дело. Доказательством этому были дружно вскинутые луки.
А потом случилось нечто такое, после чего даже видавший виды Зяблик долго качал головой и сокрушенно повторял: «Это же надо так!»
Вскинув над головой топор, Эрикс бросился на аггелов. Лев, атакующий буйвола, преодолел бы это расстояние в три прыжка, а этому странному человеку хватило всего двух.
Но даже совершив этот молниеносный бросок, Эрикс успел только к шапочному разбору. Трое других голых героев (двое до этого таились в лесу, а один — под речным обрывом) уже вовсю крушили аггелов своими страшными топорами. Кто-то еще пытался сопротивляться, но это было равносильно тому, если бы пучок колосьев стал отбиваться от серпа жницы.
Все было окончено в считанные секунды, лишь один из аггелов, совсем молодой, еще безрогий парнишка, каким-то чудом избежав смертоносных ударов, опрометью бросился к кучке людей, сидевших на противоположной стороне поляны.
Эрикс, топор которого еще не попробовал крови, одним прыжком настиг его, но почему-то медлил: то ли хотел прицелиться наверняка, то ли растягивал садистское удовольствие. Верка, действуя скорее по велению слепого материнского инстинкта, чем по собственной воле, приняла юного аггела в объятия, а потом и прикрыла своим телом. Размах топора уже нельзя было остановить, и он по самую рукоятку вонзился в землю совсем рядом с Веркой.
Не притронувшись больше к нему, Эрикс скривился в непонятно что означающей улыбке и, резко повернувшись, направился туда, где его товарищи стаскивали с мертвых аггелов окровавленные кольчуги.
Когда последний труп плюхнулся в воду и, как дымовой завесой, сразу окутавшись клубящейся розовой мутью, медленно поплыл вниз по течению, победители наконец обратили внимание на пятерых людей, оказавшихся в их власти. (Аггела, жизнь которого сейчас не стоила даже рваной советской рублевки, в расчет можно было не брать.) Смыков, обладавший профессиональной памятью на лица, еще издали узнал Рукосуева и заговорил с ним в развязно-почтительной манере, которую обычно употреблял в общении с преступными авторитетами, до поры до времени гуляющими на свободе.
— Доброго здоровьица! Давно не виделись. Очень кстати вы подоспели. Шалят тут некоторые, понимаете. Из-за этих рогатых приличному человеку и погулять спокойно нельзя.
Рукосуев присел в свою любимую позу — на корточки — и обвел всех взором, несвойственным нормальному человеку.
«Одно из трех, — подумал про Рукосуева Цыпф, — либо он вместе с сотоварищами постоянно находится под воздействием сильного наркотика, возможно, того же бдолаха, либо страдает какой-то малоизвестной формой психического расстройства, либо уже выделился из рода человеческого в ту расу разумных существ, для которых, по словам Артема, проблема добра и зла потеряла свою актуальность».
— Где… тот… шустрый? — скрипучим голосом спросил Рукосуев и похлопал себя по правому локтю, недавно вывихнутому, а затем успешно вправленному на место.
Сразу догадавшись, о ком идет речь. Смыков развел руками.
— Нет его! Ушел! Он не наш был. Случайно прибился. Помните, как в песне поется: мы странно встретились и странно разойдемся.
— Верно, что это был новоявленный Каин? — Рукосуев говорил так, словно рот его был полон стеклянного крошева.
— Сказки! — заверил его Смыков, — Брехня аггелов! Он их сам терпеть не может. При случае давит, как клопов.
Только сказав все это, Смыков вспомнил, что Артем при нем ни единого человека, кроме самого Рукосуева, и пальцем не тронул.
— Ушел, значит… — задумчиво повторил Рукосуев. Глаза его закрылись, и он, продолжая сидеть на корточках, стал медленно раскачиваться с пятки на носок, словно задремывая.
Его товарищи бросили топоры и, зайдя по колено в воду, ополаскивали руки. Только Эрикс околачивался поблизости и загадочно поглядывал на аггела, трепещущего в Веркиных руках.
Толгай все не возвращался, и это не предвещало ничего хорошего. Если бы он остался в живых и наблюдал сейчас всю эту суету из укрытия, то обязательно подал бы условный сигнал, имитирующий крик цапли-кваквы.
Глаза Рукосуева вновь раскрылись, хотя ни яснее, ни человечнее от этого не стали. Теперь он пялился на Зяблика, который с подчеркнуто независимым видом изучал строение какого-то цветка.
— Это ты, что ли, хотел меня кастрировать? — поинтересовался Рукосуев, впрочем, без озлобления в голосе.
— Я, — не стал отпираться Зяблик. — Шутка это. Для тех, кто понимает. Не мог я всерьез говорить. Грех такое хозяйство губить. В другом месте благодаря ему ты бы как сыр в масле катался. Забыл разве, сколько в Отчине баб неприкаянных осталось?
— Шутка, — повторил Рукосуев, словно деревянный брусок своими зубами перекусил. Упоминание об Отчине, судя по всему, он пропустил мимо ушей.
Следующей на очереди была Верка.
— Врач? — спросил он вроде бы даже с некоторой симпатией.
— Ага! — Верка торопливо закивала головой, словно винилась в чем-то. — Врач. Ты, зайчик, не обижаешься на нас? Помнишь, как я тебе ручку вправила? Не болит? Вот и хорошо. Отпусти нас, Христа ради!
— Этот тебе зачем? — Рукосуев ткнул пальцем в аггела.
— Ох, и сама не знаю! Баба я глупая! Пожалела дурачка! Ну посмотри сам на него! Сердце как у мышонка бьется! Сволочь он, конечно, если с рогатыми связался. Так это, может, по глупости. Пройдет. Оставь ты ему жизнь, пожалуйста, — в ее голосе появились интонации церковной нищенки.
— Не в наших правилах оставлять или забирать чью-либо жизнь, — загадочно произнес Рукосуев. — Все в мире свершается само собой.
Если это был допрос, то его избежали только двое — Цыпф и Лилечка. Они сидели рядком (Лилечка, потупив глаза, красная, как свекла, а Цыпф, наоборот, смертельно бледный) и держались за руки. Для этой парочки у Рукосуева вопросов не нашлось, хотя, судя по взглядам (по их длительности, а отнюдь не по выражению), Лилечка продолжала интересовать его.
— Куда вы шли? — резко спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Домой, в Отчину, — ответили вразнобой сразу несколько голосов.
— Забудьте. Отчина обречена. Если человечеству и суждено уцелеть, то только в Эдеме. Здесь же оно в свой срок и возродится.
— Не отпускаете, значит, — нахмурился Зяблик.
— Нет. Тут ваше место. Потом вы это сами поймете. А пока за вами присмотрит Эрикс. Временно. Он не сторож вам и не пастух, а защитник и советчик. Аггела оставим вам, так и быть. Сами будете за него отвечать. Если искренне раскается, может, и простим. Но сначала снимите с него это железо. Истинные люди не должны скрывать тело свое под одеждой.
— Но хоть листьями прикрываться мы имеем право? — набралась смелости Лилечка.
— Конечно. Принуждения у нас не существует. Но рано или поздно вы сами откажетесь от одежды.
Рукосуев встал, собираясь уходить, но его остановил вопрос Цыпфа:
— Так что же все-таки случилось с Сарычевым?
— В Эдеме не принято хоронить мертвецов, поэтому я не могу указать вам его могилу, — сдержанно ответил Рукосуев.
— Ну и вляпались! — сказал Смыков, когда поблизости никого, кроме Эрикса, не осталось. (Их будущий советчик и защитник был в это время занят тем, что закапывал в землю оставшееся после аггелов оружие.)
— И не говори даже! — сплюнул Зяблик. — Перековывать нас будут под себя. Штучки знакомые. Чего я на свете не люблю, так это когда кто-то другой за меня все решает. Запомните, кореша, человек, который знает, что для тебя хорошо, а что плохо, последняя сволочь… А ты чего колотишься, дешевка! — он пнул пленного аггела босой ногой. — Не встали бы эти амбалы вам поперек дороги, сейчас бы жилы из нас тянул! Поздно, падла, рыдать! Умел грешить, умей и ответ держать. Мы не попы, раскаяний не принимаем.
— Перестань! — прикрикнула на него Верка. — Нравится тебе над беззащитными людьми издеваться! Ты и Чмыхало когда-то хотел добить! Помнишь? Это я его тогда отстояла! Кто прав оказался?
Этот довод хоть ненадолго, но приструнил Зяблика. Толгай был для них почти как младший брат. Верить в его смерть не хотелось, но и надежды на счастливый исход схватки сразу с десятком до зубов вооруженных врагов почти не осталось. По всем статьям выходило, что Толгай отдал за них свою жизнь, хоть и сумел при этом взять хорошую цену. Повздыхали, вспоминая верного друга, а Лилечка даже слезу пустила. После этого приступили к допросу аггела.
— Ты чей? — спросил Смыков, словно перед ним был сорванец, попавшийся на краже яблок из чужого сада.
— Ничей… Я сам по себе… — надулся тот.
— Фу-ты ну-ты! А звать как?
— Иавал, — не без гордости сообщил аггел.
— Ты мне это брось! Я не кличкой твоей интересуюсь, а анкетными данными! Отвечай без запинки! — Техникой допроса Смыков владел так же виртуозно, как шулер колодой карт: знал, где пошутить, где проявить сочувствие, а где и прикрикнуть. — Фамилия?
— Э-э-э… не помню! — аггел тужился, как ребенок, высаженный перед сном на горшок, даже испариной покрылся, но, похоже, и в самом деле никак не мог вспомнить свою настоящую фамилию.
— А имя помнишь?
— Оська… — мальчишка впервые поднял глаза на своих спасителей.
— Иосиф, значит… Или Осип?
— Не знаю.
— Год рождения? Впрочем, этого ты точно не знаешь… Родители есть?
— Нет.
— Что значит — нет? Тебя же не из глины слепили! Мать свою помнишь?
— Немного. Я есть хотел. Она ходики на базар понесла и не вернулась. А отец еще раньше умер. Его, говорят, бешеная крыса укусила.
— Сирота, значит. Беспризорник. Тогда все понятно. Жил по подвалам, голодал, подворовывал, а потом тебя рогатые подобрали. Накормили, одели, обласкали и объявили сыном Каина, который волен творить над другими людьми все, что ему заблагорассудится. Так?
— Так, — удивление выражали не только его глаза и губы, но даже уши. — А вы откуда знаете?
— Тут и знать нечего. Таким манером еще Святополк Окаянный пацанов в свою дружину вербовал. И давно ты с рогатыми водишься?
— Не очень… — теперь на лице появилось выражение растерянности.
— Разве ты дни считать не умеешь?
— А зачем?
— Действительно, зачем… В Эдеме первый раз?
— Нет, второй.
— Как вы сюда добираетесь?
— Обыкновенно, — Оська-Иавал пожал плечами. — Ногами.
— Я понимаю, что не на крыльях. Обратную дорогу сможешь найти?
— Смогу, наверно.
— Нравилось тебе у рогатых? Чего потупился, как красная девица! Признаться боишься! Сколько людей загубил?
— Не знаю… Ни одного вроде…
— Врешь. В стычках участвовал?
— Участвовал.
— Где?
— В Отчине, Агбишере, Баламутье…
— Ого! Поносило тебя, однако… А здесь?
— Здесь — нет.
— Как это — нет? А сегодня?
— Разве это стычка… — от воспоминаний о пережитом ужасе его всего передернуло.
— Что это за люди, которые на вас напали?
— Разное про них говорят… Вроде бы они хотят все сначала начать, как бы от Адама. Но только по-другому. Не покидать больше Эдема. Дескать, это единственное место, где положено жить людям. А все остальное — для ядовитых гадов и диких зверей.
— Ну а у вас, естественно, на Эдем есть другие планы?
— Никаких… За бдолахом сюда ходим, вот и все. Людям здесь долго жить нельзя. Сами видите, каким этот стал… — он с опаской глянул в сторону Эрикса, заканчивавшего засыпать яму. — Не человек, а вурдалак какой-то…
— Зато вы — невинные пташки! — не выдержал Зяблик. — Бдолах жрешь?
— Ага, — кивнул Оська. — Дают понемногу.
— Чтоб рога росли?
— Тут дело не в рогах, — Оська говорил осторожно, словно боясь, что его могут превратно понять. — Дело в вере. Рога это только знак… Доказательство того, что я верую в отца нашего Каина. У тех, кто не верит, они не растут. Поэтому-то среди нас и нет шпионов.
— Почему же у тебя самого рога не выросли? — поинтересовалась Верка.
— Я совсем недавно приобщился… Только первое посвящение прошел. Меня еще и на сковородку не пускали.
— И не пустят, будь уверен — Зяблик для доходчивости щелкнул Оську по лбу.
— Слыхал, что про тебя тут калякали? Жизнь тебе сохранят только при условии полного раскаяния. Что ты на это скажешь? Отрекаешься от своей людоедской веры?
Теперь, когда непосредственная опасность вроде бы миновала, а страх понемногу отпустил, юный аггел не склонен был принимать столь скоропалительное решение.
— Ну не знаю, — замялся он. — Нельзя же вот так сразу взять да отречься… Подумать еще надо.
— Как ты сказал? — голос Зяблика перешел в зловещий шепот. — Нельзя сразу? Можно!!! Сейчас ты не только от Каина, а даже от половой жизни навсегда отречешься! Эй, дорогой! — он помахал рукой, обращаясь к Эриксу. — Можно я твоей секирой воспользуюсь?
— Для какой цели? — лениво поинтересовался тот.
— Надо тут одному фраеру мозги вправить. Путем усечения яиц.
— Кому вправить? — слегка удивился Эрикс.
— Фраеру! Не понимаешь? То-то, я гляжу, ты сам землю копаешь, хотя дармовой силы в распоряжении навалом. Не русский, что ли?
— Как бы это вам лучше сказать… — На невозмутимом лице Эрикса появилось что-то похожее на смущение.
— Как в паспорте написано, так и говорите, — с видом знатока посоветовал Смыков.
— Паспорт? А, вы, наверное, имеете в виду идентификатор личности?
— Мать честная! — присвистнул Зяблик. — А ты хоть в каком году родился?
Эрикс хотел что-то ответить, уже и рот открыл, но потом махнул рукой.
— Нет, вы не поймете. Мы не употребляем десятичную систему счисления. Но если это вам так интересно, я попробую перевести дату моего рождения в удобную для вашего понимания форму… Хотя без компьютера, конечно, будет трудновато…
— Он вздохнул непонятно почему. — Какое летосчисление вас устраивает больше: александрийское, антиохийское, диоклетианово, христианское, византийское или мусульманское?
— Все! — замахал на него руками Зяблик. — Дальше не будем! Замнем для ясности. А не то сейчас начнется базар на тему истории будущего. Один только вопрос любопытства ради: до Марса ваши современники уже добрались?
— Конечно. И уже довольно давно… Я там сам, правда, не был, но некоторые из моих знакомых отдыхали на Марсе.
— А почему вы не были? — опечалилась Верка. — Это же, наверное, так интересно…
— Я собирался на Титан… Да вот не получилось… Эта удивительная новость на некоторое время отвлекла внимание ватаги от упорствующего в своих заблуждениях аггела. Однако вскоре Зяблик спохватился:
— Что притих, гаденыш? Думал, забыли про тебя? Нет уж — дудки! Если прибился к нам, изволь чужой устав чтить. Цацкаться тут с тобой никто не собирается. Сам знаешь, что мы за тебя своей головой отвечать обязаны. Не хватало лишних хлопот! Если не отречешься сейчас же от своей рогатой братвы, а заодно и от батьки их кровавого, я с тобой то же самое сделаю, что он с брательником своим. Мне не привыкать. Как раз за это самое первый срок тянул. Ну?
— Отрекайся, зайчик, отрекайся! — Верка погладила Оську по голове. — Ну зачем тебе с этой сволочью водиться! Можно и по-человечески жизнь прожить.
— Как свинопасы сиволапые? — ухмыльнулся Оська.
— А хотя бы! Чем плохо! — поддержала Верку Лилечка. — Земля прокормит. Община в обиду не даст. Семью заведешь. Детей.
— Какая семья, какие дети! — Оська с тоской глянул в свинцовое небо. — Конец скоро всему придет… В аггелах я бы хоть погулял в свое удовольствие… Хотя какая теперь разница… Ладно, отрекаюсь!
— Это ты брось! — погрозил ему пальцем Зяблик. — Разве так отрекаются?
— А как? — удивился Оська.
— Как клялся, так и отрекайся. Только наоборот.
— Вы это серьезно?
— Вполне. И не залупайся, когда с тобой старшие говорят. А не то и в самом деле топор возьму! Отчикаю твою мошонку, сразу покладистым станешь. Усек?
— Усек, — с кислым видом кивнул Оська.
— Тогда начинай. Когда прописку в своей банде проходил, тебе, наверное, говорили, что ты ее до смерти будешь помнить?
— Говорили…
— А отречение ты будешь еще сто лет после смерти помнить, это я обещаю. С чего вы там начинаете?
— С клятвы Кровавому Кузнецу.
— Давай.
— «Владыка и повелитель…»
— Нет, так не пойдет! Повторяй за мной: «Гопник смердячий и рвань подзаборная…»
— «Гопник смердячий и рвань подзаборная… — запинаясь, промолвил Оська, — отец наш истинный…»
— «Зуктер ссученный…» — поправил его Зяблик.
— «…Зуктер ссученный, — как эхо повторил Оська, — ради служения тебе отрекаюсь от всякой иной веры, всяких иных властителей и всяких иных ближних, пусть бы они даже считались раньше моим отцом и моей матерью. — Проговорив это, как заученную молитву, Оська умолк, ожидая поправок Зяблика, однако тот махнул рукой: „Ладно, чеши до конца“. — Отрекаюсь также от всего, чему меня учили до этого лжецы, именовавшие себя учителями, потому что науки их — всего лишь невнятный пересказ древней лжи, накопленной за тысячи лет твоего забвения. Жизнь моя отныне принадлежит только тебе. Взамен ты отдаешь мне жизнь и достояние тех, кто отрицает твою сущность, а тем паче — глумится над твоими деяниями. Обещаю преследовать их безо всякой пощады в любую погоду, в любой стране и во все времена, не делая при этом различия между мужчинами и женщинами, стариками и детьми, властителями и рабами. Дурная трава не должна засорять сад твой. Веру в тебя, отец наш, обязуюсь доказывать не только словами и поступками, но также мыслями. А если я вдруг усомнюсь и разуверюсь, поступай со мной так, как хороший хозяин поступает со взбесившимся псом или заразной скотиной. Весь я без остатка и все мое потомство принадлежат только тебе, отцу единственному, истинному и вечному».
Почти без запинки отбарабанив всю эту мрачную ахинею, Оська с облегчением перевел дух. Лицо его порозовело от каких-то сокровенных воспоминаний.
Ватага молчала. Верка смотрела на Оську с жалостью, Лилечка с брезгливостью, Цыпф с удивлением. Только Смыков, и на следственной работе, и на службе в инквизиции много раз наблюдавший всю низость человеческого падения, никак не выразил своих эмоций. Молчание нарушил зачинщик всего этого представления Зяблик:
— Круто… Даже у блатных такой клятвы нет, хотя они тоже на всю жизнь кровью повязаны… Сейчас мы твою молитву слегка переиначим. А ты запоминай. Потом повторишь. Так… Начало мы опустим, гопником и зуктером ты Каина уже назвал, такое у вас не прощается. Пойдем дальше. Напомни слова.
— «Ради служения тебе…» — буркнул Оська.
— «Служить тебе не собираюсь и заявляю прямо, что ни ты, Кровавый Кузнец, ни кто иной из твоей банды не заставит меня отречься от родителей, пусть и почивших уже, от родной земли и от всего хорошего, чему меня успели научить добрые люди. Жизнь моя принадлежит только мне, и только я один волен распоряжаться ею, но при этом я постараюсь никогда не наносить ущерба ближним своим, а в особенности — беспомощным старикам и невинным детям. Я не верую в тебя, братоубийца и лжец. Я проклинаю тебя на словах и в мыслях». Э-э-э… помогай, Лева!
— «Клянусь до конца дней своих бороться с твоими последователями, как с оружием в руках, так и словом. Клянусь также при каждом удобном случае разъяснять несведущим людям всю пагубность и мерзость твоего учения. Если же я нарушу вдруг эту клятву и пойду на попятную, пусть тогда меня судят по закону и совести», — на диво гладко закончил Цыпф.
— Годится, — одобрил Зяблик. — А теперь с самого начала внятно и с чувством.
На то, чтобы заставить Оську выдавить из себя весь этот текст, ушло не менее получаса. Он пыхтел, запинался, мычал, а более или менее связно заговорил лишь после того, как ему сунули под нос обсидиановую секиру. Для пущей убедительности бывшего аггела заставили повторить клятву несколько раз подряд. Но, как выяснилось, это было еще далеко не все.
— Что там у вас дальше по программе? — строго осведомился Зяблик.
— Кровь пили… — потупился Оська.
— Чью?
— Откуда я знаю… Чужую.
— Теплую?
— Нет, уже холодную… Там целое ведро стояло.
— Понятно: если действовать по принципу «наоборот», что у нас получается? Пил ты кровь чужую и холодную, а харкать будешь своей и теплой. Согласен?
Удар был настолько неожиданным и стремительным, что никто, собственно, и не уловил момента его нанесения — только зазвенели Оськины зубы да обильно хлынула из его пухлых уст алая юшка.
— Ну это уже слишком! — воскликнула Верка. — Кулаки-то зачем в ход пускать? От зоны своей родной не можешь отвыкнуть!
— Не лезь! — огрызнулся Зяблик, тон которого, выражение прищуренных глаз и внезапная бледность не предвещали ничего хорошего. — Не твоего ума дело. У меня свои планы. А поэтому, пока я из него всю дурь не выбью, не успокоюсь.
— И в самом деле, Вера Ивановна, попридержите свою бабью сердобольность, — поддержал Зяблика Смыков. — Тут без сильных эмоций не обойдешься. Клин клином вышибают. Макаренко, чтобы своих питомцев на истинный путь наставить, еще и не такие расправы устраивал.
— Палач твой Макаренко! — возразила Верка. — И вы оба с ним заодно!
Между тем Зяблик продолжал обрабатывать Оську.
— С питьем крови, значит, закончено, — он подул на свой кулак. — Что там дальше на вашем шабаше происходило? Всю программу рассказывай! И не врать! В глаза мне смотри!
Оська заскулил, пуская одновременно ртом и носом розовые пузыри.
— Там… это самое… после крови… на теле клятву давали…
— На каком теле? Не хныч, ты же мужчина!
— Девственницы… Только мне она не девственницей досталась… Очередь была… — он рыдал, уже не сдерживаясь.
— Где же вы, сволочи, девственницу раздобыли?
— Монашка кастильская…
— Молодая?
— Нет, старая… у-у-у…
— И ты на такое согласился? — с ужасом воскликнула Лилечка.
— Ага… Один не согласился, так его самого использовали… Ой, пожалейте!
— Догадливым стал, — произнес Зяблик зловеще. — Сам понимаешь, что тебе за девственницу кастильскую положено. Понимаешь или нет?
— П-п-понимаю! — выл Оська.
— Опетушат тебя сейчас. Решение вполне справедливое. Нервных просим отойти подальше.
— Не смей! — заорала Верка. — Да ты сам зверь похуже любого аггела! Мужики, остановите вы его, в конце концов!
— Вы что, Вера Ивановна, Зяблика не знаете? — пожал плечами Смыков. — Да и как остановишь, если у него топор в руке.
— Я тоже полагаю, что пора прекратить этот балаган. — Цыпф, наверное, был смущен больше всех. — Пошутили и хватит… Всему есть пределы…
— Адвокатов, понимаешь, развелось! Даже кирпичу упасть негде! — Зяблик ухватил обезумевшего от страха Оську за волосы. — Прочь с дороги! Если у самих кишка тонка, так хоть под ногами не путайтесь!
Мальчишку он уволок в заросли так же легко, как волк уносит в свое логово ягненка. С минуту из леса доносился удаляющийся хруст сокрушаемой растительности, а потом там словно шрапнель разорвалась — так звонок и интенсивен был человеческий взвизг, впрочем, почти сразу же захлебнувшийся, как это бывает, когда кричащему резко зажимают рукой рот.
— Нет, вы как хотите, а с Зябликом определенно надо что-то решать, — возмущенно сказала Верка. — Совсем распоясался!
— Как лицо, облеченное властью, пусть и временной, — начал Цыпф, — я со своей стороны обещаю сделать все возможное…
— Какой еще властью? — удивился Смыков. — Власть ваша, братец мой, закончилась в тот момент, когда мы на этом бережке якорь бросили. Выбирали ведь вас лишь в силу особых обстоятельств, которые уже не имеют места быть.
— Слушая вас, у меня возникает ощущение, что вы работали не следователем милиции, а преподавателем русского языка в школе для папуасов, — еще пару недель назад Лева никогда бы не осмелился сказать такую дерзость Смыкову.
— Да, товарищ Цыпф, — тот сочувственно глянул на Леву. — Верно говорят, что власть портит человека.
— Уж извините… — Лева развел руками.
В лесу снова затрещало, и на опушке появился Зяблик. С совершенно будничным выражением лица он вытирал листьями руки.
— Вы, братец мой, и в самом деле его изнасиловали? — поинтересовался Смыков.
— Ну ты что, в натуре! — возмутился Зяблик. — За кого меня принимаешь? Я педрилой сроду не был.
— А почему он так верещал?
— Сунул ему для острастки сучок в задницу, вот и все. Пусть знает, каково той кастильской монашке пришлось. С девственностью надо в пятнадцать лет расставаться, а не в семьдесят. Всякому овощу свое время, как говорил царь Соломон.
— А что это вы, братец мой, так старательно руки трете?
— Слабаком парень оказался. Уделался от страха, как медвежонок в овсах. Ну ничего, урок ему на всю жизнь будет…
Урок, похоже, и в самом деле пошел Оське впрок, стал он на диво вежлив со всеми, ласков, предупредителен и даже на имя Иавала (который, по словам Цыпфа, был прямым потомком Каина в шестом, кажется, колене) уже не отзывался. Перед каждой трапезой он на манер «Отче наш» твердил: «Гопник смердячий, рвань подзаборная и зуктер ссученный, служить тебе я не собираюсь и заявляю прямо, что…»
Эрикс все это время от них ни на шаг не отходил. И хотя проявить себя в роли защитника ему, слава Богу, пока не представлялось случая, советчиком он оказался старательным, терпеливым и доброжелательным.
Благодаря ему в первый же день ватага наелась от пуза — в райском лесу обнаружилось множество вполне съедобных и даже весьма недурственных на вкус растений, хотя по их внешнему виду сказать этого было никак нельзя. Эрикс показал своим подопечным дупла с какой-то полужидкой субстанцией, про которую Верка, помнившая совсем другие времена, сказала: «Ну прямо клубника со сливками», и научил их раскапывать подземные норы, служившие убежищем для странных шишкообразных существ — полурастений-полуживотных, — способных утолить не только зверский голод, но и удовлетворить самого взыскательного гурмана.
Все это нужно было поедать на месте, без промедления, иначе спустя каких-нибудь пять-шесть часов нежная сладость сменялась тошнотворной горечью, а чудесный аромат — зловонием помойки.
Впрочем, уроки прикладной гастрономии были далеко не главными в том объеме знаний, которые стремился передать им Эрикс.
Смысл его пространных лекций, длившихся почти все свободное ото сна и еды время, сводился примерно к следующему. Человек как самодостаточная личность и субъект истории появился в неком мире, очень напоминающем Эдем. Именно там расцвела первая цивилизация, память о которой послужила основой легенд о так называемом Золотом веке. Люди не знали болезней и голода, не нуждались в одежде, жилье и оружии. Природные условия, свойственные только этому миру, не позволяли копить что-либо, заготавливать впрок и строить нечто более грандиозное, чем рассчитанный на пару суток шалаш. Следовательно, отсутствовали имущественное расслоение, эксплуатация и распри. Были исключены даже конфликты на бытовой почве — всем хватало всего, а стыда и ревности голые дети Эдема не знали. Любовь была для них одновременно и искусством, и религией, и основным способом времяпрепровождения. Впрочем, как признал Эрикс, здесь начиналась уже область домыслов.
Людей, населявших Эдем в ту эпоху, можно условно назвать нефилимами (Нефилимы— так называются потомки сынов Божьих и дочерей человеческих в оригинальном еврейском тексте Библии. В православной традиции — «исполины».), ибо именно под таким именем в Библии упоминается живший задолго до потопа народ исполинов, славный своими героическими подвигами и деяниями духа.
О причине, заставившей людей покинуть земной рай, можно только догадываться. Наивная библейская легенда ничего толком не объясняет. Не исключено, что человеческую расу вытеснили более могущественные существа, имевшие совершенно другую природу (что, по мнению Цыпфа, косвенно подтверждается повышенным интересом к Эдему так называемых Незримых, или Иносущих).
Люди, рассеявшиеся по всему свету и оказавшиеся в самых разнообразных природных условиях, частью погибли, а частью приспособились к новой жизни, далеко не такой сытной и легкой, как раньше. Они научились изготовлять одежду и оружие, по примеру четвероногих хищников занялись охотой, а по собственной инициативе — грабежом более удачливых или более трудолюбивых собратьев. Что из этого получилось впоследствии, известно всем: войны, мятежи, расовая и религиозная нетерпимость, зависть, раскол общества на богатых и бедных, половое неравноправие, короче, все то, о чем Бог впоследствии сказал: «Велико развращение человеков на Земле, а все мысли и помыслы их сердца есть зло». Повсюду, грубо говоря, воцарился Железный век, продолжающийся и по сию пору.
На это Лева Цыпф, благодаря хорошему питанию и покою, обнаглевший до крайности, возражал следующим образом. Именно этот распроклятый Железный век породил великую философию и бессмертное искусство, помог человеку познать себя и окружающий мир, поставил его над природой и стихиями, позволил добраться до других планет и худо-бедно увеличил народонаселение не меньше чем в тысячи раз. А вот чем, кроме любви, жратвы, строительства недолговечных шалашей и созерцания собственных голых тел, занимались знаменитые нефилимы — абсолютно неясно. Всеобщее благополучие, бесконфликтность и свойственный такому типу общества застой не могут подвигнуть людей на героизм или на создание духовных ценностей.
Контрдоводы Эрикса (как ни крути, а был он человеком довольно странным даже на фоне остальных своих единомышленников: в одних вопросах демонстрировал поразительную осведомленность, а в других — убийственную наивность) выглядели приблизительно так. Человеку свойственно придавать исключительное значение только своей культуре, близкой и понятной. О том, что известно всего лишь понаслышке, он объективно судить не может. Тем более не может он судить о вещах вообще неизвестных. К примеру, средний европеец единственно приемлемым считает свой образ жизни, в чем с ним будет категорически не согласен ортодоксальный мусульманин или буддийский монах. Было бы ошибкой утверждать, что цивилизации шумеров, ацтеков или древних египтян были хуже нашей лишь на том основании, что не покоряли космоса или не знали электричества. Тем более мы не можем сейчас говорить что-либо конкретное о цивилизации нефилимов, основные принципы существования которой стерлись в памяти деградировавших и разобщенных потомков. Однако отголоски некоторых древнейших легенд, тайные знания, сохранившиеся у первобытных народов, и кое-какие необъяснимые современной наукой археологические находки наводят на мысль, что нефилимы в свое время достаточно глубоко проникли в самые сокровенные тайны мироздания. Если же говорить об искусстве, то у людей, даже обитающих в благословенной стране, всегда существуют побудительные поводы для него — жизнь, смерть и любовь. Каждая из этих тем неисчерпаема и может быть выражена какими угодно способами. В арсенале искусства, несомненно, есть средства не менее выразительные и доходчивые, чем письменные знаки, живописные образы, гармоничные звуки и грациозные телодвижения. Вполне возможно, что чувственная любовь сама по себе может стать высоким и вдохновенным искусством, по силе своего воздействия на общество ни в чем не уступающим литературе или музыке.
Это умозаключение очень заинтересовало Верку. Напустив на себя томный вид, она поинтересовалась, тянет ли на искусство то, чем нынче занимаются обуянные любострастием парочки. Эрикс, не задумываясь, ответил, что скорее всего — нет. От истинного искусства любви существующая сексуальная практика отличается примерно так же, как симфонии Моцарта и фуги Баха от камлания впавшего в экстаз шамана. Между реализацией довольно-таки примитивного инстинкта и созданием на его основе шедевров чувственности лежит дистанция огромного размера. Можно лишь предполагать, какие новые способы соития, какие формы ласк, какие методы обострения страсти, какие комбинации индивидуального и группового секса создадут грядущие мастера плотских утех. Впрочем, не исключено, что уже в наше время существуют люди, в силу своих редких врожденных качеств интуитивно предвосхитившие некоторые основополагающие начала волшебного искусства любви.
(По этому поводу между Зябликом и Веркой состоялся обмен репликами. «Ты, подруга, в этом деле на Моцарта не тянешь, — сказал он. — Ноты плохо знаешь, да и скрипка твоя расстроена». «Не с твоим смычком на моей скрипке играть!» — ответила она.) Главная идея лекций Эрикса сводилась к тому, что зло и насилие не являются непременными принадлежностями человеческой природы, как это следует из большинства религиозных и философских учений, а являются лишь естественным атрибутом борьбы за выживание в сложных и изменчивых условиях Железного века. Стоит вернуть людей, пусть даже и не всех, а некоторую их часть, в прежние условия, и великое племя нефилимов возродится вновь, тем более что этому способствуют многие объективные факторы, присущие исключительно Эдему. Во-первых, его природа способна удовлетворить все физиологические запросы человека, освободив тем самым его энергию для самосовершенствования и познания высших истин. Во-вторых, в Эдеме отсутствуют болезни и опасные живые существа, погода всегда ровная, стихийных бедствий не наблюдается. В-третьих, местные растения, употребляемые в пищу, влияют на организм человека самым благоприятным образом. Сила, быстрота и физическое совершенство нефилимов проистекают именно по этой причине. Кстати, бдолах они употребляют лишь в исключительных случаях, считая его чересчур сильным и не до конца изученным средством, дающим зачастую непредсказуемый эффект.
Естественно, что человек, выбравший для своего обитания Эдем, через некоторое время будет заметно отличаться от своих соплеменников, продолжающих вести прежний образ жизни. Но это отнюдь не регресс, а, наоборот, возвращение к естественному состоянию тела и души. Впоследствии, когда Золотой век в достаточной мере расцветет и окрепнет, появится возможность распространить его и за пределы Эдема.
На вопрос Цыпфа, как согласуется декларируемая нефилимами добросердечность и высокая нравственность с жестокостью, проявленной ими во время расправы над аггелами, Эрикс безмятежно ответил, что никакой жестокости как раз и не было. Существа, постоянно проникающие на территорию Эдема и именующие себя аггелами, по многим принципиальным вопросам бытия придерживаются столь деструктивной позиции, что их уже нельзя соотносить с представителями рода человеческого. Но тем не менее все аггелы умерли быстро и почти безболезненно, что по отношению к ним является единственно допустимой формой гуманизма. Вначале нефилимы пробовали контактировать с аггелами и проповедовать среди них свои убеждения, однако очень скоро все это закончилось кровавой бойней, в которой погибло немало весьма достойных людей. С тех пор жители Эдема считают себя свободными от каких-то моральных ограничений во всем, что касается аггелов. Конечной целью нефилимов является их полное уничтожение, поскольку методы убеждения не применимы к этим кровожадным и бесчестным существам (при этом Эрикс многозначительно глянул на сжавшегося в комок Оську).
— Кстати, — продолжал он, — если проводить аналогии между нынешними обстоятельствами и, скажем, теми же библейскими сказаниями, становится ясно, что Бог-вседержитель и его светлое воинство отнюдь не отличались всепрощением, пацифизмом и ангельской кротостью. Чего стоят, к примеру, истории об изгнании из Эдема наших несчастных прародителей, всемирном потопе, разрушении Содома и Гоморры, Вавилонской башне, а также о намечающемся в неопределенном будущем грандиозном сражении между сыновьями Божьими и сатанинским воинством, в ходе которого привычный для нас мир неминуемо погибнет.
Когда вопрос коснулся численной и национальной принадлежности новоявленных нефилимов (на это особенно упирал Смыков), Эрикс отвечал уклончиво, упомянул лишь, что среди них есть выходцы из Отчины (таких большинство), из Кастилии, из Трехградья и целого ряда других стран, лежащих по противоположную сторону от Эдема и поэтому широкой публике почти неизвестных.
Родная страна Эрикса, если судить по его довольно скупым упоминаниям о ней, в момент катастрофы находилась на несколько веков впереди того мира, осколок которого впоследствии стал называться Отчиной. Она располагалась где-то в Южном полушарии и носила столь труднопроизносимое название, что Лева Цыпф, в свое время ознакомившийся с опусами Велимира Хлебникова, заочно окрестил ее Будетляндией.
Сам Эрикс специализировался на загадочной науке эгидистике (никто из слушателей так и не понял, что конкретно она изучает) и по долгу службы был обязан владеть всеми языками международного общения, в том числе и русским.
Последствия Великого Затмения для его мира, целиком зависящего от бесперебойного функционирования различных электронных систем, были так трагичны, что выжить удалось едва ли каждому десятому. Разгром продолжили воинственные аборигены Гиблой Дыры, сами почти полностью погибшие при этом, а завершили аггелы, основавшие в разоренной стране несколько своих баз и лабораторий по переработке бдолаха.
Ненависть аггелов и будетлян усугублялась и тем фактом, что все попытки обратить их в каинизм окончились провалом в силу некоторых весьма специфических причин — психология людей будущего была искусственно модифицирована на генетическом уровне, что не позволяло им творить безоглядное насилие.
В конце концов всем членам ватаги, включая женщин, было ненавязчиво предложено влиться в ряды нефилимов. Отпустить их восвояси, по словам Эрикса, не представлялось возможным по соображениям гуманного порядка — вокруг рыскали озлобленные последними потерями банды аггелов, а в Нейтральной зоне всех подряд косила невидимая смерть. Бороться с ней можно было только с помощью бдолаха, плантации которого в настоящий момент контролировались все теми же аггелами. Таким образом, получался некий заколдованный круг, из которого был только один выход — принять условия Эрикса. Время работало против Смыкова и его друзей. Каждый кусок пищи, каждый глоток питья малу-помалу превращали их совсем в других существ. Как выразился Зяблик: «Захочешь — станешь нефилимом, и не захочешь — тоже им станешь. Что в лоб, что по лбу!»
Такого рода обработка шла постоянно. В основном ее вел Эрикс, но иногда к нему присоединялся Рукосуев или кто-то еще из их молодецкой компании. Однажды даже пришла женщина, которую звали Майрой, — блондинка с кожей цвета персика и фигурой юной амазонки. Увидев ее, все просто рты пораскрывали. На пути превращения из человека в нефилима она ушла гораздо дальше, чем Эрикс, и это сквозило во всем ее поведении, а особенно в речи — завораживающей, как пение сирены, но почти невразумительной. Впрочем, задачей прекрасной Майры было отнюдь не чтение лекций, а демонстрация стати, по словам Рукосуева, благоприобретенной в Эдеме. У мужчин зародилось подозрение, что делалось это все исключительно в целях обработки Верки и Лилечки. Ну какая женщина не мечтает, как по волшебству, превратиться из дурнушки в красавицу?
Воспользовавшись одной из отлучек Эрикса, ватага провела совещание. Председательствовал, как всегда, Смыков. На обсуждение выносился один-единственный вопрос — оставаться ли на вечное поселение в Эдеме или любыми способами пробираться на родину.
Начал Зяблик:
— Я никого здесь агитировать не собираюсь. У всех свои мозги имеются, пусть даже кое у кого слегка набекрень. О том, что нас ждет в Отчине, мы прекрасно знаем. О том, что нас ждет здесь, — наслышаны. Выбирайте. Но хочу лично от себя сделать заявление. Нам опять обещают рай. На этот раз, правда, не на земле, а в раю. Рай в раю! Звучит. Вроде как «Миру — мир». Только я эти сказки уже сто раз слышал, и папаня мой слышал, и даже, наверное, дед. Кто только нам, дуракам, этого рая не обещал. Про попов я даже не говорю. Это их хлеб — обещать бычка вместо тычка. Народовольцы обещали, которые царя-освободителя рванули. Потом Володька Ульянов обещал при условии электрификации и советской власти. Таракан усатый, правда, ничего особо не обещал, ведь и так подразумевалось, что все мы в раю обретаемся. Зато уж Кукурузник лысый обещал, так обещал! Вот у кого язык без костей был. Аж через двадцать лет ожидался приход распрекрасной жизни. А его самого через два года на пенсию поперли. Те, кто потом верховодил, тоже обещали, хотя и не так скоро. Дулю в нос вы дождались, больше ничего! Мало вам? Вспомните тогда осла Коломийцева и суку Плешакова. Тоже ведь обещали! И аггелы в стороне не остались, хотя рай у них особый, с кровавыми реками и человеческим мясом. Теперь, видите ли, какой-то Рукосуев со своей шоблой за обещания взялся! Рай прямо сейчас и на вечные времена! Ходи нагишом и жри, как козел, веточки. Ни газетки почитать, ни бормотухи выпить. Зато великое искусство любви намечается. Правильно, а что еще голому человеку остается делать! В гробу я эту неземную любовь видал! Да раньше любая шалашовка могла за четвертак такое искусство показать, что и в Большой театр ходить не надо. Я — человек! — Зяблик саданул себя кулаком в грудь. — И сдохнуть хочу по-человечески, пусть даже в канаве! Да вы на этих нефилимов зачуханных повнимательней гляньте! Эрикс еще туда-сюда, видно, недавно здесь. Зато Рукосуев уже в чудо-юдо какое-то превратился. Глаза, как у кота, который нагадить хочет. Про девку я вообще не хочу говорить, она уже и языком ворочать не может. Такую даже драть противно, хотя у нее сиськи по пуду и жопа как орех. Это то же самое, что с умалишенной связаться. Домой надо отчаливать! Забыли разве, кто мы такие и за что нам сиволапые последний кусок хлеба отдают? Дела там, чувствую, неважные. Людей надо мирных спасать, аггелов душить, с варнаками попробовать столковаться! Бдолаха бы побольше с собой захватить, сколько жизней тогда спасем! Но об этом потом отдельный разговор будет. А теперь пусть каждый сам за себя решает. Эх, жаль Чмыхало нет, он бы меня понял!
— Вам бы, братец мой, в ведомстве Геббельса работать, — поморщился Смыков.
— Что ни слово, то наглый оппортунизм. Зачем же коммунизм, светлое будущее всего человечества, путать с каким-то мифическим раем, выдуманным церковниками для одурачивания трудящихся?
— Да ты что! — взорвался в ответ и без того перенервничавший Зяблик. — Забыл, где мы находимся и про что толкуем? Дома будешь свою пропаганду вести! А тут разговор короткий! Или ты остаешься здесь, или возвращаешься вместе со мной в Отчину.
— Нет, такая жизнь не по мне, — покачал головой Смыков. — Старого мерина новым штукам поздно учить. Какая-то уж больно скользкая идеология у этих нефилимов. Сплошной эгоизм, аполитичность и тунеядство. Да и все остальное… Приличный человек и одеваться должен соответствующе. Это только бабе голым задом крутить нравится.
— Ты за всех не говори! — накинулась на него Верка. — Тоже мне, ревнитель нравственности! Слыхали… Пригодился бы здесь вместо инструктора по искусству любви! Заметила я, как ты, кот помойный, на эту Майру облизывался! Конечно, полное неглиже мне и самой не нравится. У женщины тайна должна быть. Но, с другой стороны, есть в их словах смысл. Что, если мы и взаправду тысячи лет не тем путем шли? Так, может, попробуем все сначала? Лучше позже, чем никогда. Вспомните, какие они красивые, сильные, здоровые? Что толку от нашего Левушки? Болтать может, как заведенный, а сам на хомяка похож и в драке нестойкий. Может, нефилимам этим человеческая речь уже и без нужды. Что, если они мыслями общаются? Так хочется все сначала попробовать! Забыть эту поганую жизнь! Ведь рай все же! А, ребята! Давайте хорошенько подумаем!
— Не к лицу заезженной кобылке хвостом махать, — фыркнул Зяблик.
— Сам дурак! Ничего ты не понимаешь! — На глаза у Верки вдруг навернулись слезы, что само по себе было феноменальным событием.
— Конкретней, Вера Ивановна. Вы остаетесь здесь?
— С вами бы вместе осталась. А одна боюсь. Может, Лилечка, ты мне компанию составишь?
— Нет, — твердо сказала Лилечка. — Я хочу жить по-человечески. Не надо мне никакого рая.
— И что же тебе тогда, интересно, надо?
— Как всем… Мужа, детей, домишко маленький, корыто… И чтобы никто мною не помыкал.
— С нами, значит, пойдешь? — глядя в землю, спросил Зяблик. — За корытом…
— С вами.
— Трудно придется. Потрудней, думаю, чем в Кастилии или Хохме. Дорога нехоженая.
— Ничего, всякого уже повидала. Пуганая…
— Ладно, если так…. Охота, как говорится, пуще неволи.
— А вы, товарищ Цыпф, почему отмалчиваетесь в последнее время? — Смыков обратился к Леве, сосредоточенно думавшему о чем-то (об этом свидетельствовали его очки, в лихорадочном темпе перемещавшиеся с переносицы в руки и обратно).
— Вопрос весьма непростой… Весьма, — он заерзал так, словно сидел не на мягкой эдемской травке, а на родном чертополохе. — Нам, вольно или невольно, довелось столкнуться с феноменальным природным образованием… Можно, конечно, сказать как-то по-другому, но сути дела это не меняет. Здесь есть все или почти все, чего нам так не хватает. Я имею в виду кастильцев, степняков, арапов и все другие народы, пострадавшие при Великом Затмении… Тут вдоволь пищи, воды, целебных растений… А главное, здесь можно наконец обрести безопасность. Про аггелов мы пока говорить не будем. Они, безусловно, представляют немалую угрозу, но угрозу вполне предсказуемую и, во всяком случае, не фатальную…
— Хотелось бы верить, — буркнул Зяблик.
— Совсем иначе обстоят дела в Отчине и вокруг нее, — продолжал Цыпф. — Те жуткие и необъяснимые катаклизмы, свидетелями которых мы были, лишь предвестники куда более грандиозных бедствий. Просыпаются поистине космические, непознаваемые силы, которые мимоходом сметут человечество с лица земли, даже не узнав о его существовании. Однажды в Агбишере я наблюдал, как каменная лавина обрушилась на гнездовья птиц, выбравших отвесные скалы своим пристанищем. Противостоять этой стихии, такой же древней, как звезды, и, возможно, столь же могучей, мы не в состоянии. Даже в далеком будущем человечество вряд ли найдет способ борьбы с этими порождениями совсем другого мира.
— Но ведь дяде Теме однажды как-то удалось утихомирить этот ужас, — возразила Лилечка.
— Увы, этот подвиг совершило совсем другое существо, природа которого до сих пор остается тайной даже для человека, в теле которого оно обитает. К сожалению, в настоящее время мы не можем рассчитывать на помощь этого загадочного Кеши.
— Лева, ну что у тебя за манера вечно нас пугать! — не выдержала Верка. — Опять беду накличешь. Лучше скажи, что нам делать?
— Сейчас?
— Нет, вообще…
— А что обычно делают, столкнувшйть с врагом, неизмеримо превосходящим тебя силой?
— Ну… убегают, наверно. — Верка пожала плечами.
— Верно. Надо убегать, если только мы не самоубийцы. Спасаться в безопасном месте. И пока единственное известное нам безопасное место — это Эдем.
— Конечно! — сказал Смыков как бы с завистью. — Будет здесь безопасно, если Эдем такая хреновина охраняет. Страшно вспомнить, как они тогда друг друга гвоздили! Горы в блин раздавило, громадную пустыню наизнанку вывернуло!
— Да, то был поединок достойных соперников… — произнес Цыпф задумчиво. — Такой союзник нам, конечно, не помешал бы. Жаль, что его нельзя ни уговорить, ни купить, ни задобрить…
— Лева, ты, как всегда, наводишь тень на плетень, — не выдержал Зяблик. — Никто не спорит, что Эдем безопасное место. Хотя нас здесь недавно едва-едва не прикончили… А что дальше? Если хочешь здесь остаться, так прямо и скажи. Никто тебя отговаривать не будет.
— Вы совсем не поняли меня! — обиделся Цыпф. — Конечно же, я ухожу с вами. В такое время мы просто обязаны быть в Отчине. Но скорее всего нам еще придется вернуться сюда.
— Когда? — удивленно спросил Смыков.
— Когда в других странах для человека не останется места. Но мы вернемся не одни. С нами придут все, кто пожелает спастись и не побоится начать новую жизнь. Поэтому все, что мы будем сейчас делать, нужно делать с расчетом на скорое возвращение.
— Вы, братец мой, конкретизируйте свою мысль…
— Надо запоминать обратную дорогу и всякие приметы, которые попадутся на ней. Короче, изучать местность. Неплохо было бы и схему составить, да жаль, больше графита нет.
— Да и такой широкой спины, как у Толгая, тоже нет, — печально вздохнула Верка. — Разве что у Лилечки…
Смыков между тем выговаривал Леве:
— Странный вы тип, товарищ Цыпф. Про обратную дорогу беспокоитесь. А не лучше ли сперва подумать над тем, как отсюда выбраться. Вот вам всем простой вопрос: как избавиться от этого субъекта, который нас сторожит?
— Я его очарую, сведу с ума и заставлю уйти с нами, — полушутя-полусерьзно заявила Верка.
— Дельное предложение, — кивнул Смыков. — Но трудновыполнимое. Оставим его на крайний случай.
— Просто взять да сбежать, — сказал Зяблик. — Делов-то… Караулит-то он нас не ахти как настырно.
— Рисковать не хотелось бы, — Смыков почесал за ухом. — Они же все как жеребцы бегают. Шутя догонят. Проверить надо… Пусть кто-то сначала попытается в одиночку сбежать. А мы посмотрим, чем это кончится. В крайнем случае всегда можно сослаться на то, что ты, не зная местности, заблудился.
— И кому же ты предлагаешь это дело обделать? — сразу насторожился Зяблик.
— Конечно же, вам, братец мой, — сказал Смыков ласково. — Опыт побегов имеете. К тому же вы сами эту идею подали. Значит, сами и осуществляйте. Ведь не маленький, должны знать, чем чревата чрезмерная инициатива.
— Неприятностями чревата, — ухмыльнулся Зяблик. — Самое разумное в этой жизни: сидеть и не высовываться.
Зяблик совершил пробный побег в конце того же дня, когда Эрикс, натрудивший язык очередной порцией белиберды о будущем процветании Эдема, заснул, а все остальные только старательно имитировали сон. Впрочем, постепенно все впали в дрему, и поляну огласил разноголосый храп.
Проснувшись, они позавтракали опостылевшей вегетарианской пищей и стали ожидать дальнейшего развития событий. Эрикс пока не выказывал никаких признаков беспокойства, хотя число пять от числа четыре должен был отличить.
От нечего делать стали болтать о всякой всячине.
— Смыков, а у тебя уже глаза начали меняться, — говорила Верка. — И плечи раздались. В нефилима превращаешься.
— А у вас, Вера Ивановна, как я погляжу, груди стали намечаться. Скоро и потрогать можно будет. Вот радость-то! — парировал Смыков.
Лилечка беспрерывно плела венки из райских цветов, почти сразу начинавших увядать. Оська, довольный тем, что его на время оставили в покое, дремал под кустом. Заметно нервничал один только Цыпф.
— Прошло пять часов, — бубнил он, что-то вычисляя в уме. — За это время можно уйти километров на двадцать. Если шагом. А если бегом, раза в два дальше… Сколько же это получается… Километров сорок, не меньше! Да он уже мог до Нейтральной зоны дойти и вернуться!
— Нюни зря не распускайте, — успокоил его Смыков. — Погуляет и вернется. Он же не всерьез сбежал, а понарошку.
— А вдруг на аггелов напоролся?
— Это хуже. Но мы-то ему сейчас все равно ничем не поможем.
— Давайте поговорим с Эриксом. Так и так, скажем, пропал, мол, человек. Пошел поразмять ноги и как в воду канул. Пусть ищет, если взялся нас опекать.
— Нельзя, — поморщился Смыков. — Мы для чего это все затеяли? Чтоб Эрикса проверить. Реакцию его выяснить. Лопух он или нет. Пока получается, что лопух. Задержанный отсутствует уже свыше пяти часов, а он даже не чешется. Разве можно таким субъектам ответственное дело доверить? Да никогда! Гнать их каленой метлой.
— Вы-то что переживаете? Можно подумать, что вы начальник зоны, а Эрикс у вас надзирателем служит… Кстати, гонят паршивой метлой. А каленым железом выжигают.
— Какая разница, — поморщился Смыков, не видевший особого различия и между вещами более существенными, например, самооговором и чистосердечным признанием.
Вдоволь повалявшись на траве, Эрикс сделал трусцой несколько кругов по поляне, энергично помахал руками и прыгнул с разбега в реку. Завершив свой моцион, он напился, втягивая воду губами, как лошадь, а затем с беспечным видом скрылся в лесу.
— К Майре своей отправился, — авторитетно заявил Смыков. — Все ему до лампочки! Можно хоть сейчас убегать.
— Куда же мы без Зяблика? — встревожился Цыпф. — Так и разминуться недолго. Надо его здесь дожидаться.
Вернулся Эрикс только часа через полтора, но не один, а вместе с Зябликом, которого он деликатно поддерживал за локоток. Неудачливый беглец, едва ступив на поляну, заголосил:
— Кореша, хоть вы за меня доброе слово закиньте! Да разве я бы на побег решился? Куда бы я один без вас делся? А тем более без бдолаха! Я же вас предупреждал, что гулять иду! Ну заблудился, с кем не бывает… Зачем же мне криминал шить?
— В Эдеме и младенец не заблудится, — строго сказал Эрикс. — Вы ведете себя неискренне. Покинув лагерь, вы преследовали какую-то скверную цель.
— Опять двадцать пять! — Зяблик весьма правдоподобно изобразил оскорбленную невинность. — Никакой цели я как раз и не преследовал. Прошвырнулся малость, и все.
— Ваша версия выглядит неубедительно. Прошу вас впредь не покидать это место. — Эрике пяткой очертил в центре поляны круг.
— А по нужде? — тут же поинтересовался Зяблик.
— Вы нуждаетесь? — слегка удивился Эрике. — В чем?
— Он имеет в виду процесс дефекации, — объяснил Лева. — Не в этот конкретный момент, а вообще. Как ему вести себя в подобном случае?
— Пусть сообщит мне, и я отведу его в удобное для этого место, — разъяснил Эрикс.
— Премного благодарен, — поклонился ему Зяблик. — Не обделаюсь, значит, на глазах у сограждан.
Эрикс еще немного постоял, словно раздумывая, что делать дальше, потом отошел и улегся в сторонке. Выглядел он немного обескураженным и лекций в этот день больше не читал.
Ватага сбилась в кучу и, пока Верка создавала звуковые помехи, громко распевая: «Приходите свататься, я не буду прятаться…», стала перешептываться.
— Ну? — Зяблик задал вопрос первым. Докладывал Смыков:
— Опомнился он часов через пять после вашего побега. Вида, правда, не подал и нас ни о чем не расспрашивал. Ушел себе молчком. А потом видим, вас под конвоем ведет. Вот и все.
— Как хоть там, на воле? — спросил Цыпф.
— Нормально. Я сразу к тому леску пошкандыбал, где Чмыхало в засаде остался. Аггелов он там положил — кошмар! Всех из лука. Кого в грудь, кого в спину. К этому времени от них одни кольчуги остались, а внутри чуток черной слизи. Воняет так, что рядом стоять нельзя.
— А от Толгая, значит, ничего не осталось? — печально спросила Лилечка.
— В том-то и дело, — Зяблик загадочно приподнял правую бровь. — Труп исчез, это понятно. А куда сабля могла деваться? Я там все на карачках облазил
— и ничего! Все мечи на месте. По счету сходится. Правда, одного лука не хватает. Но это тоже можно объяснить. Кто-то налегке в бой кинулся, только с мечом. Где же тогда сабля? Не иголка, слава Богу.
— А вдруг он ее раньше обронил? — высказал предположение Смыков.
— Нет. Не мог. Он их потом саблей рубил. Добивал, наверное. Три кольчужных колпака пополам. Мечом так не сделаешь. Меч кольца сминает. А тут — как бритвой. Сабля у него знатная была.
— Жив Толгай, по-вашему?
— Не исключено.
— Хоть одна хорошая новость, — Верка прекратила свои завывания.
— Сейчас будет и вторая, — сказал Смыков елейным голоском, что уже само по себе не предвещало ничего хорошего. — Выдаем вам, так сказать, полный карт-бланш на покорение сердца нашего сурового тюремщика. Бабья краса валит, как коса! Это умными людьми подмечено.
— Ты что, в сводни нанялся?
— Ни в коем разе! Просто вспомнил ваше личное обещание свести этого типа с ума, — он кивнул в сторону Эрикса. — Иного выхода у нас просто нет. Как вы сами могли убедиться, побег не гарантирует удачу.
— Да я же шутила тогда! — воскликнула Верка. — На фига мне такой чудик!
— Придется ради общего блага постараться. — В голосе Смыкова задребезжала начальственная сталь. — Считайте это боевым заданием…
Затем он обратился к Зяблику:
— А как же вас Эрикс выловил?
— Просто. Подкрался, пока я поле боя осматривал. Потом хвать за шкирку — и с приветом.
— Ничего не говорил?
— Ничего. Правда, когда яму для аггелов рыл, заставил меня помогать. Все туда покидали. И мечи, и кольчуги, и луки… Целый арсенал.
Эрикс и без того был человеком не от мира сего (в буквальном смысле), да и Эдем его уже прилично пообмял под свой образец, так что задача Верке предстояла совсем не легкая.
Трудно начинать любовную агрессию, не имея в арсенале ни приличных нарядов, ни достойной косметики, ни импортных духов, чей запах сам по себе дурманит слабые мужские головы. Да и козыри (доступные обозрению) у Верки были не ахти какие — щуплое, мальчишеское тело (Зяблик успокаивал ее: «Он вроде швед, а шведы как раз таких, как ты, худосочных любят»), светлые овечьи кудряшки да голубые глаза с ехидцей. Свое главное оружие — неуемную страсть, помноженную на завидную технику, — она должна была до поры до времени таить, как убийца таит в рукаве остро отточенный нож.
Начинала Верка, как всякий опытный игрок, по маленькой. Тот, кто нацелился сорвать банк, должен поднимать ставки осторожно. Теперь она поддакивала каждому слову Эрикса, за едой оказывала ему мелкие услуги, для чего иногда приходилось выдирать лучший кусок съедобного корня чуть ли не изо рта Зяблика или Смыкова, и уже начала открыто высказывать склонность к переходу в нефилимы.
Когда Эрикс в очередной раз сиганул с бережка в воду, там его уже поджидала Верка, заранее запасшаяся пучком особой травы, заменявшей в Эдеме мочало. Пришлось гостю из будущего потереть ей спинку (а при всей своей худобе Верка кожу имела атласную). Потом она сама занялась спиной Эрикса, треугольной, как варяжский щит. Возможно, одной спиной дело не ограничилось, потому что Эрикс вылез из воды красный как рак, что было весьма странно для нефилима, отрицающего само понятие стыда.
Вскоре они гуляли и купались только на пару, оживленно при этом беседуя. Эрикс рассказывал Верке о тонкостях науки эгидистики, для большей убедительности (или по рассеянности) переходя иногда то на малайский, то на суахили, а она ему — содержание своего любимого кинофильма «Зита и Гита».
Дело, похоже, шло на лад, и Смыков, считавший себя чуть ли не главным вдохновителем этой интриги, уже заранее потирал руки. Каково же было общее разочарование, когда столь тщательно спланированная операция закончилась полным крахом.
Взбешенная Верка рассказывала об этом так:
— Пусть он, думаю, неизвестно какой национальности, пусть родился через сто лет после моих похорон, пусть уже стал наполовину нефилимом, но мужиком все-таки является. По всему заметно. Со сна у него такая эрекция, хоть пудовую гирю вешай. А раз он мужик, то я его обязательно охмурю. Осечки еще ни разу не было. Вижу, идет на сближение. Стали мы по лесу прохаживаться. Но никаких поползновений! Даже пальчиком ко мне не притронется. Может, воспитание такое, думаю. Полезла целоваться. Сама, первая — представляете? Целуется и он, хотя без энтузиазма. Ну и черт с тобой! Я тоже до поцелуйчиков не очень охочая. Пора переходить к основному пункту программы. По шевелюре его глажу, ласкаю — вроде ничего. Возбужден. Правило как чугуном налилось… Ну все, кажется. Да не тут-то было! Затрясся вдруг, как припадочный, и в сторону. Не пойму, что такое. Вроде не импотент, не педик. Я в растерянности. Тогда он мне во всем чистосердечно признается. Задолго до его рождения, значит, врачи выявили какую-то новую болезнь. Название я забыла. Не то аид, не то аидс. Короче, что-то связанное с поражением иммунной системы. Передается только половым путем, через общий шприц и при переливании крови. За полвека эта болезнь выкосила всех проституток, наркоманов и педиков, а потом перекинулась и на честной народ. Никакие лекарства не помогают. А если что стоящее и придумают, то болезнь мигом видоизменяется и еще сильнее свирепствует. Стали тогда все за безопасный секс бороться. И власти, и церковь, и общественность. Без презерватива никуда ни шагу. А если баба вдруг решила ребенка завести, ее искусственно осеменят, как колхозную телку.
— Так, наверное, неинтересно, — задумчиво произнесла Лилечка.
— Еще бы! Но ничего не попишешь. По-другому они уже не могут. И вот почему. Каждому новорожденному каким-то образом воздействуют на психику. В этом их врачи насобачились. Ставят в мозгах что-то вроде барьера. И все! Ни на что из того, что у них считается опасным сексом, ты уже не способен. Вот в такую беду и вляпался мой Эрикс.
— Ну а если… иначе как-то. Вы меня, Вера Ивановна, конечно, понимаете. — Смыков вдруг вспомнил свою полузабытую кубинскую подружку, умевшую доставлять мужчинам наслаждение разными экзотическими способами.
— Понимаю я тебя прекрасно, извращенец! — покосилась на него Верка. — Но только я не школьница и не шкура вокзальная, чтобы такими делами заниматься. Ты мать-природу за дуру не считай. Она все правильно спланировала. Мужику одно дала, бабе другое. Этим хозяйством и нужно пользоваться. Только от этого настоящая страсть бывает. А все другие затеи — суррогат. Их старики придумали, у которых уже на полшестого показывает…
— Строги вы, однако… — здесь Смыкову крыть было нечем.
Зяблик между тем требовал подробностей:
— Ты прямо говори, получилось у тебя с ним что-нибудь или нет?
— Я тебе, остолопу, уже десять раз говорила — нет! То, что этому Эриксу надо, наша резинотехническая промышленность давно не производит по причине своей полной разрухи и отсутствия натурального каучука.
— Такому амбалу и галоша подошла бы… как раз по размеру.
— Пошел ты знаешь куда…
— Знаю! А еще я знаю, что твоя затея накрылась одним местом! Что нам теперь делать — в Эдеме век вековать?
— Подождите, я вам еще не все рассказала. У них в будущем такие барьеры в мозгу не только по поводу секса стоят. То же самое касается и любых форм насилия. Я, конечно, не все из его рассказа поняла, но человеческую кровь они не могут пролить ни при каких условиях.
— А если война? — удивился Смыков.:
— Воюют там специальные машины, а люди только команды подают издалека. Это у них насилием не считается. Но вы мою мысль, конечно, уловили. Эрикс никого из нас убить не может. Бумажный тигр он, а не вояка.
— А зачем ему нас убивать, — возразил Зяблик. — Догонит, в охапку сгребет, как котят, и обратно доставит. Да еще и в торец натыкает. Это им позволяется?
— Наверно, — пожала плечами Верка.
— Ну раз больше деваться некуда, давайте всем скопом записываться в нефилимы, — как бы подвел итог Смыков.
— Нет, — сказал Зяблик твердо. — Мне пока еще никто в мозгах барьеров не ставил. И если надо, могу любого пришить. Даже такого милейшего человека, как Эрикс.
— Чем — пальцем? — осведомился Смыков.
— Яму надо раскопать, в которой оружие покойных аггелов зарыто. Башка у Эрикса не чугунная, против меча не устоит.
— Ты, урка косорылая, при мне об этом даже не заикайся! — вышла из себя Верка.
— А что такого? Я к нему в гости не напрашивался! — озлился в ответ Зяблик. — Почему он, гад, меня воли лишил? По какому такому праву? Заяц, когда его собаки затравят, опаснее любого хищного зверя бывает! Горло может запросто перегрызть или лапой брюхо разорвать! Потому что жизнь свою спасает! Если ко мне с добром, я тем же отвечаю! А к сучарам всяким и отношение соответствующее.
— Н-да-а, случай сложный, — задумался Смыков. — Лично я на Эрикса зла не держу. Растяпа. Другой бы на его месте нам не так салазки загнул. Но если такая ситуация… В принципе я не возражаю против предложения предыдущего оратора…
— Зато я возражаю! — заупрямилась Верка.
— А тебя никто не спрашивает, — отрезал Зяблик, на лицо которого уже легла недобрая тень готовящегося преступления. — С тобой давно все ясно, с-соблазнительница. Что остальные думают?
— Я не собираюсь здесь оставаться, но и согласие на такое дать не могу, — голос Лилечки дрогнул.
— А может, не убивать? — выдавил из себя Цыпф. — Оглушить… Связать чем-нибудь…
— Лева, окстись! У тебя совсем черепушка поехала! Забыл, что ли, как такой же нефилим нас недавно расшвырял, как цыплят? Только насмерть и только сонного! Это наш единственный шанс.
— Тогда я, пожалуй, воздержусь…
— Два против одного при двух воздержавшихся, — резюмировал Смыков. — Гражданин Эрикс, неизвестно какого года рождения и неизвестно какой национальности, по совокупности совершенных преступлений приговаривается к высшей мере социальной защиты. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Возможно, Смыков хотел пошутить, но никто даже не улыбнулся. Все молчали, изредка растерянно переглядываясь между собой. Только на Зяблика никто старался не смотреть…
В течение этого дня Эрикс никуда не отлучался, и откопать оружие не удалось. Ватага уже собиралась ужинать, когда внезапно появились трое нефилимов во главе с Рукосуевым. Все имели при себе обсидиановые секиры со свежесрезанными рукоятками.
Отозвав в сторону Эрикса, они о чем-то пошептались с ним и разошлись в разные стороны — сам Рукосуев исчез в лесу, оставив реку у себя за спиной, один из его спутников двинулся вдоль берега вниз по течению, другой — вверх.
— Ночуем здесь в последний раз, — сказал Эрикс, когда все трое исчезли из поля зрения. — Уйдем сразу после того, как проснемся. Поблизости замечены подозрительные личности. Не исключено, что это дозорные аггелов.
— Далеко идти? — как бы между прочим спросил Смыков.
— Далеко, — кивнул Эрикс. — По вашему счету пять дней дороги. Но там вы будете в безопасности. Очень тихое место…
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев хрен, — тихо сказал Зяблик. — Опять все планы кобыле под хвост.
— А если мы откажемся идти? Что тогда? — не унимался Смыков.
— С вашей стороны это будет глупостью, — ответил Эрикс, словно заранее ожидал этого вопроса. — Нам придется нести вас, и тогда на дорогу уйдет значительно больше времени.
— Комментарии, как говорится, излишни, — процедил сквозь зубы Зяблик. — Тут, оказывается, все и без нас решили.
Перед дальней дорогой спать улеглись пораньше. Эрикс, как нарочно, расположился почти на том месте, где было зарыто оружие. Если кто-нибудь отходил в кусты, он поднимал голову и оставался в таком положении до тех пор, пока справивший нужду не возвращался обратно.
В голову Цыпфу лезли всякие невеселые мысли, и, даже задремывая, он видел обрывки бессвязных, но тоже невеселых снов. Эта ночевка могла стать гранью, разделяющей его жизнь на две части — жизнь человека и жизнь нефилима.
Позади оставалась Отчина, друзья, заменившие ему семью, и любимые книги, которые он собирал в брошенных хозяевами квартирах, разграбленных магазинах и чудом уцелевших от пожаров библиотеках. Впереди ждала неизвестность и перевоплощение в сверхъестественное существо. Единственное, что хоть как-то могло подсластить пилюлю, это то, что Лилечка должна была разделить его судьбу.
В полусне-полуяви к нему являлись разные люди, многие из которых уже давно лежали в могилах или канули в неизвестность. Поэтому призрак Толгая, медленно и бесшумно выплывший из леса, ничуть не удивил Леву. Он засыпал, маялся во сне, опять просыпался от сердечной тоски и всякий раз видел перед собой смутный силуэт верного степняка.
Лишь когда тот, требуя молчания, демонстративно прикусил нижнюю губу, Лева надел очки и понял, что перед ним живой и здоровый Толгай, правда, сильно осунувшийся. С натянутым луком в руках он подкрадывался сзади к Эриксу, а тот хоть и затих, уткнув лицо в сгиб локтя, но явно не спал.
В любой момент под ногой Толгая могла хрустнуть ветка, которых вокруг ужина было разбросано немало. Надо было выручать не только друга, рискующего ради них очень многим, но и самого Эрикса. При первом же неосторожном движении он мог получить стрелу между лопаток.
Стараясь погромче шуметь, Лева встал, тут же поймал на себе испытующий взгляд Эрикса и сказал извиняющимся тоном:
— Не спится что-то… Вот хочу вам задать один вопросик.
— Именно сейчас? — холодно осведомился Эрике, по-прежнему не спуская глаз с Цыпфа.
(Толгай уже находился шагах в десяти-двенадцати позади нефилима и продолжал подкрадываться с осторожностью камышового кота.)
— Ну если вы не настроены… — Цыпф неуклюже топтался на одном месте. — Тогда, может, в другой раз.
— Хорошо, задавайте свой вопрос.
Лева прилег возле Эрикса на травку, повозился, делая вид, что уколол чем-то бок (Толгай за это время успел преодолеть половину расстояния, отделяющего его от жертвы), и спросил, как ему казалось, задушевно:
— Вы по родине не тоскуете?
— Нет, — Эрикс пристально смотрел на него, но абсолютно ничего нельзя было прочесть в этом взгляде. — Тоска очень мешает жить. Она не имеет позитивного содержания. Я забыл абсолютно все. Свою родину, свой дом, свою семью. Когда-то я сам отправил их в небытие, но с тех пор стараюсь не вспоминать об этом. Я вырвал прошлое из своего сердца. Только это позволило мне жить дальше. Возможно, именно поэтому я примкнул к нефилимам. Это люди без прошлого, без корней, без воспоминаний. Будущее сейчас есть только у тех, кто отказался от прошлого.
(Толгаю оставалось сделать не больше двух шагов, и Цыпф краем глаза видел, какое напряжение написано на его маловыразительном от природы лице. Оказывается, двигаться со скоростью улитки ничуть не легче, чем нестись, как антилопа.)
— Мне бы следовало выразить вам, как говорится, искреннее соболезнование, но сейчас это не принято, ибо всем нам не осталось бы ничего другого, как без конца соболезновать друг другу, — медленно произнес Цыпф. — Из моей родни тоже никто не уцелел. Я остался сиротой в пять лет. Потом от какой-то неизвестной заразы умер мой старший брат. Сам я не мог выбраться из подвала, где мы обитали до этого, и вынужден был наблюдать, как крысы медленно пожирают его тело. Одно время я питался новорожденными крысятами, которых воровал из гнезд, и пил воду из системы центрального отопления. Иногда меня навещала сестра, но потом пропала и она… поэтому тут мы квиты. Однако в отличие от вас я очень хотел бы навестить могилы своих ближних. К сожалению, я не знаю, существуют ли они вообще. И вот что я еще хочу сказать… В этой проклятой жизни многих из нас поддерживает только память… Память о том, что мы были когда-то людьми. Если мы вдруг забудем об этом, то неминуемо опустимся до уровня животного, а может, еще и ниже. Только не надо мне возражать. Не надо… Никакого спора не будет. Я вместе со своими друзьями отправляюсь домой, независимо от того, согласны вы или нет. Вас же я попрошу соблюдать величайшую осторожность. Ни в коем случае не делайте резких движений. Сейчас позади вас стоит один из наших товарищей, до этого скрывавшийся неизвестно где, и держит в руках натянутый лук. Наконечник стрелы находится в полуметре от вашего виска. Он прекрасно владеет саблей, но лук, думаю, выбрал не случайно. Нефилимы намного превосходят обычного человека как в силе, так и в быстроте, однако против стрелы не застрахованы даже они. Поэтому не рискуйте зря.
Медленно, очень медленно Эрикс повернул голову и скосил в сторону правый глаз, прямо в который сейчас была направлена стрела Толгая.
— Это именно он убил тех аггелов? — спросил нефилим невозмутимо.
— Да.
— Его следует похвалить за это.
— Лучше не надо. Сами видите, в каком напряжении он находится. А кроме того, он не очень силен в языке, на котором мы сейчас общаемся. По времени своего рождения он отстоит от нас еще дальше, чем мы от вас.
Рядом уже возбужденно дышал Зяблик.
— Ну ты молодец, Чмыхало, молодец! Потом я тебя расцелую, а пока держи этого красавца на прицеле. Давно здесь?
— Юк, — не сказал, а выдохнул Толгай. — Недавно.
— А почему условный сигнал не подал? Мы же договорились…
— Яман сигнал… Совсем плохой… Зачем такой сигнал придумал? Кош кричать… Ни одной кош здесь не видел… Кто бы поверил… Себя бы выдал… Вас бы выдал…
— Ну ошибся, прости! — Сейчас Зяблик был готов не только извиниться перед Толгаем, а даже простить ему все прошлые и будущие грехи. — Кто же мог знать заранее, что кош… тьфу, птицы здесь не водятся… Но то дело прошлое, а сейчас надо этого субчика связать… Неплохой, кстати, парень. Эриксом зовут. Еще чуть-чуть, и я бы из-за него грех на душу взял.
Зяблик выхватил из колчана Толгая стрелу, легко согнул ее, затянул кольцом на запястьях Эрикса и несколько раз перекрутил свободные концы, используя вместо воротка сабельный клинок. Железо глубоко врезалось в кожу нефилима.
— Потерпи, дружок. — Зяблик поверх первых пут для надежности наложил и вторые. — Для твоего же блага стараемся. А иначе пришлось бы кокнуть.
Вся ватага была уже на ногах и, сразу сообразив, в чем дело, принялась лихорадочно собираться в путь:
Смыков принялся руками раскапывать яму с оружием (впрочем, подав личный пример, он перепоручил работу Оське), а Лилечка с Веркой занялись изготовлением свежих нарядов взамен вчерашних, сильно пообветшавших за время сна. Но каждый старался улучить момент и подскочить к Толгаю — пожать руку, похлопать по плечу, ч мокнуть в щеку.
Зяблик все время торопил спутников:
— Мужики, веселее! Кольчуги не брать. Толку мало, а тяжесть приличная. По мечу на рыло. Ну еще пару луков со стрелами. Кто-нибудь умеет стрелять? Если нет, то хватит и одного… Бабы, не копайтесь! Не в театр собираетесь. Слегка прикрыли основные места — и хватит.
Эрикс, скрученный уже и по ногам (береженого Бог бережет), наблюдал за этой суетой со странной грустью.
— Рукосуеву скажи, чтобы отвязался от нас. Пусть для аггелов силы побережет, — сказал ему Зяблик. — Не хотим мы нефилимами быть. Но если у нас дома дела совсем худые, скоро вернемся. И людей с собой приведем. Растите на здоровье новую расу. А нас уже поздно перековывать.
— Когда будете идти через мою страну, не приближайтесь к субстанции, похожей на желтый лед, — сказал Эрикс. — Запомнили?
— С чего это ты решил, что мы именно там пойдем? — Зяблик изобразил удивление. — Мало ли других дорог.
— Насколько мне известно, в Эдем можно попасть только через Нейтральную зону или… забыл, как вы назвали мою родину…
— Будетляндией, — подсказал Цыпф.
— Или Будетляндию, — говорил Эрикс спокойно и рассудительно, что не совсем вязалось с его нынешним положением. — Идти через Нейтральную зону без бдолаха смертельно опасно. Таким образом, остается только второй путь. Им чаще всего и пользуются аггелы. Недаром вы взяли одного из них в проводники.
— А что опасного в той желтой субстанции, про которую вы говорили?
— Это очень долгий рассказ. Просто обходите ее стороной, и все. Будетляндия сейчас не менее опасна, чем Нейтральная зона. Мои современники сумели покорить многие силы природы, которые после отказа контролирующих их электронных систем вырвались на волю и теперь продолжают жить как бы сами по себе.
— Все не слава Богу! — тяжело вздохнула Верка, издали прислушивавшаяся к этому разговору.
— Старайтесь держаться подальше от подземелий, от любых промышленных зданий и всех видов коммуникационных сооружений, — продолжал Эрикс. — Прокладывайте путь по открытой местности и никогда не ночуйте под крышей, какой бы надежной она вам не казалась.
— А ты, случайно, нас за нос не водишь? — прищурился Зяблик. — Хочешь, чтобы нас аггелы на открытом месте застукали?
— С аггелами вы столкнетесь так или иначе, — что-то вроде мимолетной усмешки пробежало по лицу Эрикса. — Там есть такие места, что вам просто не разойтись. Но помните, в Будетляндии аггелы еще не самое страшное. Им там самим не очень-то уютно. Ваши стычки будут напоминать… драку двух питекантропов в кабине мезотранса.
— Что еще за мезотранс такой? — немедленно поинтересовался Смыков.
— Ах да… забыл. На чем вы летали в свое время? На дирижаблях, аэропланах?
— На воздушных лайнерах.
— Значит, я имел в виду драку двух питекантропов в кабине воздушного лайнера.
— Вот так лафа! — фыркнул Зяблик, проверяя на своей двухнедельной щетине остроту меча. — Как раз об этом я и мечтал всегда! Ну все! За ценные советы благодарствуем. Пора отчаливать.
Подошедшая Верка чмокнула связанного по рукам и ногам Эрикса в лоб.
— Не обижайся, зайчик. Так уж вышло… Да ты и сам кое в чем виноват…
Толгай, за последние дни облазивший на брюхе все окрестности, повел ватагу краем леса, прочь от реки. На равнине место проводника должен был занять Оська. Из мужчин он один не имел при себе меча, зато тащил солидный запас стрел.
На бег пока не переходили, но шагали быстро, слушая на ходу историю похождений Толгая, начиная с той самой минуты, как он остался в засаде. Манера его изложения была до того маловразумительна, что скорее могла вызвать смех, чем сочувствие и восхищение.
Один только Зяблик понял все и в собственной интерпретации поведал остальным о геройстве Толгая, о его тяжелых ранах, о долгих днях балансирования между жизнью и смертью и о счастливом выздоровлении, причиной которого был не только бдолах, но и горячее желание выручить из беды товарищей.
В свою очередь Толгаю объяснили, кто такой Оська и почему ему не следует особо доверять.
Эдем тешил взор пышной и однообразной красотой вечной весны. Похожим климатом (как это понаслышке было известно Зяблику) Господь Бог наделил одни только Гавайские острова, но там хоть какое-то разнообразие имелось — вулканические горы и океан. А здесь не было ничего, кроме пышноцветных лугов, лесов, которым никакой Версальский парк в подметки не годился, да ласковых полноводных рек.
Как кому, а славянской душе Зяблика чего-то не хватало. Заброшенных пашен, может быть оврагов, заросших всякой колючей мерзостью, рвов, пожарищ, крапивы, лягушечьих болот и волчьих чащоб.
Похоже, Оська действительно знал дорогу в загадочную Будетляндию или очень убедительно прикидывался. По крайней мере, он вел ватагу безо всяких колебаний и, если Смыков для проверки спрашивал его, что будет за тем лесом или куда повернет эта река, всегда отвечал без запинки и в общем-то правильно. Лишь однажды в середине четвертого перехода Оська сказал, что слегка изменит обычный маршрут, поскольку он пролегает вблизи плантации бдолаха, которую наверняка стерегут аггелы. В тот раз они немного поплутали, но вышли именно туда, куда и обещал Оська — к узкому перешейку между двух озер.
Пикантность их нынешнего положения состояла в том — и Оська этого не отрицал, — что, стремясь в Отчину, они все дальше уходили от нее. Круг предстояло сделать немалый — через Будетляндию, Киркопию, Агбишер и Кастилию. Хохма находилась где-то далеко позади, а значит, можно было смело попрощаться с оставшимся там драндулетом.
В пути Цыпф, а потом и Смыков пробовали выведать у Оськи как можно больше сведений о Будетляндии, но почти ничего полезного для себя так и не узнали. Паренек был толков, приметчив, расторопен, но убийственно невежествен и косноязычен. Такие простые слова, как «архитектура», «коммуникации», «лаборатория», «объект», звучали для него как китайская грамота. (Впрочем, он и русской-то грамоты не знал.) Как-никак, а годы беспризорного существования сказывались. Вероятно, похожая судьба ожидала бы и Леву Цыпфа, не повстречайся он в свое время с людьми, способными поделиться с маленьким оборвышем не только хлебной коркой, но и частичкой своего знания.
Верка от нечего делать — шагалось им легко, без всякого напряга, не то что в Нейтральной зоне — стала донимать Цыпфа всякими заумными вопросами, не столько ради удовлетворения собственной любознательности, сколько для того, чтобы выставить своего собеседника на посмешище.
— Лева, ну объясни ты мне, глупой бабе, какая разница между органическими и неорганическими веществами.
Безусловно, Цыпф знал это. Но его объяснение было чересчур пространным, малоубедительным и путаным. Он твердил что-то об атомарной теории строения материи, об особом значении водорода и углерода, входящих в любое органическое вещество, об окисях, закисях, радикалах и тому подобных высоких материях. Кончилось бы все это тем, что Лева окончательно запутал бы и слушателей и самого себя, но ему на помощь неожиданно пришел Зяблик:
— Да что тут долго рассуждать! Если вещество называется органическим, значит, произошло от живого организма. От картошки — спирт, от деревьев — торф, а от нас с вами — дерьмо.
— Хорошо, а в чем тогда разница между живым и мертвым? — не унималась Верка.
— Разве вы сами не понимаете? — на этот раз Лева решил быть осторожнее.
— Нутром-то я, конечно, понимаю. Но ты мне это с научной точки зрения объясни. Я в училище была одно время по уши влюблена в преподавателя дерматологии. Как он рассказывал, как рассказывал! Не лекции читал, а сказки… Особенно про чесотку и опоясывающий лишай. С тех пор у меня слабость к научным объяснениям.
— Вопрос различия между живым и неживым скорее относится к компетенции философии, чем биологии, — как всегда, издалека начал Лева. — Чтобы получить полное представление об этой проблеме, необходимо сначала проследить все формы проявления жизни, начиная от самых примитивных…
Опять начались заумные тары-бары о нуклеиновых кислотах, ферментах, метаболизме, генетическом коде, синтезе белка и парадоксах вируса, который, как известно, нельзя отнести ни к живым, ни к неживым объектам. Примерно с таким же апломбом ученые прошлых веков вещали о флогистоне, теплороде и эфирной природе Вселенной.
— Верка, не слушай его! — махнул рукой Зяблик. — Живое то, что размножается, а до этого, естественно, сношается. Как у нас — мужик с бабой. Или как у цветков — пестик с тычинкой. Или как у моллюсков — сам с собой.
— Не сношаются, а любят, — поправила его Лилечка. — Какой же вы все-таки грубиян.
— Ладно, любят, — ухмыльнулся Зяблик. — Даже песня такая есть… «Любят все, блоха и гнида, любит бабка Степанида, любит северный олень, любят все, кому не лень…» Так и запишем: главный признак живого — любовь.
— И все равно вы грубиян.
— Лева, а ты с Зябликом согласен? — поинтересовалась Верка.
— Ну в какой-то мере… Хотя это весьма условное и примитивное определение. В нем ничего не говорится о целом ряде немаловажных факторов…
— Все, Лева, прекращай. На сегодня мне науки хватит, — взмолилась Верка. — А может, и слава Богу, что я с тем преподавателем не сошлась. Стал бы он мне в постели рассказывать о методах лечения псориаза. Представляете? Любое желание сразу пропадет… Нет, я тогда правильно сделала, что одного спортсмена захомутала. С нами вместе учился. На медбрата. Ничего сложнее, наверное, не потянул бы… Тупой был, но удивительно здоровый, — Верка мечтательно прищурилась. — Десятиборец… Когда валил меня, так всегда и говорил: я, дескать, десятиборец, меньше десяти раз подряд не могу… Однажды случай с ним был смешной. Сдавали мы экзамен по внутренним органам. В аудитории стоит цинковая лохань с формалином, и там все требухи человеческие плавают, от легких до мочеточника. Веслом деревянным мотанешь и выбираешь любой орган по заказу. Занятие, конечно, не для слабонервных, но мы уже привыкли. Моему миленку достался по билету вопрос о сердце. Строение, функции и все такое… Крутил он веслом, крутил, а ничего похожего на сердце выловить не может. Мы, естественно, подсказываем втихаря: круглое, с кулак величиной… Вот он, дурак, и вытащил матку. Она по форме и размеру приблизительно похожа на сердце. Мы-то все сидим на задних партах и толком не видим, что у него в руках, но подсказывать продолжаем. Можете себе представить, он на этой матке и аорту нашел, и митральный клапан, и все желудочки. Преподаватель слушает, вида не подает. Но в конце все-таки поинтересовался с хитрецой: что же это такое на самом деле? Мой десятиборец стоит на своем. Сердце, мол, и все! Тогда ему деликатным образом объясняют, что это вовсе не сердце, а женские внутренние половые органы. Соответственно и оценка — два балла. Стипендии ему, значит, не видать как своих ушей. Хоть он и спортсмен. Бедняга едва не плачет. Так ему обидно стало! Ладно бы на чем-то серьезном погорел, вроде печени или желчного пузыря. А тут половые органы… Вот он и говорит: «Я этих органов столько успел обласкать в жизни, а в самый ответственный момент нате — обознался!»
Едва Верка успела закончить, как Зяблик принялся развивать тему загадочности и непредсказуемости этих самых женских половых органов. Героем его рассказа был грабитель, получивший за налет на сберкассу червонец, но впоследствии оказавшийся не мужиком, а бабой. А причиной всему была как раз ненормальная форма половых органов, благодаря чему в свое время девочку зарегистрировали как мальчика. Страшно даже сказать, сколько эта баба-мужик успела заработать в зоне, прежде чем спохватилось начальство.
К сожалению, эта поучительная история не была доведена до конца, и виной тому послужили не ехидные реплики Смыкова и не возмущенные тирады Лилечки, а собственные уши Зяблика, внезапно услышавшие нечто подозрительное. Условным знаком он призвал спутников к тишине (Оська, в таких знаках не разбиравшийся, просто получил подзатыльник) и тогда уж прислушался по-настоящему.
— Гонит кто-то за нами, — сказал Зяблик спустя пару минут. — И, по-моему, не один.
— Нет, — возразил Смыков, тоже отличавшийся острым слухом. — Один, но дядька крупный. Не иначе как кто-нибудь из нефилимов. Что делать будем?
Вопрос в основном относился к Зяблику и Толгаю, поскольку Цыпф с упразднением своих диктаторских полномочий подрастерял и авторитет, а с женщинами Смыков советовался только ради приличия.
— Как шли, так и дальше пойдем, — сказал Зяблик. — Только чуток побыстрее. Спрятаться здесь негде, а от нефилима все равно не убежишь. Но сдаваться не будем, не безоружные, чай! — Он подмигнул Толгаю.
— Ук пушу, — Толгай на ходу вложил стрелу в лук, однако тетиву пока не натягивал.
— Поймает, — с сомнением произнес Смыков. — Или увернется… Шустрый очень…
— Пусть себе ловит… Улем поймает… Смерть свою…
Энергично двинулись дальше, построившись плотной цепочкой — впереди Оська, уже начавший привыкать к подзатыльникам, сзади всех Толгай, прикрывавший лук от посторонних глаз корпусом. Идущий предпоследним Зяблик все время косил глазом назад.
— Показался, — сообщил он вскоре. — Никак не разберу, кто такой… По-моему, наш Эрикс… Развязался, с-сука! Чешет быстро… и руками машет… Кричит что-то…
— Не оборачиваться! — прикрикнул Смыков на особо любопытных. — Только вперед! Близко его не подпускать! Но стрелять обязательно наверняка!
Темп хода нарастал, и вскоре ватага — как бы сама собой, без команды — перешла на бег. Зяблик не переставал подавать свои короткие сообщения:
— Опять орет… Не пойму, что ему от нас надо…
— А вы, братец мой, не догадываетесь? Потроха вам хочет выпустить… Или голову оторвать… Сколько до него?
— Метров сто.
— Подождем… — А еще несколько минут спустя: — Теперь сколько?
— Примерно семьдесят.
— Для лучника это много или мало?
— Нам много, а Чмыхало в самый раз.
— Товарищ Толгай, вы гарантируете поражение цели? — официальным тоном обратился Смыков к степняку.
— Нигэ? — удивился тот.
— Не понял он, разве не видно, — разозлился Зяблик. — Ты толком спрашивай!
— Сами спросите, если такой умный…
Зяблик с Толгаем обменялись быстрыми взглядами и парой коротких фраз, после чего последовало резюме для Смыкова:
— Сейчас он его заделает… Заказывай куда, в глаз или в сердце.
— А в ногу можно? — попросила Верка.
— Если только между ног…
Толгай стрелял из-за спины так, как некогда научили его пастухи, охранявшие табуны от разбойников и сами в прошлом промышлявшие разбоем: наклон вперед (враг еще не должен видеть лук), тетива натянута, но только за счет левой руки, сжимающей кибить (локоть правой даже не шевельнулся), затем стремительный маховый разворот левого плеча (все, что ниже пояса, по-прежнему направлено вперед), и вот уже стрела несется по назначению, провожаемая басовитым вздохом стальной струны.
Эрикс, к этому времени находившийся от Толгая не более чем в пятидесяти метрах, на полет стрелы мог прореагировать ну разве что взмахом ресниц. И тем не менее стальной стержень каким-то чудом оказался в его руке. Размахивая им, как Юпитер-громовержец своими разящими инсигналиями (Инсигналии — в Древнем Риме знаки божественного или царского достоинства.), Эрикс еще быстрее припустил вслед за ватагой.
— Рассыпайтесь в кольцо! — приказал Смыков. — Шире! Оружие к бою! Нападать всем одновременно!
Спустя полминуты нефилим оказался в центре живого кольца, готового в любое мгновение сжаться, один против четырех клинков сразу. Впрочем, даже такое численное превосходство вряд ли могло запугать его, но, видя, каким образом обставлена встреча, Эрикс вскинул вверх обе руки и торопливо заговорил:
— Прекратите! Я безоружен! Я не собираюсь причинять вам вред!
— Зачем же ты тогда гнался за нами?
— Хочу сопровождать вас в мою родную страну.
— Как-нибудь сами доберемся, спасибо.
— Вы не поняли меня… Я покидаю Эдем навсегда… Я возвращаюсь домой…
— Да ты же, зайчик, сам говорил, что там ни единой живой души не осталось!
— ужаснулась Верка.
— Надо искать… — в голосе Эрикса появилась совсем не свойственная ему горячность. — Кто-то обязательно должен уцелеть… Так не бывает, чтобы погибли все сразу… Я возвращаюсь… Еще кто-нибудь вернется… Появится надежда.
— Признаться, озадачили вы нас, братец мой. — Смыков опустил меч, который до этого держал на манер милицейского жезла. — Сперва аггел этот прибился, теперь вы… Скоро в ватаге чужаков больше половины будет… Но раз решение ваше окончательное, до Будетляндии можете вместе с нами идти. На правах рядового бойца и без постановки на довольствие.
— Куда ему, бедолаге, еще деваться, — буркнул Зяблик. — Допустил побег из-под стражи, теперь правилки опасается.
— Это совсем не так! — ответил Эрикс на полном серьезе, хотя реплика Зяблика этого вовсе не заслуживала. — Между нефилимами не существует конфликтов. Мне совершенно нечего опасаться… Просто я решил вернуться, вот и все.
— Ладно, присоединяйся, — смилостивился Зяблик. — Замиримся пока. В большой дороге, говорят, и волк с кобылой товарищи… Кстати, долго нам еще топать?
— Не очень… Уже и отсюда кое-что видно. — Эрикс махнул рукой вперед.
Действительно, хорошенько присмотревшись, самые зоркие из ватаги различили, что далеко-далеко, на фоне неба, серо-сизого, как дрянная известка, виднеется нечто похожее на тончайшую сеть. Одни ее нити располагались параллельно горизонту, другие, устремляясь вверх, вздымались высоко над ним, третьи спиралями соединяли первые и вторые.
Эта непонятная конструкция (а возможно, лишь ее остатки) отсюда казалась легкой и невесомой, как осенняя паутина. Хотя бы приблизительное представление о ее реальных размерах могла дать, пожалуй, только едва заметная щетинка леса, расположенная к наблюдателям намного ближе…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Некоторое время они простояли в неподвижности, недоуменно взирая на перегородившую небо циклопическую сеть, словно сотворенную для ловли свифтовских летающих островов. Цыпф хотел было поинтересоваться назначением столь странного сооружения, но вовремя прикусил язык. Они вступали в совершенно новый мир, и было бы глупо интересоваться истинным смыслом каждой его детали.
— Ладно, хиляем дальше. — Зяблик сунул меч в пружинный колчан, приспособленный им вместо ножен. — Чего попусту пялиться! Вприглядку города не берут.
Эриксу уступили место между Цыпфом и Зябликом, но едва только ватага вновь тронулась в путь, внезапно опомнился Смыков.
— Неужто так и уйдем отсюда без бдолаха? — воскликнул он. — Забыли разве, с каким трудом мы его в Кастилии добывали? Как бы потом локти себе кусать не пришлось!
Первым ему ответил Оська, до того старавшийся вести себя тихо, словно выпавший из гнезда птенец.
— Да на фига вам лишняя работа! Пока его еще найдешь здесь… А там, — он махнул рукой в сторону Будетляндии, — такого добра навалом. Хоть воз бери, хоть тележку. Я все места знаю, где его очищают. Охрана там если и есть, то совсем небольшая.
— Хороший ты парень, только два недостатка имеешь, — сказал Зяблик зловеще-ласково. — Хочешь знать, какие?
— Ага… — заранее увял Оська.
— Дырку в заднице да язык без костей. Кто тебе позволил хайло разевать? Рано еще свое мнение наперед старших высказывать! Если спросят, тогда отвечай. А нет — лучше помолчи.
За бывшего аггела вступился Цыпф.
— Какой-то смысл в его словах присутствует. Искать бдолах в этих краях — затея опасная. Скорее мы аггелов найдем. Ведь их основные плантации как раз и должны располагаться вблизи Будетляндии. Намного выгоднее взять уже готовый, концентрированный препарат в одной из лабораторий.
— Может, и выгоднее, да не проще. — Зяблик продолжал есть Оську глазами. — Этот говнюк не в лабораторию тебя приведет, а на горячую сковородку! Не верю я ему ни на грош… Жид крещеный, волк кормленый да враг примиренный — завсегда подведут… Так один мой сосед по нарам говаривал. Кстати, кандидат философских наук.
— А давайте узнаем, какое мнение по данному вопросу имеет наш новый попутчик, — предложил Смыков, недвусмысленно косясь в сторону Эрикса. — Он лицо незаинтересованное. Да и с местной обстановкой хорошо знаком.
— Запас бдолаха, безусловно, лучше иметь в переработанном виде, — ответил нефилим. — Сырой материал быстро теряет свои свойства. Это то же самое, если бы… — Он задумался, подыскивая подходящее сравнение.
— Если бы в дальнюю дорогу вместо спирта брать брагу, — подсказал Зяблик с ухмылкой. — Но толкуем мы вовсе не об этом! Хватит ли у нас силенок, чтобы отобрать бдолах у аггелов? Вот в чем вопрос, как выражался один припадочный принц. Не знаю, что имел в виду этот сопляк, когда говорил, что охрана у лаборатории совсем небольшая… Небольшая, а есть. И, поди, уже не с луками дурацкими, а с пушками да лимонками. Зачем же в свару ввязываться, если можно на цырлах мимо проскользнуть? Прихватим здесь по охапочке травки — и вперед. На первое время должно хватить.
— Что такое: на цырлах? — поинтересовался Эрикс, очень внимательно слушавший его.
— Тихонечко. — Зяблик изобразил, как, в его понимании, ходят на цырлах.
— Проскользнуть мимо аггелов тихонечко вам не удастся. Я уже говорил об этом. Стычка неизбежна, но лучше все же ввязаться в нее там, а не здесь. Во-первых, вас там не ждут, и вы сможете воспользоваться преимуществами внезапного нападения. Во-вторых, там вы будете иметь гораздо более эффективное оружие, чем здесь.
— Откуда оно, интересно, возьмется? — сразу навострил уши Смыков.
— Об этом позвольте побеспокоиться мне… В-третьих, там можно легко укрыться от преследователей в лабиринте городских улиц… Устроить им засаду, заманить в ловушку. Сами знаете, что в таких условиях десяток воинов способен противостоять сотне противников. А главное, что в… — он выговорил длинное и труднопроизносимое название своей страны, — у аггелов есть могучие враги, которые хотя и не станут вашими союзниками, но значительно уравняют шансы сторон.
— Как это? — переспросил Смыков.
— А как? — взорвалась вдруг Верка. — Неужели непонятно? Одно дело, когда мыши дерутся только между собой, а совсем другое, когда за этим наблюдает кошка! Я права?
— Мыши? — задумался Эрикс. — Кошка?.. Да, наверное… Аналогия подходящая.
— Поете вы все, конечно, красиво, — Зяблик оглянулся по сторонам, словно, интересуясь мнением остальных членов ватаги, — боюсь только, как бы эти песни нас потом до танцев не довели… Сами знаете, каких…
— Вам, я вижу, до сих пор пятки жжет, — съязвил Смыков.
— Мне душу жжет, — Зяблик стукнул себя кулаком в грудь. — Думаешь, я сдрейфил? Скесом стал? Не дождешься! Я не за себя опасаюсь, а за вас. У меня на аггелов давно руки чешутся. Пора их за машинку брать. Но не голыми же руками… Про какое эффективное оружие ты только что молол? — Он перевел взгляд на Эрикса. — Про топоры ваши каменные?
— Об этом вы узнаете в свое время, — с достоинством ответил тот. — Если только сумеете благополучно преодолеть границу… Уж тут-то вам пригодится все: топоры, ножи, руки и зубы… Будьте готовы к самому худшему.
Они отмахали еще с десяток километров, но небесный невод как будто бы и не приблизился. С общего молчаливого согласия никто не расспрашивал Эрикса о его назначении — когда захочет, сам расскажет.
Характер местности вокруг ничуть не изменился, только ощутимо похолодало, да ароматы Эдема, уже ставшие привычными, как-то поразвеялись.
— Дымом, кажись, попахивает, — сказал Смыков. — Или химией какой-то.
— Незачем сопливым носом кипарис нюхать, — буркнул Зяблик.
— А это вам, братец мой, кто говорил? Все тот же сосед по нарам, кандидат философских наук? — поинтересовался Смыков ехидно.
— Сосед, но другой. Дед Силкин. Из староверов. Восемь взрослых сыновей имел. И все с ним под одной крышей жили. Но и, конечно, снох своих он трахал регулярно. На правах хозяина. Одну, правда, потом жизни лишил ненароком… По причине ее излишней похоти.
— Разве Бог позволяет сноху трахать? — засомневалась Верка. — Ведь вроде записано в Библии, что грешно возжелать жену ближнего своего.
— Верующую, ясное дело, грешно. Но у Силкина все снохи или комсомолками были, или сучками подзаборными… Таких трахай в свое удовольствие сколько душе угодно. Бог на это ложил с прибором… Эй, чертенок недоделанный! — заорал он вдруг. — Долго ты еще нас водить будешь, как бычков на веревочке?
— Не, счас придем. — У Оськи от этого окрика голова непроизвольно втянулась в плечи. — Только шуметь не надо бы. Здесь поблизости наши могут шастать… Ой, это я про аггелов хотел сказать!
От наказания за оговорку его спас Эрикс, попросивший принять немного вправо, поближе к небольшому лесочку, похожему издали на взорвавшийся, да так и застывший навсегда красочный фейерверк. Поплутав немного по его опушке, Эрикс одолжил у Цыпфа меч и тыкал им в землю до тех пор, пока клинок не звякнул о что-то твердое. В неглубоком тайнике хранилось около дюжины обсидиановых рубил, видом своим сразу напомнивших Леве о кровавой бойне на берегу речки Евфрат (она же Удача).
— А что, удобно, — сказал Смыков, наблюдая за тем, как Эрикс быстро мастерит себе новую секиру. — Оружие с собой таскать не надо. И много у вас таких арсеналов?
— Достаточно много, — ответил Эрикс. — По всему Эдему…
— Какую же это надо память иметь, чтобы все их запомнить!
— Запомнить? — Эрикс слегка нахмурился, как делал это всегда, когда что-то недопонимал. — Зачем? Я ведь здесь никогда раньше и не был…
— А как же вы, пардон, узнали об этом? — Смыков ткнул пальцем в сторону уже вновь зарытого тайника,
— Ну… Я почувствовал… Как бы лучше выразиться… Это место отмечено…
— Чем, интересно? — Чего-чего, а настырности Смыкову было не занимать.
— Образом того нефилима, который был здесь до меня… Его мыслью…
— Ну дела-а, — Смыков покачал головой. — А вы народ покруче, чем я думал… Мыслью метки ставите… А позвать сейчас кого-нибудь из своих сможете?
— Зачем? — похоже, это слово Эрикс в последнее время употреблял чаще всего. — Они все и так знают, где я нахожусь.
Тут в разговор вклинилась Верка:
— Миленький, а зачем тебе этот топорик, если ты к насилию не способен? Или ты меня тогда вокруг пальца хотел обвести своими баснями?
— Самозащита не есть насилие, — стал объяснять Эрике. — Топор в моих руках, скорее, не оружие, а символ намерений… Знак устрашения.
— Ох, боюсь, плевать хотели аггелы на твой знак… Все явственней ощущался запах огромной заброшенной свалки, на которой перемешалось черт знает что: ржавое железо, отработанный мазут, изношенные автомобильные покрышки, пронафталиненное тряпье, дохлятина с желатиновой фабрики, которой пренебрегли даже крысы, много раз горевшая, но так до конца и не уничтоженная макулатура, строительный мусор, отходы сразу нескольких разнопрофильных химических производств, негодная тара, клочья целлофана, прокисшие пищевые отходы и еще многое другое из длиннейшего списка предметов так называемой антропогенной деятельности. Даже в Отчине аналогичные благоухания уже почти повыветрились.
— Наша страна погибла, — как бы оправдываясь, сказал Эрикс. — Сейчас она представляет собой один огромный разлагающийся труп.
— Трупы, между прочим, тоже разными бывают, — поморщился Зяблик. — Одно дело, если какая-нибудь пташка Божья разлагается, а совсем другое, если хряк десятипудовый. Чем больше дерьма в утробе, тем больше вони.
— Что вы подразумеваете под дерьмом? — Похоже было, что Эрикс обиделся. — Созданные нашей цивилизацией материальные ценности? Действительно, мои современники могли удовлетворить любые свои потребности, вплоть до самых экзотических. В этом смысле наша утроба и впрямь была переполнена. А по-вашему, нам следовало бы вернуться к уровню жизни первобытных людей?
— Ладно, не психуй… Все мы не без греха… — Зяблик осторожно тронул пальцем лезвие секиры. — Готово вроде оружие… Значит, и в бой можно идти. Кто нас сейчас поведет — ты или этот рогоносец малолетний?
Оказалось, что Эрикс напрочь не помнит о том, каким образом он оказался в Эдеме, но много раз слышал от других нефилимов, что граница с Будетляндией — место чрезвычайно опасное. Зато Оська, неоднократно пересекавший ее в обоих направлениях, никогда ни с какими проблемами не сталкивался.
— Да это даже проще, чем два пальца обос… — Он осекся, встретившись с пронзительным взглядом Зяблика. — Я хотел сказать, что все нормально будет. Попотеем, конечно, немного… Грязью измажемся. А так все спокойненько…
— Ну тогда показывай дорогу. — Зяблик положил свою лапу Оське на загривок.
— А я за тобой впритык пойду. Если какую подлянку почую, сразу удавлю… Вот таким манером!
— Ой-е-ей! — запрыгал на месте Оська. — Ой, не надо!
— Я еще ничего не делаю.
— Вопросик можно?
— Давай, — разрешил Зяблик.
— Вдруг вам что-то померещится и вы меня зазря удавите?
— Ну и хрен с тобой. Подумаешь, потеря…
— Ага, а что вы сами тогда делать будете? Без провожатого в тех местах и ни туды и ни сюды. Или с голодухи загнетесь, или в такое место попадете, где людям бывать не положено.
— Юноша-то наш совсем не дурак, — ухмыльнулся Смыков. — Сейчас он себя так поставит, что мы с него пылинки сдувать будем.
— Не пугай ты меня, шкет. — Зяблик продолжал нежно сжимать холку бывшего аггела. — Я не кастильская девственница. Меня такие типы пугали, что тебе и в страшном сне не приснится… Будешь все делать по совести, ничего с тобой не случится. Кумекаешь?
— Кумекаю. — Оська хотел кивнуть в знак согласия, но только скривился от боли.
Они пересекли последний эдемский лес, тот, что, как казалось раньше, располагался у самого подножия загадочной небесной сети. Однако та продолжала реять где-то вдали, хотя и стала заметно монументальнее — уже не из ниток была сплетена, а из канатиков, и охватывала не четверть небосвода, а едва ли не его половину.
Из мира нежных цветов, ласковой листвы и шелковистых трав они сразу нырнули в нагромождение каких-то не то скал, не то руин — голых, сырых, серых. Шершавый камень холодом обжигал босые ступни. Откуда-то налетел мерзкий порывистый ветер, и все лужи вокруг сразу покрылись рябью.
— Сейчас бы и шубейка не помешала, — сказала Верка и тут же зажала ладонью рот, настолько не по-человечески гулко прозвучали среди развалин ее слова.
Оська двигался в этом лабиринте быстро и ловко — ни дать ни взять горный козел на своих заоблачных пастбищах. Даже Зяблик поспевал за ним с трудом.
Вскоре стало ясно, что эти каменные джунгли есть не что иное, как вход в узкое ущелье. Его стены, носившие явные следы искусственного происхождения, постепенно загибались внутрь и вскоре сомкнулись окончательно, образовав темную трубу, на дне которой стояла черная протухшая вода. Лилечка поскользнулась и сдавленно вскрикнула.
— Куда ты нас, шпана, завел? — прохрипел Зяблик.
— Тут неглубоко, — ответил Оська, после ухода из Эдема заметно приободрившийся, — курице по гребень, свинье по хвост. Вы стеночки держитесь… Эх, жаль, чиркалок нет. Я бы вам такие чудеса показал!
— Например? — поинтересовалась любопытная Верка.
— Тут в некоторых местах потолок как из стекла. Только толстого-толстого. А в этом стекле люди! И до чего интересные! Кто с красными волосами, кто с синими. Мужчины есть с косичками. А разодеты как! Шик-блеск! У одного кирюхи манатки вообще как из золота. Некоторые собак на поводках держат. Тигры, а не собаки.
— Что же они там делают? — удивилась Верка.
— Ничего не делают… Что жмурики могут делать? — в свою очередь удивился Оська. — Запаяло их в этом стекле. Ты холодец ела?
— Ела, — автоматически ответила Верка.
— Свиной?
— Естественно.
— Вот и они все, как свиные хрящики в холодце.
И что интересно, ничем это стекло не взять. Мы и сверху пробовали добраться, и снизу. Никак! Даже граната не помогает… Я на одного пацана люблю смотреть. Особенно когда голодный. Он жрет что-то такое вкусное. Вроде грушу, но побольше. Вот, думаю, какие дела. Он сытый, но там. А я голодный, зато здесь. А пацанки какие! Юбки на них задрались, набок их перекосило, но на ногах устояли. И никому уже за эти ноги не подержаться…
— Фонтан закрой, — негромко приказал Зяблик. — Твое дело дорогу показывать, а не романы травить.
Некоторое время они молча хлюпали по воде, которая, судя по гнусному запаху и еще более гнусной консистенции, уже и водой-то не могла называться, а потом Эрикс сказал:
— Это не стекло. Это трансформированное пространство, имеющее совсем другую природу и мерность, чем наше. Еще его называют кирквудовским янтарем…
— Ага! — радостно подтвердил Оська. — Желтое оно.
— Цыц! — прикрикнул на юнца Зяблик, но достать в темноте рукой не сумел.
— То, что мы наблюдаем, по сути есть только проекция на наш мир другого мира, устроенного гораздо сложнее, — продолжал Эрикс. — Никаких людей в кирквудовском янтаре скорее всего нет. Это лишь иллюзия, вызванная побочными эффектами в его поверхностных слоях.
— Значит, на самом деле все эти люди живы? — спросила Лилечка. — И тот мальчик, который не успел доесть грушу… И девочка с красивыми ногами…
— Никто не может сказать, живы ли люди, попавшие под воздействие вышедших из-под контроля сил Кирквуда, и где они все сейчас находятся. Но поверьте, это намного дальше, чем пресловутое загробное царство.
— В интересные игрушки вы тут играли, товарищи потомки, — присвистнул Зяблик. — И зачем же вам понадобились эти… силы Кирквуда?
— А зачем вам понадобился уголь? Или что вы там использовали в своей технике?
— Да уж и с атомом баловались. Пару городов даже успели спалить… А, черт!.. — Зяблик зацепился за торчащий из стены кусок арматуры.
— Тогда вы и сами все должны понимать, — вздохнул Эрике. — От угля может сгореть дом. От нефти — город. От атомной энергии — страна или даже целая планета. От сил Кирквуда — добрый кусок мироздания… Но ведь никто в свое время всерьез не пытался отказаться от нефти в пользу дров или от атомной энергии в пользу угля. Прогресс похож на огромную глыбу, которую человечество толкает вверх по бесконечному и крутому склону. Любая заминка грозит тем, что глыба покатится вниз и раздавит всех. Необходимо прилагать все новые и новые усилия, выискивать все более и более мощные источники энергии. Но от этого глыба только увеличивается в размерах. Силы Кирквуда были лишь очередным этапом этого Сизифова труда, благодаря которому мы имели много света, тепла, хорошей пищи и не поддающееся подсчету количество разнообразных вещей, обеспечивающих человеку то, что называется комфортом.
— И давно ты это понял? — с долей сарказма поинтересовался Зяблик. — Не в Эдеме ли?
— Нет. Сразу после катаклизма неизвестной природы, который выбил ту самую каменную глыбу из человеческих рук, и она, сокрушая все, прокатилась по нашим городам.
— Да ты еще и поэт, оказывается!
— У меня было достаточно времени, чтобы подумать над всем случившимся.
— Скажите, пожалуйста, — Цыпф прихлюпал к ним поближе, — нам достаточно много известно о природе механической, химической, электрической и ядерной энергии. А в чем состоит источник сил Кирквуда?
— В сдвиге и расщеплении пространственно-временных связей. Именно этот тип энергии подпитывает Вселенную, позволяя ей все более усложняться и совершенствоваться.
— В вашей галиматье только знаменитый Дон Будатеус мог бы разобраться, — буркнул Смыков, которому порядочно осточертели все эти умствования. — Лучше скажите, кончится когда-нибудь эта крысиная нора или нет? У меня уже пальцы на ногах сводит!
— Скоро придем! — поспешил заверить его Оська, до этого все время что-то бормотавший себе под нос. Чувствовалось, что он тоже хочет задать вопрос Эриксу, но боится Зяблика.
Леву Цыпфа между тем уже понесло. Ни темнота, ни холод, ни вонь, ни даже намечавшаяся в скором времени схватка не могли помешать удовлетворению его любознательности.
— А откуда вы черпали силы Кирквуда? Из иных пространств? — допрашивал он Эрикса.
— Не совсем так. Условно говоря, они пронизывают все сущие миры Вселенной, как свет пронизывает стопку стекол. Система энергоприемников улавливала их и передавала на специальные преобразователи, до поры до времени считавшиеся абсолютно безопасными.
— Но тем не менее неведомая космическая катастрофа разрушила их, и силы Кирквуда вырвались на волю, верно?
— Можно сказать и так… Но то, что случилось с нашим миром, нельзя назвать обычной катастрофой. Это не было падением метеорита или, к примеру, огромной вспышкой на солнце. Изменились некоторые фундаментальные свойства материи. Другими стали параметры пространственно-временного каркаса… В результате этого из строя вышли самые безотказные системы управления и контроля… Глыба покатилась… Видели бы вы, что здесь творилось тогда.
— Да нам и собственного горя хватило… А как вы думаете, могла катастрофа ваших энергетических систем повлиять на соседние миры?
— Вероятно… Кирквудовский янтарь как раз и служит подтверждением этому. Кто-то успел подсчитать, что это семимерное образование… А куда вы, собственно говоря, клоните?
— Сейчас узнаете… Ох, простите, я, кажется, забрызгал вас!
— Ничего страшного. Я уже давно мокрый с головы до пят… Подождите! — взволновался вдруг Эрикс. — Вы чересчур свободно рассуждаете на эту тему. А ведь теория многомерных пространств была разработана намного позже того времени, в котором вы якобы обитали до катастрофы. Вы не тот, за кого себя выдаете!
— Нет-нет! Здесь нет никакого подвоха. Дату моего и вашего рождения действительно разделяют несколько веков. А эти сведения я получил от человека, давно потерявшего связь с нашей эпохой и путешествующего ныне от пространства к пространству.
— Тьфу! — Смыков смачно сплюнул в зловонную воду туннеля. — Болтун — находка для шпиона!
Назревал очередной конфликт, но его, даже не ведая об этом, в самом зародыше погасил Оська.
— Вроде все, — сказал он. — Притопали. Пора по лестнице наверх выбираться. Но только там всегда караул дежурит.
— Обойти его как-нибудь нельзя? — поинтересовался Смыков.
— Можно, наверное… Только опасно. Пока этот путь разведали, столько братвы накрылось… Ходов тут всяких до фига. Любой выбирайте, если дубаря не боитесь врезать.
— Что будем делать, товарищи? — осведомился Смыков.
— Я, кажется, начинаю немного ориентироваться, — сообщил Эрикс. — Мы сейчас где-то в районе гавани. Разрушения здесь были особенно велики. Туннель, в котором мы находимся, раньше имел вертикальное направление и обслуживал подводные терминалы. Именно таких мест я и советовал избегать… Где-то рядом должен находиться разрушенный энергоблок системы Кирквуда…
— Это опасно? — спросил Цыпф.
— Чрезвычайно опасно, по-другому не скажешь. В системах энергоблока продолжают идти неуправляемые процессы, влияющие как на окружающее пространство, так и на время. В любой момент и в любом месте могут возникнуть новые массивы кирквудовского янтаря. Постоянно нарушаются принципы причинности…
— Давайте вопросы голой теории пока оставим в стороне, — строго сказал Смыков, — нам сейчас в бой идти, а вы о принципе причинности… Философский идеализм, и больше ничего. Хотелось бы знать, чем все это конкретно может угрожать нам. Кого следует бояться? Людей, зверей, чудовищ, стихийных бедствий?
— В том-то и состоит сложность нашего нынешнего положения, что ничего предугадать невозможно, — сказал Эрикс. — Нарушение принципов причинности ведет к тому, что объективные события утрачивают связь между собой, а одинаковые причины в одинаковых условиях вызывают самые различные последствия. Вода над огнем не закипает, а превращается в лед. Человек обретает способность летать. Или в его организме вдруг полностью исчезают молекулярные связи. Железо само собой превращается в золото, а пуля летит не по прямой, а по кругу. Можете самостоятельно придумать сколько угодно подобных примеров…
— Емеля, разъезжающий на печи, из той же серии? — Верка хотела пошутить, но ничего не вышло — ватага на веселье была не настроена, а Эрикс не знал, кто такой этот знаменитый Емеля.
Однако, как галантный кавалер и воспитанный человек, он не мог не согласиться с дамой.
— Именно… Кроме того, существуют и другие опасности. Кирквудовский янтарь, действуя то как клин, то как таран, может открыть дверь в наш мир из любого пространства. Давно ходят слухи о всяких невообразимых тварях, которых видели то в одном, то в другом месте.
— Причем надо учитывать, что эти твари могут явиться из пространств с иной мерностью, чем наша, — подхватил Цыпф. — Представьте себе волка или крокодила из девятимерного пространства в условиях нашей планеты! Не можете? И не удивительно. Это то же самое, что абсолютно плоскому двухмерному существу судить о внешнем облике человека только по очертаниям его подошв. Страшно, но непонятно, а главное, нет никакой возможности защититься.
— А какое, спрашивается, дело человеку до абсолютно плоского существа? — Зяблик принялся точить меч о стену, и обильно хлынувшие из-под клинка искры на мгновение осветили его хмурое лицо. — Его ведь на зуб не возьмешь, шкуры не лишишь и в оглобли не поставишь.
— Не спорю! — воскликнул не на шутку распалившийся Цыпф. — Девятимерному существу человек абсолютно безразличен. Однако оно может уничтожить его случайно, ненароком, как человек ненароком затаптывает червей или насекомых… Но вы никак не даете мне закончить мысль, ради которой этот разговор был начат!
— А разве вы, братец мой, еще не закончили? — удивился Смыков. — Я, признаться, уже и слушать вас перестал.
— Попрошу всего одну минутку внимания! То, что я скажу сейчас, может пригодиться нам в будущем… Значит, вы считаете, — судя по интонации, он обращался к Эриксу, — что так называемые силы Кирквуда вырвались из-под контроля вследствие неведомой глобальной катастрофы?
— Допустим, — осторожно, словно опасаясь подвоха, ответил нефилим.
— А если все получилось наоборот? Сначала пошла вразнос одна из ваших знаменитых установок, черпавших энергию в процессе расщепления и сдвига пространственно-временных связей, а уж вследствие этого произошла катастрофа, вырвавшая из своих пространств и своих времен наши несчастные страны! Возможно, все мы запечатаны сейчас в одной огромной глыбе кирквудовского янтаря! Вот почему исчезли солнце и звезды, вот почему высыхают моря и реки, вот почему в недрах земли просыпаются древние неведомые существа, некогда владевшие всем этим миром!
— Лева, куда тебя несет? — простонал в темноте Зяблик. — Нам сейчас аггелов зубами рвать, а ты орешь, как слониха в течке. Силы побереги. Нянчиться с тобой больше никто не будет, учти.
Лева с трудом, как загнанная лошадь, перевел дух и пробормотал:
— Простите, я что-то действительно немного не того… На меня иногда накатывает… Эрикс, я вас ничем не обидел?
— Абсолютно ничем… — произнес тот бесцветным голосом. — Если мы в чем-то и виноваты, то давно расплатились за это. Не будем тревожить память мертвых. И не забывайте, что в конце концов мы ваши потомки. Ваши грехи, слабости и страсти наложили отпечаток и на нас…
— В общем, так! — как всегда, последнее слово досталось Смыкову. — Все раздоры пока оставим. Идем на прорыв, а это дело нешуточное. Решение принимается без голосования. Минута страха — и мы будем иметь все. Настоящее оружие, приличную одежду, человеческую пищу, табак. И запомните! Главное не это, — он чиркнул острием меча по камню, — не железо. Все равно мы железом махать как следует не умеем. Главное — нахрап и внезапность.
Чья-то рука коснулась щеки Цыпфа. Из всех тех, кого судьба загнала в эту мрачную нору, такая мягкая и прохладная ладонь могла быть у одного-единственного человека.
— Ты обижаешься на меня? — прошептала Лилечка.
— Нет, — не сказал, а выдохнул Лева.
— Нам нельзя открыто любить друг друга, пока творится весь этот ужас.
— А тайно? — Душа Левы взлетела куда-то к невидимому потолку, попорхала там немного и вернулась на место, изрядно облегченная.
— Тайно тоже нельзя. Но потом у нас еще будет время.
— А если не будет?
— А если времени уже не будет, одну минутку перед концом мы обязательно выкроим. Правда?
— У нас будет время, — как можно более твердо сказал Цыпф. — У нас будет много времени. И у наших детей тоже.
— Хотелось бы верить…
— Плохо, что стоит такая темень и я не вижу тебя.
— Хорошо, что стоит такая темень. Ведь я почти голая.
Рядом заскрипело и заскрежетало, словно парочка скелетов занялась любовью на жестяной крыше. Это члены ватаги — один за другим — стали взбираться вверх по хлипкой и ненадежной конструкции, которую лестницей мог назвать только с детства сильно обделенный жизненными впечатлениями экс-аггел Оська.
Подъем был долгим и мучительным.
Одно дело брести (пусть и по колено в жидкой грязи) темным, но зато горизонтальным туннелем, и совсем другое — карабкаться в полном мраке на неведомую высоту. По словам Эрикса, этот колодец когда-то выполнял роль обыкновенного коридора и поменял положение в пространстве почти на девяносто градусов после того, как весь комплекс зданий гавани в ночь катастрофы встал на попа.
Естественно, что до этого никаких лестниц в нем не имелось. Да они вообще почти не применялись в Будетляндии, где любое здание было буквально напичкано лифтами самых разнообразных конструкций. Вот и пришлось аггелам, из всех видов техники сносно разбиравшихся только в огнестрельном оружии, состряпать для своих нужд шаткое сооружение.
Но хуже всего, конечно, была темнота, царившая в колодце. Приходилось на ощупь находить наперекосяк вбитые в стену штыри, хлипкие скобы и небрежно, со слабинкой натянутые тросы. Лестница явно строилась в спешке, из первых попавшихся под руку материалов. Уже это доказывало, что аггелы не чувствуют себя здесь хозяевами.
— Вы проверяйте, за что цепляетесь и куда ногу ставите, — неустанно предупреждал Оська. — Сначала подергайте, покачайте… У меня один знакомый был. Фогарм. Хотя на самом деле его Яшкой звали. Недавно сорвался примерно в этом же самом месте. До самого низа, правда, не долетел. На какой-то крючек пузом напоролся.
— Ой, мамочки! — заскулила Лилечка. — Не могу больше! Не долезу! Сорвусь!
— Вперед! Ну пожалуйста! — уговаривал ее Левка, и сам чувствовавший себя медведем, которого заставляют ходить по проволоке. — Спуститься мы уже не сможем. Если что, ставь ногу мне на плечо.
Он поднимался сразу вслед за девушкой и, когда та в страхе замирала на зыбких воздушных трапециях (иначе и нельзя было назвать эту небрежно сляпанную конструкцию), подталкивал ее головой в зад.
— Да ты нас, падла, заделать всех хочешь начисто! — Слышно было, как Зяблик, пыхтя, пытается поймать Оську за ногу, а тот, повизгивая от страха, уворачивается.
— Я здесь ни при чем! — оправдывался он. — Не первый раз ведь здесь лезу… Когда светло, так никаких забот… И пленных гоняли, и раненых поднимали…
— А почему сейчас темно? — вопрошал Зяблик.
— Вот я и сам об этом думаю… Наверно, накрыли чем-то выход. Раньше там всегда дырка светилась.
Как бы в ответ на его слова что-то вверху стукнуло. На миг появилось и тут же снова исчезло светлое квадратное отверстие. Мимо людей, теряя искры, пролетела вниз огненная точка.
— Чинарик. — Зяблик втянул носом воздух. — А табачок-то приличный…
— Люк, значит, поставили, — констатировал Смыков. — Вот вам и фактор внезапности.
— Может, все же вернемся? — Даже у отчаянной Верки голос заметно дрожал.
— С каких это пор бабы взяли моду мужикам в бою указывать! — взорвался Зяблик. — Наполеоны, мать вашу в три погибели! Все заранее знали, на что идем! Назад поздно поворачивать!
— Да и вряд ли возможно, — добавил Эрикс спокойно.
Между ним, Зябликом и Смыковым началось какое-то совещание. Изредка на правах эксперта привлекался и Оська.
— Сколько человек обычно в карауле? — спрашивал Смыков.
— По-разному. Три-четыре. Но не меньше трех. Да и другие частенько приходят поболтать. Девки наши тут тоже постоянно вьются.
— Оружие у них какое?
— Пистолеты, это уж обязательно. По стволу на рыло. Гранаты. Ружья могут быть. Один раз я автомат видел.
— Эх… — Зяблик только заскрежетал зубами, но ничего не сказал, не желая, видимо, окончательно подрывать боевой дух своих сотоварищей.
А положение ватаги в самом деле было отчаянное. Внизу — глубокий колодец, стены которого утыканы ненадежной арматурой, вверху — глухой люк, охраняемый до зубов вооруженными врагами, а посередине они — почти голые, исцарапанные, еле живые от усталости, висящие, как обезьяны на лианах, но только не между небом и землей, а между смертью и смертью.
Зяблик позвал к себе Толгая, находившегося в арьергарде, и тот неловко — степняк не альпинист — полез наверх, едва не выколов при этом саблей глаз Цыпфу и по ошибке вместо очередной скобы лапнув Лилечку за грудь. Последовал краткий инструктаж (то, что Зяблик говорил Толгаю, никто, кроме них двоих, никогда не понимал), после чего Смыков не без патетики объявил:
— Двигаемся вверх в прежнем порядке. В победе не сомневайтесь, поскольку наше дело правое. Но верующие могут помолиться.
Снова тяжело задышали карабкающиеся вверх люди, снова заскрипело ржавое железо, снова посыпались вниз мелкие камушки, пугая слабые души длительностью своего падения, снова раздались проклятия и вскрики тех, кто напоролся ладонью на что-нибудь острое или получил чужой пяткой по макушке.
У люка все сбились в гроздь, словно пчелиный рой, готовящийся покинуть улей. Сквозь щели между досок пробивались узенькие полоски света, что позволяло людям хоть немного разглядеть друг друга. Честно говоря, сейчас они больше всего походили на чертей в преисподней: черные от грязи, голые, взлохмаченные, с лицами, искаженными яростью предстоящей схватки или ужасом грядущей гибели. Оська постучал в люк.
— Эй! — позвал он. — Эй, откройте!
— Что надо? — раздался сверху голос, по которому очень легко можно было представить себе его обладателя, — грубую, зачерствевшую в насилии и разврате скотину, оттрахавшую, наверное, не одну кастильскую монашку и сверх всякой меры насосавшуюся чужой крови.
— Открой, тебе говорят! — Оська по наущению Зяблика повысил голос: — На хрена вы тут люк поставили! Ведь не было же его раньше!
— Для того и поставили, чтобы всякие птички вроде тебя сюда без дозвола не залетали, — ответил аггел веско. — Доложись, кто ты есть такой.
— Иавал из пятой сотни.
— А кто сотник ваш?:
— Арфаксад, — не задумываясь, ответил Оська и на радостях даже подмигнул Зяблику.
— Ты мне гвозди не забивай! Тут каждый третий Арфаксад. Как его в натуре зовут?
— Сахно Валерий Кузьмич.
— Правильно… — Аггел умолк, похоже, удивленный осведомленностью невидимого собеседника. — А откуда ты, Иавал, путь сейчас держишь?
— Из Эдема, откуда же еще…
— Долго там был?
— Порядочно. Дней двадцать.
— Вместе с сотником?
— Конечно. Куда же нам без него.
— Хорошо погуляли? — Допрос затягивался, и это было плохим признаком: или Оську не признавали здесь за своего, или, наоборот, давно ждали и сейчас ловили на противоречиях.
— Всякое было… Чего ты прицепился? Открывай, а не то я сейчас вниз свалюсь.
— Туда тебе и дорога! — Судя по шуму, аггел вскочил, и то, на чем он до этого сидел, отлетело в сторону. — Все, кто с сотником Арфаксадом последний раз в Эдем ходил, там и остались! Даже их оружия мы не нашли! Как же ты, шустрый такой, спасся?
— А вот повезло! — Оська уже почти вопил. — Всех положили, а я спасся! Мертвым прикинулся, а потом в кусты уполз! Что же мне теперь, удавиться из-за этого?
— И кто же это вас так разделал? — Аггел, похоже, немного успокоился.
— Нефилимы проклятые!
— Опять они! — Судя по витиеватой ругани, в которой толково и детально упоминались все прегрешения прародительницы нашей Евы, аггел имел в прошлом какое-то отношение к богословию. — Давить их надо, сволочей! Как клопов вонючих, давить!
— Ага, на словах все вы храбрые…
— Ты один? — спросил аггел.
— Один.
— Сейчас разберемся… Не стони… — Аггел подошел поближе и всей своей немалой тяжестью взгромоздился на люк, доски которого сразу заскрипели. — Эй, Мишка! — крикнул он кому-то из своих подчиненных. — Беги живо в штаб и доложи, что есть сведения об отряде Сахно. Вроде один из его хлопцев живым вернулся. Пусть решают, что делать. А я пока здесь покараулю.
Зяблик нашептал что-то Оське на ухо, и тот просительно заныл:
— Дяденька, пустите наверх. Я и в самом деле сейчас сорвусь… У меня рука ранена… Три дня не жравщи. Пустите.
— Если три дня не жрал, то полчаса потерпишь, — флегматично заметил аггел, топчась по крышке люка. — А с раненой рукой на такую верхотуру не заберешься. Врешь ты все.
— Зачем мне врать?.
— А это сейчас разберутся.
Зяблик изобразил что-то на пальцах, и Оська снова заныл:
— У меня бдолах есть. Могу угостить. Хотите?
— Умолкни! — рявкнул аггел. — Сейчас как стрельну, так и разбирательства никакого не потребуется!
По сигналу Смыкова в верхнем эшелоне ватаги произошла перестановка. Оська спустился чуть пониже, а его место прямо под люком занял Эрикс, передавший свою секиру Зяблику.
Нефилим находился в очень неудобном положении — ноги упирались в одну скобу, левая рука цеплялась за другую — и тем не менее удар, нанесенный им снизу правым плечом, был страшен. Прочь отлетел не только люк, превратившийся в груду досок, но и стоявший на нем дебелый аггел. В то же мгновение из колодца выскочил Толгай, целеустремленный и беспощадный, словно демон смерти. Сабля, крутящаяся у него над головой, визжала как бы от вожделения.
Они ожидали застать возле люка трех-четырех аггелов, но тех оказалось только двое. Время, видимо, выдалось такое, что не располагало рогатую братию ни к болтовне, ни к шашням.
Первый этап операции по прорыву в Будетляндию закончился спустя пару секунд после его начала. Аггел, неосмотрительно ступивший на люк, валялся на бетонном полу в сильнейшей степени контузии. (Девятипудовые субъекты в принципе могут летать по воздуху, но вот только падать им не рекомендуется). Его более молодой и субтильный напарник остался сидеть там, где сидел — в пяти шагах от горловины колодца, — только голову сильно откинул назад. Это не позволяло полюбоваться на образовавшуюся в ней аккуратную щель, вроде той, что бывает в соответствующем месте у глиняной кошки-копилки.
В спешке Толгай не удостоился даже похвалы, и командование вновь взял на себя Смыков. Ватага поимела первые, хотя и не очень богатые трофеи — два комплекта одежды (вместе с бельем этого хватило на то, чтобы одеть четверых, в том числе обеих женщин), столько же пистолетов с солидным запасом патронов и полный кисет самосада.
Немалого труда стоило убедить Эрикса, что его действия ни в коем случае не повлекли за собой смерть караульного, которого уже успел прирезать Зяблик.
Тела аггелов сбросили в колодец. Люк, кое-как собранный из отдельных досок, вернули на место. Только тогда появилась возможность толком осмотреться.
Они находились в огромном, невероятно запущенном помещении, высота которого значительно превосходила длину и ширину. Одна из стен, покрытая прихотливой сетью трещин, пропускала снаружи свет, хотя и не была прозрачной, а напоминала весенний ноздреватый лед. Положение многочисленных эскалаторов, балконов, дверей и всех иных узнаваемых архитектурных деталей указывало на то, что нынешний пол раньше был стеною, стена, пропускающая свет, — потолком, и так далее.
Несмотря на свои размеры, помещение отнюдь не выглядело величественным. Голый бетон, простые дыры окон, бессмысленное с виду переплетение разнокалиберных труб, ржавые потеки на стенах, повсюду толстый слой пыли и пепла, холодный ветер, гуляющий во всех направлениях, — нутро потухшей домны, да и только.
Из кучи мусора Эрикс извлек какой-то сверкающий осколок.
— Когда-то здесь было казино. Самое лучшее в гавани. Одна его стена состояла из водяных струй, другая из волшебного света, остальные — из зеркал. Везде толпились люди. Вокруг не было ничего неподвижного. Все светилось, менялось, играло, пело. Воздух благоухал полевыми цветами. Здесь можно было заказать любое блюдо, любой напиток, познакомиться с прекрасными женщинами, проиграть все, включая собственную жизнь, или выиграть несметные сокровища. В перерывах между игрой каждый желающий мог посетить какое угодно место на Земле или Луне… Это была не жизнь, а сон.
— Вот и проспали вы свое счастье, — сказал Зяблик. — А сон разума знаешь что порождает? Дурную явь! Вот так-то, праправнучек!
Торопливо докурив свою первую в этом мире самокрутку, он пошел на зов Смыкова, который в данный момент занимался одним из любимейших своих дел — расставлял по местам людей. При этом он не забывал вразумлять их:
— Сейчас вернется тот самый Мишка, которого послали с донесением в штаб. Хорошо, если он доставит одно голое распоряжение или приведет с собой какого-нибудь младшего командира. А если целая банда набежит, чтобы нашим Иавалом полюбоваться? — Он походя взъерошил Оськин чуб. — Можно, конечно, в темпе брызгануть, как художественно выражается товарищ Зяблик, но это лишит нас ряда преимуществ. Мало того, что аггелы немедленно организуют погоню, они еще и поднимут тревогу по всей этой паскудной стране. Поэтому разумней будет дожидаться их здесь и втихаря перестукать. Тем самым мы уберем единственного свидетеля нашего появления, на неопределенный срок оттянем начало розыскных мероприятий и поправим свое материальное положение. Не знаю, как кто, а я в таком виде долго ходить не собираюсь, — Смыков подергал за пояс широченных кальсон, составлявших весь его наряд.
— Надо драться, какое тут может быть иное мнение! — Цыпф, которому досталась одна только нательная рубашка, рвался в бой из соображений чисто шкурных. Ходить без штанов было почему-то гораздо более неудобно, чем совсем голым.
— Тогда попрошу вас, братец мой, вместе с дамами и условно амнистированным гражданином Иавалом занять позицию вон в той нише. Находясь в тактическом резерве, будете действовать только по моему специальному сигналу. Если такой сигнал в силу чрезвычайных обстоятельств не поступит, действуйте по обстановке. Все понятно?
Лева хотел возразить, что он не резервист, а полноценная боевая единица, но, представив себя со стороны — нескладного, очкастого, в чужой рубашке, едва прикрывающей пуп, и с тупым мечом в руке, — вынужден был покорно кивнуть: «Понятно».
— Тогда позаботьтесь о маскировке, — приказал Смыков.
К сожалению, оставалось совершенно неясным, с какой стороны должны были появиться аггелы. После недолгого раздумья Смыков выбрал для засады места достаточно скрытные, но не очень далеко отстоящие от колодца. Поднимать пистолетную стрельбу без крайней необходимости запрещалось, поэтому основная задача по уничтожению врага возлагалась на Толгая, устроившегося за трубой, проходившей на высоте примерно двух метров от нынешнего пола.
Ждать пришлось довольно долго — не то штаб находился далеко, не то гонец попался нерасторопный. Реальный Иавал вряд ли выдержал бы столь длительное ожидание и давно свалился бы в колодец.
На сей раз оправдались самые худшие опасения Смыкова. За Мишкой — кудрявым богатырем, красу которого слегка портила заячья губа, — валила целая толпа аггелов, настроенных далеко не миролюбиво. Один на ходу грозился:
— Да я его просто удавлю своими руками! Еще и посмел вернуться, паскуда! Его же в одной компании с нефилимами видели!
— А если он новых дружков за собой привел? — осторожно высказался кто-то.
— Чепуха! Нефилимы вне Эдема долго не протянут, — возразил первый аггел, оглядываясь по сторонам. — А где же охрана? Сугрубов, ау!
— Ау! — хриплым басом отозвался Зяблик, уже получивший от Смыкова сигнал, означавший, что втихую аггелов никак не одолеть и нужно бить их всеми имеющимися средствами. — Я здесь, суки рогатые!
Слитно загрохотали два пистолета. Сначала следовало ошеломить аггелов беглым огнем, а уж потом начинать прицельную стрельбу. Если чего сейчас ватаге и недоставало, так это парочки ручных гранат.
При первых же звуках пальбы аггелы резво, как шарики пролитой ртути, рассыпались по залу бывшего казино. Все они, похоже, были опытными бойцами, да и численное преимущество имели немалое, но над ними висело вечное проклятие людей, угодивших в засаду. Трудно вести правильный бой, если ты не видишь противника, никак не можешь найти подходящее укрытие и не успел вовремя зарядить оружие.
В течение первых пяти минут аггелы потеряли едва ли не каждого второго. Уцелевшие пробовали палить наудачу, но это только мешало наиболее хладнокровным из них определить местонахождение невидимого врага по звуку выстрелов. Толгай, сверху прекрасно видевший каждого аггела, без помех расстреливал их из люка. Все попытки прорваться к выходу закончились безрезультатно — Зяблик, вначале сделавший из чужого пистолета несколько промахов, уже освоился и дырявил рогатые головы, как горшки на заборе.
Цыпф из своего укрытия не видел ничего, кроме вздымающегося к потолку порохового дыма, зато ясно слышал все реплики, доносившиеся как с той, так и с другой стороны.
— Предлагаю сдаться! — гундосил Смыков, которому шальная пуля срезала кончик носа. — Тем, кто в течение минуты сложит оружие, гарантирую жизнь.
— Сам сдавайся, гнида! — ответил кто-то из аггелов. — Нашел дурачков! Сейчас сюда наши набегут. Сначала шницель из тебя будем делать, потом лапшу, а напоследок компот.
Такая перспектива почему-то обидела Смыкова.
— Товарищ Толгай! — он повысил голос. — Нельзя ли этого кулинара поучить хорошим манерам?
Однако степняк, как это с ним нередко бывало, в горячке боя забыл русский язык и никак не откликнулся на просьбу Смыкова.
Зато инициативу неожиданно взял на себя Эрикс. Трудно сказать, какие побуждения заставили его вылезти из-за укрытия — не то решил, что все аггелы убиты, не то спешил покинуть место, к которому и в самом деле могли вскоре прибыть новые подкрепления врагов. Тем не менее один вид нефилима, мрачная слава о силе, быстроте и неустрашимости которых, несомненно, дошла до Будетляндии, отбил у аггелов охоту к дальнейшему сопротивлению. (Откуда им было знать, что максимум, на что способен Эрикс, это закатить добрую оплеуху).
Оставшиеся в живых бросились кто куда. От полного истребления аггелов спасло только то, что в пистолете Зяблика заклинило патрон. Пока он, матюгаясь на чем свет стоит, возился с отказавшим оружием, двое или трое счастливчиков успели выскользнуть наружу.
Не вызывало сомнений, что в самом ближайшем будущем они вернутся, но уже в другом количестве, а главное — совершенно в другом настроении.
Времени не оставалось даже на то, чтобы добить раненых. Свое вечное «Быстрее, быстрее!» Смыков еще никогда не орал так громко. Каждую секунду ожидая получить выстрел в спину, они содрали одежду с нескольких ближайших трупов (даже Эрикса заставили одеться) и, что называется, до зубов вооружились. Бдолах обнаружить не удалось. Это еще раз подтверждало версию о том, что аггелы пользуются им только в чрезвычайных обстоятельствах.
Пока все складывалось не так уж и плохо. Пусть и с боем, но они прорвались в Будетляндию, оделись, вооружились и при этом не потеряли ни единого человека. Дело оставалось за малым — пересечь страну из конца в конец и запастись по пути бдолахом. Но сначала нужно было уйти как можно дальше от развалин казино — уж очень горячо здесь становилось.
Теперь ватагу вел Эрикс. Пока он сам стремился отыскать более безопасное место, им было по пути.
Вся Будетляндия представляла собой один огромный город, вернее — его руины, но от руин Талашевска они отличались примерно так же, как какая-нибудь подмосковная рощица от тропического леса.
Цыпф ощущал себя в этом мире ничтожным муравьем. То, что уступами в несколько ярусов возвышалось над ним, даже нельзя было назвать зданиями. Этакие рукотворные горы, деяния небожителей, чертоги олимпийцев, сады Семирамиды, храмы космических пришельцев. Ясно, что улицей, по которой они сейчас пробирались, мало кто до этого и пользовался (слишком много было над ней всяких труб-транспортеров и пешеходных дорожек, безо всякой видимой опоры распластавшихся в воздухе), но выглядела она так, словно была вымощена серебряными слитками.
В глазах рябило от смешения цветов (траурное габбро вполне могло соседствовать здесь с веселенькой терракотой) и стилей (готический храм как ни в чем не бывало сидел на крыше официозного билдинга), от блеска еще сохранившихся кое-где зеркальных стекол, от множества надписей на самых разных языках, от стенных мозаик размером с футбольное поле, от предельно ясных пиктографических указателей и вычурных вывесок, рекламирующих вещи совершенно непонятного назначения.
Весь этот волшебный город был мертв и выглядел так, словно через него сначала пронесся ураган, а потом промаршировали на позиции воины Армагеддона.
В прозрачных плавно изгибающихся трубах навечно застыли вагоны гравитационных поездов. Нигде не было видно ни единой уцелевшей витрины. Улицы загромождало все то, что раньше составляло меблировку квартир, то здесь, то там виднелись следы пожаров. Дикая поросль покрывала высоченные стены, где оспинами, где островками, а где и сплошным ковром; на крышах орали непуганые вороны; на ближайшем перекрестке, совсем как в глухом лесу, выла какая-то тварь. Люди не то чтобы отсутствовали, а даже дух их давно выветрился из этого города.
Впрочем, довольно скоро охи и ахи по поводу грандиозности и причудливости будетляндской архитектуры прекратились — глаза присмотрелись (хотя чувство дикаря, оказавшегося вдруг на перроне станции метро, у Левы Цыпфа так и не проходило). Эрикс выбирал самые широкие улицы, старался придерживаться их центра и никогда не поднимался ни на какое сооружение, превышавшее хотя бы пару человеческих ростов. Очевидно, у него были на то веские причины.
Это бегство не могло длиться долго. В отличие от Эдема, в Будетляндии бегущий человек довольно быстро натруживал ноги и сбивал дыхание. Кроме того, здесь не было чистейших рек, утоляющих жажду, и всяких вкусных корешков, позволяющих приглушить голод. За целые сутки пребывания в этом мире никто из ватаги еще ни крошки во рту не держал, ни глоточка не пригубил. Правда, накурились вволю.
Первым не выдержал Зяблик, уже давно бросавший вокруг плотоядные взгляды.
— Эй, шеф! — обратился он к Эриксу. — А как у вас тут насчет общественного питания дела обстояли?
— Что вы имеете в виду? — Эрикс явно не улавливал суть вопроса.
— Да все то же самое. — Зяблик похлопал себя по животу (при этом забрякали торчащие у него за поясом пистолеты). — Кишки марш играют… Подкрепиться бы не мешало… Желательно устрицами с шампанским. Но на худой конец и водка с черной икрой сойдет.
— Ах да, извините… Я это как-то выпустил из виду. — У нефилимов, вероятно, были совсем другие взгляды на проблемы питания. — Сейчас что-нибудь придумаем.
— Думай, — великодушно разрешил Зяблик. — Забегаловок тут у вас много… Хотя уже кто-то успел их подломить.
Они перешли на шаг, что вызвало облегченные вздохи почти у всех, и, миновав еще пару кварталов, по знаку Эрикса свернули в какое-то заведение, расположенное на первом этаже дома-башни, куда более широкого вверху, чем внизу, что делало его похожим на стоящий торчком топор.
Судя по сверкающей никелем и красным деревом стойке, за которой располагались пыльные и потрескавшиеся зеркальные полки, тут когда-то был бар или закусочная. Вся передняя стена напрочь отсутствовала, и вовсе не потому, что ее разнесли вдребезги мародеры или уничтожил пожар. Ее просто никогда и не существовало, а зал от улицы отделяло что-то другое, бесследно исчезнувшее сразу после катастрофы — подсвеченные водяные струи, мерцающие, как полярное сияние, силовые поля или искусно воссозданный красочный мираж.
Внутри царил тот же разгром, что и в аналогичных заведениях Талашевска — все стеклянные предметы превращены в груды осколков, с кресел содрана обивка, стены размалеваны похабными рисунками, пол засыпан всем тем, что нельзя съесть или выпить, но можно растоптать и исковеркать. Для полноты картины не хватало только скелета бармена с подвязанной ради смеха челюстью и чинариком в зубах. Впрочем, учитывая разницу в техническом уровне Отчины и Будетляндии, вполне можно было предположить, что функции барменов здесь выполняли автоматы.
Не задерживаясь в зале, Эрикс двинулся в глубь здания, пока не уперся в глухую стену, расписанную неизвестными письменами так же густо, как погребальная камера фараона, и снабженную панелью с черно-белыми клавишами. Тщательно определив на этой степени одному ему известную точку, Эрикс нанес по ней такой сокрушительный удар секирой, что обсидиановое лезвие разлетелось вдребезги. Стена переломилась по ранее незаметному горизонтальному шву и после дополнительных усилий Эрикса, вцепившегося в ее нижнюю кромку, сложилась наподобие гармошки. За ней открылось помещение, сверкающее стерильной чистотой и до потолка заполненное штабелями запаянных в прозрачный пластик коробок. После этого Эрикс сделал рукой жест, означавший: пользуйтесь, мол, — и скромно отошел в сторону.
Тонкий на вид пластик оказался удивительно прочным, но против сабли Толгая все же устоять не смог. В первой коробке были тюбики с розовой пастой, вкусом напоминавшей творог, во второй — плоские хрустящие хлебцы, в третьей, которую вскрывали еще всей компанией, — что-то вроде томатного соуса. Затем все ударились в индивидуальный поиск, вместо сабли используя пистолетные протирки, осколки обсидиана и всякие прочие достаточно острые предметы. Попробовав что-то одно, сразу бросали и выискивали другое, более вкусное.
Эрикс, печально созерцавший эту картину, сказал:
— Мне показалось, что вы хотите утолить голод…
— А что мы делаем? — искренне удивилась Верка, перемазанная, как первоклассница, угодившая дежурить на школьную кухню. — Утоляем! Ты бы, зайчик, что-нибудь сладенького мне нашел.
— Вон, позади вас желтая коробка с красной надписью.
— Ты свои надписи сам читай… Я ни китайскому, ни арабскому не училась. Лучше помог бы открыть.
Эрикс голыми руками надорвал ящик и, ни на кого не глядя, удалился в разгромленный бар.
— Брезгует, — усмехнулся Смыков, дегустируя брикет прессованных орехов. — Культурного из себя строит… А еще вчера голым ходил, как макака.
— Потому он и хмурый, — констатировала Верка, хрустя вафлями в шоколаде. — Штаны в ширинке жмут.
— Какие же вы! — У Лилечки сделалось болезненное лицо. — Что мы, в самом деле, сыра или консервированной ветчины не пробовали?.. Накинулись, как звери. Неудобно даже…
Зяблик никакого участия в этих словопрениях не принимал, а сосредоточенно работал. Распарывая коробку за коробкой, он все дальше продвигался в глубь склада.
— Что ищем? — поинтересовался Цыпф, чьи гастрономические устремления ограничились пакетом сухариков.
— Да так, — неопределенно ответил Зяблик. — Сам еще не знаю…
— Зачем тогда все коробки подряд вскрывать? Поинтересуйтесь вон той зеленой.
— А что в ней? — насторожился Зяблик.
— Не знаю. Но, судя по надписи, содержание алкоголя в этом продукте составляет пять процентов.
— Слабовато… А покрепче ничего нет?
— Я что-то пока не вижу.
— Ну тогда я еще поищу, — буркнул Зяблик, принимаясь за очередную коробку.
Вернулся Эрикс и, прислонившись плечом к стене, стал молча наблюдать за энергичными действиями ватаги. В глазах его была печаль.
— Орешков не желаете? — осведомился Смыков.
— Нет.
— Зря… Очень питательные… С тех самых пор, что ли, остались? — Не получив ответа, он в знак уважения помотал головой, совсем как фарфоровый будда. — Умели же делать потомки! Что ни попробуешь, как будто вчера с пылу с жару!
— Им-то что… Все машины делали… А они только жрали, — подал голос Оська, предварительно убедившийся, что Зяблик его вряд ли услышит.
— Сначала нужно такие машины изобрести, — заступилась за потомков Лилечка.
— Думаешь, это просто?
Заметив, что Верка и Толгай набивают карманы всякими деликатесами, Эрикс наконец-то шевельнул скорбно поджатыми губами:
— Не надо ничего брать про запас. Такие хранилища встречаются здесь на каждом шагу. Никто не успел воспользоваться ими.
— Ай-я-яй, это же такое богатство пропадает! — не унимался Смыков. — Всю Отчину можно десять лет кормить!
Зяблик уже нашел что-то, любезное его душе, и сейчас из груды выпотрошенных коробок раздавались булькающие звуки и довольное фырканье.
— Вас нельзя было пускать в эту страну, — все так же печально произнес Эрикс. — Вы смелые люди. Вы не боитесь аггелов. Вам не страшны страдания и лишения. Но здесь вы погибнете от обжорства или от чрезмерного употребления стимулирующих веществ. Этот мир чересчур богат для вас. Он уже погубил тех дикарей, которые буйствовали здесь в первые дни после катастрофы. А вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от них.
— Не паникуй, шеф, прорвемся… — Зяблик заворочался в куче коробок, видимо, устраиваясь на ночлег. — Быв-ва-ли-и дни вес-селые-е…
— Шутки шутками, а отдохнуть не мешает. — Смыков покосился на Эрикса. — Что по этому поводу скажет нам гостеприимный хозяин?
— Я понимаю, что вы не можете долго обходиться без отдыха, — произнес Эрике страдальческим голосом. — Точно так же, как без пищи и питья… Но хочу предупредить, что в этот момент нас уже ищут по всем окрестностям, а весть о событиях в районе гавани распространяется по стране. Нам следовало бы уйти как можно дальше… Впрочем, время все равно упущено. Остается уповать на то, что у аггелов не хватит сил обшарить каждое здание. Единственное, что я могу вам посоветовать сейчас, это с максимальной эффективностью использовать выдавшуюся передышку.
— Отоспаться, проще говоря, советуете, — подсказал Смыков.
— Да, но приняв предварительно меры предосторожности.
— Это уж как водится. Поучите свою тещу щи варить. — Смыков отстегнул часы и бросил их Левке. — Заступайте в караул, товарищ Цыпф. Через два часа разбудите Толгая. Потом очередь моя. Последним Зяблик. Пусть проспится, алкаш. Женщин и детей прошу не беспокоить.
Под детьми Смыков, видимо, подразумевал Оську Иавала и Эрикса.
Спустя десять минут притомившаяся и обожравшаяся ватага уже почивала. У одних сон был медвежий, глубокий. У других соловьиный, чуткий.
Цыпф перетащил одно из кресел в самый темный угол разгромленного зала и уселся с таким расчетом, чтобы видеть улицу. У противоположной стены устроился Эрикс, который, как видно, спать сегодня вообще не собирался. Могучий организм нефилима требовал куда меньше послаблений, чем это принято среди обыкновенных людишек.
Снаружи донесся легкий шорох, хотя улица по-прежнему оставалась безлюдной. Присмотревшись, Цыпф разглядел маленькую собачонку, обнюхивавшую кучу мусора.
— Песик бегает… — пробормотал он. — А у нас в Отчине их почти не осталось… Голод был страшный… Люди даже воробьев ели.
Ответа не последовало, да столь риторическое сообщение его и не подразумевало. Дабы вызвать Эрикса на разговор, Цыпфу пришлось задать вполне конкретный вопрос:
— А может случиться такое, что собачка, попавшая в зону, где нарушены принципы причинности, обретет дар речи?
— Может, — флегматично ответил Эрике. — Но я таких собачек еще не встречал.
Снова наступила долгая тишина. Цыпф напряженно обдумывал достойный вопрос. Эрикс, похоже, дремал, полуприкрыв глаза.
— А мне ваш город не понравился, — внезапно выпалил Цыпф. — Камень да железо… И вообще, неуютно. Один дом как картинка, а другой рядом будто бы на скорую руку сляпан. Стены косые, балки наружу торчат… Не хватает здесь чего-то. Ни парков нет, ни скверов, ни укромных уголков…
— Вы правы. — Веки Эрикса дрогнули. — Это совсем не тот город, каким он запомнился мне… Как бы это лучше объяснить… В древности люди раскрашивали свои мраморные статуи. Со временем пурпур и позолота сошли, но прекрасные формы продолжают привлекать нас… Иллюзия красоты исчезает, настоящая красота живет долго… Хотя и стоит намного дороже. В мое время искусство создания иллюзий, и не только зрительных, достигло совершенства. Фасаду обыкновенного здания при помощи не очень сложных ухищрений можно было придать вид Кельнского собора или мавзолея Тадж-Махал. Причем подлинник от копии нельзя отличить даже на ощупь. Со временем такие методы получили очень широкое распространение в архитектуре… А с парками и уличными насаждениями всегда существовало много проблем. Намного проще было создать их овеществленные миражи. При мне город выглядел зеленым, тенистым и благоуханным, но все это достигалось исключительно за счет ухищрений техники, творящей иллюзии. Как мне теперь кажется, иллюзией была и вся наша цивилизация.
Он умолк, и стало слышно, как собачонка, урча, грызет что-то. Выждав немного, Цыпф осторожно спросил:
— А почему, скажите пожалуйста, вам так кажется?
— Что? — Эрике, словно очнувшись, недоуменно глянул на него. — А-а… Это не так-то просто объяснить. И раньше человек создавал вещи, которые облегчали его жизнь. Прялки, топоры, паровозы… Без хозяина они были мертвы. Если топор ломался, не составляло труда отковать другой. Если у паровоза вдруг кончался уголь, котел можно было топить дровами.
— Точно! — обрадовался Цыпф. — Мы в Отчине именно так и делаем.
— Счастливые люди… Вещи, которые создавали в тех же целях мы, были продуктом совсем иного технологического уровня. Они даже носы нашим детям умели вытирать… Моя одежда лучше меня знала, что мне нужно. В зависимости от погоды, времени суток и многих других обстоятельств она самостоятельно меняла свой цвет, теплопроводность, фактуру и даже покрой. Каждая застежка имела свою собственную память и спешила предугадать каждое мое желание. Глянув на манжет левого рукава, я мог узнать любую новость. Манжет правого рукава позволял связаться с каждым человеком на планете или получить какую угодно открытую информацию. Моя одежда, мое рабочее место, весь мой дом были нашпигованы компьютерами… Кстати, вам известно, что это такое? По-моему, первые из них появились как раз в ваше время.
— Компьютеры… М-м-м… Это, кажется, такие электронные счетные машины.
— Ладно, пусть будет так. Детали здесь особого значения не имеют. Просто в конце концов все вещи, окружавшие нас, объединились между собой в глобальную сеть и стали жить своей собственной жизнью. Сохранись подача энергии, они остались бы работоспособными и после гибели человечества… Может, в этом и нет ничего плохого, но ко времени катастрофы наше существование целиком и полностью зависело от искусственных помощников. Чем вы зажигаете огонь?
— По-разному. У кого-то есть спиртовые зажигалки. У кого-то огниво. А некоторые даже научились спички делать. Правда, пока только фосфорные.
— Вот, а теперь представьте, что в момент катастрофы в нашей стране не оказалось ни единой спички, ни одной зажигалки. — Эрикс, не открывая глаз, усмехнулся. — И никто толком не знал, как без помощи электричества добыть огонь, ведь сведения об этом содержались в памяти компьютеров.
— Так уж никто и не знал… — не поверил Цыпф.
— Увы, но это факт… Мы не забивали себе голову лишними сведениями, ведь в любое мгновение можно было получить нужную информацию от компьютера… Лишившись машин и приборов, мы оказались совершенно беззащитными как перед стихией, так и перед врагами. То, что создавалось веками, рухнуло за несколько дней, рассеялось, как мираж. Поэтому я и называю нашу цивилизацию иллюзорной. Когда иллюзия исчезла, оказалось, что, помимо нее, почти ничего нет.
— Значит, вы уверены, что ваш мир погиб окончательно? — Цыпф почему-то перешел на шепот.
— В том виде, в каком он существовал до катастрофы, безусловно! — твердо ответил Эрикс. — Нет никакого смысла восстанавливать его. Для нормального функционирования любого из этих домов требовалось энергии больше, чем для целого вашего города. Каждая квартира имела свой лифт, свою систему кондиционирования и жизнеобеспечения. На каждом этаже был бассейн с водопадом, летний сад и еще много такого, о чем вы даже представления не имеете. Но, как выяснилось, жить под кустом или в пещере куда безопаснее. Наша земля никогда не дает урожай без удобрений, гербицидов и специальной обработки. Ни одна наша женщина не может зачать естественным путем, а мужчина — совершить половой акт без средств предохранения. Никто из нас не может достойно защитить даже самого себя. Все мы мертвецы, включая тех, кто еще жив. Недаром здесь так отвратительно пахнет…
— Но вы ведь явились сюда с вполне определенной целью. — Цыпф заерзал в своем кресле. — Объединиться с теми, кто еще, возможно, уцелел, и начать все сначала. Или я вас неправильно понял?
— Скорее всего это была ошибка… Минутная слабость… А впрочем, жалеть не о чем… Настоящий нефилим из меня все равно бы не получился… Уж лучше умереть здесь, в родных местах…
— Ну вы скажете тоже! — воскликнул Цыпф. — Да с вашим здоровьем еще сто лет прожить можно, а то и больше.
— Но только не здесь. Вы же сами слышали слова одного из аггелов о том, что нефилимы вне Эдема долго протянуть не могут. Протянуть — это значит прожить, да?
— Ну… наверное. Только стоит ли всякой брехне верить?
— Зачем ему, как вы выразились, брехать? Так это или нет, но говорил он искренне. Да я и сам чувствую, что со мной сейчас не все в порядке.
В коридоре зашаркали чьи-то шаги, и в дверном проеме появился заспанный Оська. Встретив вопрошающий взгляд Цыпфа, он стеснительно потупился.
— Мне бы по-большому…
— Поищи где-нибудь там местечко, — Цыпф кивнул в сторону внутренних помещений. — Нечего на улице зря болтаться.
Оська подчинился без пререканий, и еще долго было слышно, как он натыкается в темноте то на стены, то на какие-то жестяные банки. Эрикс уже спал, болезненно оскалившись. Испарина зловещей росой покрывала его лицо.
Пес закончил копаться в куче мусора, подошел поближе к бару и уставился на Цыпфа голубыми любопытными глазами. Он определенно побывал в зоне, где принципы причинности утратили силу, и там обрел дар речи. Сейчас он собирался поболтать с человеком о преимуществах и недостатках собачьей жизни…
— Что же это ты, сучий потрох, вытворяешь? Ты почему дрыхнешь на стреме? Да тебя в параше утопить мало! — Проклятый пес пребольно дергал Цыпфа за ухо да еще и ругался при этом голосом Зяблика.
Лева принялся отмахиваться обеими руками и сразу проснулся, но еще долго не мог сообразить, где он находится и что от него хотят.
— Ты чего?.. Пусти… — Он попытался вырваться из железных лап Зяблика. — Сколько времени?
— Навалом!
— Тогда будите Толгая… Его очередь…
— Проснулись уже все давно! Только за тобой задержка!
— А что, собственно говоря, случилось? — Лева вспомнил о чувстве собственного достоинства.
— А то случилось, что проспал ты все на свете! Куда эта тварь сопливая подевалась? Где этот Иавал недоделанный?
— Оська? — Что-то такое стало Цыпфу припоминаться. — Где-то здесь, наверное… Не знаю. Он на улицу просился, так я его не пустил.
— А куда пустил?
— Туда… — Лева махнул рукой в сторону коридора, ведущего в глубь здания.
— Одного? — застонал Зяблик.
— Конечно… Как же я мог пост оставить?
— Лучше бы ты нас всех оставил… Еще в Отчине. Только убытки от тебя.
Лишь теперь до Цыпфа дошел весь ужас и позор допущенного промаха. Он вскочил и с грацией пингвина, спасающегося от опасности, устремился в темный коридор, недра которого совсем недавно поглотили проклятого Оську.
— Не рыпайся, мы уже все кругом обшманали. — Зяблик преградил ему дорогу.
— Довыступался, философ доморощенный? Да ты хоть понимаешь, что загубил все дело? Под монастырь нас подвел!
— А может, позвать его? — Растерявшийся Цыпф отмочил очередную глупость. — Вы не пробовали?
— Это мы тебе поручим! — Зяблик глядел на Леву с острой ненавистью.
— Вы, братец мой, прокурора из себя не стройте, — подал голос Смыков. — Вашей вины тут ничуть не меньше. Зачем было аггела с собой тащить? Давно бы истлел в Эдеме и не создавал нам никаких проблем.
— А кто нас через весь Эдем провел? Кто сюда прорваться помог? — Теперь Зяблик накинулся уже на Смыкова, и Цыпф понял, что гроза миновала, хотя гром греметь будет еще долго. — Кто обещал нас на лаборатории аггелов вывести? Я же с него всю дорогу глаз не сводил!
— Верно, — согласился Смыков. — Не сводили. Пока ясны были ваши глаза. А как залили их, так сразу и свели неизвестно куда.
— Так… — Наступила зловещая тишина. — Значит, я во всем виноват, да?
— Я этого не говорил. — Смыков помахал пальцем перед своим слегка укоротившимся носом. — Вы же не в единственном лице были. Виноват в первую очередь коллектив, но мера вины у всех разная. Максимальную можете поделить с товарищем Цыпфом пополам.
Зяблик помолчал, остывая, а потом вполне обыденным тоном сказал:
— За что я тебя, Смыков, люблю, так это за справедливость. Она у тебя еще совдеповской закваски. Что бы ни случилось, обязательно виноват коллектив, но отвечает кто-то один и всегда не тот, кому следует.
— Возможно, вы зря так беспокоитесь, — произнес бледный, не похожий сам на себя Эрикс. — В этом здании множество помещений самого разного назначения. Здесь даже бывалому человеку легко заблудиться. Кроме того, ваш пленник мог по ошибке спуститься в подвальный этаж, составляющий единое целое с общей коммуникационной системой города. А оттуда рукой подать до ближайшего энергоблока. Сами понимаете, что творится сейчас в подобных местах. Если юноша попал туда, его участи можно только посочувствовать.
— Нет, такие, как он, нигде не пропадут, — покачал головой Зяблик. — Этот гаденыш из любого положения вывернется. Чует мое сердце, мы с ним еще встретимся.
— Шом! — крикнул Толгай, наблюдавший за улицей. — Тревога! Дошманы… Много… Сюда идут…
— Ну вот и дождались, — печально вздохнула Верка. — Хорошо хоть успела всякой вкуснятины попробовать. Теперь и умирать не так тоскливо…
Слева и справа, на расстоянии, превышающем дальность прицельного выстрела, улица уже была перегорожена цепями аггелов. Штурмовая группа, заранее не рассчитывая на внезапность, сооружала для себя передвижное прикрытие — молодцы в черных колпаках навешивали на какую-то колесную раму металлические листы, до этого украшавшие фасад расположенного поблизости здания.
— Запасный выход здесь есть? — спросил Смыков у Эрикса.
Тот только пожал плечами, но за него ответил Зяблик:
— Ясно, что есть! Как бы иначе этот сучонок отсюда свалил… В такой громадине выходов десять может быть, если не больше. Да только ты на них особо не рассчитывай. Аггелы выходы в первую очередь перекрыли.
Как бы в подтверждение этих слов наверху остервенело загалдели вороны и вниз посыпался всякий мусор.
— На карниз залезли… — прокомментировала Верка. Аггелы между тем закончили сооружение осадной машины и медленно покатили ее к тому месту, где находилась ватага. По подсчетам Смыкова, за металлическим щитом укрывалось не менее двадцати бойцов. Еще примерно столько же двигалось толпой на некотором удалении, готовые прийти на помощь товарищам в тот момент, когда те ворвутся в глубь здания и обстрел улицы станет невозможен. Аггелы учли все свои прошлые ошибки и не хотели больше нести бессмысленные потери.
— Давайте хоть переговоры организуем, — предложил Смыков. — Время как-то потянем.
— Валяй, — разрешил Зяблик.
— Эй, граждане рогатые! — Смыков сложил ладони рупором. — Предлагаю заключить перемирие! Для обсуждения его условий прошу выслать вашего представителя!
Щит продолжал медленно ползти по улице, и никто из скрывавшихся за ним аггелов не отозвался. Зяблик, эксперимента ради, выстрелил в щит, и все получили возможность услышать характерный звук рикошетящей пули.
— Нет, кореша, против такой шоблы нам не устоять, — сказал Зяблик. — Надо смотреть фактам в харю… Ну уложим мы их с десяток, а что дальше? На этом наши подвиги и закончатся.
— Что вы, братец мой, предлагаете?
— Смываться.
— Куда? Обложили нас со всех сторон! На прорыв надо идти! — выдвинул свое контрпредложение Смыков.
— С бабами? С Левкой? Окстись, дорогой. Нам и полсотни шагов сделать не дадут… А куда отступать, уже известно. Верно я говорю, шеф? — Зяблик подмигнул Эриксу.
— Я понял, куда вы клоните, — кивнул нефилим. — Мысль о том, что от аггелов можно уйти подземными коммуникациями, напрашивается сама собой. Поверьте, если бы такое мероприятие было легко осуществимо, я бы давно предложил его сам.
— Неужто там страх такой? — спросил Зяблик с сомнением.
— Я вновь позволю себе воспользоваться сравнением. Примеры эмоционального характера зачастую бывают более убедительными. Представим, что мы сейчас олени, спасающиеся от волков. Тогда подземелье, в которое вы предлагаете спуститься, можно уподобить пасти гигантского дракона. Да, возможно, он сыт в этот момент. Возможно, крепко спит. Но кто это может знать заранее?
— А волки полезут вслед за оленями в эту пасть?
— Трудно сказать. Слишком много своих они уже потеряли там. Но азарт охоты зачастую побеждает осторожность.
— Но все же шанс у нас есть?
— Вопрос весьма любопытный. В зоне нарушения принципа причинности в один из моментов у вас нет никаких шансов на спасение, а в следующий — их даже не сто, а двести. На этот мир не распространяются привычные законы бытия. Тут даже смерть еще не означает настоящую смерть, а внешние признаки жизни не есть ее доказательство.
— Мудрено, шеф, выражаешься. — Зяблик еще раз, уже с более близкого расстояния выстрелил в щит, и пуля, лязгнув по металлу, ушла куда-то в сторону.
— То шансы есть, то шансов нет… Ну а здесь нам что светит?
— Абсолютно ничего.
— Догадливый! Мы тебя с собой, конечно, не зовем. Сам своей судьбой распоряжайся. Но в подвал ты нас проводи. Сделаешь?
— Я предпочитаю погибнуть от какой-нибудь экзотической причины, чем от грязных рук этих выродков. — Впервые в речи Эрикса проскользнуло грубое слово.
— Поэтому я, естественно, остаюсь с вами.
Щит был в полусотне метров от бара, и сюда доносилась даже перебранка аггелов, толкающих его. Кучи мусора очень мешали им, и, чтобы преодолеть очередную, приходилось раз за разом идти на таран. Обе цепи уже стронулись с места и медленно стягивали кольцо окружения. В окне расположенного напротив дома мелькнула голова в черном колпаке, и Зяблик не удержался — выстрелил.
— Отходим без паники, в полном порядке, — распорядился для проформы Смыков. — Направляющим товарищ Эрикс. Замыкающим я.
Сначала пришлось идти совершенно темными коридорами, в которых успели пошуровать воинственные дикари из Гиблой Дыры, а потом, возможно, и аггелы. Под ноги все время что-то попадало — то исковерканное железо, о которое можно было запросто исцарапаться, то — еще хуже — нечто мягкое, осклизлое, вонючее, прилипающее к подошвам.
— А все же неплохо, когда всякая гадость быстренько истлевает, — сказала Верка, вляпавшаяся в одну такую кучу, вдобавок еще и противно захрустевшую под ее ногой. — Я бы сейчас, кажется, с удовольствием в Эдем вернулась.
За очередным поворотом сразу посветлело — здесь под самым потолком тянулся ряд квадратных отдушин, ныне облюбованных воронами для своего постоялого двора. Затем ватага пересекла зал, вполне бы сгодившийся для коронации какого-нибудь не слишком привередливого монарха. Все здесь, от капителей колонн до плит пола, было как будто бы из мрамора — красного, черного, белого, — но при ударе этот материал отзывался глухим деревянным звуком. Тут тоже имела место иллюзия, хотя и куда более долговечная, чем свет или силовые поля. В сравнительно сохранном состоянии находились только потолок, стены и колонны. Все остальное, включая роскошную мебель, громадные напольные вазы, гобелены и даже оконные рамы, было превращено в черепки, щепу и ветошь.
— Странно как-то. — Верка оглянулась по сторонам. — Я попала в город будущего, а впечатление, такое, что это средневековье. На Эрмитаж похоже…
— Одно время была такая мода в архитектуре, — сказал Эрикс. — Подражание барокко… Впрочем, в этом городе вы можете найти все что угодно. И классику, и готику, и конструктивизм. Стиль зависел только от вкусов заказчика.
— И вообще как-то архаично… Даже телевизоров нет.
— Телевизоров? — переспросил Эрикс.
— Ага. Коробки такие, — Верка изобразила руками квадрат. — Изображения передавали. Кино, музыка, новости разные…
— Я понял. Здесь экраном могла служить любая стена, любая более или менее ровная поверхность, даже оконная штора.
Опять потянулись коридоры, такие широкие, что по ним могли ездить грузовые машины. Вскоре резные панели, роскошные светильники и мозаика на полу исчезли. Их сменил уже привычный по зданию казино голый грубый бетон. Налево и направо уходили узкие туннели, отмеченные римскими цифрами.
Наконец Эрикя остановился у люка столь широкого, что сквозь него можно было спустить вниз даже бегемота. Огромная крышка, сорванная с хитроумных запоров, лежала в стороне. Сквозняк шевелил торчащие из нее пучки тончайших проводов.
— Узнаете? — Зяблик кивнул на крышку. — Как кому, а мне эта штука по гроб жизни запомнится.
— Точно! — ахнула Верка. — Сковорода аггельская!
— Теперь понятно, откуда у аггелов снабжение идет. — Зяблик сплюнул. — А мы-то головы ломали…
— Ну вот и пришли, — сказал Эрикс, заглянув вниз. — Сейчас там светло. Хорошая примета.
— А там и темно бывает? — испугалась Лилечка.
— Там по-всякому бывает, — загадочно ответил Эрикс.
— Присядем для порядка, — предложила Верка. — Как-никак, к черту на рога отправляемся.
— А вдруг аггелы не пойдут сюда вслед за нами… Побоятся. — В голосе Лилечки прозвучала надежда. (Она уже успела заглянуть в люк и сразу потеряла охоту лезть туда. В подземелье действительно было светло, вот только свет какой-то неживой, зловещий, похожий на отблеск сотен погребальных свечей.)
— Хорошо бы… — сказал уже немного оправившийся после своего промаха Цыпф. — Да только в мире с нормальными причинно-следственными связями, в котором мы еще пока находимся, так не бывает… Все плохое, что может случиться, обязательно случится. Сама послушай…
Действительно, в той части здания, которую они уже покинули, раздавался топот многих ног и шум повального обыска. Чтобы опять не опростоволоситься, аггелы проверяли каждую щель, каждый закуток, каждое место, в котором мог затаиться человек. Подозрительные звуки слышались и впереди, и даже наверху. Ничем не примечательное здание осматривалось не менее тщательно, чем готовящийся к запуску космический корабль.
— Ну ладно! — Зяблик хлопнул себя по коленям. — Сколько здесь ни сиди, а ничего толкового не высидишь. Надо вниз хилять.
Чуть пониже люка висел лифт — металлическая площадка с поручнями. С него можно было или просто спрыгнуть на пол подземелья, как это сделали Зяблик и Толгай, или спуститься по решетчатому ограждению лифтовой шахты, как поступили остальные.
Ватага оказалась в просторном помещении, являвшемся как бы перекрестком двух уходящих в разные стороны туннелей. По стенам тянулись трубы всех цветов и диаметров. В некоторых что-то журчало. Если бы не толстый слой пыли, покрывавший все вокруг, подземелье можно было бы считать образцом чистоты. Да и пыль при ближайшем рассмотрении оказалась какой-то странной. На ощупь она была колючей, как металлические опилки, а под ногами скрипела, как свежевыпавший снег.
Воздух здесь, правда, был затхлый, как в сундуке, где долгие годы хранились бабушкины тряпки. Ни одна из ламп, в шахматном порядке подвешенных под потолком, не горела, и оставалось загадкой, откуда в подземелье поступает свет. Скоро, впрочем, стало ясно, что это холодное, синеватое сияние наполняет собой все вокруг, как облака фосфоресцирующих микроорганизмов наполняют океанские глубины. Сияние то тускнело, то вновь разгоралось до максимума.
— Это скорее всего не опасно, — сказал Эрикс, заметив тревогу на лицах своих спутников. — Когда вы выйдете отсюда… — он слегка поперхнулся, — то сами будете светиться еще несколько часов.
— Куда пойдем? — Смыков по-хозяйски огляделся.
— Не имеет значения, — ответил Эрикс. — Главное, уйти подальше от этого места. Но лучше, если мы пойдем в сторону энергоблока. Уж туда-то аггелы точно не сунутся. А потом, если все сложится удачно, повернем на север или на запад.
— Инструктаж какой-нибудь будет? Что здесь можно, чего нельзя…
— Нельзя поддаваться панике. Что бы ни случилось, лучше оставаться на месте, чем бежать сломя голову… Ну а там как повезет.
Кристаллическая пыль заскрипела под ботинками, и ватага, вытянувшись цепочкой, двинулась вслед за Эриксом в тот туннель, на стенах которого все надписи и указатели имели малиновый цвет. Очень скоро выяснилось, что здесь не так уж и пусто, как это показалось вначале. На полу просматривались многочисленные, хотя и малоразборчивые следы, по трубам шныряли крысы, в тупиках и нишах раздавались подозрительные шорохи.
Кто-то тронул Цыпфа за плечо, и он от неожиданности едва не подпрыгнул (что ни говори, а ожидание неведомой опасности действует на нервы не самым благоприятным образом).
— Тс-с! — У шагавшего в арьергарде Смыкова лицо было похоже на перекосившуюся погребальную маску. Указательный палец левой руки он прижимал к губам, а большим пальцем правой тыкал себе за спину.
Цыпф глянул туда сначала раз, потом другой, а по-настоящему ужаснулся лишь на третий. Вслед за Смы-ковым шагали цепочкой еще семь человек — Эрикс, Толгай, Зяблик, Верка, Лилечка, еще один Цыпф и еще один Смыков, причем двое последних с растерянным видом оглядывались, точно так же, как это делали их реальные двойники.
Помня советы Эрикса, Цыпф уставился в спину настоящей Лилечки и больше не реагировал на тычки Смыкова. Чтобы пересилить зудящий, как язва, страх, он заставил себя заняться наглядной оценкой статей своей подруги. За последнее время Лилечка заметно постройнела, даже талию приобрела, но ее зад, туго обтянутый камуфляжной тканью трофейных брюк, выглядел по-прежнему пикантно.
Лева так увлекся этим успокаивающим душу (но отнюдь не плоть) занятием, что не расслышал команду остановиться и на манер петуха налетел сзади на Лилечку, за что получил от нее легкий удар локтем.
Ватага остановилась у места пересечения с другим туннелем, имевшим черные указатели, и Эрикс, предостерегающе раскинув руки, смотрел куда-то влево. Тут Цыпф ощутил, что пол подземелья едва заметно вздрагивает, словно по нему ритмично колотят чугунной бабой.
Из поперечного туннеля выплыло мерцающее облако, заметно более яркое, чем наполнявший подземелье свет, и медленно проследовало мимо Эрикса. За ним столь же медленно протопали босые человеческие ноги, видные от подошв до середины голени. Картина была предельно реальная — на слегка оттопыренном кверху большом пальце желтел тронутый грибком ноготь, пятки сплошь покрывали ороговевшие мозоли, а кожу — рыжий густой волос. Только ноготь этот был величиной с добрую сковороду, пятка могла раздавить бычка, а каждый волосок толщиной превосходил спичку.
Едва только великанские ноги скрылись, Эрикс знаком показал, что путь свободен.
Пересекая поперечный туннель, Цыпф во все глаза таращился на его своды, но ничего из ряда вон выходящего не заметил — та же пыль, те же погасшие светильники, что и везде. Оставалось предположить, что эти ноги были всего лишь миражом. Но откуда тогда взялись на полу огромные косолапые следы? И что это были за толчки, до сих пор продолжавшие сотрясать подземелье?
Цыпф украдкой оглянулся назад и с облегчением увидел, что процессия двойников исчезла. Всех их заменила одна-единственная птица, видом похожая на цыпленка, но размерами приближающаяся к страусу. Время от времени она пыталась клюнуть Смыкова в затылок, и тот ожесточенно отмахивался.
Встретившись взглядом с Цыпфом, игривый цыпленок сразу смешался, повернул в сторону и нырнул в стену, будто та состояла не из бетона, а из дыма или водяных струй.
Следующую остановку Эрикс сделал возле высохшего трупа, сидевшего в позе попрошайки у стены. Он весь зарос пылью, пострадал от крыс, и сейчас невозможно было разобрать, кем он был при жизни — аггелом, будетлянином, гиблодырцем или еще кем-то. Когда ватага снова тронулась в путь, Цыпфу померещилось, что мертвец, у которого на лице сохранились только зубы, носовые хрящи да серые лохмотья кожи, пытается ухватить его за штанину.
Поклявшись самому себе не смотреть больше ни по сторонам, ни назад, Цыпф вновь возвратился к созерцанию мерно подрагивающих при каждом шаге Лилечкиных ягодиц.
От этого увлекательного зрелища его отвлек выстрел, в ограниченном пространстве туннеля треснувший особенно гулко. Помимо воли Цыпф поднял глаза и увидел, что дорогу им загораживает внушительных размеров живое существо, не имеющее явных признаков глаз, рта и конечностей. Нежный желтоватый пушок, сплошь покрывавший шкуру, делал его похожим на гигантский персик. Пистолетные пули ничуть не тревожили этого флегматика, да и неудивительно: для него, наверно, они были тем же самым, чем для слона является утиная дробь. Выглядело существо совершенно безобидно, к тому же слева от него оставался проход, по которому вполне мог протиснуться человек, но Эрикс почему-то не спешил воспользоваться этой возможностью.
Продолжая коситься на диковинное создание, он присел на корточки и отер пот с лица, уже даже не бледного, а синеватого. Всем было понятно, что их проводник занемог, но справиться о его здоровье или хотя бы посочувствовать ни у кого почему-то язык не поворачивался.
— Надо доставить сюда того мертвеца. — Эту недлинную фразу Эрикс выдавил с явным усилием, в несколько приемов.
— Товарищи Цыпф и Толгай! — по-фельдфебельски выпучился Смыков. — Выполняйте приказание!
Лева на этот демарш отозвался так:
— Я, в принципе, конечно, не против. Но тогда у вас будет сразу два трупа. Тот, о котором идет речь, и мой собственный.
— В таком случае отставить! — Здравый смысл редко покидал Смыкова, и он сразу понял, что Лева не лукавит. — Я сам схожу.
Отсутствовали они куда дольше, чем ожидалось, и вернулись обескураженные, что было заметно даже по физиономии Толгая, обычно невозмутимой, как лик бога войны Сульдэ.
— Нет его там! — Для большей убедительности Смыков развел руками. — Мы аж до того самого места дошли, где волосатые ноги топали.
— Что же, он ушел, по-твоему? — недоверчиво переспросил Зяблик.
— Вы у меня спрашиваете? — внезапно рассвирепел Смыков. — Может, и ушел! Если не верите, сходите и посмотрите! На месте-то стоя, хорошо трепаться!.. Кстати, там какой-то гомон в туннеле слышен. Чует моя душа, что это аггелы по нашему следу идут.
— Самоубийцы они, что ли, — хмыкнул Зяблик.
— Вернемся немного назад и поищем обходной путь, — сказал Эрикс, с натугой вставая.
— А если рискнуть? Сами взгляните, какая мирная тварь. Лежит себе и еле дышит. — Похоже, что возвращения назад Смыков боялся даже больше, чем пути в неизвестность.
— Здесь рисковать нельзя, — только и ответил Эрикс.
Зато Зяблик не пожалел для друга теплых слов:
— Сам подумай, чудо гороховое, ради какой нужды эта гадина тут развалилась. Жрать-то ей что-то надо! А травка, сам видишь, вокруг не произрастает. Другими продуктами она питается. Такими лопухами, как ты!
Несмотря на горячие, но малоаргументированные возражения Смыкова, ватага двинулась назад. Новый сюрприз настиг их уже через сотню шагов. Лилечка вдруг завизжала, выставив перед собой руки с растопыренными пальцами.
— Ой, мамочки! — причитала она. — Смотрите, смотрите! Почернели!
Ее нежная кожа и в самом деле темнела с катастрофической быстротой. Сначала она приобрела цвет густого загара, потом — кофе с молоком и наконец сапожной ваксы. Нельзя сказать, что Лилечка от этого подурнела, но, во всяком случае, вид приобрела диковатый.
Впрочем, ее участь разделили и все остальные члены ватаги, однако неудовольствие высказал один только Смыков, имевший опыт общения с негроидной расой и по этой причине тайно придерживающийся расистских убеждений.
— А вот это уже форменное издевательство! — заявил он неизвестно в чей адрес. — Как я в таком виде домой вернусь? Меня там дядей Томом будут дразнить!
— Лучше быть черным, но живым, чем белым и мертвым! — с пафосом произнесла Верка, которой благоприобретенная смуглявость очень шла, особенно в сочетании со светлыми волосами.
Лилечку удалось утихомирить только угрозой бросить ее в подземелье одну. Восстановив порядок, снова тронулись в путь, но драгоценное время было уже потеряно. Впереди действительно слышались топот аггелов и голоса их командиров.
Поперечный туннель, к которому так стремились беглецы, уже раскрыл перед ними свой зев, расписанный зелеными надписями (все буквы узнавались, все слова читались, но смысл — даже примерный — безнадежно ускользал), когда из-за поворота вывернули трое аггелов, скорее всего передовой дозор.
Обоюдную растерянность первыми преодолели наши герои, да и неудивительно — аггелы никак не ожидали, что столкнутся с ними нос к носу, а кроме того, черные рожи могли ввести в заблуждение кого угодно.
На какое-то время оба отряда смешались. Так уж получилось, что первыми в схватку пришлось вступить не заправским бойцам вроде Зяблика или Толгая, а тем, кто изначально считался в ватаге обузой.
Лилечка, буквально налетев на мрачного типа, у которого из ноздрей так густо торчал волос, что казалось, будто бы он носит усы щеточкой, немедленно вцепилась зубами в его руку, сжимавшую пистолет, на ее счастье, не поставленный на боевой взвод. Аггел, конечно, мог одним ударом свободной руки отшвырнуть девушку куда подальше, но ему было не до этого — напавшая с другой стороны Верка, используя с детства любимый прием, пустила в ход свои успевшие изрядно отрасти ногти.
В дозор аггелы скорее всего выслали тех, кто не представлял для них особой ценности, иначе чем еще можно было объяснить тот факт, что перед Левой Цыпфом оказался мозглявый паренек, косой, как Соловей-разбойник, который, как известно, одним глазом смотрел на Киев, а другим на Чернигов. Это была битва равных по силе противников. И тот и другой напрочь забыли про огнестрельное оружие. Лева нанес удар первым и промахнулся. Аггел ответил тем же: тоже ударил и тоже не попал. Затем они обнялись, как друзья, много лет не видевшие друг друга, и рухнули на пол.
Пока третий аггел решал, кому из собратьев прийти на помощь в первую очередь, перед ним возникло жуткое зрелище — негр с рожей татарина, да еще и вежливо разговаривающий по-русски.
— Получите, пжалста! — сказал Толгай, замахиваясь саблей, и это были последние слова, которые услышал в своей жизни нерасторопный аггел.
Он оказался единственной жертвой стычки. Двум остальным Зяблик и Смыков уже заламывали руки, причем одинаковыми милицейскими приемчиками. Цыпф, чудом не лишившийся в потасовке единственных очков, успокаивал Лилечку, до крови прокусившую запястье аггела и по этой причине боявшуюся отравления. Верка со всех сторон рассматривала свою правую руку и ругалась, используя полузабытые медицинские термины:
— Ах ты грыжа паховая! Ах ты шишка геморройная! Я из-за тебя самый любимый ноготок сломала!
Дело закончилось без выстрелов, и это давало возможность на некоторое время оттянуть встречу с преследователями, пока еще ничего не заподозрившими. Оставалось неясным, как поступить с двумя пленниками и одним трупом, оставлять который на месте было никак нельзя.
Тут Смыкову, давно раскусившему планы Эрикса, касавшиеся загадочно исчезнувшего мертвеца, пришла в голову одна идея, если и не гениальная, то по крайней мере оригинальная. Однако суть ее он до поры до времени решил не раскрывать.
— Все, возвращаемся! — заторопился Смыков. — Покойника берем с собой. Если та тварь вздумает кусаться, будет чем ей пасть заткнуть. А ну, граждане рогатые, хватайте своего товарища! Только аккуратней, чтобы крови не осталось.
Гоня перед собой пленных, тащивших труп, ватага вновь достигла того места, где полеживало загадочное шарообразное существо. За время их отсутствия ничего здесь не изменилось.
Не давая никому опомниться, Смыков со словами:
«Свободен, братец!» — толкнул вперед косоглазого аггела. Тот, как дурачок, поверил ему и ринулся в узкий проход между стеной туннеля и округлым бархатистым боком неведомой твари.
Как только человек оказался в непосредственной близости от этого гигантского колобка, плоть чудовища резко дрогнула и развалилась на две половины, словно вспоротая взмахом бритвы соответствующего размера. Из образовавшейся горизонтальной щели выпал ком чего-то безобразного, похожего на тонкие и бледные спутанные кишки. Ком этот стал на глазах разбухать, а когда размером почти сравнялся с существом, извергнувшим его, — стремительно развернулся сотней длинных щупалец-шпаг.
Аггел, насквозь пронзенный сразу во многих местах, совершил замысловатый кульбит и исчез в чреве чудовища. Вслед за ним втянулись внутрь и оставшиеся не у дел щупальца. В наступившей тишине хорошо было слышно легкое похрустывание, похожее на то, что издает ручная мельница-крупорушка, в которую засыпали очередную порцию зерна.
— Теперь вы, гражданин хороший. — Смыков ткнул второго аггела пистолетом между лопаток. — Сами понимаете, что этой твари без разницы, каким вас жрать, живым или мертвым. Не лучше ли проверить свою удачу? А вдруг чудище уже, так сказать, удовлетворено.
— Смыков, что ты делаешь! — ахнула Верка.
— Может, вы сами, мадам, желаете? — Смыков скосил на нее один глаз. — Тогда прошу!
Видя, что насмерть перепуганный аггел все еще колеблется, он пинком ноги придал ему необходимое начальное ускорение. Предыдущая душераздирающая сцена повторилась в тех же деталях и в той же последовательности. Разница была лишь в том, что новая жертва нырнула в чрево чудовища не головой, а ногами вперед и до самого последнего момента продолжала вопить и тянуться руками к своим врагам. Когда хруст перемалываемых костей затих, Зяблик (единственный, кто в этот момент не лишился дара речи) рассудительно сказал:
— Вот будет фокус, если эта стерва и третьим не подавится… Давай, Смыков… Уж если ты что-то начал, надо доводить до конца.
Вдвоем они раскачали труп зарубленного аггела и зашвырнули его прямо под бок безглазого людоеда. Громадный шар снова развалился на два полушария, снова наружу полезла перепутанная масса хватательных органов, но происходило все это гораздо медленнее, чем в прошлый раз, да и до трапезы дело не дошло — несколько раз вяло пихнув труп, щупальца втянулись обратно.
— Повезло мужику, — констатировал Зяблик. — Авось потом и оживет. Там, где причины и следствия меняются местами, и не такое может случиться.
— Есть основания полагать, что путь свободен, — тяжело дыша, произнес Эрикс. — Советую вам поторопиться.
— А вдруг это такой гурман, что дохлятине предпочитает свеженину? — засомневалась Верка.
— Ну что вы в самом деле! — не выдержал Смыков. — Ждете, пока эта тварь опять проголодается?
С криком «За мной!» он бросился вперед. Все ахнули от неожиданности, но Смыков беспрепятственно проскочил мимо подземного хищника и уже махал руками с той стороны.
Ватага толпой помчалась вслед за ним, а Лилечка даже задела рукой мягкий и теплый бок чудовища. Буквально через сотню шагов туннель раздваивался, и они повернули налево, хотя все стрелки на стенах указывали в противоположную сторону. Воздух вокруг светился и струился, как волшебная река. Стены, словно живые, сближались и вновь расходились. Иногда они становились прозрачными, и подземелье превращалось то в дремучий лес, то в подобие морского дна.
— Мы совсем рядом с энергоблоком. — Хотя Эрикс напрягал голосовые связки, смысл его слов угадывался скорее по движению губ. — Пора сворачивать в сторону… Осталось продержаться совсем немного, и основная опасность минует…
— Моргалы протри! — зарычал в ответ Зяблик. — Куда ты теперь повернешь? Кранты нам! Гроб с музыкой.
Что-то желтое, полупрозрачное, как вечерние сумерки, и в то же время ощутимо-материальное, медленно накатывалось справа, словно сахар, растворяя в себе бетон, стальную арматуру и сеть трубопроводов. Вместо потолка над головой теперь было что-то вроде мутной воды, странным образом не проливающейся вниз. Неясные изломанные силуэты скользили там. Стало трудно дышать. Неизвестно откуда посыпались мохнатые двуногие твари величиной с кошку. Тревожно попискивая, они расползались во все стороны, путаясь в ногах и, как репей, цепляясь за брюки.
Место, где сейчас находилась ватага, уже нельзя было назвать туннелем. Его вообще нельзя было никак назвать. Все превратилось в тягучий сироп, и люди барахтались в нем, как мухи. Каждое движение давалось с величайшим напряжением. Все звуки, за исключением назойливого монотонного гудения, пропали. Исчезли также понятия верха и низа. И все же в этой странной среде ощущалось какое-то неуклонное круговое движение, засасывающее внутрь, как водоворот. Люди могли видеть друг друга и неясные очертания скользящих мимо предметов — не то лишенных листвы древесных стволов, не то изуродованных трупов каких-то глубоководных существ.
Ни с того ни с сего Лева Цыпф вдруг вспомнил, что нечто подобное он уже испытал однажды, когда, завершив совместно с Зябликом и Смыковым распитие знаменитого «влазного», вдруг ощутил себя бестелесной частицей мироздания, плывущей по волнам эфира неизвестно куда и зачем.
Потом Цыпфу показалось, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Он даже мог поклясться, что видит сквозь толщу желтого сиропа две пары человеческих глаз. Глаза были, безусловно, детские, наивные и любопытные одновременно — но такие огромные, что сам он отражался в них темной точкой, крохотной, как маковое зернышко. Еще в этих глазах отражались небо и город, видный издалека и как бы под косым углом.
А затем словно какая плотина прорвалась — по барабанным перепонкам ударила лавина звуков, засвистел обжигающе-холодный ветер, все вокруг задвигалось и замелькало в бешеном темпе. Желтый сироп стремительно истаял, и сквозь него вновь проступили бетонные стены, все указатели на которых немо взывали к человеческому благоразумию: «Запрещено! Опасно для жизни! В этом направлении двигаться нельзя! Осторожно!»
Потом они бежали куда-то. Мальчик лет восьми тащил Эрикса за руку, а удивительно похожая на него девочка того же возраста — видимо, двойняшка — подгоняла отставших. То, что творилось сейчас в туннеле, можно было назвать бедламом в преисподней. Обгоняя друг друга, бежали люди, бежали призраки, бежали мертвецы (их поникшие головы при этом жутко мотались из стороны в сторону), бежали звери, почти ничем не отличимые от привычных собак, кабанов и дикобразов, и бежали звери, на земле никогда не жившие. Бежали даже те, у кого не было ног. В толпе мелькнули плутоватая рожа предателя Оськи и косоглазая физиономия аггела, которого совсем недавно сожрал подземный людоед.
Как только туннель разветвлялся или пересекался с другим туннелем, они поворачивали — и каждый раз налево. Горбатый циклоп необыкновенно мерзкого вида увязался было за ними, но девочка, швырнув горсть пыли, легко отогнала его прочь. Скоро Цыпф заметил, что бетонный потолок больше не нависает над их головами наподобие сводов могильного склепа. Привычное серое небо в оправе из прихотливых узоров небесного невода как-то незаметно сменило его. Исчезло и сияние, сопровождавшее их на протяжении всего пути по подземелью. Лишь волосы и кончики пальцев людей продолжали светиться, как рангоуты парусных кораблей, объятых огнями святого Эльма.
Никто из членов ватаги заметно не пострадал, лишь у Цыпфа наливалась на лбу фиолетовая шишка, заработанная еще в схватке с дозором аггелов, да прихрамывал Зяблик, сбивший чересчур тесными башмаками свои многострадальные ноги. Даже их кожа вновь приобрела свой первоначальный цвет, о чем очень сожалела Верка, мечтавшая заделаться мулаткой.
Нагромождение высотных зданий осталось где-то в стороне, а они оказались на ровной, одетой в бетон площадке, похожей на аэродром.
Близнецы куда-то пропали, и никто не мог припомнить, где и когда это случилось. Предположение, что они тоже могли быть призраками, сразу отпало — те, кому довелось заглянуть в глаза детей, поверить в такое не хотели.
Глубокие трещины, пересекавшие площадку во всех направлениях, позволяли убедиться, что под бетонным панцирем скрывается еще один город со своими площадями, улицами, магазинами, ресторанами и танцевальными залами.
Выбравшись на открытое место, соответствовавшее, видимо, его представлениям о безопасности, Эрикс сразу прилег прямо на голый бетон. Дышал нефилим тяжело, со свистом. Верка дотронулась рукой до его лба и участливо спросила:
— Что с тобой, миленький? Захворал?
— Бдолаха бы ему дать, — вздохнул Зяблик. — Да где его тут отыщешь…
— Вряд ли существует лекарство, способное помочь мне, — слабо улыбнулся Эрикс. — Разве рыбке, выброшенной на берег, поможет лекарство? Такие, как я, могут существовать только в Эдеме.
— Так, может, вам туда вернуться? — не очень уверенно предложил Цыпф.
— Поздно. — Эрикс покачал головой. — Но именно этого я и хотел в глубине души… Увидеть родину и умереть… Так спокойно, как сейчас, мне давно не было…
— Ага, — буркнул Зяблик. — Родная деревенька, говорят, краше Москвы… Шеф, вопрос задать можно?
— Пожалуйста.
— Про то, что в подземелье случилось, даже вспоминать не хочется. Кошмар — он и есть кошмар. Плюнуть и забыть, если получится… Но ты мне объясни, откуда там эти пацанята взялись. Если бы не они, нам бы сейчас тут не сидеть.
— Это новое поколение… Наши наследники… Они родились здесь…
Теперь пришла очередь удивляться Верке.
— Как же они могли здесь родиться? Сам же говорил, что ваши женщины способны зачать только искусственным путем.
— Мы с вами постоянно путаем термины… Ни одна женщина по своей воле никогда бы не решилась зачать другим путем, кроме искусственного… Но ведь варвары, захватившие нашу страну, их мнением не интересовались. Еще хорошо, если насилие не сопровождалось вспарыванием животов и отрезанием грудей… Дети, родившиеся после катастрофы, были зачаты не в любви, а в бесчестье. Своих матерей они потеряли в раннем детстве, а отцов никогда не знали.
— Но в общем-то эти детки не похожи на беззащитных сироток, — заметила Лилечка.
— Они полукровки с совершенно непредсказуемой наследственностью. Влияние сил Кирквуда они ощутили еще в чреве матери. Детство их прошло в подземельях, которые вы имели счастье совсем недавно посетить. Ни один человек на свете не решился бы притронуться к тому, что заменяло этим детям игрушки. Уже один тот факт, что они сумели выжить здесь, говорит о многом… Несомненно, они что-то утратили, но приобрели гораздо больше. Кроме того, обратите внимание на их внешний облик. По виду это сущие дети, хотя им давно пора вступить в пору возмужания. Чем выше уровень развития живых существ, тем дольше длится у них детский возраст.
— Аггелы им по крайней мере не страшны? — уточнил Цыпф.
— Пока их пути практически не пересекались… А что будет потом, покажет время. Захотят ли они стать хозяевами того, что осталось? Или создадут свою собственную цивилизацию? Трудно сказать… Но эта страна еще испытает не одно потрясение.
— Дай Бог, чтобы эти потрясения не коснулись других стран, — вздохнул Цыпф.
— А теперь поговорим о вещах, непосредственно касающихся нас, — после краткого молчания продолжил Эрикс. — Хочу сразу предупредить, что разговор будет серьезный. А поскольку у меня нет ни сил, ни желания спорить со всеми вами сразу, попрошу выбрать одного-единственного представителя, способного выражать общее мнение.
— Думаешь, это так просто, миленький? — Верка на правах платонической подруги не стеснялась постоянно перечить ему. — У одного кругозор узкий, у другого чересчур широкий. Третий молчун. Четвертый болтун… Вот и получается, что все мы друг друга дополняем.
— Нет ничего плохого в том, что все вы составляете как бы коллективный разум. Но лучше, если у него будет только один язык. А как будет формироваться высказываемое им мнение, меня не волнует.
— Верка, попробуй сама… — предложил Зяблик. — Только не зарывайся. А если что, мы тебя поправим…
— Ладно, — сразу согласилась Верка. — Поправлять вы меня поправляйте, но только, чур, не языком, а мимикой… Подмигивайте, головой кивайте… Ну и так далее… Говори, миленький, что ты хотел…
— Было бы ошибкой полагать, что аггелы оставили нас в покое, — медленно заговорил Эрикс. — Охота будет продолжаться, и боюсь, что рано или поздно нам грозит новое столкновение с ними…
— Может, ты и прав, — кивнула Верка.
— Пробираться к границе подземельями вы вряд ли согласитесь…
— Боже упаси!
— С другой стороны, было бы весьма неплохо, если бы вы нанесли аггелам серьезное поражение.
— Оно-то, конечно, неплохо, но силенок у нас маловато, сам знаешь.
— Не забывайте и про то, что вы хотели запастись здесь бдолахом. А его без боя не возьмешь.
— Миленький, ты прямо скажи, куда клонишь. Хочешь, чтобы мы напали на аггелов?
— Да… Даже если вы не сможете очистить от них мою родину, то хорошенько припугнете… Не хочу, чтобы они оскверняли этот мир… Конечно, я понимаю, что исходя из ваших нынешних возможностей эта акция выглядит самоубийственной. Но расстановка сил сразу изменится, если вы будете располагать оружием, по мощи превосходящим все то, что имели люди в ваше время.
Зяблик едва не ляпнул что-то, но Верка вовремя показала ему кулак.
— Миленький, ты про оружие подробнее расскажи, — попросила она.
— Оно проецирует на цель кирквудовское пространство, в котором, как вам это уже известно, нарушен принцип причинности.
— И обыкновенный аггел превратится в Змея Горыныча?
— Маловероятно… В девяноста девяти случаях из ста действие будет иметь негативный характер.
Зяблик скорчил жуткую рожу и широко раскинул руки, словно пытаясь обнять что-то необъятное. Покосившись на него, Верка спросила:
— А как насчет мощности?
— Это будет зависеть исключительно от вашей воли. При желании, например, вы смогли бы разрушить вон те кварталы одним выстрелом, — он указал в сторону нагромождения высотных зданий.
— Что же вы таким замечательным оружием от дикарей не отбились?
— Я ведь уже много раз говорил, что сами мы не в состоянии убивать. Нас должны были защищать специальные боевые машины, но все они вышли из строя уже в первые часы после катастрофы.
— Не повезло вам, бедолагам… — Верка снова покосилась на Зяблика, изображавшего, как он с натугой толкает что-то перед собой. — Размер-то у этой штуки какой? Тяжелая она?
— Один человек вполне управится.
— Понятно… — Верка обвела своих спутников вопросительным взглядом.
Зяблик показал ей большой палец. Смыков и Цыпф кивнули. Толгай, почти ничего не понявший, последовал примеру Зяблика. Лилечка пожала плечами, давая понять, что о таких вещах она судить не может.
— Разрешите мне выразить общее мнение присутствующих, — торжественно заявила Верка. — Давай нам эту убойную штуковину, не знаю, как она там у вас называется, а уж мы постараемся натянуть аггелам глаз на задницу.
При всем желании Эрикс вряд ли смог бы удовлетворить любопытство своих спутников по части того, что касалось исторического промежутка, разделявшего их эпохи. Конечно, в общих чертах он был осведомлен об основных событиях последних веков, но в детали не вдавался. Вторая мировая война, к примеру, была для него такой же архаикой, как крестовые походы или гибель Римской империи. Учили его долго и интенсивно, но не каким-либо конкретным наукам (слишком много их развелось и слишком сложны они стали), а умению при помощи всепланетной информационной сети добывать нужные для себя сведения.
Пожелай вдруг Эрикс узнать что-либо о все той же Второй мировой войне, он просто вызвал бы на любой из своих мониторов пакет информации, в краткой и доступной форме рассказывающей о ее причинах, ходе и последствиях. Если бы какой-то батальный эпизод заинтересовал его больше других, не составило бы никакого труда почти мгновенно получить все сведения о нем, изложенные в подлинных документах противоборствующих сторон, трудах историков, военных мемуарах, художественных произведениях, анекдотах и так далее.
Ясно, что при такой постановке дела необходимость зубрить все подряд отпадала. Были, конечно, профессионалы (да и любители тоже), наизусть знавшие всю хронологию, но Эрикс к их числу не принадлежал. Сфера его интересов располагалась совсем в другой области. Рано выбрав специализацию, он совершенствовался главным образом в ней. Наука, которой Эрике собирался посвятить свою жизнь, называлась эгидистикой. Главная ее задача заключалась в разработке электронных систем, защищающих экономические интересы, личную безопасность, конституционные права и тайну интимной жизни граждан от поползновения государственных структур, средств массовой информации, преступников всех мастей и просто любопытствующих соседей.
Как и все великие достижения цивилизации, глобальная компьютеризация имела и свою обратную сторону. Между человеком и обслуживающей его электроникой не могло существовать никаких тайн. Начиная с момента зачатия, вся информация о его физическом здоровье фиксировалась на специальных медицинских файлах. Немного погодя под столь же пристальный. контроль попадала и его психика. Компьютер знал о своем хозяине все: что он ел за завтраком у себя дома и что заказывал за обедом в ресторане, с какой скоростью и какими маршрутами передвигался, с кем встречался и о чем беседовал, чем интересовался и чем манкировал, сколько и на какие нужды истратил средств, нарушал ли законы, изменял ли супруге и так далее до бесконечности.
Существовала масса суровых законов, запрещавших посторонним доступ к этим сведениям, но природа человека, за исключением нескольких искусственно привнесенных деталей, осталась прежней, миром, как и раньше, правили любовь и алчность, а потому всегда находилось немало желающих узнать, каков у вас кредит в банке, все ли в порядке со стулом, как обстоят дела на службе и сколько денежек вы выложили за час общения с очаровательной блондинкой, вашей женой вовсе не являющейся.
Борьба щита и меча (вернее, замка и отмычки), начавшаяся еще на заре компьютерной эры, ожесточалась год от года, создав не только могучий клан преступников-хакеров, но и противостоящую им правоохранительную организацию со своей собственной научной базой и специфической индустрией. Каждый индивидуальный пользователь, которому было что скрывать от ближних и дальних, каждая самая мелкая фирма или общественная организация, не говоря уже о банках, государственных ведомствах и правительственных структурах, хотели иметь самую современную и эффективную систему защиты своих компьютерных архивов. Короче говоря, профессия Эрикса была весьма престижной и перспективной, а кроме того, он всегда мог переметнуться в стан хакеров, где на одной удачной операции сколачивались целые состояния.
Эпоха, в которую он жил, имела еще несколько особенностей, коренным образом отличавших ее от предыдущих эпох. (Примерно так темные века отличаются от Ренессанса, а век пара — от века электричества.) Еще задолго до рождения Эрикса человечество получило практически бесплатный, неисчерпаемый и экологически чистый источник энергии. Установки Кирквуда повсеместно заменили атомные, тепловые и солнечные электростанции. На первых этапах они были достаточно громоздки и требовали наличия огромной периферийной структуры (того самого небесного невода, так поразившего воображение спутников Эрикса), однако впоследствии появились достаточно миниатюрные образцы, которые можно было устанавливать на крупнотоннажных судах, стратолайнерах и космических аппаратах. Избыток дешевой энергии позволял получать из океанов любое количество содержащихся в растворе химических элементов. Гидродобывающая промышленность полностью сменила горнодобывающую. Пустыни превратились в плодородные нивы. Города теперь строились даже там, где раньше жили одни пингвины.
Существовало, впрочем, мнение, что установки Кирквуда оказывают на окружающую среду и негативное влияние. Во-первых, они отнимали у Вселенной энергию, предназначенную совсем для других целей, что могло замедлить или, наоборот, ускорить ход времени, а также отрицательно сказаться на звездной энергетике. Во-вторых, существовала теоретическая возможность, что некоторые отклонения в режиме работы установки Кирквуда способны привести к нарушению принципа причинности, являющегося, как известно, одним из краеугольных камней мироздания. И если первое предположение не оправдалось (смешно думать, что паруса отнимают энергию у ветра, мешая тем самым перемешиваться земной атмосфере), то второе вскоре получило прямое подтверждение. В истории науки этот эпизод получил название «эффекта Успенского училища».
Небольшой, но древний город Успенск-Мишкин, расположенный где-то между Припятьским морем и Смоленским тропическим заповедником, был известен не только Успенским собором тринадцатого века и могилой татарского баскака Мишке (Мишки), сначала этот храм спалившего, а потом на его развалинах крестившегося, но и училищем, готовившим специалистов средней квалификации для обслуживания установок Кирквуда.
Само собой, что в лабораториях и мастерских училища имелось немалое количество образчиков этой чудо-техники, начиная с монстра, занимавшего пятую часть объема учебного корпуса, и кончая карликами, чьи размеры не превышали железнодорожного вагона. Их гоняли во всех режимах, включая критические, едва ли не ежедневно разбирали и вновь собирали (при этом каждый раз какие-то детали оставались лишними, а каких-то не хватало), а также подвергали другим издевательствам, на которые во все времена были так охочи студенты. Никаких чрезвычайных мер безопасности не принималось, поскольку в те времена установки Кирквуда считались такими же безопасными, как стоящие на мертвом якоре суда.
Жили студенты весело, любили устраивать друг другу и своим преподавателям всякие безобидные каверзы, на счет которых до поры до времени и списывались разные необъяснимые явления как в самом училище, так и в его окрестностях.
Нередко бывало так, что опытнейшие преподаватели начисто забывали свой предмет и начинали нести всякую околесицу о секретах создания философского камня, о деферентах и эпициклах орбит, описываемых Солнцем и планетами, якобы вращающимися вокруг Земли, о количестве бесов, способных разместиться на кончике иглы, и о мичуринском учении в биологии. В свою очередь некоторых распоследних студентов, имевших до того академическую задолженность едва ли не по всем предметам, посещали вдруг блестящие идеи, смысл и значение которых было суждено оценить только потомкам.
Лишь впоследствии, когда отрицательное влияние установок Кирквуда на принципы причинности было окончательно доказано, подобные эффекты стали называться индетерминизмом, а проще говоря — антивероятностью.
Именно благодаря эффекту антивероятности в стенах училища случались необъяснимые исчезновения и столь же необъяснимые появления людей (но уже других), что повергало в ужас отдел кадров и местком. На гранитном фасаде внезапно возникали бронзовые мемориальные доски с датами рождения и смерти ничем себя пока не проявивших и еще вполне цветущих аспирантов. Всеобщий любимец кот Васька завтра мог превратиться в дикого и злобного манула, а послезавтра — в пугливого и хрупкого лемура.
Эффект антивероятности настолько искажал учебный процесс, что вышестоящая инстанция издала приказ, согласно которому к каждой отрицательной оценке, выставляемой студентам Успенского училища, автоматически добавлялись два балла, а от каждой положительной отнимался один. Таким образом практически все они учились на четверки.
Особенно не везло директору училища, человеку с немалыми заслугами, твердыми убеждениями и слегка гипертрофированным чувством собственного достоинства. Началось все с того, что, посетив однажды туалет (не по нужде телесной, а с целью выявления курящих студентов), он вместо привычных унитазов, писсуаров и умывальников обнаружил там притон в стиле Дикого Запада, которым заправляла разбитная красотка, всем видам одежды предпочитавшая корсет из китового уса и ажурные чулки с шелковыми подвязками. (Заметьте — это в мужском-то туалете!) Картина расстроила директора до такой степени, что он впервые в жизни выпил стакан какого-то отвратительного пойла, именовавшегося здесь «настоящим шотландским виски», и сыграл с красоткой в «блэк джек».
Впрочем, последствия, вызванные эффектом антивероятности, не всегда были столь безобидны. Очередное происшествие из той же серии едва не закончилось для директора инфарктом. Находясь в президиуме одного торжественного собрания, он вместо почетных и заслуженных государственных наград вдруг обнаружил на своей груди какие-то тусклые бронзовые и серебряные бляхи. Как выяснилось впоследствии, это были: нагрудный знак «Ветеран торговли Карфагенской республики», рыцарский орден Святого Духа третьей степени и целый набор медалей, среди которых выделялись «За усмирение польского мятежа 1863–1864 гг.», «XX лет РККА», а также железный крест с дубовыми листьями. Соответствующие документы, надлежащим образом оформленные, лежали во внутреннем кармане директорского пиджака.
В конце концов училище посетила представительная комиссия, в состав которой входили лучшие специалисты по теории и практике установок Кирквуда. После долгой и скрупулезной работы было решено, что причиной всех этих загадочных происшествий является чрезмерное рассеивание нового вида энергии, вызванное отсутствием некоторых электронных блоков, предназначенных для контроля параметров работы самой мощной установки. Вскоре была обнаружена и пропажа — блоки понадобились студентам для создания сверхмодного игрового автомата, не только владевшего всеми известными шулерскими приемами, но и способного изобретать новые.
Лаборанта, отвечавшего за электронику (а вернее, просто имевшего неосторожность однажды за эту ответственность расписаться), примерно наказали — лишили квартальной премии, да еще перенесли отпуск с июля на декабрь, что вынудило беднягу вместо Ниццы отправиться на отдых в Кейптаун. Директору дали инвалидность, дубликаты всех пропавших наград, хорошую пенсию и отставку. Зато абсолютно все установки Кирквуда были теперь снабжены надежной системой контроля, исключающей какие-либо неприятности даже в случае прямого попадания авиационной бомбы.
Многочисленные и въедливые испытания подтвердили, что демона антивероятности, рожденного энергией сдвига и расщепления пространственно-временных связей, можно считать укрощенным, и если он еще способен как-то проявить свой коварный нрав, то только с позволения хозяев (уже начавших с лихорадочной поспешностью конструировать оружие, принцип действия которого основывался на только что открытом эффекте).
Впрочем, необходимо заметить, что все виды имевшегося к тому времени вооружения были исключительно оборонительного характера. К моменту появления Эрикса на свет человечество окончательно изжило не только войны, но и локальные конфликты, хотя напряженность между отдельными государствами и этническими группами продолжала существовать. Но развязать войну в открытом, до предела компьютеризированном обществе, где каждая песчинка и каждый листок могли иметь глаза, было весьма затруднительно, да никто и не стремился к агрессии. В этом-то как раз и состояла третья особенность (после создания всепланетной информационной сети и овладения новым видом энергии), отличавшая эпоху Эрикса от эпохи развитого социализма и загнивающего капитализма, в которой довелось жить Зяблику, Смыкову и иже с ними. Короче говоря, ни сам Эрикс, ни его современники не были способны к насилию, а уж к убийству — тем более.
До жизни такой они докатились следующим образом. Примерно за полтора века до рождения Эрикса по. всей Земле наступили времена столь мрачные, что их и сравнить было не с чем. Всемирный потоп, годы чумы, нашествия варваров, конкиста и зверства инквизиции. казались невинными шалостями в сравнении с тем, что происходило тогда.
Казалось, приближается конец света. Противостояние сверхдержав, рухнувших одна за другой под грузом своих ошибок, своего апломба и своего гедонизма, сменилось противостоянием всех против всех.
К тому времени атомным оружием обладали уже десятки стран, а некоторые его тактические образцы попали в руки радикальных и экстремистских организаций. Вновь полным ходом шла работа по созданию химических, бактериологических, генетических, этнических и экологических средств массового поражения. Буйным цветом расцветали национализм и сепаратизм. Число членов ООН (организации, потерявшей всякий международный авторитет, но сохранившейся как место, где главы государств могли публично поливать друг друга грязью и вести интриги в кулуарах) выросло втрое, и примерно на столько же увеличилась частота вооруженных конфликтов.
Арабы воевали с евреями, сунниты с шиитами, католики с протестантами, белые с черными, северяне с южанами, горцы со степняками, горожане с сельскими жителями, аборигены с пришельцами, черная кость с голубой кровью, солдаты с офицерами, дети с отцами, скваттеры с домовладельцами, Техас с Калифорнией, чеченцы с казаками, абхазы с грузинами, баски с каталонцами, сикхи с индусами, хохлы с кацапами, курды со всеми, кто их окружает, шпана люберецкая со шпаной солнцевской, люди со стихией и стихия с людьми.
Кроме того, повсеместно шла борьба за чистоту расы, за сферы влияния, за беспошлинную торговлю, за раздельное обучение, за легализацию наркотиков, за введение сухого закона, за отмену смертной казни, за права сексуальных меньшинств, за Бога истинного против бога ложного, за освобождение рабочего класса, за урожай и за реформы в правописании.
Снайпер и подрывник входили в число самых престижных профессий. Пресса и телевидение сообщали о террористических актах только в том случае, если число жертв превышало дюжину. Взрывные устройства изготовлялись повсеместно, как прежде самогон. Границы государств уже обозначались не полосатыми столбами и контрольно-следовой полосой, а густыми минными полями (в некоторых случаях даже с использованием ядерных фугасов). Мир быстро сползал к пропасти, на дне которой могли уцелеть разве что отдельные виды насекомых, бактерии да глубоководные породы рыб.
Казалось, что человечество утратило чувство самосохранения, но, как это бывало уже не раз, нашлось достаточное количество здравомыслящих, энергичных и влиятельных людей, создавших нечто вроде тайной международной организации спасения. Все попытки остановить кризис политическими и экономическими мерами привели к прямо противоположному результату. Трубопроводы перестали перекачивать нефть и газ. Транспортное сообщение между отдельными государствами почти полностью нарушилось. Нью-Йоркская, Антверпенская и Лондонская биржи прекратили свое существование. Арабские террористы захватили ближайшую к Парижу атомную электростанцию. Шотландские сепаратисты одержали решающую победу над английской регулярной армией. Японские националисты из организации «Ямамото» взорвали атомную бомбу в Панамском канале. В ответ «Американский легион» провел аналогичную акцию в центре Токио, что повлекло за собой разрушительное землетрясение на острове Хонсю.
Костлявая старуха, отбросив прочь изрядно затупившийся символ своего ремесла, пересела за руль косилки, куда более мощной, чем та, что в двадцатом веке уже дважды собирала богатый урожай человеческих жизней. Единственным островком стабильности в бушующем мире оставалась только Антарктида, куда спешно эвакуировались состоятельные люди с других континентов.
Тогда тайная организация спасения решила срочно прибегнуть к средству, столь же радикальному, сколь и опасному. Так иногда поступает врач, впрыскивая безнадежно больному чрезмерную дозу лекарства — или выздоровеет, или до срока прекратит свои муки.
К тому времени в секретных лабораториях нескольких стран было разработано вещество, однократный прием которого вызывал у пациента резкое и устойчивое повышение агрессивности. С его помощью собирались ковать идеальных солдат, берсеркеров двадцать первого века. Как антидот, а также как средство подавления боевого духа врага было создано и другое вещество, имеющее прямо противоположные свойства. Находящийся под его воздействием человек оказывался физически неспособен к агрессии и насилию. Дело оставалось за малым: изменить структуру антидота так, чтобы он распространялся среди людей подобно эпидемии.
Первыми члены организации заразили самих себя, а затем направили эмиссаров во все концы света.
Поначалу спасительное средство (условно названное усмирителем, поскольку настоящее его имя и состав остались неизвестными — в течение суток все лаборатории, работавшие над созданием сильнодействующих психотропных веществ, были предусмотрительно уничтожены) проявляло себя разве что легким расстройством желудка да малозаметной, хоть и зудящей сыпью. Новости, приходившие из разных стран, были по-прежнему неутешительны. По всем каналам телевидения и по всем частотам радиоприемников только и слышно было: погромы, поджоги, убийства, покушения, атаки, контратаки, захват заложников, предъявление ультиматумов, межплеменная война, межобщинные конфликты, расовая ненависть, массовые беспорядки, нарастающая конфронтация, всеобщая нетерпимость.
По расчетам ученых, эпидемия усмирителя должна была распространиться по всей земле в течение нескольких недель. Иммунитета против нее быть не могло, тут уж создатели постарались. Однако и спустя месяц никаких сдвигов к лучшему не наметилось. Новости были одна хуже другой. Даже штурмовая группа, которой поручили отбить атомную электростанцию у арабских террористов, подкачала — то ли разуверилась в успехе, то ли попросту струсила. Бравых вояк, до этого успевших покрыть себя неувядаемой славой, пришлось разоружить и отправить под арест.
Но и арабы, возглавляемые королем террора, известным под кличкой Клык Аллаха, повели себя странно — отпустили заложников, которых не успели до этого замучить, разминировали атомный реактор и покорно сдались властям. Этот сенсационный случай мог означать что угодно, в том числе и то, что усмиритель начал действовать, причем именно так, как и предполагалось.
Некоторое время вал насилия и жестокости катился как бы по инерции, а затем истеричные голоса репортеров и комментаторов стали затихать — плохих новостей становилось все меньше, а от хороших они успели как-то отвыкнуть. Наступило затишье, которому никто из непосвященных не радовался, ведь неизвестно было, что за ним последует — долгожданный, но уже казавшийся нереальным покой или вспышка еще более оголтелого насилия.
А потом события вновь начали раскручиваться в бешеном темпе, но уже в обратную сторону. В больницы стали поступать люди с признаками сильнейшего психического расстройства — как выяснилось, все они были причастны к неудавшимся покушениям на убийство. Террористы, накануне установившие бомбы, спешили известить об этом полицию. Впервые марш боевиков из организации «Черные пантеры» по белым кварталам Вашингтона прошел без кровопролития. Были отменены еврейские погромы в Москве, Бердичеве, Хайфе и Вене. Армии, еще недавно лавой катившиеся друг на друга, остановились. Озверевшие от своей и чужой крови, давно очерствевшие душой бойцы не понимали, что с ними происходит. Противостоящие стороны вели себя, как злые псы, разделенные решеткой — бросались на врага, захлебывались слюной, чуть ли не руки себе грызли, но так и не могли в последний момент спустить курок, швырнуть гранату или всадить штык в чужое брюхо. Скоро все устали, не столько даже физически, сколько морально, и лишь вяло переругивались. Усмиритель не позволял проливать человеческую кровь, но и симпатии к давнему врагу внушить не мог. Среди наиболее закостенелых душегубов были даже зафиксированы случаи самоубийств — тут уж волшебное средство почему-то не действовало.
Страсти постепенно утихали, хотя процесс этот отличался неравномерностью. Сначала успокоились в больших городах, на плодородных равнинах и везде, где имела место скученность населения. В солнечную погоду усмиритель действовал эффективнее, чем в дождливую и туманную.
Последними заразились миролюбием островитяне маори Новой Зеландии, успевшие до этого сильно сократить число белых сограждан, эскимосы, провозгласившие независимость Гренландского государства от метрополии, подданные Гавайского королевства, объявившие войну сразу и Японии, и Америке, а также граждане советской социалистической республики Сахалин.
К экипажам болтавшихся в океане атомных авианосцев и стратегических подлодок даже пришлось специально посылать девочек легкого поведения, хватанувших вирус усмирителя одними из первых (работа их этому очень способствовала — как-никак, всегда на людях).
Лишь спустя несколько лет, когда былая вражда утратила остроту, самое плохое позабылось и люди стали вспоминать прошлое как долгий и мучительный сон, начались переговоры между недавними противниками. Много было протестов, демонстраций, брани, зубовного скрежета и даже публичных самосожжений, но зато не пролилось ни капли крови. Хочешь не хочешь, а вчерашним врагам приходилось идти на взаимные компромиссы. А как же иначе, если ты при всем желании не можешь причинить вред поселившемуся рядом супостату? Приходится, пусть и не по доброй воле, постигать трудную науку добрососедства.
Между тем усмиритель продолжал выполнять заложенную в нем программу. Переболевшие им люди сохраняли благоприобретенные свойства, но носителями инфекции уже не являлись. Повлияв в нужную сторону на наследственные структуры человеческого организма, вирус самоликвидировался (ведь неизвестно было, как он может переродиться на воле).
Теперь все дети, появившиеся на свет, уже несли в себе генетическое неприятие насилия. О войнах, вражде, геноциде и убийстве они знали только с чужих слов и воспринимали это не как реальность, а как неправдоподобно-жуткую сказку…
Четверть века понадобилось человечеству на то, чтобы вернуть жизнь в опустевшие города, заставить родить отравленную ржавчиной, дефолиантами и радионуклидами землю, обезвредить миллионы противопехотных мин и восстановить разрушенные коммуникации. До открытия Кирквуда было еще далеко, но нефти, газа, солнечной энергии и ядерного топлива пока хватало.
Отстроившись и откормившись, земляне стали предпринимать вылазки в космос. Впрочем, ничего полезного или интересного для себя они там не обнаружили. Были основаны базы на Луне и Марсе, к которым совершали регулярные рейсы туристские челноки. Надежда на встречу с инопланетянами рассеялась, так же как и страх перед ними.
Новая беда пришла не извне, а, так сказать, изнутри. Не исключено, что в этом был как-то замешан вирус усмирителя, кроме серии удачных выстрелов давший и одну трагическую осечку. Синдром приобретенного иммунодефицита, издревле дремавший в человеческом организме, впервые разбуженный в конце двадцатого столетия шприцем, капельницей и скальпелем, а затем кое-как усмиренный невероятными усилиями фармакологии, внезапно вновь дал о себе знать целым букетом болезней, от которых прежние лекарства уже не помогали.
Затаившийся на время, перешедший в латентную форму, не поддающийся диагностике и потому успевший широко распространиться, вирус супер-СПИДа набросился на человечество, как изголодавшаяся акула на косяк сонной скумбрии. Светлое будущее стало сызнова заволакиваться дымом погребальных костров. В некоторых странах, особенно африканских, где число инфицированных превысило половину населения, опять вспыхнули беспорядки, к счастью, уже бескровные.
Тайная организация спасения собралась снова, хотя и в другом составе. Но на этот раз подходящего лекарства под рукой не было, да и надеяться на его создание в ближайшее время не приходилось. О том, чтобы спасти всех, не могло быть и речи. Изначально вопрос стоял только о спасении тех, кого еще можно было спасти. Сейчас человечество делилось на две части — инфицированных и еще не успевших подхватить смертельную заразу. Первых, уже заранее обреченных, необходимо было отделить от вторых, и как можно быстрее. Но как это сделать в обществе, не приемлющем насилия?
Решение оказалось тривиальным: отныне и вплоть до создания надежной вакцины при всех, без исключения, половых контактах, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных, принять абсолютно надежные предохранительные средства, а зачатие осуществлять исключительно методом искусственного оплодотворения.
Нетривиальным оказался способ проведения этого решения в жизнь. Методы убеждения давно продемонстрировали свою неэффективность. Угрозы или материальная заинтересованность в столь интимном деле вообще не годились. Успех могло принести только глубокое гипнотическое внушение на подсознательном уровне, которое должно было выработать у реципиентов стойкую фобию к половому контакту без предохранительных средств. Технические средства того времени уже позволяли проводить подобные операции. В качестве индуктора предполагалось использовать искусственный спутник Земли, запущенный на квазиполярную орбиту.
Заранее было подсчитано, что внушение окажется действенным только для двух третей населения планеты, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Приходилось торопиться, потому что ежедневно число инфицированных увеличивалось почти на сто тысяч.
Подготовительный период занял неделю. Все мероприятия проводились в глубокой тайне, поскольку практика массового внушения была строжайше запрещена законом почти всех стран.
В расчетный день и час спутник, числившийся метеорологическим, раскинул в стороны плоскости своих излучателей и стал похож на парящую в безвоздушном пространстве птицу. Вниз обрушился невидимый поток психотропного излучения. По мере того как спутник описывал на орбите виток за витком, одна полоса излучения ложилась на поверхность Земли рядом с другой.
В спальнях и ванных, в придорожных кустиках и шикарных мотелях, на ночных пляжах и сеновалах, в салонах автомобилей и купе поездов, — словом, везде, где только могли уединиться любовники, происходили душераздирающие сцены. Парочки, находившиеся на разных стадиях коитуса, внезапно распадались, ощутив нечто похожее на удар электрического тока. Партнеры, до этого безоглядно предававшиеся страсти, недоуменно пялились друг на друга, а потом один из них, наиболее смелый, заводил путаный и невнятный разговор о пользе безопасного секса.
Хорошо еще, если оба они были одинаково внушаемы, а в запасе имелось пресловутое резинотехническое изделие. В противном случае любовная игра продолжения не имела.
Гораздо хуже обстояли дела у тех партнеров, один из которых оказывался невосприимчив к внушению. В лучшем случае мужчина, не получивший своего, ограничивался бранью, а женщина, оказавшаяся в аналогичном положении, — презрительным взглядом. Случались и семейные сцены с битьем посуды. Дело доходило даже до разводов.
Запасы презервативов в аптеках, магазинах и киосках публика разметала за считанные часы, но их продолжали подвозить до тех пор, пока ажиотаж не утих.
Если кто-то и был зачат в этот день, то только абсолютно равнодушными к внушению родителями. На следующее утро началась массовая кампания в пользу искусственного зачатия, имевшая бурный успех.
После того как отработавший свой ресурс спутник сошел с орбиты, новорожденных детей стали подвергать индивидуальному сеансу внушения. К тому времени это была уже вполне законная акция, закрепленная в законодательстве многих стран. Церковь повозмущалась немного, но вынуждена была угомониться. Альтернатива «смерть или грех» оказалась не по зубам даже служителям Божьим.
Спустя несколько лет, когда эпидемия супер-СПИДа сошла на нет (то есть, собственно говоря, сошли на нет все инфицированные), было принято предложение продолжить практику пропаганды безопасного секса и искусственного зачатия, ведь благодаря ей исчезли гепатит, лейкоз и все венерические заболевания, а рождаемость наконец-то была поставлена под контроль.
Неспособность людей размножаться естественным путем была четвертой особенностью, отличавшей мир будущего от всех предыдущих эпох.
Эрикс был типичным продуктом своего времени. Мать зачала сыночка в гинекологической клинике, предварительно выбрав по каталогу сперму приглянувшегося ей донора. Сразу после рождения мальчик был подвергнут гиповнушению, навсегда определившему параметры его будущей сексуальной практики. Ни разу в жизни он не поднимал руку на человека, хотя и был причастен к созданию новых образцов оружия (необходимо напомнить, что неспособность к проявлению прямого насилия еще не означала наступление эры всеобщего братства. Хотя люди и не могли вступать в схватку друг с другом, ничто не мешало им напускать на противника боевые кибернетические машины). Все, что не касалось творческой работы, развлечений и хобби, делали за Эрикса электронные слуги. С четырнадцати лет он постоянно имел при себе средства, без которых плотская любовь была столь же нереальна, как жизнь без воздуха. Работу свою он любил и быстро делал в ней карьеру. Была у него уже и семья: очаровательная жена-брюнетка и двое детей, зачатых от идеально здоровых и высокинтеллектуальных доноров. Летний отпуск Эрикс обычно проводил в швейцарских Альпах, а зимний — на тихоокеанских атоллах.
Утро того дня, который должен был превратиться в бесконечный кошмар не только для него, но и для многих других людей в разных странах и эпохах, не предвещало ничего необычного. Весь окружающий мир, начиная с земных недр и кончая дальним космосом, находился под контролем людей. Любое землетрясение заранее прогнозировалось, любой ураган рассеивался еще в момент зарождения, любой приближающийся к Земле астероид беспощадно уничтожался.
Обычно Эрикс работал дома в кабинете, начиненном сверхмощной компьютерной техникой, но сегодня почему-то решил наведаться в свою лабораторию. Электроника умела очень многое, но с ее помощью нельзя было выпить чашечку кофе в компании сослуживцев.
Вызвав на монитор последнюю сводку службы транспортного контроля, он убедился, что улицы и воздушное пространство над городом забиты до предела. Пришлось воспользоваться надземкой, прозрачные трубы которой без всякой опоры висели над всеми основными магистралями. Пассажирские вагончики, похожие на снаряды крупнокалиберных орудий, мелькали в них с головокружительной скоростью. Через каждые два-три квартала трубы пересекались, и неискушенному человеку было страшно смотреть, как вагончики несутся наперерез друг другу, и лишь доли секунды отделяют их от возможного столкновения.
Пройдя тщательный досмотр в холле многоэтажного здания, целиком занятого различными подразделениями службы информационной безопасности, Эрикс шутки ради поинтересовался у дежурного количеством волос на своей голове, тут же получил исчерпывающий ответ и был вознесен скоростным лифтом на тридцать девятый этаж, где и располагалась лаборатория эгидистики.
Приемная была пуста, кабинеты администрации тоже. Никого не было даже в маленьком служебном баре, чего на памяти Эрикса никогда раньше не случалось. Проследовав на гул голосов, доносившихся из центрального пункта связи, он был неприятно удивлен царившей здесь атмосферой… нет, не страха, от страха в двадцать втором веке успели отвыкнуть, а какого-то тягостного недоумения. Настроение присутствующих можно было сравнить только с чувствами мужа, прожившего с женой в мире и согласии долгие годы, изучившего ее, как говорится, вдоль и поперек, но внезапно узнавшего о супружеской неверности.
Эриксу не стоило труда убедиться, что все компьютеры ведут себя более чем странно. На запрос о состоянии ионосферы в южном полушарии поступал ответ о миграции китообразных в северных морях. Вместо сведений о погоде в ближайших регионах на экране монитора высвечивались биографические данные какого-то малоизвестного средневекового поэта. Все попытки операторов разобраться в причинах сбоя аппаратуры, всегда казавшейся им столь же надежной, как их предкам — молоток, оставались тщетными. Особенно угнетающим было то, что ныне происходящее считалось раньше невозможным даже в теоретическом плане. Персонал, толпившийся за спинами операторов, если и давал советы, то самого нелепого свойства. Создавалось впечатление, что эти люди напрочь забыли все, чему их так долго и упорно учили.
Собираясь на службу, Эрике не удосужился прихватить с собой какое-нибудь индивидуальное средство связи и теперь был вынужден воспользоваться первым попавшимся свободным компьютером. После нескольких неудачных попыток, которые можно было объяснить своим собственным волнением, он соединился с приятелем, работавшим в гавани на должности хотя и скромной, но дававшей доступ к разнообразной секретной информации. После обычного обмена любезностями у них состоялся следующий короткий диалог:
— У вас в гавани все в порядке?
— Я бы не сказал.
— Возникли какие-то проблемы?
— Похоже, да.
— Можно узнать, какие?
— Что-то со связью. Утерян контроль над всеми судами, находящимися в зоне нашей ответственности… Сильные помехи радиосвязи, причем на всех частотах.
— А лазерные каналы? А проводная связь?
— Лазерные отказали в первую очередь. Проводная связь на юг и север тоже барахлит. Сейчас пытаемся найти обходные пути. Весь западный сек…
— Вас не слышу! Не слышу!
— Бу-у-у… гда… р-р-р…
— Ничего не понятно! Повторите!
— …Что за день сегодня! Сейчас слышите?
— Да. А что случилось?
— Похоже на кратковременное отключение электроэнергии.
— Что-то я такого случая припомнить не могу.
— Я тоже. Просто чудеса! Ведь у нас несколько независимых источников питания. Есть своя собственная установка Кирквуда и резервная гелиостанция. Не понимаю…
— Я не отвлекаю вас?
— Может быть. Впрочем, нет. Я все равно не знаю, чем мне сейчас заняться. Ремонтники в растерянности. Никаких идей нет. Остается ждать, что все наладится само собой.
— Что это за грохот? Вы слышите?
— Слышу. Сейчас попробую выяснить… Справочная муниципалитета не отвечает… Служба экстренного спасения тоже. Я вижу отсюда столб дыма. Кажется, это в районе аэропорта… Ого, дело нешуточное. Появилось несколько спасательных вертолетов. Пожар очень сильный. Думаю, это потерпел аварию один из взлетающих стратолайнеров. Сейчас как раз должен быть рейс на Сидней.
— Что же это такое творится?
— Сам не знаю. Надо посоветоваться с…
— Не слышу. Ничего не слышу. Куда вы пропали?
Однако связь с гаванью как ножом отрезало. Компьютер не реагировал больше ни на какие команды, а на его экране беспорядочно роились тусклые точки (в целом картина напоминала процесс размножения дрожжевых бактерий, снятый с большим увеличением).
— Падение напряжения в сети, — пропел приятный голосок информатора системы внутреннего жизнеобеспечения. — Переключаюсь на аварийное питание.
Под потолком вспыхнула красная лампочка, и все, как завороженные, уставились на нее, словно это была путеводная звезда, обещавшая явить истину и даровать спасение. Однако уже спустя пару секунд лампочка стала угасать, и информатор тем же жизнерадостным тоном объявил:
— Переключения на аварийное питание не происходит. Срочно начать эвакуацию здания. Использовать только пожарные лестницы. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. Не поддаваться панике. Вам немедленно придет на помощь служба экстренного спасения.
Вам немедленно придет на помощь…
Красная лампочка окончательно погасла, а вместе с ней и экраны всех компьютеров. Снаружи снова грохнуло, да так, что огромное здание словно на пружинах качнулось. В другое время Эрикс включил бы экраны панорамного обзора, позволявшие любоваться даже морскими пляжами, отстоящими от этого места на десятки километров, но сейчас ему пришлось прильнуть к все еще вибрирующему оконному стеклу.
Узкое ущелье улицы выглядело сумрачно, как будто бы уже наступил вечер. Возможно, причиной этого был дым пожара, застилавший дневной свет. Вдоль стены расположенного напротив здания еще сыпались обломки строительных конструкций, образовавшие внизу завал, перекрывший уличное движение.
Дабы выяснить, что же такое случилось у соседей, Эриксу пришлось нагнуться к самому подоконнику и закатить вверх глаза. Только тогда он смог разглядеть хвостовую часть аэрокара, косо торчавшую из стены примерно на уровне пятидесятого этажа и похожую на оперение стрелы, пробившей сверкающие доспехи великана. Горючее струилось вниз по огромным зеркальным стеклам и вот-вот должно было вспыхнуть, что и произошло несколько мгновений спустя прямо на глазах у Эрикса. Пламя рвануло к небу и одновременно поползло по фасаду к земле. Одиночные взрывы слились в канонаду, и в воздухе засвистела стеклянная шрапнель.
Это словно вывело Эрикса из оцепенения и заставило присоединиться к сослуживцам, кинувшимся вон из здания, превратившегося вдруг в смертельно опасную ловушку. Пожарной лестницей не пользовались, наверное, с момента окончания строительства, и за это время на ней скопилось множество всякого хлама: пришедшей в негодность мебели, списанной техники, пустых бутылок и еще черт знает чего. Современники Эрикса надеялись на системы автоматического пожаротушения, как грудные дети на свою мамочку, и даже не допускали возможности, что эти узкие и крутые лестницы когда-нибудь придется использовать по прямому назначению.
Сразу возникла давка, быстро переросшая в массовый психоз, усугубленный мраком и духотой, царившими здесь. Ком человеческих тел, сорвавшийся с тридцать девятого этажа, вскоре налетел на тех, кто спасался с тридцать восьмого, а сзади уже наступали беженцы с сорокового и так далее вплоть до несчастных обитателей восемьдесят пятого, которые должны были прибыть сюда не ранее чем через час. В тесной, лишенной вентиляции и света лестничной шахте сразу оказалось несколько тысяч человек, которых гнал вниз уже не только страх, но и законы гравитации. Упавший больше не мог подняться, и ноги бегущих скользили в кровавом месиве его тела. Людей спрессовало так плотно, что нельзя было даже шевельнуть рукой, чтобы помочь старику или женщине. То, что пережил на этой лестнице Эрикс, навсегда осталось для него одним из сильнейших потрясений в жизни, хотя впоследствии ему случалось попадать и в более жуткие переделки. Впрочем, надо заметить, что творившийся здесь ад не мог идти ни в какое сравнение с тем, что происходило в то же самое время в соседнем, горящем небоскребе.
По мере движения вниз давка неуклонно возрастала и количество затоптанных все увеличивалось. Ноги ощущали уже не бетон ступеней, а только податливую чавкающую человеческую плоть. Эрикс подумал, что через десяток этажей трупы целиком забьют лестницу, превратив ее тем самым в братскую могилу.
Спасла его случайность. В здании напротив что-то со страшной силой взорвалось, и один из достаточно увесистых обломков проломил стену на два марша ниже того места, где находился Эрикс. Это стоило жизни немалому количеству людей, зато в лестничную шахту сразу хлынули свет и свежий воздух (правда, изрядно попахивающий гарью). На минуту образовался затор, но мертвецов догадались выбросить в образовавшуюся брешь, и лавина спасающихся вновь стронулась с места.
Бочком пробираясь мимо зияющей дыры, Эрикс не мог не заглянуть в нее. Далеко внизу — словно дно горного ущелья — виднелась улица, засыпанная дымящимися обломками наполовину обвалившегося соседнего здания, а всего в трех метрах ниже пробоины поблескивала прозрачная труба надземки. Один из только что выброшенных наружу трупов так и остался лежать на ней.
Раздумывать было некогда. Удачный прыжок обещал спасение, неудачный — быструю и легкую смерть на мостовой, вместо медленного и мучительного умирания в лестничной шахте, под завязку наполненной человеческими телами. Впрочем, Эрикс верил в свое счастье. Труба, казалось, находилась совсем рядом, нужно было только посильнее оттолкнуться перед прыжком.
Эрикс пружинисто присел, резко взмахнул руками и прыгнул. Он был молод, достаточно тренирован и жаден до жизни, но даже этого оказалось мало для того, чтобы удержаться на гладкой и покатой поверхности трубы. В самый последний момент, уже соскальзывая в бездну, он инстинктивно ухватился за ногу трупа, занимавшего весьма удачную позицию поперек узенькой пешеходной дорожки, являвшейся как бы гребнем трубы.
Это могло отсрочить гибель Эрикса разве что на пару мгновений да еще предоставить напарника для совместного полета к земле. Однако мертвец хоть и дернулся, но с места не сдвинулся, что позволило Эриксу единым духом вскарабкаться наверх. Отдышавшись немного, он попытался перевернуть своего невольного спасителя на спину, однако не преуспел в этом деле — пряжка брючного ремня покойника накрепко застряла в стыке между двумя плитами пешеходной дорожки.
Затем внимание Эрикса привлекли крики, раздававшиеся из дыры, край которой послужил исходной точкой его спасительного прыжка. Эрикса просили отойти в сторону, чтобы освободить место для очередного смельчака. Первой полетела вниз девушка, которую сначала раскачали, а потом с силой вышвырнули наружу. Она даже не смогла дотянуться до трубы, и Эрикс успел заметить тоску в ее больших зеленых глазах, которым суждено было через несколько секунд выскочить от страшного удара о мостовую.
Теперь в дыру лез стройный темноволосый парень, даже не удосужившийся ослабить узел своего галстука. Эрикс хотел крикнуть, чтобы он цеплялся за мертвеца, но не успел — парень уже летел вниз, как заправский парашютист, раскинув в стороны руки и ноги. Он не дотянулся до пешеходной дорожки всего на какую-нибудь пару сантиметров, но, как и девушка, успел обменяться с Эриксом прощальным взглядом. После этого никто уже не рискнул высунуться из дыры.
Убедившись, что его помощь больше никому не понадобится, Эрикс стал искать способ спуститься на землю. Ближайшая станция надземки находилась в пяти или шести кварталах к югу от этого места, но в той стороне тоже что-то горело и труба тонула в завесе смрадного дыма. Оставался единственный путь — на север, к центру города, которым и воспользовался Эрикс.
Вскоре выяснилось, что труба не является цельной конструкцией, как это казалось издали, а состоит из сегментов, длиною приблизительно в сто метров каждый. В некоторых сегментах имелись люки, дающие доступ внутрь, но Эрикс предпочитал балансировать на узкой, ничем не огороженной дорожке, чем лезть в какую-то трубу — хоть горизонтальную, хоть вертикальную. Замкнутые пространства отныне стали для него кошмаром.
Удалившись от горевшего дома на безопасное расстояние и немного успокоившись, Эрике попытался оценить сложившуюся ситуацию. Сейчас он находился на уровне двенадцатого этажа и мог видеть только полоску неба над головой, провал улицы внизу и громады зданий по обе стороны от нее.
Небо, еще недавно довольно-таки ясное, выглядело так, словно над городом собирался дождь. Исчезли все летательные аппараты, в обычное время роившиеся над крышами, как мухи над выгребной ямой. Машины на улице сбились в беспорядочные стада и замерли, словно узревшие опасность парнокопытные. Еще пытались как-то двигаться только те из них, которые имели гироскопические аккумуляторы, но даже они не могли выбраться из столь безнадежных заторов. Погасли все рекламы, исчезли созданные светом иллюзии, так украшавшие фасады домов, затихли фонтаны. Город приобрел дикий и незнакомый вид.
Характерный рев набирающего силу огня и густое дымное марево свидетельствовали о том, что поблизости горят сразу несколько зданий, однако сирены пожарных машин молчали, а это означало, что пожары никто не тушит. Случилось что-то страшное, в самый короткий срок лишившее город всего, что раньше обеспечивало его процветание и безопасность. Привычный порядок сменился разнузданным хаосом, в жерновах которого оказались миллионы невинных людей, в том числе и семья Эрикса. Ее нужно было во что бы то ни стало отыскать — сначала детей, потом жену.
Вскоре Эрикс оказался прямо над вагончиком надземки, застрявшем в трубе. Сквозь два прозрачных слоя — оболочки трубы и стекла кабины — были видны пассажиры, отчаянно махавшие руками и немо разевавшие рты. Помочь им было невозможно. Вагончик сидел в трубе так же плотно, как пуля в винтовочном стволе, и гнать его вручную до станции, где только и могли открыться двери, было делом заведомо безнадежным.
Достигнув ближайшего пересечения двух линий надземки, Эрикс повернул налево, в сторону прибрежного района, где находилась школа, которую посещали его дети. В принципе, туда можно было добраться и по трубам, особенно учитывая то, что творилось сейчас на улицах.
Однако этот путь довольно скоро прервался. Очередного пересечения просто не существовало — два столкнувшихся на полной скорости вагончика разнесли вдребезги не только друг друга, но и магистраль. Сразу четыре исковерканные трубы клонились к земле, составляя как бы крест, лишенный центра. Издали каждая из труб была похожа на лишенную головы лебединую шею.
По мере того как уклон пешеходной дорожки становился круче, Эрикс двигался все осторожнее, а потом и вообще вынужден был опуститься на четвереньки. Цепляясь за стыки плит, он добрался до оплавленного взрывом края трубы и по ее крутому боку соскользнул вниз.
Вся улица под местом катастрофы была усеяна изувеченными телами случайных прохожих, и Эрикс видел это, но другого места для спуска выбрать не мог. Мягко приземлившись на кучу трупов, он едва не взвыл от ужаса — лежавшая сверху смуглая женщина была очень похожа на его жену. Только стерев с лица погибшей кровь, Эрикс убедился, что это совершенно незнакомая ему китаянка или японка.
Дальнейший его путь напоминал бег по пересеченной местности наперегонки со смертью. Улицы были забиты заглохшими машинами, завалены обломками рухнувших с неба аэрокаров, заполнены толпами мечущихся в панике людей. Верхние этажи многих зданий, пострадавшие от таранов гибнущего воздушного транспорта, горели, извергая на тротуары огненный ливень.
Кое-где уже появились полицейские, санитары и пожарные, однако они ничего толком не могли сделать без специального оборудования. Повсеместное отключение электроснабжения и выход из строя компьютерной сети потянули за собой целую цепочку бед, начиная от отсутствия воды в водопроводе и кончая полным информационным параличом. Никто ничего не понимал, никто не мог связаться с родными, никто не знал, как вести себя в столь немилосердных обстоятельствах. Люди, еще недавно крепко державшие в руках все, до чего только могли дотянуться, начиная от мельчайших вирусов и кончая огромными планетами, вдруг оказались перед лицом природы еще более беспомощными, чем их не знавшие огня и топора косматые предки. Они не только не могли защитить самих себя, но еще и впали в грех самоубийственной трусости. Оставалось только надеяться, что пожары прекратятся сами собой, усталость заставит угомониться паникеров, а расстилающийся вокруг богатый и доброжелательный мир не оставит в беде несчастную страну.
Эрикс тем временем выбрался из лабиринта тесных улиц и оказался на просторной площади, за которой начинался пологий склон, тянувшийся до самого берега и застроенный уже не многоэтажными башнями, а виллами, дорогими и изысканными, как океанские яхты. Отсюда до школы, где его дети не столько учились, сколько забавлялись в свое удовольствие, было уже рукой подать.
Однако панорама, распахнувшаяся перед Эриксом, была настолько грандиозной и устрашающей, что он, несмотря на все свои заботы, буквально оцепенел.
Невозможно было даже сказать, что выглядит более ужасно — океан или небо. Повсюду, куда только доставал взгляд, океанское дно обнажилось. И если вблизи у среза вод все выглядело довольно занятно — десятки прогулочных лодок, вдруг оказавшихся на суше, бьющиеся на песке дельфины, заросшие ракушками остовы затонувших кораблей, луга водорослей и рощи кораллов, — то по мере удаления от берега опустевшее океанское ложе казалось уже адской бездной, готовой немедленно поглотить все на свете человеческие души. В той стороне, куда отступала вода, что-то тяжело гудело, а у самого горизонта стеной вздымалась волна, истинные размеры которой отсюда оценить было просто невозможно.
Волны ходили и по небу — тяжкие, мутные, готовые, казалось, вот-вот обратиться в камень. Среди них изредка мигало бледное, перекошенное солнце, больше похожее на полную луну. И едва оно погасло окончательно, как на противоположной стороне небосклона возникло другое солнце — огромное, зеленоватое, косматое, как голова Медузы, — солнце иного мира. Но и оно сияло недолго, постепенно растворившись в сумрачной дымке, сплошь затянувшей небо.
Доведенный всеми этими мрачными чудесами до состояния ступора, Эрикс, возможно, так и остался бы стоять столбом, переводя взгляд с грозного горизонта на еще более грозное небо, если бы рядом не раздался крик чайки, так похожий на детский плач. Словно подстегнутый, Эрикс сорвался с места, перепрыгнул через мраморную балюстраду, отделяющую площадь от идущего к берегу склона, и, не разбирая дороги, помчался вниз сквозь заросли цветущих эремурусов.
Вычурная крыша школы, похожая на панцирь стегозавра, сразу исчезла из поля зрения, точно так же, как и несущаяся к городу волна. Впрочем, даже не видя ее, он всем нутром ощущал стремительно надвигающуюся опасность — так собаки чувствуют приближение землетрясения, а птицы бурю.
Уже через сотню шагов он разминулся с первым бегущим человеком. Это был босой мужчина в купальном халате, похоже, только что выскочивший из ванны. Затем люди — одетые, полуодетые и совсем голые (невдалеке располагался нудистский пляж) — повалили толпами. Эрикс был единственный, кто бежал к морю, а не от него.
Внезапно земля под его ногами задрожала, и Эрикс понял, что волна достигнет берега намного быстрее, чем это ему показалось сначала. Над вершинами королевских пальм, скрывавших горизонт, внезапно вознеслась зеленовато-сизая стена грандиозной высоты, лишь по самому гребню окантованная пеной. Все лодки, которые он до этого видел лежащими на отмели, взлетели вверх и пропали в этой пене.
В следующую секунду глухой рокот наступающей воды сменился резким, стреляющим грохотом рушащихся построек. Волна словно стучалась в дома, но под ударами ее могучих кулаков слетали с петель двери, крошились оконные стекла и разваливались крыши.
Эрикс не успел и глазом моргнуть, как оказался под обвалом холодной и соленой воды. Волна, к счастью, уже утратившая свою первоначальную мощь, оглушила его и поволокла вверх по склону, где в конце концов и оставила висеть в развилке какого-то потерявшего крону дерева.
Очнувшись спустя несколько минут, Эрикс увидел, что вода отхлынула и отмель снова обнажилась на многие сотни метров, однако на ней уже не было ни лодок, ни дельфинов, ни даже обломков давным-давно затонувших кораблей. Океан, как заправский налетчик, утащил с собой все, что только мог осилить.
Местность вокруг разительно изменилась. Некоторые деревья, правда, устояли, но дома превратились в сплошные развалины. Исчезла и крыша, похожая на панцирь стегозавра.
Еле передвигая ноги, Эрикс двинулся к берегу. Волна-злодейка больше не возвращалась. Океан обмелел и утих. Вокруг не раздавалось ни единого звука — никто не молил о помощи, никто не пытался организовать спасательные работы, даже чайки почему-то приумолкли.
Обходя стороной развалины домов, в которых еще журчали последние ручейки, он медленно приближался к школе. Знаменитая крыша и в самом деле куда-то исчезла — океан или разбил ее вдребезги, или утащил в свои глубины. Здание теперь представляло собой обширное нагромождение больших и малых обломков, а о том, что совсем недавно оно было трехэтажным, можно было судить только по торчащим кое-где вертикальным опорам.
Ничего еще не было окончательно известно, детей могли своевременно эвакуировать, но у Эрикса уже начали непроизвольно постукивать зубы.
Взобраться на руины Эрикс не посмел, это было таким же святотатством, как попирать ногами могильный камень. Поэтому разборку завалов он начал с края. Сначала ему попадались не очень массивные обломки, но вскоре под грудой щебня открылась треснувшая вдоль и поперек неподъемная плита межэтажного перекрытия.
Тогда Эрикс, вооружившись куском жести, стал рыть с другой стороны и вскоре обнаружил новенькую девичью туфельку. Если детей и эвакуировали, то не всех. Впрочем, для его дочери туфелька была великовата, и это оставляло хоть какую-то надежду. Думать о чужом горе он уже не мог.
Работать в одиночку ему пришлось недолго. Один за другим начали появляться заплаканные и растерянные родители. Потом на помощь им пришли местные жители, которым уже все равно было нечего спасать, кроме фундаментов своих домов. Последними прибыли спасатели из гавани, но у них не оказалось при себе никакого инструмента, кроме десятка лопат и нескольких наспех изготовленных ломов.
Из-под развалин еще не извлекли ни единого трупа, но то, что они там, было известно достоверно. Эрикс, без передышки таскавший камни уже несколько часов кряду, перестал что-либо соображать и действовал как машина — тупо и размеренно. Он даже не сразу осознал, что женщина, настойчиво пытающаяся отвлечь его от работы, очень похожа на его жену. Она что-то кричала, но он не понимал.
— Это ты? — вымолвил наконец Эрике. — А я вот, видишь…
— Пойдем домой! — кричала она сквозь слезы. — Тебя дети ждут! Да очнись же ты!
— Дети дома? — Эта простая истина никак не могла пробиться сквозь корку, которой уже успела покрыться его душа. — Правда?
— Я уже давно чувствовала, что они частенько прогуливают, — рыдала жена, — вот и сегодня вместо школы пошли в парк. Говорят, что давно не катались на каруселях.
— Лентяями растут… — сказал Эрикс рассеянно. — Только в кого бы это…
То, что произошло сейчас, было как грянувший в упор выстрел. Но пуля чудом миновала его сердце.
Добираясь домой по улицам парализованного и изувеченного города, а потом поднимаясь пешком на двенадцатый этаж, они совершенно выбились из сил. По пути Эрикс, стыдясь самого себя, подобрал брошенную кем-то трехлитровую бутылку минеральной воды. Она оказалась как нельзя кстати — водопровод бездействовал, а дети хотели пить. В холодильнике нашлась еда, но разогреть ее было не на чем. Пришлось перекусить всухомятку.
— Мама, — сказал мальчик после ужина. — Я спать хочу. Почему вы меня не укладываете?
Узнать время было неоткуда, механические часы сохранились разве что в музеях, но Эрикс и сам чувствовал, что нынешний день выдался каким-то уж очень длинным. За окном стояла все та же серая полумгла, что и много часов назад.
Они уложили детей (дочку едва ли не силой) и остались сидеть в столовой у неубранного стола.
— Скорее бы все это закончилось, — вздохнула жена. — Я так хочу принять душ.
— А я сегодня чуть не погиб, — сообщил Эрикс. — Два раза… Нет, даже три.
— У меня тоже были неприятности, — как бы оправдываясь, сказала жена, работавшая в косметическом салоне. — Я подтягивала кожу одной даме, а тут вся аппаратура отказала. Представляешь? Пришлось делать швы вручную. Хорошо хоть, она была под наркозом. Представляю, какой поднялся шум, когда она очнулась.
— Шума сейчас достаточно и без вашей дамы… Подумай хотя бы о разрушенной школе. Ее посещало несколько сотен детей. И не все из них оказались прогульщиками.
— Да, печально… — Жена открыла дверцу холодильника, но, не обнаружив ничего такого, что возбудило бы ее аппетит, снова захлопнула. — Боюсь, что занятия начнутся не скоро. Куда бы на это время пристроить детей?
— Сама будешь с ними сидеть.
— Ты считаешь, что я должна бросить работу? — насторожилась жена, очень дорожившая своим местом.
— Уверен, что завтра ваш салон не откроется. И послезавтра тоже.
— Надеюсь, ты шутишь? — Она вновь лязгнула дверцей холодильника.
— Не надо открывать его без необходимости, — поморщился Эрике. — Иначе продукты испортятся гораздо раньше, чем мы съедим их.
— Что ты хочешь этим сказать? — обиделась жена.
— Я хочу сказать, что надо беречь все, что у нас осталось. Понимаю, что могу показаться тебе брюзгой, но у меня очень плохие предчувствия.
— По-твоему, это безобразие, — она махнула рукой в сторону окна, — может затянуться?
— Кто знает…
— Но ведь это не средние века! Нам должны прийти на помощь, — ее голос дрогнул.
— Должны, — кивнул Эрике. — Давно должны. Но почему-то не приходят. У нас нет никакой связи с внешним миром. Она пропала еще раньше, чем электроэнергия.
— При чем здесь связь? Над нами летают стратолайнеры. Нас видят со спутников… И вообще…
— Знать бы, где сейчас эти спутники. — Эрикс поскреб ногтем по крышке стола, еще недавно выполнявшего множество операций, начиная от сервировки и кончая мытьем посуды, а теперь превратившегося в бесполезный хлам. — Посмотрим, что творится на небе… Нас как будто в шкатулку заперли.
— Ты издеваешься надо мной. — На ее глаза опять навернулись слезы. — Тебе нравится меня пугать…
— Совсем нет. Мне и самому страшно. В особенности за детей… Давай лучше ляжем спать. Представляешь, проснемся завтра, а все уже наладилось. И электричество есть, и вода, и все остальное.
— В самом деле! — Она просияла. — Так оно, наверное, и будет.
Обнявшись, они отправились в свою спальню и улеглись на вчерашние простыни, которые постель так и не успела заменить. В их распоряжении было много всяких хитроумных приспособлений, умевших доставить и мужчине и женщине такое наслаждение, какое редко испытываешь при обычных формах половой близости, но ныне сам Бог велел супругам заняться взаимными ласками.
— Ты знаешь, я почти не помню, как это делается, — сказала жена извиняющимся тоном, когда возбужденный Эрикс уже был готов овладеть ею. — Надеюсь, ты не забыл о мерах предосторожности?
— Нет. А почему ты спрашиваешь?
— Ты изменился за этот день… Я иногда не узнаю тебя.
— Изменились мы все… К сожалению.
Несмотря на усталость, уснуть они смогли только после того, как завесили окно простыней. (Обычно стекло само меняло свои оптические свойства в зависимости от времени суток и поры года.) Эрикс всегда спал очень чутко и, когда в дверь постучали, сразу проснулся. Сначала он никак не мог взять в толк, что случилось и чего от него хотят (каждая квартира в их доме была оборудована электронным привратником, и такое понятие, как «стук в дверь», давно вышло из употребления), но потом все же вылез из постели и босиком прошлепал в прихожую.
Сакраментальная фраза: «Кто там?» — стала уже анахронизмом, и Эрикс попросту распахнул дверь, ни один из замков которой толком не действовал. На пороге стоял его сосед по этажу, немолодой и одинокий, но еще весьма энергичный человек, имя которого как-то не удержалось в памяти Эрикса. Одет он был так, словно собирался в дальнюю и нелегкую дорогу, а в руках держал бутылку с весьма привлекательными этикетками.
— Добрый день, — сказал он, похоже, ничуть не смущаясь, — а может, и доброе утро. Вопрос этот, конечно, проблематичный, но обсуждать его сейчас мы не будем. Ведь не будем?
— Не будем, — растерянно кивнул Эрике и только сейчас сообразил, что держать гостя на пороге неприлично. Поспешно отступив в глубь прихожей, он сказал: — Проходите, прошу вас.
Сосед как будто бы только этого и ждал. Уже без всякого специального приглашения он прямиком направился в столовую, уселся на стул, который обычно занимал сам Эрикс, и водрузил в центр стола свою бутылку.
— Этому коньяку, — объявил он не без гордости, — не менее восьмидесяти лет. Он купажирован более чем из двадцати сортов виноградного спирта специалистом, предки которого посвятили этому благородному занятию пять веков. Когда-то такие напитки употребляли только короли. Давайте и мы выпьем!
Эрикс сразу вспомнил, что его сосед увлекается коллекционированием старинных спиртных напитков и на этом поприще приобрел немалую известность.
— А стоит ли? — возразил он осторожно. — Я, прямо скажу, не большой знаток подобных вещей. Зачем зря губить такую ценность. Сейчас найдем что-нибудь попроще.
— Не надо. — Сосед вытащил из кармана антикварный позолоченный штопор. — Конечно, это жемчужина моей коллекции, но остальные три сотни бутылок находятся в целости и сохранности. Жаль, что у нас нет ни времени, ни физических сил, чтобы сегодня опорожнить их все.
После этих слов Эрикс понял, что его гость слегка пьян. Памятуя, что спорить с нетрезвым человеком то же самое, что перебрехиваться с собакой, он отправился на поиски бокалов. Дело это было весьма непростое, потому что раньше такие вопросы находились исключительно в компетенции электронного дворецкого.
Проблуждав в полумраке по дому, Эрикс ни с чем вернулся в столовую. Сосед тем временем уже разлил свой уникальный напиток в пластиковые стаканчики, оставшиеся после йогурта.
— Полагаю, что без тоста нам не обойтись, — он внимательно глянул на Эрикса.
— Не знаю даже… — пожал плечами тот. — Сколько всего случилось… Даже в голове не укладывается… Давайте выпьем за то, чтобы все опять наладилось.
— Достойный тост, — сосед кивнул. — Как раньше говорили: за все хорошее. — Свой стаканчик он опорожнил одним глотком и закусывать не стал.
Его примеру последовал и Эрикс. Восьмидесятилетний коньяк резанул горло и улегся в желудке кучей горячих углей. Ничего более гадкого Эрикс в своей жизни еще не пробовал. С минуту за столом царило неловкое молчание, затем сосед вновь наполнил стаканчики и отставил бутылку в сторону. Эрикс понял, что сейчас начнется разговор, ради которого он и пришел сюда.
— Досталось вам, как видно, вчера? — спросил гость.
— Вспомнить страшно. Едва жив остался.
— Что дальше думаете делать?
— Не знаю… Подождать надо… Должно же быть какое-то распоряжение муниципалитета.
— А как вы о нем узнаете?
— Это уж их забота… Хотя… Проблема, конечно, колоссальная… — Коньяк подействовал на Эрикса странным образом: не успокоил, не расслабил, а, наоборот, еще больше усилил тревогу. Сейчас он наконец-то представил себе все то, чего не мог представить раньше — мир, в котором из всех средств связи осталось разве что письмо, посланное с нарочным, а информация распространяется только с помощью глашатаев да еще в рукописных листовках.
— Скажите, а какой момент впечатлил вас вчера больше других? — спросил гость. — Но без связи с вашими личными обстоятельствами.
— Дайте подумать… Наверное, то, что творилось на небе. Картина, скажу я вам, была весьма жутковатая.
— Сам я этого не видел. Но мне рассказывали… То был, так сказать, завершающий аккорд. Жирная точка в конце последней строки. А все началось значительно раньше, и мне пришлось быть свидетелем этого.
Тут Эрикс припомнил еще одну подробность из жизни соседа — тот был крупным специалистом по кирквудовской энергетике и даже, кажется, имел ученую степень доктора. Вот только имя его совершенно выветрилось из памяти Эрикса, и он про себя стал называть соседа «доктором».
— Свидетелем чего? — переспросил Эрике.
— Свидетелем начала конца. Меня как раз вызвали для консультации в центральную диспетчерскую. Природа сил Кирквуда до конца не ясна, и что бы там ни говорили, всегда существует опасность какого-нибудь неприятного сюрприза. Поэтому мы вынуждены постоянно контролировать состояние окружающей среды. По тысячам параметров одновременно. И если хотя бы сотая часть их начнет менять величину, это означает аварийную ситуацию. Вы меня понимаете?
— Конечно.
— Примерно за час до того, как случилось самое страшное, началась какая-то чертовщина с приборами. Нечто просто невозможное. Если верить их показаниям, изменилось все на свете. Скорость распространения электромагнитных волн, гравитационная постоянная, электрическая постоянная, величина элементарного заряда, масса покоя большинства элементарных частиц, все планковские константы.
— Признаться, я не совсем понимаю, как это может отразиться на моей личной судьбе и судьбе моих детей.
— Если приборы не врут, мы находимся уже не на Земле. И даже не в нашей Вселенной.
— Тем не менее мы живем. Дышим. Пьем коньяк.
— Это загадка и для меня. — Гость резким взмахом руки вдруг смахнул со стола наполненные стаканчики. — Извините… Но это уже не коньяк! Электроны его атомов заняли совсем другие орбиты. И мы уже не люди… И мир вокруг уже не принадлежит нам… Но я пришел к вам совсем с другой вестью. Сожалею, но она тоже печальная.
— Я уже начинаю привыкать к тому, что время хороших вестей закончилось. Говорите, не стесняйтесь.
— Хотя результаты измерений свидетельствовали о весьма неблагоприятных изменениях в окружающей среде, автоматика, следящая за безопасностью кирквудовских установок, на это никак не отреагировала. Аварийного отключения не произошло.
— Хотите сказать, что установки Кирквуда работают до сих пор?.
— Это факт.
— И нет никакой возможности отключить их?
— Для этого пришлось бы как минимум разрушить все приемные устройства. Вряд ли такое возможно сейчас. Силы Кирквуда продолжают накапливаться в нашем мире, и мы ничего не знаем о последствиях, которые может вызвать их чрезмерная концентрация. Одна из наиболее мощных установок находится прямо под этим домом. Да и вокруг их натыкано предостаточно. Хотелось бы надеяться, что авария не произойдет или по крайней мере не вызовет столь разрушительных последствий, как, например, взрыв атомного реактора. Но на вашем месте я бы постарался как можно быстрее покинуть город. Тем более что санитарная обстановка здесь вскоре ухудшится до такого предела, что сделает жизнь вообще невозможной.
— Чем я обязан вашему вниманию к моей скромной персоне? — Эриксу очень не хотелось верить в мрачные пророчества гостя.
— Вашим детям, — ответил тот прямо. — Я вижу их чуть ли ни каждый день, и они мне очень симпатичны. Дети, наверное, единственное, что мы еще можем спасти. А уж им потом придется отстраивать мир заново.
— Куда же нам идти?.. Я даже не представляю…
— Уходите как можно дальше от города. В глубь страны или к восточному побережью. Туда, где есть вода и лес. Здесь я отметил все известные мне установки Кирквуда, — он ткнул пальцем в вырванную из старой книги и сплошь испещренную крестиками географическую карту. — Постарайтесь захватить с собой как можно больше пищи. Но только такой, которая долго не портится. Не стесняйтесь грабить магазины. Наша экономическая система все равно рухнула, и кредитные карточки к оплате больше не принимаются. Пока в городе еще не начался хаос, запаситесь кастрюлями, ножами, теплой одеждой. Добывать огонь подручными средствами вы умеете?
— Никогда не пробовал.
— Надо учиться. Жаль, что бензиновые зажигалки и спички давно вышли из употребления. Да и увеличительное стекло вряд ли поможет, — он покосился в окно, сквозь которое едва пробивался мутный свет.
— Что же тогда делать?
— Понадобится вата, какая-нибудь горючая жидкость вроде одеколона и пара камней для получения искр… Ну и смекалка, конечно. Людям всему придется учиться заново… Для человечества наступают тяжелые времена.
— А если я не последую вашему совету? — Эрикc в упор глянул на гостя.
— Последуете, — мрачно хохотнул тот. — Я даже и не сомневаюсь в этом. Вы последуете моему совету, когда в соседних кварталах будут разграблены все магазины, улицы превратятся в отхожее место, а немногие сохранившиеся водоемы станут источником заразы. Только боюсь, будет уже слишком поздно.
Эрикc молчал, не зная, что ответить. Гость отпил несколько глотков прямо из горлышка бутылки и встал.
— Прощайте. Я хочу предупредить еще несколько человек в нашем доме. Тех, у кого есть дети.
— Каковы ваши дальнейшие планы?
— Скорее всего, я останусь в городе. Кому-то ведь надо проследить, чем закончится вся эта эпопея с установками Кирквуда.
— Тогда желаю успеха… Спасибо, что предупредили.
— Не стоит благодарности. — Губы гостя опять скривились в невеселой ухмылке. — В древности тем, кто приносил дурную весть, заливали горло расплавленным свинцом. А я всего лишь отхлебнул паршивого коньяка… Еще раз прощайте…
Странный гость ушел, а Эрикс так и остался сидеть за столом, украшенным кучей объедков и наполовину опустевшей бутылкой. Никакого определенного решения он пока еще не принял. Конечно, страшно было оставаться в городе, лишившемся вдруг всего, что раньше обеспечивало сытую и комфортную жизнь его обитателей, но еще страшнее — уходить из родного дома в неизвестность. Впрочем, некоторые идеи, высказанные соседом, были не лишены практического смысла. В первую очередь необходимо позаботиться о пропитании прежде, чем голод, жажда и отчаяние ожесточат горожан. Однако у ближайшего магазина Эрике наткнулся на полицейского. Оружия он при себе не имел, но один лишь его грозный вид отрезвляюще действовал на законопослушных граждан. Эрикс продемонстрировал стражу порядка свою кредитную карточку и выразил желание приобрести в магазине хотя бы самые необходимые продукты, однако ему вежливо посоветовали обратиться в специальную комиссию муниципалитета, где после регистрации всех нуждающихся снабжали талонами на питание. В связи с отсутствием наличности денежное обращение в городе временно прекращалось.
Делать было нечего, и Эрикс пешком отправился через весь город в муниципалитет. То, что власти не бросили народ на произвол судьбы, внушало ему некоторую надежду. Миновав с дюжину кварталов, Эрикс убедился, магазинов в городе гораздо больше, чем полицейских. Ему попалась лавчонка с распахнутыми настежь дверями, из которых дети и взрослые тащили все что ни попадя. Донельзя смущенный, Эрикс проник внутрь завладел двумя объемистыми коробками сухих завтраков. Присутствующие поддержали его советами и шутками. Какой-то доброжелатель даже сунул Эриксу в карман бутылку ликера. Грабили пока не очень активно без остервенения, скорее ради развлечения, чем ради наживы.
Отправляясь в следующую вылазку, Эрикс прихватил с собой вместительный пластиковый мешок, в котором до этого хранилось манто его жены. Стыдясь встретить свидетелей своего предыдущего грехопадения, он выбрал для промысла другую улицу. На этот раз ему повезло меньше — почти все магазины уже были обеспечены охраной, а в неохраняемых не осталось даже соли и специй.
То, что было нужно, Эрикс обнаружил довольно далеко от дома, в районе рыбного рынка. Торговый комплекс вместе с рестораном занимал целых три этажа и, судя по кипевшей вокруг сутолоке, представлял для мародеров весьма лакомый кусочек. Ювелирный отдел, несмотря на пуленепробиваемые стекла, мог похвастаться разве что черным бархатом своих опустевших витрин. Основательно пострадал и отдел, торговавший самым простым и дешевым хозяйственным инвентарем
— ножами, туристскими топориками, бензиновыми печками. На одежду пока никто особо не зарился, за исключением одной девушки, которую Эрикс заметил в отделе мехов. Она примеряла все шубы подряд, швыряя их затем на пол.
Зато в гастрономическом отделе царило оживление, раньше бывавшее там только накануне Рождества. Хватали главным образом консервы и продукты в вакуумной упаковке. Пользовались спросом также копчености и все виды алкогольных напитков. Кто только не участвовал в грабеже: и дамы, до этого населявшие лучшие особняки прибрежного района, и государственные служащие в строгих костюмах, и клошары, всем другим удовольствиям жизни предпочитавшие дешевое вино и ночлег под мостом. Встречались и вообще странные личности, похожие на ряженых карнавального шествия: перепачканные красной краской лица, голые мускулистые торсы, султаны перьев на голове, дикий взгляд исподлобья.
Эриксу пришлось изрядно потолкаться в этой толпе, прежде чем его мешок разбух до пределов, еще не превышающих разумные, но сильно осложнявших проблему возвращения. Внезапно монотонный гул толпы, грабившей вполне спокойно и деловито, нарушили истерические крики. Несколько молодых полицейских, ворвавшись в торговый зал, принялись отбирать у людей добычу, заодно в устной форме ставя под сомнение их гражданское и человеческое достоинство.
Никто даже и не пытался пререкаться с представителями закона. Правда, пока одни беспрекословно сдавали награбленное и приносили свои искренние извинения, другие спешили к служебному выходу и разбитым витринам. Эрикс, оказавшийся невдалеке от полицейских, еще решал, примеру какой категории сограждан последовать, когда прямо на его глазах произошла неправдоподобная по своему ужасу сцена.
Юный страж порядка, еще даже не имевший своего личного значка, скорее всего кадет полицейского училища, попытался вырвать у одного из ряженых огородную лопату, неизвестно для чего тому понадобившуюся. После минутной схватки краснорожий легко отшвырнул от себя мальчишку и все той же злополучной лопатой раскроил его голову с такой же легкостью, словно это был перезрелый арбуз. Все, кто оказался поблизости, просто окаменели от неожиданности, а убийца хладнокровно нагнулся к мучительно хрипевшей жертве и, набрав полные ладони крови, принялся мазать ею свое лицо и грудь.
Только после этого ошарашенные полицейские (никто из них не то что никогда не видел убийства человека в натуре, но даже не предполагал, что такое вообще возможно) попытались задержать ряженого. Но у того оказалось несколько сообщников — точно таких же, как и он, скуластых, широкогрудых, перепачканных красным молодцов. (Эрикс с опозданием сообразил, что это не краска, а запекшаяся человеческая кровь.) Против безоружных полицейских были пущены в ход бронзовые топоры и короткие дубинки с шестиперыми каменными навершиями. Если очередная жертва извергала в момент гибели недостаточное количество крови, ей ножом перерезали горло, и алая струя хлестала в ладони победителя.
Никто не ожидал такого поворота событий и не мог оказать даже малейшего сопротивления. То, что человек не способен убить человека, давно стало неоспоримой истиной, а следовательно, существа в пышных плюмажах не относятся к роду человеческому. Для всех, имевших несчастье оказаться здесь в этот момент, они были неистребимыми исчадиями ада, чудовищами из бреда, неведомой и страшной силой, которую нельзя победить и от которой невозможно скрыться. Если бы перемазанным кровью чужакам захотелось вдруг перебить вдесятеро большее количество людей, это не составило бы никаких проблем, однако, имея какие-то свои, совсем иные планы, они покинули магазин сразу же после расправы с полицией.
Только добежав до своего подъезда, Эрикс вспомнил о мешке, неизвестно где забытом. Увидев его, жена всплеснула руками:
— Что с тобой опять случилось?! Ты же весь в крови!!
Эрикс никаких ран на себе не чувствовал, но, ощупав одежду, убедился, что жена права — пиджак его напоминал сюртук палача, весь день усердно трудившегося у плахи.
— Это чужая кровь, — сказал он, лязгая зубами по горлышку коньячной бутылки. — Совсем рядом со мной убили человека… Полицейского… А потом еще нескольких… Кровь хлестала во все стороны… А потом убийцы мазали ею свои лица…
Немного успокоившись, он рассказал жене о мрачных пророчествах соседа и о сцене, свидетелем которой он стал в разграбленном магазине.
— Кто же это мог быть? Сумасшедшие? — Жена побледнела. Он заразил ее своим страхом, как раньше заражал страстью. — Ты говоришь, в волосах у них торчали перья?
— Не в волосах, а на шлемах. У каждого был на голове кожаный шлем с плюмажем… А в руках топоры и дубины.
— Какой ужас!
— Я не знаю, кто они такие… Может, их породил эффект антивероятности, вызванный аварией установки Кирквуда. Или они настоящие хозяева этого мира. Недаром сосед говорил, что мы, возможно, находимся в чужой вселенной.
— Какая чушь!
— Чушь или не чушь, но давай вместе решать, как нам следует поступить. В городе становится все опасней. Ради спасения наших детей мы должны покинуть его.
— И не подумаю! — заявила она тоном, какого раньше никогда себе не позволяла. — Ты с ума сошел! Вы оба просто перепились и несли всякий бред! Вот он и засел у тебя в голове! Куда, спрашивается, мы пойдем? По жаре, пешком, с маленькими детьми? Ты погубить нас хочешь! Признавайся!
Эрикс хотел возразить ей, привести какие-нибудь убедительные доводы, но так и не смог найти нужных слов — кровавое происшествие лишило его не только аппетита и веры в светлое будущее, но и красноречия.
Проснувшаяся дочка позвала жену к себе, и та, продолжая костерить Эрикса, отправилась в детскую. Благодаря столетию безопасной и беззаботной жизни у нее атрофировался инстинкт самосохранения, столь свойственный женщинам предыдущих эпох.
Дети, поковыряв холодную кашу, раскапризничались — им хотелось фруктов и пирожных, они желали смотреть развлекательную программу, их тянуло на свежий воздух.
— И в самом деле, почему бы нам немного не погулять, — сразу встала на их сторону жена. — Нельзя же вечно сидеть взаперти.
— А придется! — возможно, впервые за их совместную жизнь Эрикс повысил голос. — Как ты не понимаешь, что вам нельзя выходить на улицу. Сейчас по ним гуляет смерть! Те трое или четверо, что устроили бойню в магазине, были только разведчиками! Оружие они прятали под одеждой! Завтра придут сотни, тысячи, десятки тысяч их собратьев и отнимут у нас все, а в первую очередь — жизнь! Мы совершенно беззащитны против них! Сами убивать не умеем, а все наши боевые машины обречены на бездействие.
— Папа, а когда наступит это завтра? — спросил сын. — Мы уже выспались и два раза поели, а вчера все не кончается. Разве бывают такие длинные-предлинные дни?
— Раньше не было, — наивный вопрос ребенка растрогал Эрикса. — А теперь бывают… Тут уж ничего не поделаешь, надо привыкать. Что касается завтра… оно уже наступило. Хотя мне очень хотелось бы вернуться во вчера.
— Ты бы поменьше языком молол, а лучше сходил бы поискал воды, — продолжала кипятиться жена. — Всего только пара глотков и осталась. Столько времени где-то болтался, а так ничего и не принес. Отец называется…
Эрикс хотел было огрызнуться, но вовремя передумал — хотя жена выбрала совсем не тот тон, в принципе она была права.
Учитывая прошлые ошибки, он решил изменить тактику — главное внимание уделять не супермаркетам и торговым центрам, притягивавшим к себе как мародеров, так и полицию, а мелким закусочным, барам и кафе. Хотя большинство из них уже были основательно обчищены, на минеральную воду, кукурузные палочки, чипсы и сушеные овощные смеси никто особо не зарился.
По улицам шаталось довольно много народа — и просто зевак, и добытчиков, отягощенных мешками и сумками. В местах, считавшихся раньше наиболее людными, были вывешены написанные от руки объявления, предлагавшие воздержаться от паники, не выбрасывать в общественных местах мусора и экскрементов, создавать отряды взаимопомощи, всячески помогать полиции и сообщать в муниципалитет обо всех чрезвычайных происшествиях.
Долгие скитания принесли мало добычи, зато массу новых вестей. Город хоть и медленно, но оправлялся от полученного нокаута — мэр якобы заверил муниципальный совет, что продуктов хватит на несколько лет, заброшенные колодцы ремонтируются, начато строительство паровых машин для подачи воды и откачки нечистот, а опасность вспышки заразных заболеваний отсутствует — в свое время практически все горожане были подвергнуты тотальной иммунизации. Ожидается помощь от других государств, пострадавших в меньшей мере или вообще не затронутых загадочным бедствием.
Прислушиваясь к разговорам горожан, Эрикс выяснил, что трагическое происшествие, в которое он угодил по чистой случайности, было явлением отнюдь не единичным. Маньяки в пернатых шлемах устроили побоище еще в нескольких местах. Жертвы уже исчислялись десятками, и было похоже, что убийц привлекает главным образом человеческая кровь. Одну женщину, с ведром в руке отправившуюся на поиски воды, они сначала изнасиловали, а потом обезглавили ради все той же крови, которой нацедили чуть ли не полведра. Теперь в полицейском управлении срочно формируются специальные отряды, вооруженные щитами, дубинками и огнетушителями разных марок. Кроме того, против убийц предполагалось применить специально обученных собак, чьи предки в свое время оказались невосприимчивы к вирусу усмирителя, поразившему человечество.
В очередном разграбленном бистро, которое посетил Эрикс, хозяин, несмотря на печальные обстоятельства, встретил его на диво добросердечно. Выяснив, что незваный гость, о намерениях которого красноречиво свидетельствовал перекинутый через плечо мешок, имеет двоих детей, хозяин собственноручно вскрыл запоры склада, оказавшиеся не по зубам малоопытным мародерам, и щедро поделился своими припасами.
Эрикс еще не успел толком поблагодарить его, как ящики на полках сами собой пустились в пляс, а люди, секунду назад державшие друг друга за руки, очутились в разных концах склада. С потолка сыпалась штукатурка, пол ходил ходуном, где-то с дребезгом сыпались стекла, и новые приятели поспешили выбраться на улицу.
Здесь подземные толчки ощущались куда менее резко, а толпа, собравшаяся на перекрестке, пялилась вверх с таким видом, будто бы опасность исходила именно оттуда, а не из недр планеты. Эрикс тоже не удержался и глянул в небо. Зрелище действительно было впечатляющим — раскинувшийся над городом решетчатый шатер приемника кирквудовской энергии сотрясался, как паутина, в которую угодил шмель. Вот оборвалась одна нить, на самом деле представлявшая собой напичканную сложнейшей аппаратурой трубу диаметром в десятки метров, вот свилась в штопор другая, а вот просело и перекосилось все грандиозное сооружение.
И под землей, и в небе творилось что-то неладное. Пророчества полупьяного соседа, в которых Эрикс, впрочем, почти не сомневался, похоже, сбывались — загадочная и неисчерпаемая сила, питавшая Вселенную с момента зарождения, сорвалась с цепи, на которую ее посадили изобретательные, но недальновидные людишки.
Землю опять качнуло, и зеваки, стоявшие на перекрестке, исчезли, словно их там никогда и не было. Исчез и сам перекресток: ряды заглохших автомобилей, старинные светофоры, широкие тротуары, узкая мостовая. На этом месте теперь расползалась желтоватая, тускло отсвечивающая лужа, и все, чего она касалась, тоже исчезало. Даже не умом, а, скорее, наитием, Эрикс понял, что присутствует при редчайшем явлении — проникновении одного пространства в другое.
Край желтого пятна исподволь подбирался к нему. Теперь уже было видно, что это никакая не лужа, а некая стекловидная субстанция, напоминающая не то янтарь, не то мед, прихваченный морозом. В ее глубинах можно было смутно различить все то, что совсем недавно принадлежало земному миру, а теперь находилось неизмеримо далеко от него, за гранью привычных понятий: и оцепеневшую толпу, по-прежнему созерцавшую уже ставшие чужими для нее небеса; и машины, казавшиеся сейчас куда более широкими и короткими, чем это было на самом деле; и мостовую, из серой почему-то превратившуюся в оранжевую. Затем Эриксу показалось, что один из светофоров ожил. Вспыхнул и погас зеленый свет, его сменил красный, а потом и желтый, более яркий, чем окружающая его мутноватая желтизна. Это был словно последний привет родной планете, посланный из глубины мироздания, и одновременно предупреждение об опасности.
За пару мгновений до того, как граница желтого пятна достигла ботинок Эрикса, он сорвался с места и кратчайшим путем помчался к своему дому. Страх за ближних уже стал для него столь же обыденным чувством, как раньше забота о них. Но теперь этот страх достиг той интенсивности, когда человек уже не может здраво оценивать окружающую реальность.
Очнулся Эрикс только на своей улице. Сотрясения почвы прекратились, исковерканная приемная решетка больше не меняла своих очертаний, вокруг даже как будто посветлело. За время его отсутствия что-то изменилось здесь, и он не сразу понял, вернее, не сразу позволил себе понять, — что именно.
На привычных местах находились все здания, все фонарные столбы, все деревья в сквере напротив, даже все урны для утилизации мусора. Отсутствовал лишь дом, в котором проживала семья Эрикса. Впрочем, нет, он существовал, запечатанный в массиве магического янтаря, доступный только взгляду и видный сразу с четырех сторон, как в развертке.
— Похоже на зачарованный замок, не так ли? — произнес кто-то у него над ухом. — Помните сказку о злой колдунье, погрузившей в беспробудный сон принцессу и всех ее придворных?
Эрикс медленно отвел в сторону взгляд, в котором уже поблескивала легкая безуминка, и болезненно прищурился, пытаясь разглядеть человека, сказавшего эти столь неуместные слова (четко видеть ему мешала какая-то мерцающая пелена в глазах).
— А, это опять вы, — вымолвил он наконец. — Признаюсь, в тот раз вы оказались правы… Но я, к сожалению, не последовал вашему совету…
— Я так и предполагал, — ухмыльнулся сосед, не то опять пьяный, не то чрезмерно жизнерадостный по природе. — И поэтому недавно снова нанес вам визит. Увы, дома вас не оказалось, и пришлось иметь дело с супругой. Каюсь, но я выставил ее на улицу почти силой. Когда дом вдруг пропал из вида, с ней случился небольшой обморок. Мне пришлось отвести ее в кафе напротив. Дети тоже там.
Вторая смертоносная пуля миновала Эрикса, лишь вздыбив обжигающим ветром волосы на его голове.
Человеку, у которого не осталось никакого другого имущества, кроме того, что на нем надето, легко отправляться в дальнюю дорогу. Этой же мысли придерживался и Доктор (своими соседом Эрикс считать его уже не мог — если нет дома, какие могут быть соседи).
— Ничего, все нужное прихватим в пути, — беззаботно говорил он, ведя за руку мальчишку. — Главное, поскорее выйти из города.
— Конечно, конечно, — соглашалась жена, ставшая вдруг на диво покладистой.
Эрикс хорошенько откашлялся (все предыдущие попытки выразить благодарность заканчивались ничем — язык его еле ворочался, не попадая в унисон с мыслями) и с трудом выдавил:
— Теперь я ваш вечный должник… Еще чуть-чуть, и я бы кинулся в эту желтую яму.
— У вас бы ничего не вышло, — сказал Доктор. — Если это и был пробой пространства, то очень кратковременный. Человеческому взгляду не дано его заметить. А желтая субстанция — вроде как гнойный струп, оставшийся на месте раны. Сейчас там можно в футбол играть.
Они немного помолчали, а потом, чтобы не бередить душу, Эрикс попробовал перевести разговор на другую тему.
— Как я погляжу, не мы одни покидаем город, — он оглянулся по сторонам. — Но с нами-то все понятно, мы люди бездомные. А вот что гонит остальных?
— Страх, — ответил Доктор. — Но вовсе не перед разгулом кирквудовских сил… Дети, вы видите вон ту клумбу? Принесите-ка мне букетик цветов.
— Нельзя рвать цветы с клумбы! — хором возразили дети, но все же вынуждены были уступить уговорам взрослых.
Когда брат и сестра оказались на приличном расстоянии от взрослых. Доктор продолжил:
— До вас доходили слухи о появлении в городе кровожадных чужаков, убивающих всех налево и направо?
— Я видел их собственными глазами, — Эрикса даже передернуло от неприятных воспоминаний. — В метре от меня они расправились с молодым полицейским.
— Так вот, есть совершенно точные сведения, что совсем недавно орды этих дьяволов ворвались в город с севера. Их уже успели назвать «мясниками». Идет резня, какой не было на Земле уже полтора века. Они насилуют женщин и детей. Убивают мужчин. Грабят. А потом собирают кровь мертвецов в большие кожаные мешки.
— Для чего им кровь? — ахнула жена.
— Скорее всего для жертвы богам. Чтобы кровь преждевременно не свернулась, они добавляют в нее сушеных пиявок.
— Никогда бы не поверил, если бы не видел этих убийц сам, — сказал Эрикс.
— И откуда только они явились…
— Осторожней, дети возвращаются… — предупредила жена. — Я пойду с ними вперед, а вы уж одни обсуждайте свои дела.
— Вы спрашиваете, откуда они явились, — произнес сосед некоторое время спустя. — Не знаю. Из другого пространства. Или из другого времени. Возможно, это неизвестная науке ветвь кроманьонцев. Или легендарные атланты. Или предки ацтеков. Или какой-то еще более древний народ. Сейчас это не столь уж и важно.
— Голова кругом идет! Неужели мы не можем справиться с толпой дикарей? Ведь у них нет ничего, кроме топоров и дубинок.
— Зато у них есть что-то большее. Презрение к чужой жизни, жажда убийства. Что мы можем противопоставить им? Уговоры тут не помогут. Угрозы тем более. Остановить этих двуногих волков может только сила. А наше оружие обречено на бездействие… Да дело даже не в этом. Вот ответьте, вы сами способны убить человека?
— Я? — растерялся Эрикс. — Никогда!
— Вот видите, что получается. Точно так же настроены и остальные наши соотечественники. Некоторые полицейские пытались проводить адекватные действия. Взяли ножи, дубинки, музейные сабли. Ни к чему хорошему это не привело. Одни впали в состояние, близкое к шизофрении. Другие попросту потеряли сознание. Третьи едва не покончили с собой… Если в конфликт вступают самые глубинные основы личности, в первую очередь страдает психика.
— Получается, мы обречены?
— Надеюсь, что нет, хотя дела наши весьма плохи. Но выход можно найти даже из самой трагической ситуации. Наиболее простое решение — скрыться от опасности, как это пытаемся сейчас сделать мы. Есть и, другие варианты.
— Какие? — Эрикс не спускал глаз с идущих впереди жены и детей.
— Если мир изменился настолько, что мы вынуждены делить его с совершенно неизвестным прежде народом, надо поискать в нем союзников, не утративших способность к насилию. Варвары-наемники защищали Рим не менее самоотверженно, чем его полноправные граждане. Коль сами мы не можем держать меч, надо вложить его в верную руку.
— Пока это относится к области предположений.
— Пускай. А что нам еще остается делать, как не строить предположения? Вот еще одно. Как вам нравится идея отгородиться от врагов непреодолимой преградой?
— Что-то наподобие Китайской стены?
— Не обязательно. Есть очень надежная колючая проволока, которой огораживают слоновьи заповедники. Минные поля. Рвы с нефтью, вспыхивающие в нужный момент. А еще лучше рвы с водой, отравленной смертельными токсинами… Но, к сожалению, на устройство этих преград потребуется немало времени и усилий.
Так они безо всяких злоключений миновали центр города, похожий сейчас на молодящуюся старуху, с которой стерли грим, сорвали парик да вдобавок еще окатили нечистотами, и вскоре оказались на южной окраине, почти не затронутой бедствиями последних дней. Присоединившись к толпе, грабившей шикарный супермаркет, Эрикс и Доктор запаслись продуктами и кое-какой одеждой. Особенно повезло Эриксу, сумевшему завладеть парой туристских велосипедов. Третий Доктор выменял на бутылку бренди у старика, все равно не умевшего ездить. Благодаря этому они вскоре оказались во главе колонны беженцев.
Пока что самые большие неприятности доставляли им комары, тучами налетевшие неизвестно откуда. На людей они набрасывались с такой алчностью, словно голодали с самого рождения. Пришлось запасаться еще и аэрозольными баллончиками с инсектицидом, не столько губившим, сколько отпугивавшим крылатых кровососов.
Счет времени был давно потерян. Оставалось только надеяться, что биологические ритмы организма не разладились и тяга ко сну означает наступление ночи, а пробуждение — начало нового дня. Если верить такому календарю, беда настигла их на четвертые сутки пути, вблизи от внушительного монумента, представлявшего собой поставленное на острый конец черное яйцо. (Невозможно было даже вообразить размеры птицы, способной снести такую громадину.) Один сплошной город, которым по сути дела и была вся территория Будетляндии, здесь распадался на небольшие городки, отделенные друг от друга узкими полосками садов и плантаций. Все они казались вымершими — люди или покинули свои дома, или боялись высунуть нос наружу.
Привал устроили вблизи циклопического яйца, чем-то понравившегося Доктору. Пока дети, на удивление быстро привыкшие к кочевой жизни, возились на газоне, окружающем монумент, а жена Эрикса стряпала нехитрую пищу, Доктор куда-то отлучился, сказав, что хочет осмотреть окрестности.
Вернулся он явно озабоченный чем-то, хотя виду старался не показывать, дабы не тревожить женщину и детей. Когда трапеза закончилась, он легким кивком головы отозвал Эрикса в сторону.
— Я специально завел вас в эти края, — сообщил он таким тоном, словно сознавался в предательстве. — До сих пор мы обходили стороной установки Кирквуда. И все же сейчас пришли к одной из них. Это экспериментальный образец нового поколения, действующий совсем по иным принципам. Он на порядок мощнее своих предшественников и не требует наличия приемной решетки. Приемником для него служит вся наша планета. Мне было любопытно узнать, как поведет себя это чудо техники в критических условиях…
Он умолк, словно подыскивая нужные слова, и Эрикс, не столько заинтригованный, сколько обеспокоенный, спросил:
— И что же?
— Ясно, что экспериментальная установка тоже пострадала, хотя последствия этого проявляются совсем иначе, чем в предшествующих моделях… Впрочем, тут опять начинается область предположений. В момент аварии старые установки соединяли смежные пространства накоротко, создавая нечто вроде грубой и непреодолимой спайки. Здесь же все по-другому… Похоже, что место соприкосновения миров не закрылось. Понимаете, что я имею в виду?
— Пока не совсем, — признался Эрикс.
— Невдалеке отсюда, возможно, существует туннель, связывающий наш мир с совсем иным пространством. В теории многомерной вселенной такие гипотетические туннели называются «глубокими дромосами».
— Вы предлагаете воспользоваться им?
— Ни в коем случае! Мы ничего не знаем об условиях, царящих на выходе из дромоса. Он может вывести нас куда угодно. В глубины океана, в недра звезды, в космическую пустоту. Кроме того, сопряженный мир не обязательно будет трехмерным, как наш. А это подразумевает совсем другую структуру материи и совсем другие физические законы. Самым разумным будет, если мы немедленно покинем это место. Там, где появился свободный проход, вскоре появятся и желающие им воспользоваться. Сейчас даже предположить нельзя, кто это будет: болезнетворные вирусы, смертоносные паразиты, ненасытные чудовища или просто ядовитые компоненты чужой атмосферы.
— Но пока я не замечаю никаких признаков опасности. — Эрикс глянул в сторону монумента, возле которого расположилась его семья. — Детям нужен отдых… Давайте подождем хотя бы несколько часов.
— Боюсь, как бы нам потом не пришлось жалеть о промедлении. — Доктор заметно нервничал. — Не знаю, в чем тут дело, но все дома в округе пусты. Я не встретил ни единого человека.
— А если здесь успели побывать мясники? — насторожился Эрикс.
— Тогда остались бы следы грабежа, обескровленные трупы… Нет, нам надо уходить. Если что-нибудь случится, вы сами себе этого не простите.
— Согласен, — кивнул Эрикс, убедившись, что спорить с Доктором бесполезно.
— Только постарайтесь не напугать детей. Если они спросят о причинах такой спешки, придумайте какой-нибудь благовидный повод.
Однако придумывать ничего не пришлось. До слуха Эрикса донесся жалобный вскрик жены. Бросив велосипеды и все имущество, она бежала к ним, волоча за собой детей.
— Что с тобой? Что? — Эрикс кинулся им навстречу.
— Там… Там… — Зубы ее стучали, а глаза от страха утратили осмысленное выражение. — Я видела их…
— Кого? — Эрике слегка встряхнул жену за плечи.
— Тех самых страшных людей, о которых ты рассказывал.
— Ты не ошиблась? — Сердце Эрикса заколотилось так, словно он только что одолел по крайней мере половину марафонской дистанции.
— Нет… У них на голове перья… И дубины в руках… Да вон же они, вон!
Но Эрикс уже и сам видел, что из-за яйцеобразного монумента вышли три обнаженных по пояс воина. Их могучие торсы и грубые, суровые лица, казалось, были вылеплены из красной глины. Шлемы двоих украшали плюмажи из черных перьев, а одного, самого высокого, — из белых.
Демонстративно не обращая внимания на кучку людей, застывшую в сотне метров от них, мясники рассматривали брошенные на газоне велосипеды. Неизвестно, к какому умозаключению они пришли, но тот из них, который носил белые перья, отдал какое-то распоряжение, и его соплеменники принялись энергично махать дубинами, приглашая Эрикса и его спутников подойти поближе. Убийцам уже наскучило в поте лица гоняться за жертвами, и тем милостиво позволялось самим подставить голову под разящий удар каменной дубины.
В третий и, видимо, в последний раз судьба целилась Эриксу прямо в висок.
Дети, которым передались страх и отчаяние взрослых, заплакали. Их мать, похоже, уже смирившаяся с жестокой судьбой, закрыла лицо руками. Единственным человеком в мире, способным защитить их сейчас, был Эрикс, и он осознал это с той беспощадной губительной ясностью, которая посещает людей (и то не всех, а самых лучших) только в самые отчаянные минуты всеобщего бедствия.
— До этого… дромоса… далеко? — спросил он, тщательно выговаривая каждое слово.
— Нет, — сипло ответил Доктор. — С полкилометра.
— Минуты две-три, если бежать изо всех сил… Значит, вам придется бежать изо всех сил… Детей возьмете на руки… на три минуты я этих людоедов задержу.
— Вы хоть понимаете, куда посылаете нас? — Голос Доктора сорвался.
— Понимаю. Разве не вы говорили, что дикари вначале насилуют женщин и детей, а потом добывают из них кровь… Я не хочу, чтобы моих детей насиловали. Если им суждено умереть, пусть лучше они умрут в пламени звезды, чем в лапах этих чудовищ. Вам все ясно?
— Все… — пробормотал Доктор. — Может быть, останусь я? Впрочем, нет… вы не найдете входа в дромос.
— Вот и договорились. — Эрикс вытащил из кармана куртки баллончик с инсектицидом. — Отдайте мне свой. В другой вселенной и комары, наверное, другие… Скажите, только честно, шанс выйти из дромоса живыми у вас есть?
— Есть, конечно… Но сейчас его невозможно определить. Смотрите, эти гориллы снова машут нам.
— Тогда вам пора…
— Я вот что подумал… — замялся Доктор, — если вы сумеете задержать мясников на три минуты, мы лучше спрячемся где-нибудь.
— Нет. Они вас найдут. Это прирожденные охотники за людьми. Бегите, пока они не пришли в ярость. Но сначала пообещайте, что никогда не оставите моих детей в беде.
— Никогда. — Доктор глянул прямо в глаза Эриксу. — Я хочу признаться вам… Теперь уже можно. В молодости я подавал большие надежды… Во всем… Считался образцовым экземпляром… И, конечно, сдавал семя. Процедура искусственного оплодотворения окутана тайной, но я сумел узнать некоторые имена… Исключительно из любопытства… Большинство моих детей уже взрослые… За исключением его, — он погладил по голове плачущего мальчика. — Конечно, это ваш сын… Но и я не пожалею для него своей жизни.
— Тогда я спокоен. Удачи вам.
Прощаться было некогда, белоперый уже за что-то гневно выговаривал своим подручным, и Эрикс, сунув сына в руки жене, подтолкнул ее в спину. Этого оказалось вполне достаточно — дальше ее погнал инстинкт жертвы, спасающейся от хищника. Бежала она даже быстрее, чем Доктор, которому досталась более тяжелая ноша — девочка.
Мясники, узрев вдруг, что большая часть их добычи (и причем — самая лакомая) пустилась наутек, тоже сорвались с места. Впрочем, белоперый, абсолютно уверенный в успешном исходе погони, через несколько шагов остановился и в дальнейшем помогал преследователям только зычными криками.
Эрикса мясники в расчет пока как бы не принимали и весьма удивились, когда он, держа руки за спиной, преградил им дорогу. Впрочем, это было не человеческое удивление, чувство в общем-то доброе, а злобное изумление волков, наперерез которым бросается овца, защищающая своих ягнят.
Тот из мясников, который оказался ближе к Эриксу, замахнулся дубинкой, однако завершить удар не смог, поскольку получил прямо в лицо едкую струю комариной отравы. Спустя мгновение та же участь постигла и другого.
Человек, внезапно утративший зрение, пусть даже он трижды герой и провел на тропе войны всю свою сознательную жизнь, представляет легкую добычу даже для заведомо слабого противника. Быстро добившись перевеса, Эрикс решил продолжать бой до конца. Пока мясники, истошно воя, топтались на одном месте и протирали кулаками глаза, он продолжал тщательно обрабатывать инсектицидом их тупоумные головы. Если предположить, что эти громилы имели вшей (а скорее всего так оно и было), то все они благополучно скончались за эти две-три минуты.
Один из мясников попытался сбежать, но зацепился за древесный корень и растянулся на земле. Его дубина отлетела в сторону. Ситуация складывалась явно в пользу Эрикса. Он не только сумел выиграть нужное время, но и сам получил шанс на спасение. Правда, содержимое баллончиков уже заканчивалось (слишком расточительно оно расходовалось раньше), и мясники должны были вскоре прозреть. Эриксу надо было удирать во все лопатки, но он, одурманенный азартом боя, решил упрочить победу.
Не помня себя, Эрикс подхватил с земли оброненную дубинку и занес ее над мясником, еще продолжавшим держаться на ногах. И тут случилось то, что и должно было случиться в данной ситуации с человеком, глубоко в подсознании которого сидело необоримое отвращение к убийству.
В голове Эрикса что-то словно лопнуло, отдавшись острой болью в глазах, ушах и затылке. Качнувшись в сторону, он едва не потерял равновесия и выронил дубинку. Дурнота быстро нарастала, и, чтобы справиться с ней, он впился зубами в мякоть ладони. Резкая боль привела Эрикса в чувство, но весь он теперь был как тряпка. Не хотелось уже ни жить, ни сражаться, ни убегать. Только спать, спать, и больше ничего.
Мясник, оставшийся у монумента, раскручивал над головой палку с кожаной петлей на конце.
«Это, наверное, праща, — тупо подумал Эрике. — Легкая артиллерия древности».
Хлопка кожаной петли, освободившейся от камня, он не слышал, потому что за секунду до того заснул и тихо осел на землю. Благодаря такому непредвиденному обстоятельству камень угодил не в голову Эрикса, а в ствол величественного платана, росшего у него за спиной.
Потом его грубо подняли на ноги и погнали куда-то. Вокруг шныряли мясники, рьяно выискивавшие попрятавшихся горожан, но никого из своих недавних противников Эрикс среди них не заметил.
Над бульваром, окруженным плотной цепью воинов, стояли крик, плач и тяжкий дух свежепролитой крови. Здесь был сборный пункт для живых, сюда же тащили и мертвых. Пленных, оказавшихся внутри кольца, сортировали по признакам пола и возраста. Молодых и сильных мужчин отводили в одну сторону, всех остальных — в другую. Тем, кто попал в первую группу, предстояло стать носильщиками, а тем, кто во вторую, — грузом. И хотя первая группа по понятным причинам сильно уступала в численности второй, кое-кто в ней рисковал остаться без ноши (и без головы, естественно), потому что один мешок вмещал кровь сразу дюжины человек. Впрочем, и среди женщин попадались не желавшие уступать мужчинам своего законного права на труд. Отчаянно жестикулируя, они пытались доказать палачам, что объемистый, трехведерный мешок не будет для них в тягость.
Наблюдать и слушать все это было настолько тяжело, что Эрикс зажмурил глаза и заткнул уши. Он оказался одним из последних, кому достался мешок, наполненный теплой, еще не загустевшей кровью. Еще троих или четверых мужчин оставили в резерве, а остальных пустили под нож. Эрикс, хоть и отвернулся в этот момент, слышал все, начиная от воплей, неизбежных на начальной стадии такой операции, и кончая бульканьем добываемого продукта.
В путь выступили без промедления, видимо, конвой, не надеясь особо на зелье из сушеных пиявок, опасался за сохранность столь ценного груза.
Единственное, что дозволялось носильщикам, — это вздремнуть на редких и коротких привалах да попить воды из придорожной лужи. Тех, кого оставляли силы, немедленно добивали мясники, и тогда груз крови увеличивался еще на несколько литров. Впрочем, печальный конец ожидал всех пленников, даже тех, кому суждено было осилить дорогу, — в этом никто из них не сомневался. Пользуясь высоким стилем, отряд носильщиков, растянувшийся по дороге чуть ли не на километр, можно было назвать процессией мертвецов.
Но на самом деле все обстояло как раз наоборот — многим из пленников суждено было уцелеть и даже вернуться на родину, зато их конвоирам смерть была гарантирована в самое ближайшее время. Причиной этому явился один малозначительный на первый взгляд эпизод, имевший место несколько дней назад при разгроме мясниками Института санитарии и гигиены.
Вышеуказанное научное заведение славилось своей уникальной коллекцией вирусных и бактериальных культур. В первые часы после катастрофы директор института получил распоряжение мэрии, требовавшее принять все меры к тому, чтобы опасные для жизни и здоровья людей вещества не попали в чужие руки, что могло усугубить и без того трагическую ситуацию.
На следующий день несколько сотрудников приступили к уничтожению опасной коллекции. Поскольку специально предназначенная для этих целей аппаратура бездействовала, а обыкновенный костер не мог гарантировать успех, решено было упрятать контейнеры с пробирками в бетонный саркофаг.
Пока рыли яму, пока искали цемент, пока замешивали раствор, в институт ворвались мясники. Персонал, безуспешно пытавшийся объяснить им всю опасность ситуации, был беспощадно уничтожен, а пробирки, содержащие чумные палочки, холерные вибрионы, малярийные плазмоиды, бактерии сибирской язвы и еще много чего в том же роде, превратились в груды битого стекла, перемешанного с кровью несчастных медиков. Той же кровью победители щедро намазали свои лица. Именно с этой минуты целый букет опаснейших инфекционных болезней стал быстро распространяться среди мясников. (Горожане, еще в раннем детстве прошедшие поголовную иммунизацию, к счастью, были невосприимчивы к эпидемии.) Первые жертвы среди конвоиров появились сразу после того, как пеший караван вступил в пределы страны, впоследствии получившей название «Гиблая Дыра». В данный момент она находилась в положении не менее печальном, чем ее случайная соседка Будетлян-дия.
Поля, дороги, города и деревни были сплошь залиты водой, из которой торчали лишь верхушки холмов да ступенчатые башни храмов, увенчанных изваяниями острогрудой женщины со звериным лицом, обрамленным пышными косами. От холма к холму и от башни к Скиине плавали неуклюжие тростниковые плоты, на один из которых и погрузили всех вновь прибывших.
Уже тогда Эрикс обратил внимание на странное поведение конвоиров. Большинство из них утратили прежнюю прыть и старались прилечь при каждом удобном случае. Одних постоянно рвало, другие мучились кровавым поносом, третьи задыхались от кашля, у четвертых тела раздулись до невероятных размеров. Многие ослепли, и почти у всех на коже появились багровая сыпь и гнойные язвы.
Когда плот пристал к ступеням полузатопленного храма, сплошь усеянным толпами молящихся, около дюжины конвоиров уже не подавали признаков жизни. Кровь, добытая из них, смешалась с кровью несчастных сограждан Эрикса.
Пленников заставили таскать мешки к подножию статуи, где страшный груз принимали бритоголовые, увешанные гирляндами раковин жрецы. Под неумолчное монотонное пение толпы они по специальным лестницам взбирались на плечи своей богини и обильно поливали кровью ее голову, груди и спину. Внизу эта кровь становилась добычей молящихся — ею мазали себя, своих детей и всех, кто находился рядом.
Человеческая кровь должна была умилостивить гневливую богиню, наславшую потоп на свой народ. Так продолжалось по многу часов кряду. Потом плоты привозили новые толпы молящихся, новые жрецы взбирались на плечи богини и новая кровь струилась по уступам храма, сея вокруг смертоносную заразу.
Запасы жертвенной крови быстро шли на убыль, а это означало, что для носильщиков приближается смертный час. Охраняли их уже совсем другие воины, а тела прежних конвоиров, исклеванные птицами и изъеденные хищными рыбами, плавали вокруг.
Жертвоприношение продолжалось, правда, уже не с тем размахом. Богомольцев поубавилось, да и жрецы как-то подрастеряли рвение. За все время долгой службы на богиню выливали теперь не больше пяти-шести мешков крови.
Вскоре плоты вообще перестали прибывать, а жрецы если что и могли, то только стонать и харкать. Над богиней, чей страшный лик был скрыт сейчас толстым слоем запекшейся крови, висели тучи мух.
Охранники тоже едва шевелились. Гораздо гуманней было бы прикончить их, чем наблюдать за долгой агонией, но на такое товарищи Эрикса по несчастью решиться не могли. Лишь после того, как затихли последние стоны умирающих, они очистили от их тел палубу и на веслах пустились в обратную дорогу.
Отсутствие компаса и карты весьма удлинило срок путешествия, но в конце концов на горизонте замаячила слегка покосившаяся, но по-прежнему величественная решетка приемника кирквудовской энергии.
Будетляндия представляла собой зрелище настолько безнадежно-печальное, что у некоторых спутников Эрикса, благополучно прошедших сквозь адовы муки плена, вскоре появились перекосы в психике. Заброшенные города ветшали, немногие уцелевшие жители существовали за счет жалких остатков былого благополучия.
Лишенный медицинской помощи, растерявший почти все свои прежние знания, неспособный к естественному зачатию и утративший всякую надежду народ быстро вымирал. Вблизи от установок Кирквуда, которые теперь функционировали как бы сами по себе, происходили всякие жуткие феномены. Желтые, как янтарь, массивы перестроенного пространства разрастались.
Глубокий дромос, все еще существовавший вблизи яйцеобразного монумента, стал предметом едва ли не культового поклонения. В него уходили все те, кто уже не имел сил жить, но не решался на самоубийство. Назад из дромоса еще никто не вернулся.
Эрикс примкнул к тем, кто еще как-то пытался спасти себя и других. Они разыскивали неразграбленные склады, как могли, лечили больных, по крупицам восстанавливали утерянные знания и даже экспериментировали с различными материалами, пытаясь вновь добыть электрический ток.
Последнюю точку в истории Будетляндии поставили аггелы, проникшие туда через территорию вымершей Гиблой Дыры. Народ, неспособный служить идеям Кровавого Кузнеца, естественно, не имел права на существование. Лишь немногим, в том числе и тяжело раненному Эриксу, удалось спастись в Эдеме…
Боевую машину будетлян они обнаружили лишь сутки спустя невдалеке от места, которое называлось Парком Всех Стихий. Видом своим она напоминала короткокрылый и бесхвостый реактивный истребитель и, по словам Эрикса, могла летать, зарываться глубоко под землю, нырять в воду и даже выходить в космическое пространство.
В момент всеобщей катастрофы машина находилась в воздухе, о чем свидетельствовали руины здания, в которых она ныне покоилась. Впрочем, ее корпус, устойчивый к любым видам воздействия, включая лучевое и ядерное, почти не пострадал. В свое время аггелы пытались проникнуть в нутро машины, на что указывала процарапанная на краске надпись «Власть Каину!», но точно с таким же успехом мартышка могла бы попытаться вскрыть банковский сейф.
На корпусе машины не было заметно ни единого шва, а тем более болта или заклепки. Можно было подумать, что это одна цельная отливка. Эриксу, весьма неплохо разбиравшемуся в технике своей эпохи, потребовалось тем не менее несколько часов, чтобы добраться до оружейного отсека, в котором компактно располагались несколько разнотипных боевых систем, по мере надобности сменявших друг друга у расположенной в носу амбразуры. Было здесь даже что-то, напоминавшее крупнокалиберный пулемет. Кирквудовская пушка, которую Зяблик сразу окрестил Горынычем, размерами и весом не превышала пищали, в свое время украшавшей краеведческий музей Талашевска.
Положительным ее качеством, помимо мощи, было отсутствие нужды в боезапасе (необходимая для выстрела энергия поступала непосредственно из окружающего пространства), а отрицательным то, что ее конструкция не подразумевала участия в стрельбе человека. Зяблик, считавший себя большим знатоком оружия, при всем своем старании не обнаружил ни прицела, ни даже спускового крючка. Эриксу, силы которого поддерживались исключительно пилюлями, обнаруженными в заведении, выполнявшем здесь функции аптеки, пришлось немало повозиться над упрощением систем, изначально предназначенных для роботов, не имевших рук, зато видевших все буквально насквозь.
После всех добавлений и изъятий получилось довольно неуклюжее устройство, похожее одновременно и на бас-геликон, и на все ту же древнюю пищаль. Мощность выстрела Эрикс установил среднюю — город одним залпом не снесешь, но парочку небоскребов запросто.
Все, кроме не любившей шума Лилечки, самого Эрикса да еще Толгая, так и не вникшего в суть происходящего, горели желанием немедленно испытать волшебное оружие.
— Я ведь уже предупреждал вас, что последствия любого выстрела непредсказуемы. — Эрикс пытался отговорить смельчаков от опасного эксперимента.
— Кроме того, мы рискуем преждевременно раскрыть свои планы. Аггелы могут догадаться, каким оружием мы владеем. И, в конце концов, это просто опасно!
— Нет, шеф, так не годится! — возражал Зяблик. — Сам посуди, даже пистолет перед боем испытать положено. А проще пистолета только кувалда устроена. Здесь же техника другого тысячелетия. Как я на дело пойду, если не уверен в ней? Соображаешь?
В конце концов Эриксу надоело спорить, и он начал объяснять методику стрельбы из кирквудовской пушки, не забывая делать пространные экскурсы в ее устройство и принцип действия. Это сразу охладило пыл Зяблика.
— Нет, тут не с моей головой разбираться, — заявил он самокритично. — Учи лучше Смыкова. У него, как-никак, высшее образование.
— У меня, прошу заметить, гуманитарное высшее образование, — немедленно возразил Смыков. — К технике я отродясь способностей не имел. Самой подходящей для обучения считаю кандидатуру товарища Цыпфа.
— Во-во! Обучайте его, обучайте. А он эту пушку или потеряет, или испортит, — буркнул Зяблик, однако был все же вынужден поддержать приятеля. Не бабам же доверять столь грозное оружие.
Лева от оказанного ему доверия слегка струхнул, однако объяснения Эрикса слушал внимательно и даже толковые вопросы время от времени задавал. Когда теоретическая часть закончилась, стали выбирать цель для практических занятий. Ничего более подходящего, чем разукомплектованная боевая машина, на глаза не попадалось.
— Хрен с ней! — выразил общее мнение Зяблик. — Зачем металлолом жалеть!
На всякий случай укрылись за углом соседнего здания (хотя никакой защиты от выстрела Горыныча существовать не могло) и благословили Цыпфа на доброе, хотя и не совсем безопасное дело. Верка его даже перекрестила, а заранее перепуганная Лилечка поцеловала в щеку.
Лева направил пушку нужным концом (не имевшим, кстати, никакого отверстия) в нужную сторону и сделал все так, как учил его Эрикс — что-то покрутил, что-то дернул, а что-то нажал. Ничего даже отдаленно похожего на выстрел не последовало. Зяблик уже хотел пройтись матерком по будетляндской военной технике, но тут лицо его буквально ошпарил ледяной ветер.
— Ништяк! — первым опомнился Зяблик. — Правильная покупка! С такой штукой мы в Отчине за пару дней порядок наведем.
— Не знаю, к счастью или к несчастью, но это устройство действует только в пределах, ограниченных приемником кирквудовской энергии, — Эрикс ткнул пальцем в нависающий над их головами небесный невод. — Вне Будетляндии это совершенно бесполезный предмет.
Вот тут-то и раздался грохот. Откуда-то с высоты посыпались бетонные глыбы и улеглись в кучу, мало чем отличавшуюся от прежней. Сверху на нее грохнулась боевая машина, совершенно не пострадавшая от всех выпавших на ее долю злоключений. Снежный смерч, теряя приобретенную ранее добычу, вернулся на прежнее место и стремительно рассеялся. О сокрушительном выстреле теперь напоминал лишь идеально ровный эллипс инея, окружавший руины.
— Ну и дела-а-а, — покачал головой Смыков. — Как говорится, много шума из ничего.
— Почему из ничего! — возмутился Зяблик. — Попробуй сигани с такой высоты! Костей не соберешь!
— А все же принцип причинности — великое дело, — задумчиво сказала Верка.
— Я это как-то раньше не понимала. Хорошо, что коровы не летают, а у людей рождаются дети, а не бесенята.
— И зубы у женского пола растут там, где положено, а не в другом месте, — добавил Зяблик вполголоса.
Эпопея со сверхоружием окончательно измотала Эрикса.
Его кое-как довели до аптеки, почти не подвергшейся разгрому, но найти для себя достойного лекарства он не смог и ограничился все теми же пилюлями, стимулирующими организм, но никак не препятствующими его необратимому разрушению. В мире будущего людей лечили специальные медицинские комплексы, имевшиеся в каждой квартире. С помощью сети датчиков, установленных в постельном белье, унитазах, ванных и даже столовой посуде, они контролировали здоровье хозяев, самостоятельно ставили диагноз и, если возникала такая нужда, добавляли в их пищу необходимые снадобья. Крах электронных систем означал и полный крах здравоохранения. После того как отключился последний компьютер, никто в Будетляндии не мог даже ссадину толком продезинфицировать, не говоря уже о проведении сложных операций или правильном медикаментозном лечении.
Зяблик, порыскав в окрестностях, отыскал-таки не разграбленный продовольственный склад. Вскрыть его, правда, оказалось куда сложнее, чем подломить обычный райповский магазинчик. Пришлось истратить две обоймы патронов и сломать последний из трофейных мечей. Несмотря на самый дотошный обыск, никаких спиртосодержащих веществ в складе не обнаружилось, да и ассортимент продуктов питания был весьма странный — все вегетарианское и пресное. Не иначе как здесь отоваривались какие-нибудь фанатичные сторонники здорового образа жизни вроде индийских йогов или буддийских монахов.
Решено было оставить Эрикса на попечении Лилечки, а всем остальным идти в поход на аггелов. Как девушка ни артачилась, как ни просила оставить за компанию с ней еще и Верку, ничего не помогло. Верка являлась не только медиком и бывалым бойцом, но и талисманом ватаги. Идти без нее на опасное дело было бы плохой приметой. Для того чтобы хоть немного успокоить Лилечку, всем пришлось дать клятву во что бы то ни стало вернуться. Смыков клялся партбилетом. Чмыхало
— всем пантеоном своих варварских божков. Зяблик делал вид, что рвет пальцами передний зуб и орал: «Сукой буду!», а Цыпфу можно было и вовсе не клясться — и так ясно, что если жив останется, то обязательно вернется.
Остающихся обеспечили водой и питанием чуть ли не на месяц вперед и, уходя, пообещали добыть победу, скальп подлого изменника Оськи и много-много бдолаха, который должен был излечить Эрикса от его непонятной болезни. Прощаясь с ватагой, бывший нефилим сказал:
— Помните все, о чем я вас предупреждал. Старайтесь двигаться по открытой местности. Аггелов близко к себе не подпускайте, шальная пуля может вывести пушку из строя. И ни в коем случае не применяйте ее против существ или явлений, порожденных силами Кирквуда. Хоть и говорится, что клин клином вышибают, не стоит гасить пожар из огнемета… Вы уже наметили маршрут?
— Вернемся к гавани, — сказал Смыков. — Штаб их где-то там располагается.
— Правильно, — Эрикс кивнул. — И не только штаб, но и лаборатория. Сырой бдолах далеко от границ Эдема не унесешь. Если вы меня уже в живых не застанете, то знайте — все, что я рассказал об Эдеме, близко к истине. В ситуации, когда над человечеством нависнет угроза неминуемой гибели, спасение можно будет найти только там… И не надо обижаться на Рукосуева и его друзей. Они еще не настоящие нефилимы. Эдем изменил их, но недостаточно радикально. Нельзя вылепить шедевр из куска уже засохшей глины. Истинными обитателями Эдема станут только те, кто родится там… А вам всем я желаю удачи.
С ажурной башни, представлявшей собой остатки какого-то аттракциона наподобие американских горок, Смыков разглядел вдали здание казино, косо торчавшее среди массива других построек, как разрушенных, так и уцелевших. Путешествовать по Будетляндии было не сложно. Брался визуальный пеленг на одну из вертикальных нитей небесного невода (все они отличались чем-то друг от друга
— то ли пострадали во время катастрофы, то ли так это и было задумано изначально), которая в дальнейшем и служила ориентиром, заметным в любую погоду и с любого расстояния.
Памятуя о наставлениях Эрикса, они шли почти в открытую, поначалу обходя не только районы наиболее плотной застройки, но и отдельно стоящие здания, хотя вполне естественное любопытство побуждало их к более близкому знакомству с жизнью потомков. Да и не всегда удобно было иметь над головой вместо потолка дождливое небо.
— У этого Эрикса просто болезнь такая! Клаустрофобией называется. Боязнь замкнутого пространства, — психовала Верка. — Привык в Эдеме как дикий зверь жить. И нас с толку сбивает. Вон посмотрите, какие платьица в витрине висят! Я бы то розовенькое себе взяла.
— А вдруг это не платьица, — выразил сомнение Зяблик.
— Тогда что же, интересно?
— Шкуры. С таких дур, как ты, ободранные! По вражеской территории идем, а ей, понимаешь, платьице розовенькое приглянулось! Ты себе еще свадебную фату поищи!
— Зяблик, ты тоже болен! — с неподдельным сочувствием произнесла Верка. — Половая слабость у тебя перешла в умственную.
Тем не менее чураться чужого жилья вскоре перестали, что не могло не обрадовать Верку. Камуфляжный костюм, снятый с аггела, она заменить так и не посмела, но роскошным бельем все же обзавелась. Зяблик только плевался, наблюдая, как на очередном привале она примеряет ажурные лифчики, однако в конце концов и сам не выдержал — присвоил легкие и прочные сапоги, очень похожие на те, что были сняты с обнаруженного в Хохме покойника. Слегка прибарахлились и другие члены ватаги — благо в любой брошенной квартире одежды и обуви имелось сверх всякой меры. От бывших владельцев уже и костей давно не осталось, а их тряпки не гнили, не прели и насекомым не поддавались. Умели потомки делать вещи, да только не пошло им это на пользу.
Толгай раскопал где-то шитый золотом алый халат, достойный самого кагана. В любой переделке он должен был демаскировать хозяина, как павлина — его хвост, но выяснилось, что степняк мечтал о такой вещи всю свою сознательную жизнь. Отбирать у него халат было занятие не менее канительное, чем вырывать мышь из зубов голодной кошки.
Цыпф использовал каждую свободную минуту для поиска очков, однако безо всякого успеха. То ли потомки не страдали пороками зрения, то ли поголовно отдавали предпочтение контактным линзам. Пришлось Леве ограничиться широкополой шляпой, придававшей его круглому лицу весьма мужественный вид. В подарок Лилечке он прихватил губную гармошку, единственный музыкальный инструмент, не имевший электронной начинки.
Один только Смыков по неясной причине не опустился до мародерства. Возможно, он опасался заразиться от чужих вещей какой-нибудь неведомой болезнью вроде того самого неизлечимого аидса, о котором рассказывала Верка.
К Леве Цыпфу все теперь относились подчеркнуто уважительно. Даже речи быть не могло о его третировании или использовании на побегушках. Как-никак, безопасность ватаги напрямую зависела от его расторопности и самообладания. Случись с Левой какая-нибудь беда, — и пушка превратилась бы в кусок бесполезного металла. Да и он сам осознавал свою значимость и вел себя так, словно не был виноват ни в побеге Оськи, ни во многих других не менее досадных происшествиях. Никакими тяжестями, кроме пушки, он себя не утруждал, а за трапезой ждал как должного, что ему подадут лучший кусок.
Поставить Леву на место удалось только острой на язык Верке, рассказавшей историю о непутевой обезьяне, затюканной своими более сильными и нахальными сородичами. Эта обезьяна случайно подобрала на опушке тропического леса брошенную кем-то из людей жестяную канистру и приспособила ее вместо ударного инструмента, звуки которого всякий раз повергали стаю в ужас. Очень скоро благодаря канистре обезьяна стала вожаком и уже сама беззастенчиво третировала своих бывших угнетателей.
Лева то краснел, то бледнел, ловя на себе недвусмысленные взгляды Верки, и на следующий день сам нес свой рюкзак и по собственной инициативе бегал на привалах за водой к ближайшему озерцу.
Стыдно было признаться, но в бой никто особо не рвался, даже отчаюга Зяблик. Обладание пушкой внушало расслабляющее чувство безопасности, и собственная жизнь уже не казалась тягостной обязанностью, заранее обреченной на скорый и мучительный конец. Кроме того, хотелось поскорее вернуться в свою пусть и нищую, пусть и постылую, но все же родную сторонку. Если бы не бдолах, о котором втайне мечтал каждый, они давно бы махнули на аггелов рукой. Тем, похоже, и без них жилось здесь не сладко.
Ватага и так могла гордиться своими заслугами. За месяц с небольшим действительно было сделано немало: разведан путь в легендарный Эдем, получены все сведения о бдолахе, выяснены источники снабжения аггелов продовольствием и всякими экзотическими штуковинами вроде тех самых громадных сковородок, которых ни в Отчине, ни в Кастилии отродясь не производили, исследована Нейтральная зона и частично Будетляндия. Впереди, правда, еще предстоял не очень близкий и совсем небезопасный путь, но в душе уже затеплилась надежда на успех. А тут опять надо лезть под пули, да вдобавок еще заниматься рискованными фокусами с одним из основополагающих столпов бытия — принципом причинности.
В тот же день они оказались на расстоянии прямой видимости от здания казино. Наблюдательный пункт решено было оборудовать в расположенном посреди площади бездействующем фонтане, центром которого являлась громадная фигура Посейдона, окруженная более мелкими морскими божествами обоего пола, но по преимуществу хвостатыми. Цыпф, укрывшийся за монументальной задницей какой-то нереиды, поймал себя на мысли, что громадный бетонный ящик казино, у которого стены и крыша поменялись местами, больше всего напоминает вставший торчком гроб, предназначенный для погребения целого народа.
Наблюдение показало, что пост аггелов по-прежнему существует и меняется через неравные промежутки времени, зависящие неизвестно от каких причин. Очередная смена могла длиться и час, и полсуток кряду. Немало аггелов шныряло и в окрестностях, причем с самым деловым видом. Те, чьи головы были прикрыты черными колпаками, постоянно покрикивали на других, ни колпаков, ни рогов еще не удостоившихся.
Высланный на разведку Толгай вернулся с хорошими новостями. Ему удалось определить местонахождение штаба — «Сарай-башлык», как он выразился. Вот только оставалось неизвестным, там ли находится лаборатория по очистке бдолаха.
— Ничего страшного, — сказал Зяблик. — Надо «языка» брать. Все у него, голубчика, выпытаем.
Это в общем-то вполне реальное предложение вызвало у Смыкова странную реакцию. Он хрюкнул, словно нашатыря понюхал, и произнес будто даже со злорадством:
— Боюсь, братец вы мой, как бы нас самих сейчас «языками» не взяли.
Перестраховщик Смыков был известный, но сейчас, судя по всему, его опасения имели под собой почву. Площадь очень быстро опустела, хотя аггелы не убрались с нее куда подальше, а сконцентрировались в боковых улочках и заранее оборудованных по периметру укрытиях. В одном из самых верхних оконных проемов казино блеснуло стекло бинокля. Наступившую зловещую тишину нарушил знакомый шепелявый голосок.
— Вон туда их татарин мотанул! К фонтану! — с подобострастием сообщил кому-то Оська-Иавал, затаившийся где-то в соседних руинах. — Я его сразу засек! Вы это, пожалуйста, не забудьте.
Ответа не последовало, зато сам Оська чуть ли не кубарем вылетел из-под защиты стен на открытое место. По выражению его лица и наклону головы стало ясно, что он только что заработал увесистую оплеуху. Расстояние от него до фонтана было метров пятьдесят, попасть из пистолета можно запросто, но парламентеров трогать не полагалось, а именно такие функции, судя по всему, и возложили на юного предателя.
Был Оська бос, одет в те же самые заскорузлые от крови шмотки, которые успел напялить в казино, морду имел синюю от фингалов и зуботычин, но старался держаться вызывающе.
— Ну что, попались! — злорадно поинтересовался он. — Мы знали, что вы сюда за бдолахом вернетесь! Заранее засаду приготовили!
— Ну и стервец ты, — сказал Зяблик с сожалением. — А как клялся! Как пощады просил! Как Каина грязью поливал! Как от веры своей отрекался!
— Я же понарошку! Чтоб планы ваши вызнать. — Оська воровато оглянулся назад, словно проверяя, как прореагировали на слова Зяблика хозяева его судьбы.
— Здорово я вас вокруг пальца обвел, а?
— Ой, здорово! И не говори! Молодец! — Зяблик даже в ладони захлопал. — Через весь Эдем нас провел. Через границу тайный ход показал. Стражу у люка продал.
— Нет, не продал! — взвизгнул Оська.
— Верно, это я оговорился, — согласился Зяблик. — Ты их не продал, а даром отдал… Да и потом орлом держался. Без твоей помощи мы бы столько аггелов сразу не замочили.
— А это вы врете! — Оська чуть не плакал от обиды. — Все равно я вас обманул!
— За это ответ держать будешь отдельно. — В голосе Зяблика появились угрожающие нотки. — От рогатых, вижу, тебе крепко досталось, но от нас вдесятеро больше получишь. Обещаю. А мое слово — кремень.
— Да вы… Да ты… — Оська опешил. — Вас же всех сейчас на сковороду загонят! Мало что запляшете, лизать ее будете! Вы уже покойники, считай! Если мне не верите, у очкарика своего спросите. Он-то знает, что вам давно каюк светит.
— Подождите, братец вы мой, — Смыков тронул Зяблика за плечо. — Дайте мне… Вас к нам, гражданин Иавал, с угрозами послали?
— Ага… Нет! — торопливо поправился он. — Сказать.
— Ну так говорите!
— Сейчас… — Оська снова быстро оглянулся назад. — Сдаться вы, значит, должны…
— Вот так просто взять и сдаться? — деланно удивился Смыков. — На милость, значит, вашу? Добровольно на сковородку залезть?
— Нет… Не просто… Но добровольно… Сдаться, говорю, добровольно. — Оська даже ладонь к уху приложил, чтобы лучше слышать слова укрывшегося в развалинах суфлера. — Такую милость вам лично Ламех предлагает, пятый в колене Каиновом.
— Если здесь он, то пусть сам покажется.
— А это уже не ваше дело… Раскомандовались тут… Сначала сдавайтесь, а настоящий разговор уж потом будет.
— На каких условиях предлагаете сдачу? — осведомился Смыков таким тоном, словно торговался за стакан семечек.
— На прежних… — Оська действовал по принципу испорченного телефона: хотя и передавал текст куда следует, но половину слов перевирал или путал. — Следить будете, сами знаете за кем… Волю Ламеха исполнять… Заложников, само собой, оставите. Клятвам вашим тут никто не поверит. Дураков у нас нет… Но и с нефилимами поможете справиться… Один ведь сюда вместе с вами пришел. Доверяет, значит.
— Условия, откровенно говоря, не из самых почетных. — Смыков демонстративно зевнул. — Как вы считаете, товарищи?
— Это не условия, а издевательство! — патетически воскликнул Зяблик. — Дожили! Ссучиться нам прямо в глаза предлагают, да еще и заложников требуют! Нет, так не пойдет… У нас встречные условия имеются!
— Ну вы, козлы, даете в натуре! — Оська даже подпрыгнул. — В такое говно залезли и еще условия диктуете! Да вас же сейчас растопчут! Наших тут больше сотни! Вон уже миномет ставят!
Действительно, в дальнем конце площади целая толпа аггелов возилась с ротным минометом, похожим на зеленую самоварную трубу, к которой смеха ради приставили сошки.
— Миномет — это серьезно, — согласился Зяблик. — Хотя минометчики из вас такие же, как и летчики… Ставьте миномет, можете и сами раком стать, но условия наши выполнить придется. Если, конечно, жизнью дорожите… Перво-наперво доставьте сюда мешок бдолаха. Очищенного, по высшему сорту. Качество я сам лично проверю. Сам ты, пиявка болотная, поступаешь в наше полное распоряжение. На суд и расправу. Остальных мы, так и быть, отпустим с миром. До лучших времен.
Аггелы, со всех сторон окружившие площадь, в центре которой скрывались в пересохшем фонтане пятеро самых обыкновенных людишек, конечно же, слышали этот безумный монолог и сейчас должны были давиться от смеха. Это надо же — мышь, угодившая в кошачьи лапы, с миром отпускает своего мучителя, да вдобавок еще требует выкуп в виде куска сала.
Но почему-то никто не смеялся и едких реплик не отпускал. Даже самые тупоголовые аггелы насторожились, ощущая в речах Зяблика какой-то скрытый подвох. Разве может человек, начисто лишенный всех козырей, так нагло блефовать? Что-то здесь явно было нечисто. Если бы шевеление мозговых извилин могло произвести хоть какой-то звук, то над площадью стоял бы сейчас оглушительный скрежет. Растерянный Оська переминался с ноги на ногу, поглядывая то назад, в сторону развалин (это случалось чаще), то вперед, в сторону фонтана.
Вдруг он вздрогнул и, сказав: «Я сейчас!» — скрылся в руинах.
— Щас или на штурм пойдут, или безоговорочно сдадутся, — прокомментировал это событие Зяблик. — Мандраж их взял. А все потому, что крутых начальников поблизости нет. Непруха…
На прежнее место Оська вернулся уже с гораздо более уверенным видом. Похоже, теперь он даже карающей пули не опасался.
— Вы ваньку валять кончайте! — заявил он безо всяких околичностей. — Никто к вам на помощь нынче не придет, не надейтесь даже. Знаем мы, где этот дом… или дон ваш сраный отирается. Пока он сюда доберется, даже сала вашего на сковородках не останется. Крысы подметут.
— Бляха-муха! — Зяблик почти застонал от нахлынувших на него печальных чувств. — Ну бывали и мы сволочи на заре туманной юности! Зачем отрицать! Но чтобы так! Никогда… Нет уж, все! Разговоры закончены! Даю вам тридцать секунд на размышление. Сдавайтесь! Безо всяких условий, контрибуций и репараций.
Оська как будто только этого и ждал. В ближайшее укрытие он юркнул со скоростью метеорита, едва задевшего верхние слои земной атмосферы.
Почти в тот же момент, по-змеиному шипя, вверх взлетела желтая сигнальная ракета. Минометный расчет стал готовиться к выстрелу. Кто-то припал к прицелу, кто-то крутил механизм горизонтального наведения, кто-то уже совал в ствол мину.
— В обычных условиях я бы прикончил этих субъектов безо всяких колебаний,
— сообщил Смыков. — Но в условиях применения оружия массового поражения мы обязаны обеспечить себе хотя бы минимальную юридическую базу… Считаю, что в данном случае мы руководствуемся принципом необходимой обороны… Что вы, товарищ Цыпф, уши развесили? Действуйте! И впредь дополнительных указаний не ждите!
Лева Цыпф взгромоздил ствол пушки на бедро нереиды, направил его в сторону колдующих над минометом врагов и произвел то, что упрощенно можно было назвать выстрелом, а на самом деле являлось грубым вмешательством человека во взаимодействие сверхъестественных сил, питающих и оберегающих мироздание.
Проекция перестроенного или, по выражению Зяблика, «дурного» пространства легла на уже готовый к стрельбе миномет (его расчет, заткнув уши, рассеялся по сторонам). Внешне это походило на солнечное пятно, упавшее на землю. С землей, кстати, ничего чрезвычайного не случилось, она просто осела вниз метров на пять. Паче чаяния миномет и минометчики в образовавшуюся яму не свалились, а в тех же положениях и позах остались парить в воздухе. Мина медленно покинула ствол, потом, словно принюхиваясь, потыкала во все стороны носом и стала вращаться вокруг извергнувшего ее орудия. Вскоре к ней присоединились и минометчики. Это зрелище чем-то очень напоминало любимый всеми планетариями страны аттракцион, изображающий строение солнечной системы.
На некоторое время возникшая картина приковала к себе внимание не только аггелов, но и всей ватаги. Люди диаметрально противоположных убеждений затаив дыхание следили, как их собратья по биологическому виду парили в пространстве, занимая соответствующие своему весу орбиты.
Потом мина взорвалась, да не так, как положено взрываться обычной восьмидесятидвухмиллиметровой мине, а как фугас главного корабельного калибра. Кровавая роса окропила всю площадь. На трезубце Посейдона повисла чья-то прямая кишка. Гриву ближайшего к Цыпфу гиппокампа (Гиппокамп— морской конь в греческой мифологии.) украсил человеческий глаз, вкупе со всеми своими анатомическими придатками похожий на несвежий яичный желток, только, естественно, не желтый, а карий. Оторванная человеческая пятерня залепила Смыкову пощечину.
Но самое неприятное было не это. Самое неприятное было то, что аггелы абсолютно ничего не поняли. Они успели привыкнуть к опасным странностям данного мира, и новое кошмарное происшествие никак не связывали с засевшей в фонтане шайкой самоубийц.
Аггел, использовавший Оську в качестве марионетки, смачно выругался, впервые обнаружив себя голосом. Вверх одна за другой взлетели еще две желтые ракеты.
— Приготовиться к атаке! — команды раздались одновременно и слева, и справа, и сзади. — Короткими перебежками вперед!
— Стоять! — заорал Зяблик. — Мало вам, сволочи! Ну так сейчас еще получите! Бей, Левка, по казино, там их главный гадючник!
По сути, его задумка была вполне здравой. Разрушение столь масштабного объекта должно было просветить недогадливых аггелов относительно того, кому здесь ныне суд править, а кому ответ держать. Но из всех ближайших щелей и подворотен уже лезла до зубов вооруженная рогатая публика, которая могла достичь фонтана куда раньше, чем чувство страха перед неведомым оружием достигнет их мозгов, просветленных, а может, наоборот, затуманенных бдолахом.
Беглая пистолетная стрельба (даже Верка участвовала в ней) причиняла атакующим немалый урон, но вряд ли могла сдержать боевой порыв такого количества фанатиков. Как раз тот случай, когда единственным убедительным доводом для противной стороны является только ее полное и беспощадное уничтожение.
Любое промедление грозило бедой, и Лева начал свою разрушительную работу с левой стороны площади — так ему было удобнее. Меньше чем за пять секунд ствол его пушки описал дугу, ограниченную с двух сторон крайними фигурами в бегущей к фонтану цепи. Даже не удосужившись полюбоваться (или ужаснуться) плодами своих действий, он повторил аналогичный прием и в правую сторону, с той лишь разницей, что постарался не зацепить Оську, стоявшего столбом на прежнем месте. В чем крылась причина такого милосердия, Цыпф и сам не мог объяснить. Дело, возможно, было в том, что наносить вред незнакомому человеку психологически намного проще, чем знакомому, хотя руки у нас чаще всего чешутся именно на них.
Две невидимые дуги соединились в окружность, долженствующую наподобие тайного кабалистического знака оберегать ватагу от происков врага, однако ничего сверхъестественного пока не происходило. Аггелы продолжали бежать. Наши герои продолжали отстреливаться. Громады домов, окружающих площадь, продолжали безмолвно взирать на все эти безобразия пустыми глазницами окон.
Но в каждом из атакующих, попавшем на прицел Горыныча, точно так же, как и в камнях мостовой, которых касались их ноги, уже вовсю бушевали разрушительные силы, порожденные эффектом антивероятности. Кому-то обжег ладонь пистолет, вдруг ставший таким же ярко-красным, как и стальная поковка, из которой он когда-то был изготовлен. У кого-то из физиологических отверстий тела поперло наружу все выпитое и съеденное накануне. Кто-то уже вообще был не человеком, а огромной личинкой двоякодышащего хищника-лабиридонта. Одни явно тронулись умом и утратили способность к ведению активных боевых действий. Другие впали в детство и с жизнерадостными криками «бух-бух» проверяли действие огнестрельного оружия на своих товарищах. Третьи, возможно, вопреки всему, поумнели и смогли осознать всю низость собственного падения.
Но больше всего, конечно, было таких, у кого в организме просто что-то отказало или, напротив, стало функционировать слишком бурно. И если человек, у которого печень внезапно заместилась комком нутряного сала, еще мог некоторое время жить, вплетая свой голос в нестройный, но берущий за душу хор других вопиющих, то его сосед, разорванный скачком внутриполостного давления на части, умирал почти мгновенно.
Многих, вместе с покрывавшей площадь брусчаткой, засосала земля, ставшая где болотной топью, где зыбучими песками, а где и вулканической лавой.
Атака захлебнулась. Поле боя имело куда более жуткий вид, чем аналогичное место на Каталунских полях ('Каталунские поля— место крупнейшего сражения древности, где гунны были разгромлены римлянами и их союзниками.) в июне 451 года или тысячу лет спустя под Грюнвальдом. Там, по крайней мере, вперемежку с людьми не лежали жуткие монстры, имевшие вместо рук клешни, а вместо кожи рыбью чешую, и не бродили среди живых те, чьи раны были явно несовместимы с жизнью.
Порожденные выстрелом Цыпфа процессы превращения естественного в неестественное постепенно замирали. Мироздание зализывало нанесенную ему рану: лава застыла, топь высохла, живые мертвецы полегли рядом со своими уже почившими товарищами.
На ногах остался стоять один только Оська. Его буйную шевелюру словно мукой присыпало. Кроме тягучего мычания он издавал и другие звуки, не имевшие никакого отношения к голосовым связкам.
Взгляд Верки, блуждавший по неузнаваемо изменившейся площади, остановился на Оське, и она с усилием произнесла:
— У Иавала нашего сфинктер слабоват оказался.
— Ясное дело, — буркнул Зяблик, несмотря на довольно прохладную погоду весь покрывшийся потом. — Очко-то не железное… Со мной самим медвежья болезнь едва не приключалась… Ну и наломал же ты, Левка, дров…
Неустрашимый Толгай, бормоча слышанный в детстве заговор от нечистой силы, забился под лопатообразный хвост одного из тритонов.
Только Смыков сохранил твердость духа и ясность мысли.
— Оружие возмездия, братцы мои, это вам не хухры-мухры! — сказал он, со значением подняв кверху палец. — И нечего по этому поводу лить крокодиловы слезы. Враг получил по заслугам. Вам, товарищ Цыпф, я выражаю благодарность за проявленное мужество и умелые действия в условиях подавляющего численного превосходства противника.
— Спасибо, не надо… — изменившимся голосом произнес Лева. — Я понимаю, что профессия палача необходима для общества, но благодарить его после каждой очередной казни за мужество и умелые действия — это уже слишком…
— Как хотите, — пожал плечами Смыков. — Но пушку свою держите наготове. И всех остальных прошу не терять бдительности. Бой еще не окончен. Не исключено, что аггелы введут в дело резервы…
— После такого? — с сомнением промолвил Зяблик. — Вряд ли… Ты лучше, пока они не опомнились, диктуй условия перемирия.
— Эй, есть там кто-нибудь живой! — Смыков, сложив ладони рупором, обратился в сторону руин. — Если не покажетесь немедленно, применяю оружие. Считаю до трех!
После счета «два» рядом с Оськой, по-видимому, слегка тронувшимся умом, встало еще с десяток аггелов — судя по черным колпакам, высшее командование. На Смыкова, взгромоздившегося на парапет фонтана, они смотрели, как волки — но не те волки, что рыщут на воле, а те, которые посажены на цепь. Ламеха среди них не было.
— Почему заскучали, граждане каинисты? — куражился Смыков. — Который из вас сковородой нам грозился, а?
Аггелы помалкивали, поглядывая то в небо, то в землю, то друг на друга. На то, во что превратилось их грозное воинство, никто старался не смотреть.
— Повторяю вопрос! — угроза перла даже не из каждого слова Смыкова, а из каждого звука.
— Это он сам… По собственной инициативе, — один из аггелов кивнул на Оську. — Сопля невоспитанная…
— Снять головной убор, когда со мной разговариваете! — рявкнул Смыков.
Аггел, стараясь не встречаться со Смыковым взглядом, стянул свой колпак. Был он бородат, наполовину сед, а рожки имел маленькие, как у новорожденного бычка.
— Фамилия? Имя? — Смыков спросил, как кнутом щелкнул.
— Вас, надо думать, мое бывшее имя интересует? — уточнил аггел.
— Вопросы здесь задаю я. Интересует меня не бывшее, а настоящее ваше имя. Клички для своих подельников оставьте.
— Грибов Михаил Федорович, — представился аггел солидно.
— Должность?
— Сотник.
— Я про вашу человеческую должность спрашиваю! Кем раньше работали?
— Раньше? — Аггел пригладил растрепанную бороду. — Председателем колхоза.
— Член партии?
— Как водится, — вздохнул он. — Бывший, конечно. Взносов не плачу и собраний не посещаю.
— И каким же образом вы среди этих кровопийц оказались?
— Я извиняюсь, но только ругаться не надо… — Аггел блеснул из-под мохнатых бровей черными цыганистыми глазами. — Я все фронты прошел. И кастильский, и степной, и арапский… Ранен дважды… А здесь, спрашиваете, как оказался… очень просто… Насильно к нам никого не загоняют. Я тоже доброволец. Потому что другого выхода не вижу. Сплотиться нам надо, чтоб не затоптали… Сильная власть нужна. Железные вожди… Идея, опять же… А какая идея у Коломийцева или Плешакова? Про нынешние дела я и не говорю даже… Развели, понимаешь, анархию…
— А идеи Каина вам, значит, подходят? — Говоря языком базарных торговок, Смыков смотрел на Грибова, как парикмахер на плешивца.
— Ехидничать-то зачем? — Аггел передернул плечами. — Идеи наши, если вдуматься, от марксизма мало чем отличаются. Я практику имею в виду. Мы ведь, к примеру, не против всех инородцев огульно… Есть и среди них люди. Кое-кого и перевоспитать можно. Предварительно освободив от влияния господ, попов, шаманов, тунеядствующих умников и всякого другого сора. Народ вот так держать надо, — он резко сжал свою крепкую пятерню в кулак, — а не распускать… Потом еще и благодарить будут.
— Вы мне эту оголтелую пропаганду прекратите! — Смыков погрозил зарвавшемуся аггелу пальцем. — Ренегат позорный…
— Я что… можно и помолчать, — аггел набычился, — сами ведь спрашивали.
— Все, разговоры на вольные темы закончились! — Для убедительности Смыков топнул ногой. — Оцениваю все ваши жизни в мешок бдолаха. Пока кто-нибудь сбегает за ним, остальные будут дожидаться здесь. Срок на все дела — десять минут.
— А после нас, значит, как этих… — бывший председатель колхоза, а ныне сотник каиновой рати Михаил Федорович Грибов кивнул на мертвецов, устилавших площадь, — на смертные муки и поругание?
— Вполне вероятно. Если через десять минут бдолах не будет здесь… А в положительном случае амнистирую.
— Обещаете?
— Ишь ты! — усмехнулся Смыков. — Много хочешь, рогатый. Не обещаю, а подаю надежду. Разве мало?
— Ладно, быть по сему! — Аггел нахлобучил колпак на голову. — Но только мешка бдолаха у нас нет. Мы за все время столько не добыли.
— А сколько есть? — насторожился Смыков.
— С килограмм, наверное, наберется… Или чуть побольше… Борис, сколько?
— обратился он к стоявшему рядом соратнику, имевшему вид скорее школьного учителя, чем адепта людоедской религии.
— Кило двести сорок грамм, — ответил тот флегматично. — И в перегонном кубе еще грамм пятьдесят можно наскрести.
— А не врете, голуби? — Смыков окинул аггелов испытующим взглядом.
— Если не доверяете нам, можете своего человека для контроля послать, — обиделся Грибов. — Да и не станет Борис Михайлович врать. Он в Госбанке раньше служил. При нем кассиры копейку утаить боялись. Почетные грамоты от центрального правления имел.
— Если вы ему так доверяете, пусть идет за бдолахом.
— Э, нет… — на лице Грибова промелькнула хитроватая ухмылка. — Тут дела разные. Деньги одно, а жизнь другое. Трусоват он маленько. Ты, Борис Михайлович, на правду не обижайся… Для такого мероприятия отчаянный человек нужен. Чтоб от смерти уйдя, мог назад к ней вернуться… Меня пошлите.
— У дружков своих спрашивайте. — Смыков принял классическую позу Понтия Пилата, только что умывшего свои руки. — Если какая накладка выйдет, им за вас отвечать придется. И не карманом, а головой.
Собравшись в кружок, аггелы принялись тихо совещаться о чем-то. Похоже, кандидатура сотника Грибова идеальной тоже не считалась. В конце концов они пришли-таки к общему соглашению и вновь выстроились в линию, словно осужденные перед расстрелом.
— Ну все, договорились! Отпускают они меня! — объявил Грибов с заметным облегчением. — Постараюсь за десять минут управиться. Но на всякий случай пару минуток еще накиньте… Кончать их как предполагаете, всех вместе или поочередно?
— Там видно будет.
— Если поочередно, то с этого крысенка начинайте, — он кивнул на Оську, продолжавшего пребывать в состоянии ступора. — Побежал я… Засекайте время.
Несмотря на свой далеко не юный возраст и солидную комплекцию, Грибов довольно резво нырнул в боковую улицу, и вскоре стук его башмаков утих вдали.
— Давайте помозгуем, какую он нам подлянку может устроить, — сказал Зяблик, не спуская пленных аггелов с мушки. — Я этим рогатым ни на грош не верю… Вон, живой пример перед вами… Стоит, полные штаны наложивши… В-вояка…
— Нет, бдолах они нам отдают без звука, — сказал Смыков уверенно. — Тут никаких сомнений быть не может. Такого добра они в Эдеме целый воз накосят… Но отпускать нас вот так запросто, конечно, не отпустят. По следу пойдут тайком, как шакалы. Чтоб из-за угла напасть, внезапно.
— Укокать их всех, что ли, предлагаешь? — равнодушно осведомился Зяблик.
— Решение напрашивается само собой.
— Смыков! — возмутилась Верка. — Ты же слово давал!
— Ошибаетесь, Вера Ивановна. Не слово, а только надежду. Вот пусть она вместе с ними и умрет.
— Это еще хуже! Садизм какой-то! Дать надежду, а потом обмануть.
— Разве аггелы свое слово держат? — перешел в атаку Смыков. — Мало вам от них в плену досталось? Забыли, как они всех вас на кол хотели посадить?
— Так ведь это они, Смыков! Они братоубийце поклоняются. Который вдобавок ко всему и Бога потом хотел обмануть. Для них ложь в порядке вещей. Нам-то зачем с них пример брать?
— Ты, Верка, в диалектике слабо разбираешься, — ухмыльнулся Зяблик. — Не в пример Смыкову. Закон отрицания отрицания забыла. Если мы сейчас аггелам отрицания не устроим, они нас потом с большим удовольствием под него подведут.
— Лева, ну хоть ты вмешайся! — Верка пихнула Цыпфа, все это время пребывавшего в тягостном молчании. — Нельзя же так! Пусть они будут аггелами, пусть шакалами, но мы-то себя людьми считаем! Ведь договорились! Ведь обещали!
— Честно сказать, я и сам не знаю, кем являюсь в данный момент… — речь Цыпфа уже не была такой гладкой, как обычно. — Со временем, конечно, все это будет оценено беспристрастно… Но сейчас… Может ли человек, одним взмахом руки уничтоживший такое количество себе подобных, оставаться прежним человеком? Или он переходит на качественно иную ступень развития?
— Ну началось! — Смыков возвел глаза к небу. — Конечно, переходит. Но, заметьте, на более высокую. Кто бы нынче помнил об Александре Македонском или Тимуре, если бы они в свое время такую прорву люден не положили.
— Это личное дело Македонского и… истории… — Лева осторожно отодвинул от себя пушку. — Я больше никого убивать не буду. Заберите это от меня. Лучше я умру сам.
— А про нас ты подумал, толстовец очкастый? — вдруг вспылил Зяблик. — А про девчонку свою, что нас, как ясного солнышка, дожидается? Как она одна выкрутится? Ей же сопли надо вытирать! А нефилим тот не жилец на свете, грех говорить… Как с пленными поступить, это отдельный разговор. А врага в бою одолеть не грехом всегда считалось, а святым делом.
— Равным оружием, не забывай… — возразил Цыпф.
— Какая разница! Я перед боем лишний час не доспал и меч свой как бритву наточил! А ты дрых без задних ног и с тупой железякой против меня выходишь. В чем тут моя вина?
— Это просто демагогия, — поморщился Цыпф. — Так и конкистадоров можно оправдать, и тех, кто атомную бомбу на Хиросиму сбросил.
— И оправдаю, если надо будет! Что бы сейчас с Америкой было, не покори ее конкистадоры порохом и мечом? Резали бы индейцы друг друга каменными ножами и землю палками ковыряли. До колеса даже не додумались! Зато сейчас какие страны в тех местах поднялись! В Мексике, между прочим, девяносто процентов населения потомки тех самых несчастных индейцев. Дай Бог тебе так жить, как они!
— Десять минут, — Смыков глянул на часы. — Пора бы…
— Подождем, — отмахнулся Зяблик. — Назад бежать всегда труднее.
— А за атомную бомбу почему не заступаешься? — спросила с ехидцей Верка.
— А зачем? Дело же предельно ясное! В ножки нужно тем поклониться, кто ее сбросил. В сорок пятом, кстати, так и делали. В каждой газете союзников поздравляли. Мне отец рассказывал… Если бы не эти бомбы, японцы бы еще года два на своей территории дрались. За каждый дом, за каждую бамбуковую рощу. Дух у них такой, самурайский. Любой мог Гастелло или Матросова переплюнуть. Чтоб в камикадзе записаться, очередь стояла. Сколько бы еще народу зря полегло? Миллионы! А так сотней тысяч отмазались… Лева не потому задний ход дал, что очень совестливый. Просто у него кишка тонка оказалась. Такие, как он, собаке хвост кусками рубят. Имей я возможность, всю бы эту страну спалил, как осиное гнездо…
— Бодливой корове Бог знаешь чего не дал? — усмехнулась Верка.
— Знаю. — Зяблик как бы ненароком коснулся ее груди. — Цицек.
— Двенадцать минут, — объявил Смыков. — Пора принимать решение.
— Дадим еще минуточку! — попросила Верка. — Тринадцатую. У всякой нечисти это счастливым числом считается.
— Но не больше. — Смыков до половины выдвинул магазин, проверяя количество патронов, и тут же вернул его на прежнее место.
— Бежит, — сказал Цыпф с облегчением. — Слышите?
— Бежит, — согласился Смыков, прицеливаясь в горловину пустой еще улицы. — Только вопрос — кто!
Спустя минуту выяснилось, что это на самом деле бежит сотник Грибов, вследствие долгих лет работы на руководящих должностях разных социальных систем утративший как спринтерские, так и стайерские качества. Еще издали он помахивал белым полотняным мешочком.
— Простите, ребята… — бросил он на ходу своим истомившимся в ожидании соратникам. — Из последних сил старался… Далековато все-таки…
Следующая порция извинений предназначалась тем, кто, как мальчишку, гонял солидного человека за всякой ерундой, но Смыков это дело пресек в зародыше:
— Молчать! Мешок в зубы! Руки вверх! Шагом ко мне… Ближе… Стоять! Положи мешок! Наступи!! Еще… Посторонних предметов, похоже, нет… Подними! Ко мне! Стоять!.. Верка, возьми, только осторожно. Теперь проверь.
Верка приняла мешочек из рук Грибова, остановившегося возле самого парапета, и, достав щепотку бдолаха, стала внимательно рассматривать его. Понюхав и попробовав на язык, она сообщила:
— Похоже… И вкус, и запах… Да и трудно за десять минут подделку изготовить.
— Подделку изготовить трудно. А отходов всяких пополам с трухой напихать легко, — сказал Смыков, держа пистолет перед носом Грибова, — Пусть Зяблик проверит.
Зяблик повторил все Веркины манипуляции и с видом записного знатока заявил:
— Оно!
Смыков на эти слова как бы и не прореагировал, а занялся непосредственно персоной Грибова.
— Вы чего зыркаете? Что высматриваете?
— Да не зыркаю я… Это у меня глаз косит… С детства еще…
— А три пальца вы кому показываете?
— Сами же меня руки заставили поднять, — сотник побагровел. — Не разгибаются у меня два пальца… Вот вам и кажется…
— Пальцы тоже с детства не разгибаются?
— Ага, — понимающе кивнул сотник. — Повод для конфликта ищете. Чего уж там! Бейте без повода! Свидетелей не останется!
— Нужны вы мне очень… Пошли прочь, — Смыков махнул пистолетом, словно отгоняя от себя назойливую муху. — Но рук не опускать!
Грибов, пятясь, стал отходить. На его правой руке три пальца по-прежнему торчали вверх, а два были скрючены.
Зяблик, успевший при дегустации сожрать солидную порцию бдолаха, опять запустил лапу в мешок, чему попыталась помешать Верка. Их энергичная возня закончилась тем, что оба повалились на парапет, отпихнув Цыпфа в сторону.
В то же мгновение в окне казино снова блеснула оптика, и всю ватагу обдало каменной крошкой, высеченной пулей из круглого колена нереиды, на которое совсем недавно опирался спиной Цыпф.
Грибов, успевший удалиться от фонтана шагов на десять, по-звериному зарычал и выхватил из-за шиворота гранату. Друзья его шустро рассыпались по площади, подбирая в изобилии валявшееся вокруг оружие.
— Третьего бейте, третьего! В очках который! — не своим голосом заорал Грибов, зубами вырывая кольцо предохранительной чеки.
Пистолеты Смьгкова и Зяблика грохнули одновременно. (Ну со Смыковым-то все было ясно, он с отступающего сотника прицела не спускал, а вот когда успел выхватить свой ствол Зяблик, занятый шутейной борьбой с Веркой?) Все остальное произошло почти одновременно и предельно алогично, хотя силы хаоса, дремавшие в кирквудовской пушке, к схватке еще не подключились. Сотник упал навзничь (кольцо торчало у него изо рта, словно из кабаньего рыла), но откатившаяся в сторону граната не взорвалась — то ли спусковой рычаг каким-то чудом остался на месте, то ли ударник подвел, то ли еще что. Оська внезапно вышел из транса и, подхватив валявшийся невдалеке пистолет, принялся с ковбойской лихостью расстреливать своих командиров, еще не успевших толком вооружиться. Очередная пуля невидимого снайпера все же задела Цыпфа, бестолково метавшегося в узком пространстве между двух морских дев, и он, то ли от боли, то ли от испуга, привел в действие свое жуткое оружие. По счастливой случайности его ствол в данный момент был направлен в сторону здания казино, а не куда-нибудь еще, например, в живот покинувшему укрытие Толгаю.
О дальнейших событиях у каждого члена ватаги остались свои, во многом не совпадающие между собой, впечатления. С Цыпфа, конечно, и спрашивать было нечего — кровь залила ему глаза, а вот Зяблик, в частности, утверждал потом, что видел собственными глазами, как нижняя часть здания казино напрочь исчезла, хотя верхняя странным образом осталась висеть в воздухе и даже не шелохнулась. Верка доказывала совершенно обратное — сначала исчезла именно верхняя часть, где и скрывался снайпер, а нижняя еще некоторое время торчала на прежнем месте.
Смыков не был согласен ни с Зябликом, ни с Веркой. Их некомпетентность в данном вопросе он объяснял алкогольным опьянением первого, наступившим непосредственно после приема бдолаха (в пику сознанию подсознание возжелало!), и истерическим состоянием второй, вызванным не только азартом боя, но и приближающимся климаксом.
По версии Смыкова случилось следующее. Здание само по себе никуда не исчезало, ни целиком, ни частично. Но после выстрела Цыпфа кто-то как бы вырезал его по контуру из нашего пространства. Сквозь дыру, образовавшуюся на фоне неба и других городских зданий, были видны звезды, рассыпанные на абсолютно черном фоне. Причем звезды эти не мерцали, а светились ярко, как маленькие фонарики. Потом по всей этой картине пробежала рябь, словно помехи на телевизионном экране, и здание вновь стало видимым, правда, уже не с той стороны, что раньше. Простояв так не больше секунды, оно рухнуло, еще в процессе падения разрушившись на удивительно мелкие обломки.
Толгай только разводил руками в стороны и твердил одно: «Курку! Ужас!» Отражение этого ужаса еще долго стояло в его глазах, но подходящих слов не находилось.
Впрочем, разговор этот происходил много позже, совсем в другом месте и в куда более спокойной обстановке.
А сейчас все поняли одно — здания казино нет и в помине, а следовательно, снайпера можно не опасаться.
Цыпф, все лицо которого было залито кровью, пятясь назад, уперся спиной в голень самого Посейдона и стал медленно сползать по ней вниз, успев тем не менее произвести еще один выстрел, угодивший неизвестно куда. Смыков и Зяблик продолжали держать под прицелом площадь, на которой, похоже, кроме Оськи, никого в живых не осталось. Толгай и Верка бросились к Цыпфу. Первым делом у него отняли пушку, а потом приступили к осмотру головы. Этому сильно мешала кровь, пропитавшая волосы, как губку.
Верка сначала растерялась, а потом вспомнила, что одно время Толгай брил свою голову, причем с одинаковой ловкостью делал это и ножом, и саблей. Она жестами объяснила ему, что надо делать, и степняк принялся прядь за прядью снимать Левкину шевелюру.
Когда лезвие ножа коснулось раны, Левка застонал и попытался протереть глаза.
Верка, обрадовавшись тому, что жизнь все еще теплится в ее пациенте, зачастила:
— Зайчик, потерпи, все будет хорошо, потерпи, зайчик…
— Шнурок на ботинке развязался! Шнурок завяжите! — пробормотал Цыпф, видимо, контуженный пулей.
К этому времени Толгай уже закончил свою работу цирюльника, и взорам присутствующих открылась рана, наподобие прямого пробора рассекавшая Левкин скальп от лба до макушки.
— Повезло, — сказала Верка, промокнув кровь собственным носовым платком. — На три сантиметра ниже, и была бы у тебя на лбу аккуратненькая красненькая отметина. Как у индийской красотки… Зашить бы следовало, да нечем.
Самым тщательным образом залепив рану будетляндским пластырем и, за неимением других лекарств, накормив Леву бдолахом, Верка отступила на шаг, чтобы полюбоваться делом рук своих.
Кто-то довольно грубо толкнул ее в плечо, и Верка, полагая, что это всего лишь неуклюжая попытка Зяблика подлизаться, решительным движением попробовала отстранить ладонь, оказавшуюся на удивление огромной, твердой и холодной.
Вскрикнув, она обернулась. Плеча ее касался один из уродливых тритонов, ерзавший на своем постаменте, словно живой. Шевелились и другие мифологические фигуры, украшавшие фонтан, в том числе и сам Посейдон.
На мгновение в голову Верки пришла шальная мысль, что многократные и широкомасштабные нарушения принципа причинности вдохнули жизнь в каменных истуканов, но причина столь странного поведения всей скульптурной группы состояла совсем в ином. В движение пришли не только изваяния морских богов и их прислужников. Шатались и расположенные поблизости дома, а сама площадь ходила ходуном, как поверхность штормящего моря. Плавные широкие волны перекатывались из одного ее конца в другой, и трупы аггелов то вздымались на их горбах, то проваливались вниз. Но только не плеск разносился вокруг, а тяжкий скрежет трущихся друг о друга камней. Оська, вытанцовывающий среди этого кошмара некое подобие гопака, напоминал рыболовный поплавок, болтающийся на свежей зыби.
Воздух стал мутнеть и сгущаться. Что-то вроде легкой ряби пробежало по нему, оставляя за собой желтые кляксы, которые быстро росли и со стеклянным звоном соединялись между собой. Через площадь зазмеились трещины. Каменная чаша фонтана треснула. У Посейдона отлетела голова.
— Отходим! — заорал Смыков. Он подхватил пушку. Верка с Толгаем — Цыпфа, а Зяблик — мешочек с бдолахом. Бежать по гуляющим каменным волнам было не менее трудно и опасно, чем по льдинам во время ледохода. Камни мостовой, словно зубы, так и норовили ухватить кого-нибудь за щиколотку. А сзади звенел воздух, превращавшийся в кирквудовский янтарь.
Настоящую надежную твердь под ногами они ощутили, только удалившись от площади метров на сто, но и здесь, на узкой улице, в воздухе поблескивали невесомые желтые чешуйки, в любой момент готовые стать катализаторами если не гибели, то, во всяком случае, радикального изменения окружающего мира, что для населявших его существ так или иначе означало конец земного бытия.
Где-то позади осталась площадь, превратившаяся в один огромный массив кирквудовского янтаря, являвшегося лишь проекцией на наш мир другого, гораздо более сложного пространства. И аггелы, которых, возможно, уже нельзя было считать мертвецами, и Оська, превратившийся неизвестно в кого, находились сейчас так далеко отсюда, что даже обсуждать эту тему не имело смысла.
— Левкина работа! Это он набедокурил! — сообщил Зяблик. — Помните, о чем нас Эрикс предупреждал? Нельзя, дескать, применять эту пушку против явлений, порожденных силами Кирквуда. А он последний выстрел в землю загнал, как раз в самый гадюшник, который под гаванью находится. Вот и поперла на нас эта многомерная яичница.
Цыпф, к тому времени очухавшийся и уже передвигавшийся без посторонней помощи, вынужден был согласиться с данным предположением.
— Эта штука опасней атомной бомбы, — он покосился на пушку. — Нужно как можно скорее привести ее в негодность. Вред, который она способна причинить, несовместим с ее пользой.
— Вы, братец мой, подобные заявления прекратите! — возразил Смыков. — Не навязывайте нам свои пораженческие идеи. Вред от пушки пока что чисто теоретический, а польза практическая. Что бы мы сейчас делали, если бы не она? И в самом деле на сковороде плясали!
— Не обязательно, — сказала Верка. — Нам ведь предлагали компромисс.
— Какой компромисс? Ну ты скажешь тоже! — возмутился Зяблик. — Компромисс
— это когда обе стороны полюбовно договариваются. А аггелы на нас удавку накинуть собирались. Кто им хоть на волосок однажды уступил, уже не хозяин себе. Не отмазаться, не отмыться… Кстати, милый друг Лева, — он перевел взгляд на Цыпфа. — А что этот недоносок имел в виду, когда про тебя говорил?
— Не знаю даже… — Лева пожал плечами столь энергично, что едва не достал ими собственных ушей. — Наверное, молол первое, что на ум взбредет… Бредил от страха…
— Может, и бредил, — молвил Зяблик задумчиво. — И все же допросить этого щенка не мешало бы… Зря мы его там бросили…
— Про пустое чего говорить! — махнула рукой Верка. — Его уже черти на том свете допрашивают.
— Семимерные черти — добавил Смыков.
Обратная дорога много времени не отняла. Возвращались они уже знакомым путем, устраивая стоянки на прежних местах. Цыпф, еще загодя начавший волноваться, постоянно поторапливал своих спутников.
Когда впереди замаячили знакомые силуэты причудливых башен Парка Всех Стихий, он не выдержал и припустил бегом.
— Поосторожней там! — крикнула вслед Верка. — А не то еще напугаешь их до смерти. Сам сейчас на черта рогатого похож!
Лева и в самом деле выглядел жутковато — половина головы выбрита и залеплена успевшим побуреть в дороге пластырем, а вокруг плешины торчат склеившиеся от крови космы волос.
«Только бы ничего не случилось, только бы все обошлось!» — твердил он про себя, еще в детстве уверившись, что несчастье предполагаемое куда менее вероятно, чем несчастье нежданное.
Что же, и на этот раз его опасения не подтвердились. Лилечка, обхватив колени руками, сидела почти на том же месте, где они ее оставили, хотя и выглядела, Как сомнамбула, очнувшаяся от своего страшного сна, но еще не вернувшаяся к реальности.
Эрикс лежал у противоположной стены, и лицо его было покрыто платком, по которому ползали мухи. Здесь же рядом устроилась и уже знакомая Цыпфу парочка близнецов. На вошедшего они смотрели с веселым любопытством щенят, готовых поиграть и повозиться с первым встречным.
— Вы кто? — шепотом спросила Лилечка, глядя на Леву так, словно видела его впервые в жизни.
— Что с тобой? — Он опустился возле девушки на колени. — Тебе плохо? Тебя кто-нибудь напугал?
— Нет, мне хорошо. — Ее глаза были двумя плошками застывших слез.
— Мы вернулись! Разве ты не рада? — Он протянул к Лилечке руки, но та вскрикнула и отшатнулась, словно в лицо ей сунули горящую головню.
Лева беспомощно оглянулся по сторонам: скорее бы уже подошли товарищи и помогли успокоить насмерть перепуганную девушку.
Близнецы шустро вскочили и подбежали к ним. Мальчик поднес ко рту Лилечки чашку с водой, а его сестра состроила Цыпфу уморительную рожу. Гримаса эта, очевидно, означала, что все хорошо и впадать в панику не следует.
Снаружи затопали, и вся ватага ввалилась внутрь. Верка, сразу разобравшись в обстановке, приложила палец к губам: «Тс-с! Помолчите-ка пока!» Лилечка поперхнулась водой и стала отползать в дальний угол.
— Ты что это, подруга, дурака валяешь? — Верка прошла вперед, попутно потрепала по голове мальчишку, а затем ухватила Лилечку за подбородок. — Покойника, что ли, испугалась? Можно подумать, что ты их раньше не видела! Не дергайся! В глаза мне смотри!
Лилечка ощерилась и цапнула Веркин палец зубами, за что тут же схлопотала звонкую пощечину, которая и вернула ее к действительности.
— Вы вернулись? — прошептала девушка, озираясь по сторонам, и осторожно, словно боясь обжечься, дотронулась до Верки. — А я вас уже и ждать перестала.
Следующие четверть часа она посвятила истерическим рыданиям, к которым в конце концов присоединилась и Верка, ранее слезливостью никогда не отличавшаяся. Мужчины тем временем осмотрели Эрикса. Он был давно мертв и успел так закоченеть, что даже Зяблик не смог уложить его руки на груди. Дети резвились, как могли, и на мертвеца не обращали никакого внимания. Мальчик, отобрав у Толгая саблю, ковырял стену, а девочка обносила всех водой, за которой то и дело выбегала на улицу.
— Боже мой, что я здесь пережила одна! — Способность связно изъясняться наконец вернулась к Лилечке. — Как тяжело он умирал! Сначала еще терпел, а потом начал кричать. Целый день, наверное, кричал, не переставая! А когда голос потерял, выл… Я уже и уходила отсюда и опять возвращалась… Все руки себе изгрыз, губы покусал. И помочь ничем не могу. Напою его водой, а назад чистый гной из него гонит… Хорошо хоть эти детки потом появились. Даже не знаю, что бы я без них делала! Какие же они хорошие! И поили меня, и кормили, и успокаивали… Я таких детей никогда раньше не встречала!
— Странные они какие-то. — Верка покосилась на близнецов. — Не разговаривают совсем.
— Не разговаривают, — кивнула Лилечка. — Зато все понимают… Я еще и сообразить не успею, чего хочу, а они уже бегут мое желание выполнять.
— Эрикс перед смертью ничего важного не сообщил? — спросил Смыков, предварительно откашлявшись в кулак.
— Нет, ничего… Только попросил, чтобы его похоронили рядом с родственниками. Даже схему нарисовал. Дети это место знают.
Оба — и мальчик и девочка — сразу дружно закивали нечесаными головенками.
— Далеко это будет, граждане хорошие? — Смыков, по жизни с детьми почти никогда не сталкивавшийся, чувствовал себя не вполне уверенно.
Девочка сложила ладошки вместе, а потом, словно растягивая невидимый резиновый жгут, развела их широко в стороны.
— Далековато, стало быть, — так Смыков прокомментировал этот жест. — Как же нам его туда доставить? Хоть бы тачкой какой разжиться, а еще лучше тягловой силой.
Мальчик заулыбался и замахал руками, — дескать, никаких проблем. На одной ноге он доскакал до мертвого Эрикса и принялся тормошить его.
— Нет! — завизжала Лилечка. — Не надо! Только не это, ради Бога.
Мальчик удивленно обернулся и изобразил на своей чумазой мордашке глубокое разочарование. Жесты его были так естественны и красноречивы, что все сразу поняли, чем именно так недоволен ребенок. Он искренне хотел помочь взрослым дядям и тетям, но если они от такой помощи отказываются, то он и стараться не будет.
— Иди сюда! — Лилечка поманила мальчика к себе. — Я же просила вас больше так не делать!
Тут общее внимание привлек шорох, раздавшийся в том углу, где лежал мертвец. Продолжая пялиться в потолок тусклыми остекленевшими глазами, он пытался приподняться. Члены его не гнулись, все мышцы были как дерево, но тело тем не менее ерзало на полу, словно железный слиток под действием магнита.
— Они мертвых умеют двигать, — сказала Лилечка, прижимая надувшегося мальчишку к груди. — Когда Эрикс умер, я плакала не переставая. Так они, чтобы меня успокоить, заставляли его вставать. Я, дура, сначала обрадовалась, подумала, что он ожил, а потом вижу — нет, как был мертвым, так и остался, только ногами переставляет, вроде марионетки. Ужас какой…
— Способные ребятишки, — сказал Зяблик со значением. — Что же они с живым человеком могут сотворить, если с мертвецами так обходятся?
Никто не ответил. Эрикс уже вновь затих, дети беззаботно играли с пустыми банками и тряпочками, а Толгай с досадой и удивлением рассматривал свою саблю, обух которой, еще совсем недавно идеально ровный, теперь напоминал пропеллер.
После ужина дети умчались куда-то по своим малопонятным делам. Верка, Смыков и Зяблик сразу завалились спать, Толгая определили на пост, а Лилечка шепнула Цыпфу:
— Пойдем погуляем. Не могу больше оставаться здесь… Мне теперь покойники до конца жизни будут сниться… Как и тебе…
Со слов Верки она знала уже о битве вокруг фонтана, о разгроме аггелов, о роли в этом Цыпфа и о его истерической реакции на собственные подвиги.
— Знаешь, а мне уже давно ничего хорошего не снится, — сказал Лева, когда они очутились под серым и глухим небесным куполом, словно подпираемым изнутри ажурной решетчатой полусферой.
— Так, наверное, видится мир птице, угодившей в клетку… — сказала Лилечка, перехватив направленный в вышину взгляд Цыпфа. — Говоришь, тебя кошмары мучают?
— Кошмар… Всегда один и тот же. Будто бы я вновь маленький мальчик, оказавшийся в темном крысином подвале. Только все уже не так, как помнилось мне… Вокруг страшные злые люди. Они уводят мою сестру…
— Так у тебя еще и сестра была? — удивилась Лилечка.
— Пойми, это же все происходит в кошмаре… Я цепляюсь за сестру, а меня от нее отрывают… Я сопротивляюсь, как могу… Брыкаюсь, кусаюсь… Но в ответ раздается только жуткий хохот… Что-то происходит со мной… Чувствую вкус крови во рту… Не своей, а чужой… Слышу ужасные слова…
— Какие?
— Что-то такое вроде: «Живи пока. Но в свое время мы опять придем за тобой…»
— И где эти кошмары у тебя начались? Здесь, в Будетляндии?
— Нет, еще в Эдеме. Сразу после того, как к нам этот несчастный Оська прибился. Чем-то он очень похож на меня… На того, прежнего, из подвала…
— Скажешь тоже! Он же без мата двух слов связать не может! Шпана неотесанная.
— Не знаю… У сна свои законы… То есть совсем наоборот… У сна нет ни законов, ни логики… В мире снов тоже нарушен принцип причинности. Возможно, именно поэтому кошмары так пугают нас. Все необъяснимое и таинственное имеет над человеком странную власть… Скорей бы наше путешествие закончилось. Хочу вернуться в Отчину.
— Думаешь, там будет легко?
— Нет. Но во всяком случае, легче, чем здесь. Этот мир давно превратился в кладбище, в один огромный могильник… И запах тут кладбищенский, и тишина соответствующая, и призраки бродят, как по заброшенному кладбищу.
— Слушай, давай о чем-нибудь другом. У меня эти заупокойные дела вот уже где сидят! — Лилечка приставила ребро ладони к горлу. — Сам понимаешь, что я здесь пережила… Поэтому развлекай меня.
— Каким образом? — слабо улыбнулся Лева. — Взять, что ли, кирквудовскую пушку да выстрелить вон в тот гнилой пень. Вдруг он превратится в клумбу цветущих роз или в виноградную лозу.
— А такое вообще возможно?
— Почему бы и нет. Только вероятность того, что пень превратится в замшелый валун, кучу навоза или другой, еще более гнилой пень, значительно выше.
— Почему?
— Как бы это тебе попроще объяснить… — замялся Цыпф.
— Ой, только не надо считать меня дурой, — обиделась Лилечка.
— Нет, я совсем не это имел в виду… Ты же в школу не ходила, а тут важны термины.
— Объясни без терминов!
— Вряд ли у меня получится… Просто я считаю, что и сам принцип причинности, и его противоположность, возникающая под действием сил Кирквуда, действуют в рамках другого, гораздо более общего принципа. Ну, скажем, закона возрастания энтропии, то бишь беспорядка. Все сущее в природе, в том числе и стрела времени, имеет тенденцию двигаться от порядка к хаосу. Ребенок, едва родившись, начинает свой путь к смерти. Процессы разрушения здания начинаются раньше, чем оно бывает построено. Вселенная движется к гибели. Вот почему вероятность неблагоприятного исхода всегда выше, чем благоприятного…
— Подожди! Однако ведь люди создают из дикого камня прекрасные скульптуры, из железной руды — острейшие клинки, из набора звуков — трогательные мелодии. То есть превращают беспорядок в порядок!
— Тут вопрос нашего личного восприятия… С точки зрения природы дикий камень мало чем отличается от скульптуры. Впрочем, не исключено, что творческая сила разума, духовная энергия есть единственное, что способно противостоять нарастанию хаоса… Но в нашем с тобой случае этот феномен не работает. Надеяться можно разве что на игру случая. А случай, сама знаешь, подставляет подножку гораздо чаще, чем дает крылья.
— Опять ты о печальном! Сколько же можно! — Лилечка остановилась. — У тебя хоть что-нибудь в жизни хорошее было? Ты хоть когда-нибудь о приятном вспоминаешь?
— Вспоминаю… — признался Цыпф. — О тебе.
— Первая радостная новость за целую неделю. — Она положила ладони ему на плечи. — За это тебя и поцеловать можно.
Ее лицо было сейчас так близко, что Лева видел одни только глаза — огромные и в самом деле бездонные, лишь у самой поверхности отсвечивающие малахитом, а в глубине своей таящие голубой туман. Леве было стыдно всматриваться в эти чудные очи. Что он мог там разглядеть? Себя самого — плешивого, зачуханного, с кровавым колтуном в волосах.
Впрочем, то, что отражалось сейчас в ее зрачках, сначала даже понравилось Цыпфу. Он и предположить не мог, что выглядит со стороны столь мужественно: черная буйная поросль на черепе, небольшие, но жесткие буркалы, глубоко сидящие в глазницах, волевые очертания рта. Только почему в этом рту столько зубов? И куда делся нос, вместо которого между верхней грубой и глазами зияют уродливые провалы ноздрей?
Неизвестно, сколько времени рассматривал бы Лева этот странный портрет, но Лилечкины веки внезапно захлопнулись, пугливо взмахнув ресницами, а сама она завизжала, вдобавок ко всему еще и вонзив ногти в плечи партнера.
Волосы, еще сохранившиеся на Левкиной голове, шевельнулись, как бы от порыва ветра. Но ветер этот был чересчур горяч и смраден, чтобы в нем не угадывалось дыхание огромной плотоядной твари.
На застывшую во взаимных объятиях парочку наползало кошмарное существо, все сходство которого с человеком только и ограничивалось черной щетиной, покрывавшей бугристый череп, оловянными шарами глаз, утонувших в жестких кожаных складках, зубастой пастью да парой ноздрей, продавленных в широкой, не то кабаньей, не то крокодильей роже. Все остальное: четырехпалые когтистые лапы, волочащееся по земле объемистое брюхо, могучий загривок и голый длиннющий хвост — представителю семейства высших приматов принадлежать никак не могло.
Лева, безусловно, совершил ошибку, пытаясь обнаружить сходство между собой и этим чудовищем. Оправданием ему могло служить только то, что зеркалом, в которое он смотрелся, были глаза любимой девушки…
«Почему же я не захватил с собой пушку?» — такова была первая мысль Цыпфа, выкристаллизировавшаяся среди вихря чувств бессознательных: испуга, досады, ярости.
Впрочем, пушка здесь могла и не пригодиться. Подобное страшилище наверняка было порождено не без участия сил Кирквуда, что могло превратить выстрел не только в акт самоубийства, но и в глобальную катастрофу.
Бежать было уже поздно — чудовище могло легко достать их не только зубами или лапой, но даже и хвостом, который в настоящий момент крушил все, до чего только дотягивался. Бесспорно, зверь пребывал в состоянии ярости. Он клацал челюстями, утробно шипел и вращал глазами так, словно те вовсе и не были соединены с телом. Надежду, да и то призрачную, внушало только одно обстоятельство — тварь недавно плотно перекусила, о чем свидетельствовали не только размеры его утробы, но и застрявшие между зубов свежие клочья мяса.
Лева еще нашел силы, чтобы стать к чудовищу во фронт и упрятать Лилечку за собственную спину. Правая рука сама выдернула из-за пояса пистолет, а левая сбросила предохранитель и передернула затвор. Оставалось решить, что в данной ситуации предпочтительнее — попытаться причинить ущерб противнику или застрелиться самому.
Звонкий жизнерадостный смех помешал Цыпфу достойно разрешить эту непростую дилемму. Из-за загривка зверя выглянули мордашки близнецов. Пока девчонка хохотала, показывая пальцем на Цыпфа, тыкавшего стволом пистолета то в пасть чудовища, то себе в висок, мальчишка соскочил на землю и, ухватившись за кончик хвоста, которым впору было прокладывать лесные просеки, прекратил его разрушительные размахи.
Потом они вдвоем очень толково объяснили жестами, что зверю этому предназначено на время стать транспортным средством, обслуживающим ватагу. Опасен он только в состоянии крайнего голода, а сытый даже муху не обидит. Поэтому они его и накормили впрок. (Девочка в доказательство погладила зверя по животу и зажмурилась от удовольствия.)
— Ну разве они не молодцы! — Лилечка уже привыкла переходить от состояния ужаса к состоянию благодушия за считанные минуты. — Стоило нам только заикнуться о тягловой силе, как они уже все организовали.
— Хотелось бы только знать, где они эту тягловую силу раздобыли, — Цыпф не без труда восстановил власть над своим собственным языком. — Вряд ли в Будетляндии проживают такие монстры.
— Какая нам разница! — отмахнулась Лилечка. — Для них все эти ваши принципы причинности и беспричинности что семечки. Может, они из пространства в пространство лазят, как раньше по гостям ходили.
— Думаешь? — с сомнением произнес Цыпф. — Тогда их тем более надо под надзором держать… По рожам их вижу, что они эту шутку с чудовищем еще разок повторить собираются. Предупреди, чтобы не рисковали. Зяблик спросонья и гранату швырнуть может.
— Да не боятся они, наверное, никаких гранат, — ответила Лилечка, однако строго погрозила сорванцам пальцем.
Те моментально поняли ее, за хвост оттащили зверя в сторону и уложили отдыхать под прикрытием какой-то стены. Впрочем, было ясно, что они не собираются сегодня прекращать свои проделки. Лилечка ребятам, как видно, уже наскучила, и они принялись искать новые жертвы.
Мальчик прицепился к Толгаю и, как тот только ни упирался, опять выклянчил саблю, деформированный клинок которой теперь не хотел входить в ножны. С полчаса он сосредоточенно рубил ветки ближайших деревьев, после чего дефект обуха исчез, зато на боковой поверхности клинка появилась вмятинка, по размеру соответствующая отпечатку детского пальца. Даже папиллярные узоры в ней просматривались.
Девчонку почему-то заинтересовал Лева Цыпф. Сначала она продемонстрировала ему простенький фокус — показав зажатый в ладошке латунный патрон, многозначительно глянула на пистолет, уже возвращенный на прежнее место. Пришлось Леве проверить свое оружие. Как он и догадывался заранее, патрона в стволе не оказалось.
Опасаясь новой и уже не столь безобидной шутки, Лева взял инициативу на себя. Расчертив тротуарную плиту двенадцатью вертикальными и двенадцатью горизонтальными линиями, он набрал достаточное количество разноцветных камушков и принялся обучать девчонку правилам национальной японской забавы «го», представляющей собой по сути более масштабный вариант знаменитых «крестиков-ноликов». Проиграв первую партию, девчонка взяла реванш десять раз подряд и охладела к этому занятию.
Как только ватага проснулась, Цыпф посвятил ее во все вновь открывшиеся обстоятельства. Выслушали его не перебивая, после чего Зяблик был командирован для осмотра зверя. Вернувшись, он невозмутимо сообщил:
— Скотина, в натуре, малоприятная. Особенно с рыла. Да и с хвоста тоже… Но если ей со слоном доведется силой меряться, еще неизвестно, кто кого превзойдет.
— Груз у нас небольшой, — Смыков погладил ствол пушки. — Но откуда точно известно, что эти дошколята собираются нас провожать?
— Ручаюсь, — Лилечка приложила руку к груди, выдающейся впереди, как княвдигед (Княвдигед — в парусном флоте передняя часть судна, на котором, кроме всего прочего, размещались и мифологические фигуры.) парусного судна. — Я ведь с ними уже не первый день общаюсь. Они очень доходчиво все объясняют. Скоро вы и сами убедитесь.
После этого приступили к изучению карты, оставленной Эриксом. Смыков даже перерисовал ее в свой новый блокнот, самолично изготовленный в минуты отдыха из кусочков упаковочной бумаги. Были здесь изображены и казино, и бар, где от них улизнул Оська, и Парк Всех Стихий. Дальнейший маршрут, обозначенный пунктиром, заканчивался уже за пределами Будетляндии. Вдоль него было указано около десятка ориентировок. Место, выбранное Эриксом для своего последнего успокоения, отмечалось крестиком, заключенным в круг.
— Он еще успел сказать, что, когда мы туда доберемся, сами поймем, что к чему, — объяснила Лилечка.
— Жаль, масштаб отсутствует, — посетовал Смыков. — Неизвестно, сколько дней придется идти… Детишки нам не подскажут?
— У меня создалось впечатление, что о времени и о расстояниях у них совсем другие представления, чем у нас с вами, — сказала Лилечка. — Ну как, к примеру, ветер может объяснить, далеко ли от нас отстоит горизонт?
— Шутить изволите? — покосился на нее Смыков, которому вся эта затея не очень нравилась. — Ну-ну…
— Интересно, а что будет, когда эти дети вырастут? — произнесла Верка, поглядывая на близнецов, бомбардирующих друг друга зелеными яблоками, которые они натрясли с одичавших деревьев где-то в дебрях парка. — Что из них получится?
— Люди получатся, — сказал Зяблик. — И неплохие… По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Иначе лет через десять они всем дадут прикурить, начиная от Эдема и кончая Киркопией.
— Люди разные бывают, — хмыкнул Смыков. — Аггелов тоже не змея родила.
— Еще раз повторяю, — произнес Зяблик с нажимом. — Если я что-то понимаю в этой жизни, то в будущем вон из тех ребяток вырастут приличные люди. Вы им в глаза только гляньте, и все станет ясно. Помните, какие глаза у гаденыша Оськи были? Как у волчонка, которого вместо парного мяса репой заставляют питаться.
— Не надо забывать и то обстоятельство, что эти дети не предрасположены к насилию генетически, — добавил Цыпф. — За спиной у них несколько поколений предков, не знавших страха, крови и унижений.
— Матери их были не предрасположены к насилию! Вы меня не путайте! — Смыков помахал перед носом Цыпфа пальцем. — А отцы их самые натуральные насильники. Благодаря чему детки и появились на свет.
Близнецы были целиком поглощены своими забавами и, казалось, на взрослых не обращали никакого внимания, но внезапно яблоко, которым брат швырнул в сестру, изменило траекторию полета и угодило Смыкову прямо в раскрытый рот. Машинально откусив кусок, он тут же выплюнул его и заявил:
— Тьфу, кислятина!.. Ну разве это, скажите, пожалуйста, не насилие?
— Это шутка, — усмехнулась Верка. — Разве ты не понял?
В путь решено было трогаться без промедления. Чтобы избежать хлопот с добыванием пропитания, на зверя, по предложению Лилечки названного Барсиком, нагрузили несколько коробок наиболее вкусных и калорийных продуктов. На его широкой спине свободно могла бы разместиться вся ватага, но после того, как туда возложили завернутое в брезент тело Эрикса, всем, и даже весьма терпимому к покойникам Смыкову, расхотелось ехать верхом.
Впрочем, Барсику предназначалось выполнять в пути обязанности не только грузовика, но и танка. Державшаяся под прикрытием его туши ватага ощущала себя почти в полной безопасности, и эту иллюзию не мог разрушить даже хвост чудовища, время от времени приходивший в движение.
Цыпф полез по какой-то надобности в карман куртки и нащупал там губную гармошку, о которой успел забыть в треволнениях последних дней. Протягивая ее Лилечке, он застенчиво сказал:
— Тебе. Дарю.
— А что это? — удивилась девушка.
— Гармошка.
— Такая маленькая? А как на ней играть?
— Подуй сюда и сама поймешь.
Лилечка подула. Звук получился как у пилы, вгрызающейся в дерево. Тем не менее девушка осталась довольна.
— А что, ничего, — сказала она. — На си-бемоль настроена.
Как ни странно, но новая забава Лилечке понравилась, и вскоре в визге ржавой пилы стали пробиваться голоса скрипки и флейты.
— Талант, — Зяблик поднял вверх большой палец. — А на расческе сыграешь?
— Сыграю, если надо, — ответила Лилечка. За Парком Всех Стихий вновь потянулись городские улицы, но теперь на них даже собак не встречалось. Вполне вероятно, что появление Барсика заставляло все живые существа заранее обращаться в бегство. Не каждая улица годилась для него, и приходилось выбирать самые широкие. Все встречавшиеся на пути преграды — кучи мусора, баррикады из мебели, транспортные экипажи самого разнообразного вида — Барсик или топтал лапами, или отбрасывал мордой прочь. Дети то следовали вместе с ватагой, то куда-то исчезали на время. Судя по всему, окружающая местность была им хорошо знакома.
Зяблик и Цыпф завели разговор о происхождении Барсика.
— Это не рептилия, — сказал Лева. — Посмотри, какие зубы. Полный набор. И резцы, и клыки, и коренные.
— Но это и не млекопитающее, — сказал Зяблик. — Посмотри, какие лапы. Ну в точности как у ящерицы.
— Верно, — согласился Цыпф. — Наверное, это какая-то переходная форма между рептилиями и млекопитающими. Что-то вроде зверозубов, вымерших в триасе. Кстати, обрати внимание на его глаза.
— А что такое?
— Весьма примитивное строение. Даже веки отсутствуют.
— Бедняжка, — вздохнула Лилечка. — Глазки закрыть не может. Что же ему делать в минуты любви или страха?
— Настоящие мужчины в такие минуты глаз не закрывают, — сказал Лева.
— А что, если в Отчину эту зверюгу прихватить? — Зяблик толкнул Смыкова локтем. — И пахать на нем можно, и речки от крокодилов очистит.
— Чем вы кормить его будете, когда крокодилов не станет? — поинтересовался практичный Смыков.
— На степняков дань наложим. По кобыле в день.
— Рано вы, братец мой, прожекты всякие строите. До Отчины еще добраться надо. Сюда мы, худо-бедно, полдороги на транспорте проделали. То на драндулете, то на бегемотах. А назад пешочком придется топать.
— Ничего… Нам бы только до ближайшей миссии добраться, — мечтательно произнес Зяблик. — А там помогут… Лева, какая миссия к нам ближе всего?
— В Киркопии, наверное, — ответил Цыпф.
— Не люблю я Киркопию, — сплюнул Зяблик. — Глухое место… Плешаков, ни дна ему ни покрышки, еще до того, как императором себя провозгласить, решил Киркопию к Отчине присоединить.
— Впервые слышу, — удивился Лева. — Ты ничего не путаешь?
— Зайцы путают, а я ровненько хожу… — поморщился Зяблик. — Мал ты еще тогда был, поэтому и не помнишь…
— Ну а зачем ему это понадобилось?
— Зачем дураку колпак? Но дело, конечно, не в этом. Что ни говори, а объединение стран событие эпохальное. Под такую марку тебе народ все грехи может простить. И то, что разруха кругом, и то, что люди от голода пухнут, и то, что на тебя весь мир ополчился… ну а коль решение есть, надо действовать. Послали туда полномочную делегацию. Кружным путем, через Гиблую Дыру, поскольку с Кастилией отношения осложнились. Кто-то утоп, кто-то без вести пропал, но основная масса делегатов добралась. Изловили они первого попавшегося киркопа и давай с ним переговоры вести. А он, падла, как назло, даром речи не владеет. Решили, что на глухонемого случайно нарвались, и другого изловили. То же самое! Мычит, урчит, улюлюкает, и не больше. Тогда наши послы, не долго думая, сами составили договор о союзе Отчины и Киркопий на вечные времена да и принудили киркопа, уж и не знаю, какого, первого или второго, его подмахнуть.
— Грамотный киркоп оказался? — съязвил Смыков.
— Нет… Чернилами на бумагу капнули, а он из любопытства эту каплю пальцем размазал. Сошло за первый сорт.
— Не верится что-то… — вновь засомневался Цыпф. — Киркопы ведь недюжинной силой обладают. Как их вообще принудили к переговорам?
— Бугаи они и в самом деле еще те! Наручники на их запястьях не сходились. Наши послы посмотрели, что силой этот народ не одолеешь, и к другим методам перешли. Тот киркоп, что договор подписывал, ящик шоколада умял. Но все это, конечно, были только цветочки. Союз подразумевает близость во всем. Ну, объявить их предками славян было не трудно. Совсем другое дело — учредить в Киркопии правительство, армию, милицию и, самое собой, колхозы. В понимании Плешакова без этих учреждений ни одно цивилизованное государство существовать не могло. Президентом, понятное дело, того киркопа назначали, который договор подписал. Пусть и дальше шоколад жрет. Но уже советником к нему нашего человека приставили. Бывшего циркача. Он раньше медведей дрессировал и считалось, что к киркопам подход иметь должен. Про милицию местную я ничего не скажу, знаю только, что дубины их были в черно-белый цвет покрашены. Чтоб, значит, стражей порядка от рядовых людоедов отличить.
— А почему именно дубины? — поинтересовалась Верка.
— Там все с дубинами ходят, вот почему… Если без дубины вышел прогуляться, тебя сразу под микитки и в суп.
— И чем все это закончилось?
— Плохо закончилось… Я как раз к этому моменту и подхожу. Дружбу нашу вечную погубили те самые колхозы, на которые Плешаков столько надежд возлагал. Сначала все вроде хорошо шло. Киркопы общинами жили и никакого личного имущества, кроме тех самых дубин, не имели. И жрали гамузом, если было что, и голодали сообща, и даже, простите за выражение, сношались хором. Прямо коммунизм. Бабы там, кстати говоря, немалую власть имели и мужиками откровенно помыкали. Поэтому председателями колхозов в большинстве своем они и оказались.
— Нельзя разве было своих людей поставить? — спросил Смыков строго. — Председатель колхоза — должность ключевая.
— Неоткуда было столько людей взять. В посольстве к тому времени человек полтораста осталось, не больше. Как только отрапортовали Плешакову, что коллективизация в Киркопий произведена, тут и начались неприятности. Какая у колхоза первостатейная задача? Скажи, Смыков!
— План госпоставок выполнять, — буркнул Смыков.
— Правильно. А план киркопам давали солидный. И по мясу, и по шерсти, и по шкурам, и по лесозаготовкам. Месячишко для порядка выждали, а потом послали уполномоченных. Проверить, значит, на местах причины задержки поставок и, если потребуется, навести порядок. Разъехались уполномоченные и как в воду канули.
— Неужели съели их? — ахнула Лилечка.
— А вот тут не угадали! — Зяблик обвел слушателей торжествующим взглядом.
— Киркопы-то не дураками оказались. Выполнили они госпоставки, хоть и частично. За счет тех самых уполномоченных. И мясо их сдали, и шерсть, и даже яйца. Но все это по отдельности. После такого мероприятия, сами понимаете, вопрос о вечном союзе как-то потерял актуальность. Посольство, правда, успело эвакуироваться, но президента своего киркопы съели публично. Лучшие куски получили женщины и дети. С тех пор про их колхозы ничего не слышно.
— Плешаков стоял на позициях волюнтаризма, — сообщил Смыков. — Методы его руководства осуждены Талашевским трактатом.
— Это я без тебя знаю, — веско сказал Зяблик. — Тебе, Смыков, Бога надо благодарить, что самое лихое время ты в канцелярии инквизиции пересидел. А не то заслали бы тебя в эту самую Киркопию начальником районного отделения милиции. И имел бы ты под своим началом зама-людоеда, следователя-людоеда и вдобавок дюжину людоедов-участковых.
— Плюс инспектора по делам несовершеннолетних, — добавила Верка. — Симпатичную людоедочку.
— Я от работы никогда не отлынивал, — сказал Смыков гордо. — С любой должностью могу справиться. Были бы эти людоеды у меня как шелковые.
— Только не забывай, что оклад содержания, надбавку за выслугу лет и пайковые им человечинкой пришлось бы выплачивать. К тому же свежей, — хитро улыбнулся Зяблик.
— Подумаешь, нашли проблему! — пожал плечами Смыков. — Если есть штат милиции, значит, и преступный элемент должен иметься. Дебоширы, воры, расхитители…
— Валютчики! — подсказал Зяблик.
— Вот их-то я бы и пускал на мясо. Никаких там штрафов или сроков. Под нож и на полуфабрикаты. Выгода двойная. Преступный элемент поимеет возможность прочувствовать принцип неотвратимости наказания на собственной шкуре, а правоохранительные органы получат дополнительный стимул в работе.
— Боюсь, как бы все преступники не оказались сплошь упитанными, — покачал головой Зяблик. — Да и процент раскрываемости перед праздниками будет резко возрастать… Нет, среди людоедов материальную заинтересованность внедрять нельзя… Кстати, а что там впереди за дела такие?
Если бы примчавшиеся неизвестно откуда близнецы не остановили Барсика, он неминуемо врезался бы в баррикаду, перегородившую улицу. Основу ее составляли массивные каменные многогранники, применяемые обычно для защиты морских берегов от размывания, а бруствер выложен пластиковыми мешками с песком. Проложить здесь проход можно было разве что с помощью нескольких тонн динамита.
Барсик задрал голову и надсадно взвыл, словно вызывая на бой противника, заступившего ему дорогу. Тут же над бруствером укрепления показались две головы в черных колпаках. Со своей позиции аггелы не могли видеть ни членов ватаги, затаившихся за звериной тушей, ни скрытое могучим загривком тело Эрикса.
— Батюшки-святы! — ахнул один из аггелов. — Это что за страшилище к нам пожаловало! Ну натуральный дракон!
— Это те сволочи, что из Эдема сюда пробрались, делов натворили, — отозвался другой аггел. — В гавани до сих пор из всех щелей разная зараза прет. Нам еще с тобой повезло, что мы в ту пору там не оказались.
— Неужто эта уродина от самой гавани сюда приползла?.. Эх, пушчонку бы сюда!
— Ничего, мы ее сейчас гранатой пугнем.
— Может, лучше не надо? Разозлим только зря. А она потом разнесет все кругом.
— Не разнесет… Слабо ей… — Аггел уже стоял на баррикаде во весь рост и в поисках гранаты шарил по карманам своих необъятных штанов.
— Давай я за помощью сбегаю? — предложил его более осторожный напарник.
— Не успеешь… — Граната уже лежала в ладони аггела. — Мы в единый момент все обтяпаем.
Смыков и Зяблик, выхватив пистолеты, прицелились в гранатометчика, но это явно пришлось не по вкусу близнецам. Жесты их выражали недоумение, граничащее с возмущением.
— Не стреляйте, пожалуйста, — сказала Лилечка, лучше других понимавшая детей. — В этом нет никакой необходимости.
— Разве? — удивился Зяблик. — Граната ведь не яблоко зеленое. Если рванет рядом, зверюге может и не поздоровиться. Да и нам перепадет…
— Ты лучше не спорь, — сказал Цыпф, хорошо помнивший, с какой легкостью девочка извлекла патрон из ствола его пистолета. — Они хоть и детишки, а знают, чего хотят… А главное, добиваться этого умеют.
Аггел уже швырнул гранату и собирался нырнуть за баррикаду, когда его напарник издал жалобный крик, будто ему наступили на мозоль. Граната, совершив в воздухе петлю, уже летела обратно, и спасаться от нее было поздно. Единственное, что успел сделать стоящий на баррикаде аггел, это прикрыть локтями лицо. Однако взрыва не последовало, и граната благополучно скользнула в тот же карман, из которого незадолго до этого была извлечена.
На лицах аггелов появилось такое выражение, что расхохотались не только дети, но и кое-кто из ватаги. Барсик снова мерно двинулся вперед, лишь хвост его теперь мотался с большей амплитудой, чем обычно.
Дети вскарабкались на баррикаду первыми и устроили аггелам головомойку в своем стиле — одного стали обучать стойке на голове, а другого заставили плясать. Барсик тем временем взбирался на баррикаду с настойчивостью таракана, штурмующего мусорное ведро. Чувствовалось, что родной стихией зверя является ровное пространство, вроде степи или заболоченной низменности, но никак не горы. Три раза подряд он опрокидывался на спину, и если бы члены ватаги вовремя не оттащили в сторону коробки с провизией и тело Эрикса, то он неминуемо раздавил бы их.
Успех был достигнут только после того, как Барсик догадался использовать в качестве домкрата свой могучий хвост. Некоторое время он лежал поперек гребня баррикады, плавно покачиваясь на брюхе, а потом сполз на другую сторону. Вслед за ним перебралась и ватага.
По такому случаю решено было устроить привал, тем более что в поле их зрения находился один из последних ориентиров, указанных Эриксом, — семиглавая башня, издали похожая на серебряный подсвечник. Имущество аггелов — начатая цинка патронов, дюжина гранат, табак, спальные мешки и кое-какая еда — конфисковали. Впрочем, хозяевам сейчас было не до этого. Близнецы затеяли с ними игру в прятки. Она ничем не отличалась от аналогичной забавы, которой предавались их сверстники и сто, и двести лет назад, кроме, пожалуй, одного нюанса: дети обладали способностью становиться невидимыми и без зазрения совести пользовались этим преимуществом.
Конечно, будь на то воля аггелов, они ни за что на свете не стали бы участвовать в этом позорище, но воля их странным образом куда-то исчезла, и бородатым, дородным дядькам, судя по крепким рогам, пребывавшим в немалых чинах, приходилось бегать наперегонки с детворой, выискивать для себя самые хитроумные укрытия и орать дурным голосом: «Раз-два-три-четыре-пять, я уже иду искать!..»
Аггелы играли в прятки старательно, без халтуры, хотя какой-то частью сознания понимали всю нелепость и весь ужас происходившего, о чем свидетельствовало дикое выражение их лиц, совершенно не соответствующее живому и веселому характеру мероприятия.
— Загоняют их детки до инсульта, — заметила Верка.
— Ничего, таким бугаям растрясти жир полезно. — Зяблик сделал подножку пробегавшему мимо аггелу.
Кончилась игра тем, что один из аггелов безнадежно застрял в щели между двумя каменными призмами, а другой подвернул ногу. Дети сразу утратили интерес к своей затее и принялись тормошить Барсика, успевшего между тем задремать. На зверя вновь водрузили его поклажу, и вся компания двинулась дальше.
Аггелы, еще не поверившие в свое спасение, прикинулись бездыханными трупами. Дабы не портить детям настроение, убивать каинистов не стали и даже поделились на прощание куревом, забив зажженные самокрутки в их глотки.
Расстояние от семиглавой башни до величественного монумента, представляющего собой косой крест, увитый гирляндами из обнаженных человеческих тел, они преодолели за пять часов, считая остановки, вызванные проказами детей. Еще два часа ушло на то, чтобы добраться до последнего ориентира — черного яйца, имевшего такие размеры, что внутри его мог бы свободно поместиться кашалот.
— Это где-то там, — Цыпф еще раз сверился с картой и указал влево, туда, где среди частокола жилых башен и переплетения вознесенных над землей транспортных развязок поблескивало что-то похожее на озеро.
Дети присмирели и чинно шли по разные стороны от хвоста Барсика. Девочка держалась за руку Лилечки и время от времени поглядывала на нее снизу вверх.
— Что там у ребятишек на уме? — негромко спросил Зяблик. — Знают они это место?
— Знают, — ответила Лилечка, переглянувшись с девочкой.
— Ну и как там? Опасно?
— Смотря для кого, — так Лилечка объяснила очередную гримасу своей юной подружки.
— А подробней нельзя?
— Ну как сказать… Там необычно, вот! — Лилечка и сама была рада, что подобрала нужное слово.
— Понятно, — криво усмехнулся Зяблик. — До сих пор мы, значит, шли местами обычными. А сейчас угодили в необычное. Лева, не пора ли тебе приготовить к бою фузею?
— Пока дети с нами, бояться нечего, — твердо сказала Лилечка.
Улица, по которой они сейчас двигались, мало чем отличалась от многих других, уже пройденных ими будетляндских улиц, — непривычное свежему взгляду эклектическое смешение архитектурных стилей, следы погромов, встречающиеся на каждом шагу, навечно заглохшие наземные экипажи, напоминавшие своих давних прототипов разве что наличием колес, и рухнувшие на них сверху экипажи воздушные, человеку двадцатого века вообще ничего привычного не напоминающие.
Мальчик наступил на хвост Барсика, и тот замедлил ход. Впереди была площадь куда более просторная, чем та, на которой они недавно устроили побоище аггелам. Почти всю ее поверхность занимало яркое пятно света — ни дать ни взять солнечный зайчик невероятных размеров. Зрелище само по себе было впечатляющее, особенно для людей, давным-давно не видевших не то что солнце, а даже зажженной электролампочки, но, кроме всего прочего, от пятна исходила какая-то ясно ощутимая магнетическая сила. Площадь манила людей к себе, как горящий фонарь манит ночных бабочек, но, в отличие от бабочек, люди обладали разумом, предостерегавшим их от необдуманных действий.
— Что бы все это могло значить? — после довольно продолжительного общего молчания произнес Смыков.
Девочка склонила голову на плечо и закатила глаза, словно ангелочек на рождественской открытке.
— Это долгий рассказ, а они не любят долгих рассказов, — объяснила Лилечка.
— Эрикс хотел, чтобы его похоронили в том же месте, где и его родных, — сказал Цыпф. — Но на кладбище это место не похоже… Хотя мы и не знаем, как хоронили мертвых в Будетляндии: предавали земле, кремировали или запускали в космос…
— Но он говорил и другое, — напомнила Лилечка. — Что когда мы доберемся до нужного места, то сами поймем, что к чему.
— Вот и добрались, — Смыков заглянул в свою записную книжку. — Тут двух мнений быть не может. Все ориентиры налицо. Да и место… приметное. Я ничего похожего отродясь не видел.
Между тем у Лилечки с детьми шел оживленный обмен мнениями, в ходе которого брат и сестра повздорили немного. Вскоре, однако, некое коммюнике было выработано и озвучено Лилечкой.
— Заранее попрошу меня не перебивать и не поправлять. Я говорю так, как понимаю, — первым делом заявила она. — А теперь слушайте… Это место существует столько, сколько дети помнят себя. Тут, кстати, я хочу заметить, что они не имеют никакого представления о том, каким был мир до катастрофы. Это их даже не интересует. В их понимании, все что есть вокруг, появилось вместе с ними. Но это я для справки… Это место скорби…
— Что они понимают о скорби, — буркнул Смыков.
— Понимают, хотя и по-своему… Но я же просила не перебивать меня!
— Прошу прощения, — неискренне извинился Смыков.
— Но не только скорби… — продолжала Лилечка. — Надежды тоже. Сюда приходит тот, кто устал жить, но не хочет гнить в земле… Впрочем, тут я не все поняла… Возможно, это можно понимать иначе… Сюда приходит тот, кто устал жить, но не хочет умирать… То есть здесь достигается состояние… как бы это лучше выразиться… состояние ни жизни, ни смерти… Кроме того, это место погребения… Дающее надежду на что-то… На другую жизнь, что ли… Очень трудно находить нужные слова, — сказала она, как бы извиняясь, — короче, это место, предназначенное для мертвых и умирающих… Всем другим соваться сюда без крайней необходимости не рекомендуется.
— А как же нам его туда доставить? — Верка кивнула в сторону площади, где в обрамлении серого небесного свода и сизой мути горизонтов сияло нечто явно не принадлежащее к этому миру.
— Сейчас увидите, — сказала Лилечка, обменявшись с детьми серией жестов. — Но сначала надо бы с ним попрощаться… Не по-людски получается.
— Давай, Смыков, — Зяблик слегка подтолкнул приятеля вперед. — Скажи доброе слово от всех нас.
— Я, знаете ли, не готовился, — начал было отговариваться Смыков, хотя руки его уже автоматически приглаживали волосы и расправляли складки куртки. — Но если нужно…
— Нужно, нужно, — подтвердила Верка. Тело Эрикса сняли с Барсика и уложили на широкий и сравнительно чистый парапет подземного перехода.
— Куда ногами полагается? — спросил Цыпф. — На восток или на запад?
— Без разницы, — ответил Зяблик. — Как ты разберешься, где сейчас этот запад? Да и не верил он, наверное, в эти предрассудки.
Лилечка, отыскав где-то бледный и чахлый цветок, чудом выросший среди камней и бетона, положила его на грудь покойника. Зяблик откинул брезент с его лица. Смыков откашлялся, придавая голосу соответствующую случаю тональность.
— Товарищи! Траурный митинг, посвященный светлой памяти нашего друга и соратника Эрикса, фамилия которого, к сожалению, осталась неизвестной, позвольте считать открытым. Покойник прожил короткую, но сложную жизнь, полную лишений, трудов и борьбы. Потеряв всех родных и друзей, он не утратил веры в светлое будущее прогрессивного человечества и до последней капли крови, до последнего вздоха боролся с приспешниками реакции, мракобесия и насилия, свившими гнездо на его бывшей родине. К сожалению, социально-классовая ограниченность не позволила ему…
— Не надо, — сказал Зяблик с нажимом. — Закругляйся.
— Светлая память о покойном навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой товарищ! — второпях закончил Смыков и ткнул пальцем в сторону, Зяблика. — А с вами, между прочим, я еще буду иметь серьезный разговор!
— Так и быть, поимеем, — согласился Зяблик. — Чуть попозже.
Следуя указаниям детей, тело Эрикса снова положили на Барсика, зато коробки сгрузили. Зверь, которого давно тянуло к завораживающему свету, получив соответствующую команду в виде пинка под хвост, охотно двинулся в сторону площади. Закутанный в брезентовый саван Эрикс возлежал на нем, как на крыше катафалка. Лилечка рыдала в полный голос. Верка всхлипывала. До полного комплекта впечатлений не хватало только стонущих звуков похоронного марша.
Лилечка, словно спохватившись, вытерла слезы и извлекла губную гармошку. Вновь задребезжала ржавая, с плохим разводом пила, но девушка нахмурила лоб, надула щеки, и звук сразу посветлел, очистился, обдал душу ознобом печали. Потекла мелодия — негромкая, незамысловатая, зато берущая за сердце и бередящая душу.
Барсик тем временем уже вступил на плиты площади, и его шкура засверкала и заискрилась, как чешуя золотой рыбки, летящей из садка в подвешенный над костром котелок. Световое пятно, до этого совершенно неподвижное, дрогнуло и немного уменьшилось в диаметре. Так продолжалось и дальше — с каждым новым шагом зверя оно становилось чуть ярче и чуть меньше, как бы стягивая всю свою энергию в одну точку. И от живого Барсика и от мертвого Эрикса исходило одинаково интенсивное радужное сияние, застилавшее глаза наблюдателей слезами.
И вот наконец наступил момент, когда пятно волшебного света сжалось до размеров звериного тела, которое и само сейчас было как маленькое солнце. По стенам домов, окружающих площадь, неслись черные тени — явление давным-давно забытое в этом мире. Затем последовала короткая беззвучная вспышка, словно в единый миг испарилась тонна магния, и пятно вновь вернулось в свои прежние границы. Вокруг сразу потемнело.
— Больше желающих нет? — спросил Зяблик, вытирая рукавом глаза.
— А заманчиво, знаешь ли… — прошептала Верка. — Если бы только точно знать, что это дорога в новую жизнь…
— Это дорога к эвтаназии, — сказал Цыпф. — Это машина безболезненной смерти. Хотелось бы знать, сами будетляне ее придумали или кто-то им ее подарил.
— Смотрите, смотрите! — воскликнула вдруг Лилечка, указывая на стену соседнего здания.
Теперь, когда люди привыкли к необычному освещению, сразу стало заметно, что стены всех близлежащих домов до высоты человеческого роста — а кое-где и выше — покрывают короткие надписи, исполненные краской, тушью, губной помадой или просто нацарапанные острыми предметами.
— А ведь кое-что можно понять, — Зяблик прищурился. — Берта Нибур… Эм Шовен… тут какие-то иероглифы, не разберу… Гонслик… Грюнс фэмэли, семья, значит… Текен или Такаки… Николай и Мария Трейш… Эс Бэ Бэ, одни только инициалы… Плимак… Коган… Нет, тут и за месяц всего не прочтешь. Надо бы и нашего Эрикса увековечить. Как публика считает?
— Охота пуще неволи, — пожала плечами Верка. — Все равно в ближайшую тысячу лет этого никто не прочтет.
— И все же отметиться надо… Я мигом. — Смыков уже достал нож.
Пять минут спустя на стене появилась свежая эпитафия: «Хороший человек Эрикс и зверь Барсик здесь были».
Если верить карте, большая часть пути до границы была уже позади. Однако темп продвижения ватаги замедлялся — нужно было нести на себе коробки с продуктами, да и дети, часть энергии которых раньше выливалась на безответного Барсика, теперь все чаще досаждали им своими проказами. Встал даже вопрос о том, чтобы распрощаться с ними раньше времени.
— Нет, это переходит все границы! — возмущался Смыков. — Сегодня проснулся, хочу надеть ботинки, а в каждом по выводку мышей. Это тоже можно считать шуткой?
— Ну и что! — вступилась за детей Верка. — Мне они в ботинки по вороньему яйцу положили. Подумаешь, преступление!
Толгай, в сапогах которого еще хлюпал томатный сок, горестно пробормотал:
— Это не балалар… Это юлбасар… (что означало: «Это не дети… Это бандиты»).
Лилечка, конечно же, стояла за своих юных приятелей горой, но окончательное решение вынес Зяблик:
— У меня нынче в прохорях тоже не рай небесный. Но уж лучше яичницу копытами давить, чем под пули рогатых лезть. Мы за этими шкетами как за каменной стеной. Так что до границы идем вместе.
— Учитывая возможности нашего оружия, мы в посторонней помощи не нуждаемся! — с пафосом заявил Смыков.
— Ну уж нет! — хором воскликнули почти все члены ватаги. — Это только на крайний случай!
Смыков полдня ни с кем не разговаривал, однако потом сам подсел к Лилечке и стал зондировать вопрос, касавшийся возможностей раздобыть еще одного зверя типа Барсика. Нужен он был Смыкову для того, чтобы доставить в Отчину энное количество вещей, позарез необходимых там, а в Будетляндии пропадавших зазря.
— Спросить-то не трудно, — сказала Лилечка с сомнением. — Детишки, если разойдутся, и черта лысого могут достать. А что дальше? Они ведь с нами дальше границы не пойдут. И придется нам с Барсиком крюк через три страны делать. Это ведь то же самое, что в прежние времена по Талашевску на слоне кататься. Народ прохода не даст. Да и кормить его надо. Ест он редко, но основательно. И только свежее мясо. Причем между быком и человеком никакого различия не видит.
Смыков сразу умолк, а Зяблик, слышавший этот разговор, расхохотался.
— Сдавать ты стал, начальник. Стареешь. Уела тебя девчонка.
— Ваши инсинуации я игнорирую, — гордо ответил Смыков. — Однако хочу официально заявить, что не потерплю в дальнейшем никаких выпадов со стороны несовершеннолетних.
Но назавтра дети словно специально затихли. Мальчишка ехал на плечах у Цыпфа, а девчонка шла за руку с Лилечкой. Оба они все время словно прислушивались к чему-то.
Примерно около полудня — если верить часам Смыкова — в той стороне, куда они направлялись, раздался звук, могучий и грозный, но за время скитаний по Отчине, Кастилии и Нейтральной зоне уже успевший стать для ватаги привычным. То ли это небо терлось о землю, то ли, наоборот, рвалась на волю подземная стихия.
Судя по реакции детей, для Будетляндии такое явление было внове. Цыпф сверился с картой. До границы оставалось не так уж и далеко. Если впереди их ждала страна столь же бесплодная и опасная, как Нейтральная зона, необходимо было пополнить запас продуктов, да и кое-каким барахлом обзавестись не помешало бы. Например, такой прочной и удобной мануфактуры, как в Будетляндии, нельзя было больше отыскать нигде.
— Ты бы, подруга, приданым запаслась, — Верка подмигнула Лилечке. — Дома за каждую тряпку втридорога платить придется, а здесь все задарма можно взять.
— Не знаю даже, — засомневалась Лилечка. — Мы никогда раньше чужого не брали, даже бесхозного. Бабушка говорила, что это грех… Да и вряд ли мой размер найдется.
— Найдется, найдется, — успокоила ее Верка. — Я тут такие наряды видела, что на любой размер подойдут. Не ткань, а просто чудо. Пригладишь — она как атлас блестит, взлохматишь щеткой — она как пух. И цвет сама меняет. И туфельки белые не мешает подобрать. Не пойдешь же ты под венец в этих говнодавах.
— Кто это вам сказал, что я под венец собираюсь? — зарделась Лилечка. — Выдумают тоже…
— Э-э, меня не проведешь, — Верка погрозила ей пальцем. — Я королевой в Лимпопо была, а потом невенчаной женой всенародно избранного президента. Ну а если еще и таких, как Смыков, считать, то у всех нас пальцев на руках и ногах не хватит. Я и баб, и мужиков понимаю… Думаешь, я не вижу, как на тебя Лева глядит?
— Как? — заинтересовалась Лилечка.
— Как поп на икону.
— Это плохо?
— Наоборот! Мужик свою жену на руках должен носить. Пылинки с нее сдувать. Вот и Лева такой, если не испортится. Таким хамам, как Смыков и Зяблик, до него далеко.
— На вас, между прочим, некоторые тоже заглядываются.
— Ты про Чмыхало, что ли?
— Вам лучше знать. — Лилечка поджала губки.
— Ну нет! После негра татарва не котируется. Размер не тот. Да и поздно мне уже невеститься… — Она усмехнулась. — Невеста без места, жених без куска…
Вдали снова грохнуло, но уже куда сильнее, чем раньше. Одна из вертикальных опор небесного невода перекосилась, потянув за собой сочлененные конструкции. Зрелище было весьма гнетущее. Одно дело, когда с крыши соседнего дома падает лист шифера, и совсем другое, когда рушится гора, на склоне которой расположен целый город.
— Опять какая-то хреновина начинается, — сказал Зяблик с досадой. — Давайте лучше выруливать на открытое место.
Ватага свернула в сторону, где виднелось что-то похожее на заброшенное поле для гольфа. Незапланированный отдых никого не радовал, одни только дети беззаботно кувыркались в траве, да и они не забывали время от времени посматривать в ту сторону, откуда доносился глухой и мощный рокот.
— Может, пронесет, — сказала Верка неуверенно.
— Два раза уже проносило, — буркнул Зяблик. — Дважды прощается, а в третий раз карается. Это любой шкет знает.
— Думаю, все не так уж страшно, — сказал Цыпф, впрочем, без особой уверенности. — У нас есть оружие, пределы возможностей которого неизвестны… Да и могучие покровители рядом.
— На добро надейся, а беду жди, — вздохнула Лилечка. — Так моя бабушка говорила.
То, что произошло в следующий момент, напоминало вариант знаменитой картины «Последний день Помпеи», с той, правда, разницей, что ни одна живая душа не попыталась покинуть гибнущие дома, да и не было в древней Помпее зданий высотою в полсотни этажей.
Толчок снизу был так силен и резок, что дома взрывались, словно начиненные динамитом. Обломки бетона, осколки облицовки и куски арматуры свистели в воздухе, как шрапнель. Там, где только что торчали башни-цилиндры, башни-пирамиды и башни-гробы, на глазах вспучивались холмы. Лопаясь, они выворачивали наружу утробу города: пустые полости подземных гаражей и складов, лабиринты туннелей, переплетение коммуникационных трасс, путаницу трубопроводов, монолиты фундаментных блоков. Издали все это походило на развороченный термитник.
После первого толчка не прошло и минуты, а огромный городской массив исчез, превратившись в плоскую, дымящуюся пылью плешь, среди которой огромными фурункулами торчали остроконечные холмы. Что-то ворочалось внутри них, посылая во все стороны новые и новые разрушительные волны, перемалывающие в щебень все, размером превышающее кирпич.
Пространство, отделявшее зеленую лужайку от уничтоженных городских кварталов, завибрировало и поперло вверх, выгибаясь несуразным горбом. Металлические ограждения лопались, как паутинки. Сверху обрушился град песка и гравия.
— Лева, стреляй! — заорал Зяблик. — Иначе хана нам всем!
Руки у Цыпфа тряслись. Он не знал, куда стрелять — вверх, вниз или прямо перед собой. Опасность, казалось, исходила со всех сторон. В грохоте бушующей стихии, в слепящем песчаном шквале, в агонии земной тверди и в ледяном равнодушии тверди небесной он растерялся, как заблудившийся в дремучем лесу ребенок.
Вокруг быстро росли зловещие холмы. Они были как гнойные нарывы на теле трупа — единственное живое на мертвом, — но эта чужая жизнь не обещала ничего, кроме новых смертей. Даже и думать было нельзя, что человек способен каким-то образом помешать неведомой силе, просыпающейся в камне, земле, воде и воздухе.
И тем не менее Лева выстрелил — выстрелил, даже не представляя себе, что из всего этого может получиться. Вполне возможно, что древняя мощь, рожденная жаром звезд и холодом космической пустоты, была выше законов, управляющих нынешним одряхлевшим и выхолощенным миром. Это напоминало попытку смертного поразить своим жалким орудием всемогущего Бога.
Своей целью Лева выбрал громадный курган, возникший путем слияния воедино сразу нескольких холмов и уже начавший пожирать их последнее прибежище — лужайку. Конечно, назвать его действия стрельбой можно было только условно. Эффекты, свойственные огнестрельному оружию: дым, огонь, гром, — начисто отсутствовали. Оставалось только надеяться, что пушка сработала, и ждать результатов.
И они не замедлили сказаться.
Гром слепой стихии перешел в рев живого существа. Курган исчез, словно и не существовал никогда, а на его месте взорам ошарашенных людей предстал одетый в багряную чешую пернатый змей.
Он был страшен, как все семь чаш Божьего гнева.
Его рубиновые глаза выжигали человеческие души. Одной капли его яда было достаточно для того, чтобы отравить океан. Одним взмахом своих крыльев он мог потопить парусный флот, одним ударом клыков убить такого зверя, как Барсик, а одним только видом обратить в бегство армию. Он был порожден злом, под защитой зла находился и для насаждения зла предназначался.
Естество его не изменилось за миллиарды лет тяжкого сна, но облик оставался тайной. То, что видели перед собой люди, было лишь временной оболочкой, карнавальным нарядом, в который коварная сила антипричинности одела это загадочное создание. Ничто превратилось в нечто. Бесформенное обрело форму. Прах возродился для жизни. Извергнутый кирквудовской пушкой вихрь хаоса не смог повредить древнему хозяину планеты, а лишь придал его сущности зримую реальность.
Полупарализованный страхом Лева действовал уже чисто автоматически, на уровне подсознания. Еще один выстрел, и багряный змей превратился в огнедышащего дракона. Потом в медноклювую гарпию. Потом в кровожадного молоха. А когда он вновь стал змеем, но уже не багряным, а белым, Лева выронил пушку из рук. Все было бесполезно. Одно чудовище превращалось в другое, и финалом этих метаморфоз могло быть только одно — рождение мирового зверя, чья губительная власть уже не будет иметь пределов.
Однако были здесь и те, кого все происходящее несказанно радовало. Появление багряного змея, а затем и вся цепь его перерождений вызвали у близнецов бурный восторг. Впервые они видели столь забавную игрушку и, еще даже не заполучив ее, уже спорили — жестами, естественно, — кому из них она будет принадлежать.
Никто из ватаги и глазом моргнуть не успел, а дети уже наперегонки бежали к чудовищу. Змей зашипел и так широко раскинул свои крылья, что заслонил ими полгоризонта. Пасть его распахнулась, и клыки, до этого упрятанные в ножнах челюстных костей, приняли боевое положение. Глаза — единственное, что контрастировало со зловещей бледностью змеиного тела, — вспыхнули багровым адовым пламенем.
Девочка оказалась проворнее и первой ухватила чудовище за петушиную шпору, украшавшую каждую из его четырехпалых лап. Мальчишка не растерялся и вцепился в перепончатое крыло. Мигом повалив змея на землю, близнецы вскарабкались ему на загривок и самым бесцеремонным образом стали понуждать к взлету.
Страшилище, неуклюже размахивая хотя и огромными, но чисто декоративными крыльями, вприпрыжку помчалось по пустоши, кое-как оторвалось от земли, но уже метров через двести рухнуло грудью на крыши уцелевших зданий. Его заставили развернуться и погнали обратно. С бешеной скоростью мелькали лапы, оглушительно хлюпали не обладавшие нужными аэродинамическими качествами крылья, кончик хвоста вращался наподобие пропеллера.
Промчавшись мимо ватаги, змей тяжело, как перегруженный самолет, взмыл в воздух и, кренясь, стал описывать над городом плавную дугу. Сейчас он был похож на белую летучую мышь, по ошибке покинувшую свою пещеру при ясном свете, а примостившиеся на его спине дети напоминали двух крошечных мошек.
Круг за кругом, набирая высоту, пернатый змей поднимался в небо. Близнецам был нужен простор для освоения фигур высшего пилотажа. Они то заставляли чудовище планировать, то бросали в крутое пике. Косые петли сменялись «бочками» и восьмерками, разворот следовал за разворотом, горка за горкой. Сквозь свист разрезаемого воздуха и шорох крыльев сверху доносились звонкие ликующие вопли.
— Во попался! — Странное оцепенение отпустило наконец Зяблика, и язык его перестал быть куском льда. — Это тебе, гад летучий, не над простым народом изгаляться! Заездят они тебя, как паршивую клячу.
Змей, окончательно обессилев, падал. Глотка его источала уже не шипение, а хрип. Крылья судорожно трепетали, безуспешно пытаясь найти опору в воздухе. Кровавые шары глаз выражали не злое торжество, как раньше, а элементарный ужас. Столь многообещающий дебют не удался.
Когда до земли оставалось уже совсем немного, змей рассыпался и тучей пыли обрушился вниз. Курган, возникший на месте падения, по форме да и по размерам очень напоминал тот, который считанные минуты назад, при содействии кирквудовской пушки, породил это столь странное создание. Близнецы, чумазые, как трубочисты, выбрались из-под останков змея и съехали вниз по крутому склону. Выражение их лиц можно было охарактеризовать однозначно: хорошо, но мало.
— Интересно, а будут ли этих деток со временем интересовать проблемы добра и зла? — задумчиво сказала Верка. — Или они уже давно выше всего этого.
— Если человек одним своим желанием может создать или разрушить этот мир, многие нравственные нормы теряют для него всякий смысл, — уже и Лева Цыпф вышел из оцепенения. — Кто не знает страха, тому неведомо и сострадание. Кто неуязвим перед кознями зла, тот останется равнодушным и к добру.
— Разве ребята сделали нам мало добра? — воскликнула Лилечка.
— А если для них это была только игра? — Цыпф облизал пересохшие губы. — Детки просто резвились. Юные боги или юные демоны пробовали свои возможности.
— И охота вам подоплеку во всем искать, — вмешался в спор Зяблик. — Главное, что мы живы остались. Тут до границы рукой подать. Отдохнем немного и будем прощаться с детишками. Хорошие они или плохие, люди или нелюди, но наши дорожки расходятся. И скорее всего навсегда…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
С близнецами они расстались раньше, чем достигли границы, и совсем не так, как собирались, — без торжеств, пусть и скромных, без прочувственных слов, без заключительного банкета.
В один прекрасный момент дети просто исчезли, даже не соизволив попрощаться с дядями и тетями, в обществе которых проделали богатый приключениями марш едва ли не через всю страну. То ли близнецы убедились, что взрослые уже не нуждаются в покровительстве, то ли им попросту все наскучило и они отправились на поиски новых развлечений: лепить куличики из пространства, ставить запруды в реке времени и собирать вместо фантиков всяких жутких тварей.
Ватага, успевшая привязаться к детям, тем не менее вздохнула с облегчением. (Цыпф, например, чувствовал себя в компании близнецов дрессированной блохой — сегодня к тебе благоволят, а завтра могут задавить ненароком.) Искренне расстроилась одна только Лилечка.
— Ах, жалость-то какая! — причитала она. — Такой случай упустили! Ведь они всю нашу жизнь могли переиначить! И солнышко на небо вернуть, и все-все по-старому устроить.
— Телка ты глупая, — не сдержался Зяблик. — Не будут они ничего по-старому устраивать. Ни к чему им такое. Это то же самое, что тебя опять мамкину сиську сосать заставить да пеленки пачкать. Плевать им на все старое, тем более что они его и не знали. Выросли детки… Теперь кому хочешь копыта оттопчут. Зяблика неожиданно поддержала и Верка.
— Прошлого, подруга, не вернешь, — вздохнула она, почему-то пробуя на вес свои груди. — И в этом ты оч-чень скоро убедишься.
Лилечка надулась, отошла в сторонку и занялась губной гармошкой. Теперь это было непременным признаком ее дурного настроения. Зяблик так и говорил:
«Наступил плохой момент — запиликал инструмент».
Ватага между тем уже вышла из-под сени небесного невода, вне которого их сокрушительное оружие теряло всякую силу. Долго спорили, как следует поступить с кирквудовской пушкой. Все понимали, что тащить этот бесполезный груз дальше не имеет никакого смысла. Поэтому обсуждались два предложения. Одно — надежно спрятать пушку на территории Будетляндии. Другое — немедленно привести ее в абсолютно негодное состояние. За первое предложение горячо ратовал Смыков, за второе — Лева Цыпф.
— Вы, братцы мои, поговорку о запасе, благодаря которому задница урона не понесет, все, конечно, знаете, — Смыков понизил голос, дабы слова его не достигли ушей музицировавшей невдалеке Лилечки. — Поговорку эту, между прочим, поэт Пушкин придумал. Когда по Кавказу на бричке путешествовал…
— При чем здесь Кавказ? — нахмурился Зяблик.
— Сейчас узнаете… Не доезжая горы Арарат, у этой брички сломалось колесо. А запасного, как на грех, не имелось. Вот Пушкин и посылает своего кучера на поиски колеса. Денег с собой дал. Приходит кучер в кузницу и, как может, излагает местным мастерам просьбу. Дескать, вы мне колесо, а я вам деньги. Те его выслушали и в том смысле отвечают, что денег им не надо. Если хочешь, рассчитывайся задницей. Пришлось бедному кучеру снимать штаны. А что делать? Зато после этого случая, увековеченного Пушкиным, он не то что колесо, а даже запасную оглоблю с собой брал… Это я к тому говорю, что орудие должно нас здесь дожидаться. В запасе. На консервации. Не исключено, что придется вернуться. Плешаков, может, и дурак был, когда Киркопию присоединял, зато тот дважды дурак, кто Будетляндию присоединить не пытается.
— Чтоб я так жил, — сказал Зяблик. — Этот фраер иногда может красиво выражаться.
— Слушайте, а что такого необыкновенного было в заднице того кучера? — поинтересовалась Верка.
— Про то надо у Пушкина спросить, — важно ответил довольный собой Смыков.
— Какой имеш-мимеш долгий получается… — страдальчески сморщился Толгай.
— Ашау пора… Кушать…
— Нет уж! — запыхтел Цыпф. — Имеш-мимеш еще долгим будет. Нельзя здесь кирквудовскую пушку прятать! Аггелы уже охотятся за ней! Я уверен! Многие из тех, кто все видел, живы остались! Не исключено, они и сейчас продолжают следить за нами. Убедившись, что мы оставили пушку в Будетляндии, аггелы начнут ее поиски. И пока не найдут, не успокоятся. Даже если мы зароем ее на три метра под землю.
— Найдут они ее, а что дальше? — пожал плечами Зяблик. — Пусть подавятся. В кого здесь стрелять? В этих деток-кошмариков? Так им, наверное, кирквудовская энергия, что мне — чифирь.
— Вы не понимаете! — Цыпф горячился все сильнее и сильнее. — Стрелять можно куда угодно! Вверх! Вниз! В сторону! Мы же не знаем дальности действия этого оружия! А вдруг оно способно перебросить сгусток кирквудовской энергии на бесконечно большое расстояние? Во что может превратить эффект антивероятности то, что находится там? — он ткнул пальцем в небесный свод. — Или там, в земных недрах? Ведь результат выстрела каждый раз иной! Страшный, но по-разному! Совершенно непредсказуемый! Можно пробудить такие силы… такие…
— Так ведь потомки наши тех сил не боялись, когда хреновину эту изобретали, — перебил его Зяблик.
— Это было оружие сдерживания, как вы не понимаете! — почти застонал Цыпф.
— Вроде как в нашем мире атомная бомба. Все тогда знали, что мощности накопленного боезапаса достаточно для уничтожения планеты и не осмеливались развязать глобальный конфликт. Так и здесь…
— Спор наш, братцы вы мои, не по существу, — по всему было видно, что Смыков имеет на руках такой козырь, который перешибет все другие карты. — Слушайте сюда. Мы упустили одну существенную деталь. Пушкой-то этой знаменитой умеет пользоваться один только товарищ Цыпф. Монополист, так сказать, в чистом виде. И кто бы пушку здесь ни нашел, воспользоваться ею он не сможет… И зря вы, Лева, простите, забыл ваше отчество, кипятитесь. Большие возможности перед вами открываются. Я бы даже сказал: безграничные! Если из пушки действительно можно до Кастилии или, скажем, до Лимпопо достать, то вы всем миром править будете.
— А ведь ве-е-рно! — Верка глянула на Цыпфа, приложив ладонь полочкой ко лбу. — Левушка, когда большим человеком станешь, не забывай, зайчик, обо мне. Банки тебе буду ставить и пятки чесать. Опыт имею.
— Нет, братва, что-то здесь не то, — покачал головой Зяблик. — Недоговаривает Лева всей правды… Он мужик ушлый и любую возможную заморочку заранее должен был предусмотреть. Знаю я его. Выходит, упустили мы какую-то каверзу из виду. Так, Лева?
— Господи, неужели это так трудно понять, — Левкин запал прошел, и сейчас он выглядел усталым и печальным. — Допустим, я имею власть над кирквудовской пушкой… Но ведь и надо мной самим кто-то может взять власть.
— В смысле? — насторожился Зяблик.
— Без смысла. Человека заковывают в кандалы, раздевают и начинают жечь железом. Или подвешивают за ребро на мясницком крюке. Или сажают в бочку с крысами. Или все это на его глазах делают с другим человеком, очень дорогим для него… А я не Джордано Бруно и даже не Зоя Космодемьянская. Я боюсь смерти, я боюсь боли… Я многого боюсь… Теперь вы хоть что-то поняли?
— Поняли, — кивнул Зяблик с кривой улыбкой. — Вот, оказывается, в чем затырка… Короче, если аггелы тебя захомутают…
— Не только аггелы! — Цыпф болезненно скривился. — А вдруг тебе самому захочется стать властелином мира? Или Смыкову? Ведь из меня даже не нужно делать придворного стрелка. Под пыткой я выдам секрет кирквудовской пушки кому угодно… Кстати, стрельба из нее не представляет никаких сложностей.
— Подождите, — насупился Смыков. — Вы, следовательно, предлагаете погубить великое дело по причине личной своей моральной слабости?
— Да не великое дело! А великую беду!
— Лева, не базарь, — погрозил ему кулаком Зяблик. — Зачем такой шорох! Любое дело может бедой обернуться, а беда, в натуре, клевым интересом… Диалектика, едрена вошь… Если сюда побольше аггелов заманить да пришить их всех разом, чистая польза для твоих будущих шкетов обломается.
— А как заманить? — сразу же заинтересовался Смыков.
— Там видно будет, — отмахнулся Зяблик. — Да хотя бы этой самой пушкой. Пустим парашу, что их здесь без счета. Пусть ищут. А потом все гнездо спалим. Вместе с гадами, в нем обитающими. Сразу легче дышать станет.
— Что с вами говорить, — безнадежно вздохнул Цыпф. — Как об стенку горох…
— Тогда голосуем, — Зяблик вскинул вверх расслабленную кисть правой руки.
— Я за то, чтобы оставить Горыныча в целости и сохранности.
— Присоединяюсь. — Смыков голосовал, словно пионерский салют отдавал.
Толгай, продолжавший бормотать что-то, касавшееся еды и сна, и даже не пытавшийся вникнуть в суть проблемы, естественно, поддержал своего кумира Зяблика.
Затем все уставились на Верку, голос которой мог оказаться решающим (в том, что Лилечка примет сторону Цыпфа, сомневаться не приходилось).
— Ну что меня глазами едите? — Верка независимо передернула плечами. — Нравлюсь, что ли?
— Ты не выпендривайся, шалава, — сказал Зяблик, недобро прищурившись. — Тут тебе не танцульки и не бабьи посиделки. Тут, может, судьба человечества решается. Поэтому пораскинь мозгами. А потом отвечай. Толком и по совести.
— Ну уж если толком и по совести, то фиг вам, зайчики! — Верка продемонстрировала рукотворное подтверждение своего заявления. — Гнездо вы вражье уничтожить задумали? Когда я еще под стол пешком ходила, на нашей улице случай такой был. Одному дураку, которого крысы замучили, другой дурак посоветовал, как от них избавиться. Верный, говорит, способ. Веками проверенный. Подпали одну и пусти в подполье. При виде ее мук все другие немедленно из дома сойдут. Так наш сосед и сделал. Изловил крысу, облил керосинчиком и поджег. А она, сволочь, не в подполье бросилась, а в сарай, где корова стояла да три пары свиней. Ну, естественно, и сена с полтонны было на зиму заготовлено. Сами догадываетесь, чем все кончилось. Хорошо хоть, убытки сараем и скотиной ограничились. Дом пожарники кое-как отстояли. Примерно такую же штуку и вы здесь устроить собираетесь. Прикончите вы аггелов или не прикончите, это еще вилами по воде писано. А то, что сарай, в котором все мы сено жуем, спалите, — это уж наверняка!
— Браво, — сказал Зяблик. — Бис. Тебе бы в свое время не клизмы ставить, а агитпропом заведовать.
— Запросто! — ответила Верка. — Ну не повезло мне в жизни, что тут поделаешь.
— Три на три, — поморщился Смыков. — Ничья. Окончательное решение откладывается.
— И на какой срок? — немного ожил Цыпф.
— Пока один из нас не передумает. Или пока число голосующих не станет нечетным. Вот так-то, братцы мои!
— А до тех пор?
— А до тех пор будем оставаться на этом месте. Но пушечку извольте сдать нам на ответственное хранение. Чтобы вам лишнего искушения не было. Еще ликвидируете ее в явочном порядке, — Смыков по-отечески грозно уставился на Цыпфа.
Тот, немного поколебавшись, согласился. Во-первых, в этом предложении имелась определенная логика. Во-вторых, как говорят в народе, умный с сильным вслух не спорят.
В этих горячих, хотя и бесплодных дебатах никто не обратил внимания, что звуков губной гармошки давно не слышно, а силуэт Лилечки в пределах видимости отсутствует. Это был плохой знак, потому что после нескольких суток, проведенных в обществе мертвого Эрикса, девушка никогда не удалялась от людей дальше, чем на полсотню шагов, и даже, уединяясь по нужде, просила Верку покараулить рядом.
Цыпф вскочил и вытянул шею так, что его хребет едва не разорвался на стыке между шестым и седьмым позвонками. Верка чистым голосом грязно выругалась. Толгай, до которого все доходило с опозданием, но который потом действовал быстрее всех, выхватил саблю даже чуть раньше, чем Смыков и Зяблик пистолеты.
— Рассредоточиться! — прошептал Смыков. — Залечь!
— Левка, береги пушку! — прошипел Зяблик. — Чмыхало, к нему! Башкой за все отвечаешь! Я пошел вперед.
Когда было нужно, эти двое понимали друг друга почти без слов, а уж о каких-либо пререканиях в такие минуты не могло быть и речи.
Впрочем, напряжение разрядилось довольно скоро. Зяблик, ящерицей скользнувший в сторону ближайших руин, спустя минут десять уже вернулся. Лилечка шла с ним рядом и чрезвычайно немелодично дула в губную гармошку, что свидетельствовало уже не о плачевном состоянии души, а скорее о глубоком нервном потрясении. Человек, даже абсолютно лишенный слуха, в здравом уме никогда не позволил бы себе такого издевательства над безвинным музыкальным инструментом.
— Что случилось? — едва ли не хором воскликнула ватага (диссонансом прозвучало лишь «Ни булды?» Толгая, в принципе означавшее то же самое).
— Пусть сама расскажет, — буркнул Зяблик, все еще сжимавший в руках пистолет. — Я лично ничего понять не могу.
Лилечка зарыдала, не выпуская изо рта гармошку, и без того изначально настроенную на минорный лад.
— Ну миленькая, ну что с тобой, ну скажи хоть одно словечко, — уговаривал ее Цыпф, и сам готовый вот-вот расплакаться. — Тебя обидел кто-нибудь?
— Не-е-а, — выдавила из себя девушка, и в унисон этому гармошка взвизгнула, словно кастрируемый кот.
— Да что вы в самом деле, все с ума посходили? — растолкав мужчин, Верка вырвала гармошку у Лилечки. — А ну успокойся! Или я тебя обратно отведу! Хочешь?
— Не-е-а, — повторила Лилечка, но уже человеческим голосом.
— Ты испугалась?
— Ага, — затрясла головой девушка.
— Кого, людей?
— Не-е-а…
— Зверей?
— Не-е-а…
— Чертей?
Лилечка на мгновение прервала плач, словно пытаясь что-то вспомнить, потом сделала отрицательный жест и вновь захлюпала носом.
Путем перекрестного допроса и множества наводящих вопросов в конце концов выяснилась следующая картина. Опечаленная разлукой с близнецами, непониманием со стороны друзей и еще неизвестно чем-то, чему она и сама не могла дать определения, Лилечка отправилась на прогулку, по своему обыкновению не удаляясь далеко от места стоянки. Если она временами и теряла спорщиков из виду, то всегда продолжала слышать их возбужденные голоса.
Чтобы как-то облегчить тоску, Лилечка разучивала на губной гармошке «Марш юных пионеров», незамысловатый, но бодрый мотив которого она с помощью бабушки когда-то подобрала на аккордеоне. Как ни странно, но своего она добилась, причем с перебором — и мелодию освоила, и от мрачных мыслей отвлеклась, и даже про осторожность забыла.
Опомнилась Лилечка, только ощутив весьма странный, но, кажется, уже знакомый ей запах, который впоследствии она охарактеризовала для себя как «запах преисподней». Примерно так пахло в черном, душном и давящем мире, куда их, пусть и с благой целью, уволокли недавно варнаки.
Как это и полагается, от испуга у девушки отнялся язык. Она даже дунуть в губную гармошку не могла, но тем не менее мелодия давно позабытого комсомольского композитора Кайдан-Дешкина от этого не угасла, а наоборот, продолжала набирать чистоту и силу.
Не далее как в пяти метрах от Лилечки в зарослях чертополоха торчал одинокий варнак, похожий на человека не больше, чем вставшая на дыбы слоновая черепаха, и пел, подрагивая лишь одним уголком щелеобразного жабьего рта. Глаза его, как всегда, были прикрыты уродливыми мешками век, еще более темных, чем вся остальная кожа.
Чем пугала эта сцена, так это своей предельной неестественностью — существо с обликом под стать дьявольскому ангельским голоском выводит «Взвей-тесь кост-ра-ми, си-ни-е но-чи…» (Никаких слов, естественно, не было, но в Лилечкином сознании они сами собой ложились на безупречно выверенный мотив).
Конечно, девушка знала, что варнаки в принципе не враги людям, но испуг ее, происшедший не столько от неожиданной встречи, сколько от памяти о дважды пережитом в прошлом темном ужасе, напрочь парализовал разум. Ничего толком не соображая, она бросилась назад, будто это сама смерть гналась за ней. Когда прямо наперерез Лилечке выскочили какие-то неизвестные люди, она даже обрадовалась (если только до крайности перепуганный человек может чему-то обрадоваться).
О людях этих девушка ничего определенного сказать не могла: ни сколько их было, ни как они выглядели, ни во что были одеты. Осталось также неизвестным, имели ли они при себе оружие. Никто из этих людей не успел даже слова сказать, а тем более прикоснуться к ней. Сзади уже опять разил запах преисподней, и все вокруг заволакивала тьма (а может, это у Лилечки просто в глазах потемнело).
Потом началось что-то страшное. Что именно, девушка объяснить не могла, но, по ее словам, страшным было все: и звуки, как будто бы тупым топором перерубают кости; и сковавшая ее тело тяжесть, от которой едва не остановилось сердце; и жар, обдавший спину так, что рубашка до сих пор липнет к лопаткам. Рядом происходила какая-то непонятная возня — не то варнак губил людей, не то люди добивали варнака.
Воспользовавшись тем, что обе стороны временно потеряли к ней интерес, Лилечка побрела куда глаза глядят (бежать она совершенно не могла). Оглядываться назад девушка не смела, а леденящие душу звуки схватки (к омерзительному хрусту костей добавились еще мучительные хрипы, какие может издавать только существо, преодолевающее грань между жизнью и смертью) старалась заглушить губной гармошкой. Тут Лилечку и встретил Зяблик, которого она узнала далеко не сразу. Некоторое время девушка еще сдерживалась и сдала окончательно только тогда, когда различила лица и узнала голоса своих спутников.
Закончив этот сбивчивый и маловразумительный рассказ, Лилечка попросила воды и сделала попытку упасть, которую вовремя предотвратил Лева Цыпф.
— Учись, Верка, — сказал Зяблик. — Вот такой должна быть истинная женщина. Нежной, пугливой и трепетной. А ты куришь, ругаешься, дерешься.
— Можно подумать, что со мной обмороки никогда не случались, — фыркнула Верка. — Да миллион раз! Просто они у меня очень короткие и я упасть не успеваю.
Оставив Лилечку на попечении Цыпфа и Верки, тройка ветеранов отправилась на осмотр места происшествия. По пути Смыков поинтересовался:
— Вы, братец мой, когда ее встретили, ничего поблизости подозрительного не заметили?
…— Если бы заметил, так давно бы уже сказал, — буркнул Зяблик. — Ты что, за лопуха меня держишь?
— И запаха странного не учуяли?
— Не учуял.
— Тогда не понимаю… — Смыков поковырял в ухе. — Но с другой стороны — зачем ей врать?
— Вот и разберемся сейчас… Стоп, приехали. От места встречи Зяблика с Лилечкой они на глаз проложили вдаль два расходящихся под прямым углом радиуса, затем принялись тщательно осматривать образовавшийся сектор. Когда его ширина превысила несколько сотен метров и стало окончательно ясно, что Лилечка сюда не доходила, все трое собрались на совещание.
— Ничего, — сказал Смыков.
— Буш, — развел руками Толгай.
— И у меня пусто, — подтвердил Зяблик. — Камень кругом, — для убедительности он топнул ногой. — Тут конь пройдет, следов не останется.
— Если драка была, что-то обязательно должно остаться, — возразил Смыков.
— Это если мы с тобой подеремся, — уточнил Зяблик. — А если варнак на людей навалится, то от них не останется даже мокрого места. Сволок он их в свою преисподнюю, вот и все дела.
— А где же «адов прах»?
— Ты заметь, ветер какой, — Зяблик сплюнул в сторону. — Развеял все к чертовой матери.
— Скользкая ситуация… Хотя врать ей все же ни к чему, — задумчиво повторил Смыков. — Остаются неясными два вопроса. Кем были те неизвестные люди и почему варнак напал на них? Раньше варнаки ничего подобного себе не позволяли.
— То раньше… Раньше они к людям на сто шагов боялись подойти. А потом осмелели. И началось… Кстати, все с той же Лилечки…
— Думаете, варнак ее охранял?
— Хрен его знает…
— Ну хорошо, а что вы тогда можете сказать о тех людях, которые напали на Лилечку?
— Нет здесь никаких людей… Давно их мухи съели.
— А если это были аггелы?
— Не знаю… Не могли к нам аггелы так близко подобраться.
— Ладно, — Смыков двинулся обратно. — Будем считать, что вопрос пока остается открытым…
К их возвращению Лилечка окончательно пришла в себя, но память ее от этого не прояснилась, а даже наоборот — сейчас она уже не была уверена, существовали ли те люди на самом деле или только померещились ей со страха.
— Знаете, как это бывает, — оправдывалась она. — Проснешься от кошмара, и у тебя перед глазами каждая мелочь стоит. А чуть погодя уже почти ничего и не помнишь, кроме жути.
— Как бы то ни было, но место это засвечено, — сказал Смыков. — Уходить отсюда надо. А пока соблюдайте максимальную осторожность и поодиночке не отлучайтесь.
— С пушкой бы надо окончательно разобраться, — внес предложение Зяблик. — Ведь договаривались: пока решения не примем, дальше не пойдем.
— Значит, так, — Смыков глянул на свои знаменитые часы. — Сейчас шестнадцать часов тридцать минут, второго июля неизвестно какого года. На раздумья нам отводятся сутки. Если завтра к этому времени никто своего решения не изменит, будем бросать жребий.
— Какого июля? — у Лилечки от удивления округлились глаза.
— Второго, — недоуменно покосился на нее Смыков. — А что такое?
— У меня завтра день рождения, — огорошила всех Лилечка. — Я третьего июля родилась.
— А откуда вы знаете? — недоверчиво поинтересовался Смыков.
— Бабушка говорила. Она раньше сама календари рисовала. На год вперед. Потом, правда, наши ходики сломались и мы уже не могли дни считать. Но про третье июля я хорошо помню.
— Поздравляю, — Цыпф погладил Лилечку по руке.
— Зачем заранее поздравлять, — вмешалась Верка. — Завтра и поздравишь. Да и о подарке побеспокойся. А я со своей стороны обещаю праздничный обед. На пирожные и марципаны не расчитывайте, но что-нибудь вкусненькое будет.
— Что за праздник всухую, — шумно вздохнул Зяблик. — Хоть бы чифиря сварить.
— Я против дня рождения ничего не имею, — сообщил Смыков с кислой улыбочкой. — Но без употребления спиртного… И без диких плясок.
— Бдолаха, значит, не отсыплешь, жмот? — Зяблик смерил приятеля презрительным взглядом.
— Исключено! — заявил Смыков тоном старой девы, которой предлагают вступить в интимную связь.
…Чуть ближе к концу дня Толгай и Зяблик сходили на разведку, но ничего подозрительного опять не обнаружили. Для страховки Смыков со всех четырех сторон огородил лагерь тонкой стальной проволокой, концы которой были привязаны к предохранительным кольцам гранат. Для своих оставили единственный проход шириной в полметра. Закусив мармеладом и галетами, стали располагаться на ночлег. Первым на часах стоял Лева, которого должна была сменить Верка.
Честно отдежурив положенные два часа. Лева разбудил сменщицу и, когда та протерла глаза, зашептал ей на ухо:
— Вера Ивановна, умоляю, мне нужно отлучиться на полчасика. Хочу Лилечке какой-нибудь подарок подыскать или хотя бы цветов приличных нарвать. Вы уж меня не выдавайте. Договорились?
— Подожди, — Верка еще не могла взять в толк, чего от нее хотят. — Не дуй мне в ухо… Нормально объясни…
Пришлось Цыпфу повторить свою просьбу, для чего он сначала вывел Верку на свежий воздух.
— Сказано ведь было, не отлучаться поодиночке, — поежилась она.
— Смыков вам наговорит. Сами же знаете, что все спокойно кругом. Толгай и ветер нюхал, и ухо к земле прикладывал, и на самое высокое дерево залезал…
— Вот что, Лева, — Верка скрестила руки на груди. — Дружба дружбой, а служба службой. В другой раз, конечно, я бы тебя не отпустила. Но тут случай особый, понимаю… Сама же тебе, дураку, идею подала.
— Ну, я пойду тогда? — обрадовался Цыпф.
— Иди… Но не забывай, что лучший подарок для Лилечки — ты сам… Постарайся не задерживаться. Кстати, приличные цветы я видела совсем недалеко отсюда. Помнишь ту увитую плющом ажурную ограду, мимо которой мы проходили? За ней прекрасный цветник, правда, уже одичавший.
— А какие цветы подходят к такому случаю? — задавая этот вопрос, Лева хотел сделать приятное Верке.
— Любимой девушке желательно дарить красные цветы. Розы, тюльпаны, гвоздики, гладиолусы… Ай, да не бередь ты душу, иди куда собрался! — неизвестно почему у нее вдруг сверкнули слезы в глазах.
— Бегу, бегу…
Никакой ажурной ограды, увитой плющом, Цыпф не помнил, однако все же двинулся в направлении, указанном Веркой. Окружающий пейзаж здесь очень отличался от того, к какому они привыкли в центральных районах Будетляндии. Это был уже не сплошной город, как раньше, а тихий провинциальный пригород. Обветшавшие дома тонули в зарослях магнолий и рододендронов. Высотных башен не было и в помине. Даже брошенные автомобили попадались не так уж и часто.
Лева заглянул подряд в несколько домов, но не обнаружил там даже битой посуды. Возможно, эта окраина Будетляндии в свое время не раз подвергалась грабительским набегам извне. Заброшенный цветник он так и не нашел, зато совершенно случайно наткнулся на дерево, сначала показавшееся ему одним огромным пылающим костром.
Крону его сплошь покрывали пышные красные цветы, похожие, благодаря длинным стеблям, на факелы. Любого из них с лихвой хватило бы, чтобы заменить целый букет роз, но Лева, не пожалев ни времени, ни трудов, набрал целую охапку этих красавцев. Пахли они, правда, немного странновато — протухшей селедкой, — но этот маленький недостаток вполне искупался массой неоспоримых достоинств. Ничего даже приблизительно похожего Лева до этого не видел в самых подробных ботанических справочниках. Скорее всего это было оригинальное произведение селекционеров двадцать первого века.
Взвалив добычу на плечо (и сразу став похожим на знаменосца, волокущего с поля боя целую дюжину свернутых кумачовых флагов), Лева тронулся в обратный путь, обдумывая версию, с помощью которой можно будет объяснить происхождение цветов Смыкову.
Аромат тухлой селедки мешал сосредоточиться, и поэтому идеи, приходившие в голову Леве, были одна глупее другой. В конце концов он решил махнуть на все рукой и резать правду-матку. Пусть ворчит себе на здоровье. Победителей не судят.
Приняв такое решение, Лева сразу повеселел, а потому хруст ветки, внезапно раздавшийся в ближайших зарослях, был понят им как очередные козни злого рока, весьма ревниво относящегося даже к самым незначительным человеческим успехам.
Нельзя сказать, что до этого вокруг стояла абсолютная тишина. Ветер довольно энергично трепал кроны деревьев, шелестела листва, падали перезревшие фрукты, кричали птицы, что-то потрескивало и булькало, но ветка хрустнула именно под ногой человека — тут уж сомневаться не приходилось. Месяцы скитаний с ватагой кое-чему все же научили Цыпфа.
У Левы, как и у любого попавшего в опасность бывалого бойца, тут же обострились все чувства. Обострившаяся память услужливо сообщила, что пистолет так и остался лежать там, куда он сунул его, сменившись с поста, — под дорожным мешком, заменявшим подушку. Обострившаяся интуиция подсказала, что он наскочил не на случайного бродягу, а угодил в заранее подготовленную засаду.
Уже не надеясь ни на что хорошее, но и не собираясь облегчать врагам их подлые хлопоты, Лева резко свернул в сторону.
Негромкий смешок, раздавшийся за его спиной, прозвучал не менее страшно, чем пистолетный выстрел. Голос — женский, незнакомый! — не без издевки произнес:
— Куда это ты так спешишь, Лева?
Продолжая держать охапку цветов на плече, Цыпф медленно обернулся. Вид он сохранял невозмутимый, хотя одному Богу было ведомо, каких это требовало усилий.
Женщина, назвавшая его по имени, уже покинула заросли и сейчас стояла посреди заброшенного дворика, постукивая носком ботинка по гнилому пеньку. Ее расслабленная поза демонстрировала как отсутствие собственных недобрых замыслов, так и полное доверие к противоположной стороне.
Это немного успокоило Цыпфа, и он пригляделся к женщине повнимательней. Ничего особенного в ней не было. Усталое, уже поблекшее лицо. Тусклые, небрежно прибранные волосы. След очков на переносице. Да и наряд ее выглядел совершенно обыденно (хотя не для Будетляндии, а скорее для Отчины): мешковатые штаны неопределенного цвета, соответствующая им по фасону куртка, позаимствованная из неисчерпаемых запасов приснопамятного Управления исправительно-трудовых работ, грубые кирзовые ботинки.
На Леву женщина смотрела чуть прищурившись, не то с ехидцей, не то с затаенной жалостью.
— Может, поздороваемся? — она первой нарушила неловкое молчание.
— Здравствуйте, — произнес Цыпф натянуто. Сердце его продолжало колотиться. — Чем обязан?
— А попроще сказать нельзя? — женщина еще больше прищурилась.
— Разве мы с вами знакомы?
— Было дело, — кивнула она.
— И… как же вас зовут?
— Угадай с трех раз.
— Затрудняюсь, знаете ли… Вы из Отчины?
— Естественно.
— А как здесь оказались?
— Проездом, — загадочно ответила она. — Ну так как же меня все-таки зовут?
— Не помню, — сдался Лева. — Уж извините…
— А я-то надеялась… — Похоже, женщина и в самом деле была искренне огорчена. — Дырявая у тебя память, Лева.
— Память у меня как раз неплохая, — Цыпф уже окончательно освоился в странной ситуации и теперь лихорадочно пытался сообразить: кто эта женщина и чего она от него хочет.
— А цветочки кому? — поинтересовалась она. — Девочке?
— Да, — с достоинством кивнул Цыпф.
— Которая из них твоя? Та, что пожиже, или та, что поплотнее?
— Та, что поплотнее… Вы следили за нами?
— Имела удовольствие любоваться. Правда, издали.
— Почему именно издали?
Вопрос был наивный, хотя и с хитрецой. Женщина прекрасно поняла это, но ответила с обезоруживающей прямотой:
— Опасно к вам близко подходить. Многие уже за это поплатились.
— Ara… — Лева осторожно положил цветы на землю. — Скажите, пожалуйста… я давно интересуюсь… голова у вас от рогов не болит?
— Они у меня совсем маленькие, — женщина потрогала что-то в своих волосах.
— Как у новорожденного козленочка. Хочешь посмотреть?
— Нет, спасибо…
По выражению глаз и по движениям своей собеседницы Лева уже догадался, что она под завязку накачана бдолахом и сейчас представляет собой смертельно опасную боевую машину, которой для расправы с отдельно взятым человеком и оружия-то никакого не надо. Почему же тогда он еще жив и ради чего ведется этот путаный, уклончивый разговор?
— Твоя девочка любит цветы? — спросила женщина. Лева сначала хотел примерно отбрить ее, но вовремя сдержался — зачем зря дразнить маньячку.
— У нее завтра день рождения, — эта информация никак не могла повредить ни ему, ни Лилечке.
— Ого! — женщина изобразила удивление. — И что ты ей подаришь? Только цветы?
— Да вот ничего другого не нашел.
— Кавалер ты, Лева, незавидный.
Сказано это было с сочувствием. Затем женщина принялась поочередно проверять содержимое своих карманов. На белый свет появились очки в суконном чехле, скомканный носовой платок, пакет стерильных бинтов, пистолет неизвестной Цыпфу модели, щербатая расческа и заколка для волос. Наконец, она обнаружила то, что искала, и с возгласом: «Лови!» — швырнула Левке.
На летящие предметы он всегда реагировал плохо, но на сей раз изловчился и перехватил подарок в воздухе. Это было что-то вроде старинного колье — много тусклых, дымчатых камней, нанизанных на золотую цепочку.
— Подари своей девочке, — сказала она. — Но обо мне, чур, ни слова. Ни ей, ни кому другому. Особенно псирам вашим, Смыкову и Зяблику.
— Хорошо, — согласился Лева, понимая, что положение его не так уж и безнадежно, как казалось вначале. — Мне, стало быть, идти можно?
— Если не спешишь, давай еще поболтаем.
— То-то и оно, что спешу, — заторопился Лева. — Меня всего на полчаса отпустили. Боюсь, сейчас тревогу поднимут.
— Ты еще придешь сюда? — прищуренные глаза женщины все еще застилал шальной туман бдолаха, но в голосе звучала такая мольба, что Цыпф даже вздрогнул.
— Не знаю… — замялся он.
— Ты должен прийти, — сейчас это была уже не мольба и не приказ, а окончательная констатация факта: «Ты должен прийти, иначе…»
— Когда? — устоять против такого напора было невозможно.
— Я буду здесь все время.
— Я постараюсь…
— Эх, Лева, Лева… Всегда ты был тюфяком… Пообещай мне.
— Обещаю, — сдался Цыпф.
— И постарайся обязательно вспомнить мое имя. Во всем свете его знаешь один только ты.
— Неужели вы не знаете собственного имени? — глупо удивился Цыпф.
— Сейчас меня зовут Цилла. В честь жены Ламеха, потомка Каина в пятом колене. Но когда-то, в другой жизни, у меня было совсем иное имя. Очень важно, чтобы ты вспомнил его… А теперь иди и не оборачивайся… Не забудь цветы…
Когда он вернулся в лагерь, лицо у Верки было такое белое, что по контрасту с ним волосы выглядели уже не чистым льном, а обычной паклей.
Ни слова не говоря, она заехала Цыпфу кулачком в ухо. Потом из ее уст раздались звуки, которым как нельзя лучше подходило определение «змеиное шипение».
— Тварь бессовестная! Жаба поганая! Где — же ты был? Я тут до полусмерти измаялась! Вторую смену стою, боюсь Смыкова будить! А если бы аггелы тебя припутали? Кто бы за это отвечал? Да чтобы я тебе еще хоть когда-нибудь поверила! На полчаса, гад, попросился, а сам неизвестно где два часа болтался! В Киркопию за это время можно сбегать! Ах ты…
— Простите, Вера Ивановна, увлекся, — стал оправдываться он (впрочем, без особого энтузиазма). — Больше не повторится.
— Это уж точно! Теперь если и уйдешь куда, так только через мой труп!
Впрочем, надолго Верки не хватило. Пошипев еще немного, она завалилась спать, возложив на Цыпфа обязанность самому разбудить Смыкова, дежурившего в третью смену.
У Левки же сна не было ни в одном глазу. Забросив подальше колье (мало ли какую заразу оно могло таить) и припрятав цветы, он принялся скрупулезно и беспристрастно анализировать все только что с ним случившееся.
О том, что женщины-аггелы куда как опаснее своих единоверцев-мужчин, он уже слышал. Объяснялось это тем, что если среди представителей сильного пола стадии «рогатого» достигал каждый второй-третий, то среди прекрасных дам — только каждая пятидесятая, то есть наиболее оголтелая. И вот одна из этих ведьм, прекрасно знавшая, кто находится перед ней, готовая к бою и хорошо вооруженная, почему-то отпустила своего смертельного врага живым да еще и несла при этом всякую околесицу.
Ни о каком романтическом чувстве тут, конечно, не могло быть и речи. Лева даже с большой натяжкой не мог сойти за предмет женских вожделений, да и эта Цилла, похоже, давно миновала стадию любовных увлечений.
Сам собой напрашивался вывод — Леве просто морочат голову, чтобы в дальнейшем склонить к предательству. Вот только способ для этого избран весьма экзотический. Намного проще было бы применить раскаленные клещи или опасную бритву (представив, как ему отрезают уши и вырывают язык, Лева содрогнулся).
Короче, все тонуло в тумане предположений и домыслов, а неоспоримым оставалось только одно: аггелы обложили ватагу со всех сторон и от последнего решительного броска их удерживает только страх перед неведомым оружием, однажды уже продемонстрировавшим свою фантастическую мощь. О том, что кирквудовская пушка может действовать только в пределах, ограниченных размерами небесного невода, рогатые, очевидно, не догадывались.
До подъема оставалось не так уж много времени, и Цыпф разбудил Смыкова, объяснив, что они с Веркой поменялись сменами. Смыков, по природе своей не склонный верить людям, сделал для себя какие-то собственные выводы, однако распространяться о них не стал, а отправился на осмотр прилегающей к лагерю территории.
Цыпф попытался уснуть, но женщина-аггел все не шла у него из головы. Это было прямо наваждение какое-то! Лева мог поклясться, что видел ее сегодня впервые в жизни, но всякий раз вспоминая скуластое, совсем не злое лицо, он испытывал неясное, щемящее чувство тревоги. Имя. Вот в чем загвоздка. Он должен знать ее имя. Все загадки разрешатся, когда он вспомнит его. Но разве можно вспомнить имя человека, с которым доныне не встречался? Вообще не встречался или не встречался только в этой жизни? Ведь она, кажется, намекала на какую-то другую жизнь. Однако у людей бывает только одна жизнь. Все остальное мистика. Бред. Чепуха.
Жизнь одна. И мир один. Вот его границы. До одной можно дотянуться сравнительно легко. Это стена — шершавая, холодная, сырая. Точно на такую же стену натолкнешься, если поползешь налево, но ползти надо довольно долго. Справа стены нет. Ну, возможно, она и есть, но добраться до нее мешают горы мелких, острых камней, больно ранящих колени и руки. Впереди — черная неизвестность, из которой иногда тянет противным сквозняком, вовсе не освежающим воздуха, наоборот, добавляющим вони. Двигаться в ту сторону опасно, но именно оттуда приходит доброе, теплое, родное существо, которое кормит и поит его, хотя и не так часто, как хотелось бы.
Еще в этом мире живут крысы. У них много своих забот, и они почти не досаждают соседу. Покусали его лишь однажды, когда, донельзя изголодавшись, он разорил крысиное гнездо, выдавшее себя писком беспомощного потомства.
Это была самая съедобная добыча из всего того, что ему довелось обнаружить самостоятельно. Все остальное было или отвратительно на вкус, или не утоляло голода. Вскоре он нашел и воду, капавшую из какой-то трубы. Сначала его выворачивало от запаха и привкуса нефти, но юный организм приспособился и к этому.
А потом… он решил проверить… куда это все время отлучаются крысы… и ползком двинулся вслед за ними. Целая стая копошилась в углу, зло попискивая друг на друга — делили что-то. Он легко расшвырял хвостатых разбойников и стал ощупывать предмет их посягательств. Рука попала во что-то осклизлое и податливое. Зловоние, успевшее пропитать все вокруг, стало совершенно нестерпимым. Потом его пальцы нащупали жесткое и лохматое. Он потрогал свою голову… Сравнил… Волосы… А вот это, наверное, ухо. Вернее то, что от него осталось… Разобиженные крысы шныряли вокруг, стремились вернуться на прежнее место, но он не церемонился с ними… А это, кажется, зубы… Два ряда. Все на месте… Зубы на месте, а губ нет… Носа тоже… А это что такое брякнуло? Пара колес с дужками. Такую штуку носил на лице брат. Она называется «очки»… Вот, значит, почему брат больше не навещает его… Оказывается, он вообще не уходил отсюда… Неужели и он сам когда-нибудь станет едой для крыс? Как страшно! Выпустите меня отсюда!
Цыпф проснулся, словно из глубокого колодца вынырнул. Боже, ну и сон! Мало кошмаров в жизни, так и во сне покоя нет!
А ведь все это когда-то было с ним. Правда, давно. Лет пятнадцать назад, а то и больше… После того случая он долго не покидал своего закутка, даже вылазки за водой прекратил. Сестра (единственное живое существо, на которое он надеялся) все не приходила, зато навещала крыса, всегда одна и та же. Проверяла
— жив ли. Он даже немного подружился с ней. Когда сестра наконец появилась, он ничего не сказал о страшной находке. Но она поняла все сама и долго плакала, мешая ему есть.
Куда она потом подевалась? Жива ли сейчас? Этого, наверное, он уже никогда не узнает… Кажется, ее утащили из подвала какие-то злые люди. Кто они были: степняки, арапы, кастильцы, аггелы, гвардейцы Плешакова или просто пьяные мародеры? Разве сейчас вспомнишь… Незадолго до этого происшествия он попросил, чтобы сестра вывела его из темного подвала на свет. «Нельзя, — ответила она. — Снаружи очень опасно. Особено для маленьких мальчиков». — «А для маленьких девочек?» — спросил он. «Я уже не маленькая, а кроме того, девочке сейчас прожить легче, чем мальчику. Ее по крайней мере сразу не съедят».
Очередной обрывок сна тоже закончился кошмаром. Из мрака на Левку надвинулась страшная, до глаз заросшая шерстью людоедская рожа. Его грубо схватили за волосы… Сунули в рот чашку с теплой человеческой кровью… Принудили выпить, чуть не сломав при этом зубы… Ударом по лицу заставили замолчать…
— Чего ты мечешься? Чего людям спать не даешь? — раздалось над Левой.
Оказывается, тряс его вовсе не людоед, а Зяблик, уже отстоявший свою смену.
Цыпф забормотал что-то и перевернулся на другой бок. Спать, несмотря ни на что, хотелось нестерпимо. Ради этого можно было стерпеть и очередной кошмар. Уже сквозь пелену сонной одури он услышал, как Зяблик будит Толгая: «Ну ты и дрыхнешь… Вставай, морда татарская… Вставай, соня…»
И тут с Левой случилось такое, что иногда происходит во сне или полудреме с человеком, наяву обуянным какой-то навязчивой идеей. Зерно истины очистилось от чешуи бреда, из глубин памяти всплыло то, о чем он раньше и помыслить не мог, смутное предчувствие возвысилось до предвиденья, а потусторонняя логика сновидения подсказала безошибочный ответ.
Все загадки оказались разгаданными… Соня… Имя-пароль… Его сестру звали Соня… Это было то самое забытое им дорогое имя… Женщину-аггела звали вовсе не Цилла… Ее звали Соня. Она-то и была его пропавшей сестрой. Единственным родным человеком на всем белом свете.
Теперь Лева знал, кого напоминало ему усталое, скуластое лицо с веером морщинок возле глаз… Оно напоминало ему себя самого… Соня… Сестра… Ей плохо сейчас… Недаром она так молила о следующей встрече… Ее надо спасать… Спасать немедленно…
Все еще находясь во власти своего гипнотического сна, Лева вскочил и принялся быстро одеваться.
— Покоя тебе нет! — заворочался Зяблик. — Ты куда? Понос, что ли, разобрал?
— Ага, — пробормотал Цыпф.
— Меньше надо жрать на ночь. А пистолет зачем? Задницу подтирать?
Но Лева, не отвечая, уже мчался к проходу в минном заграждении. Чувство, обуявшее его сейчас, не имело отношения ни к разуму, ни к инстинкту. Оно было сродни той темной силе, которая заставляет лунатиков балансировать на узких карнизах, а маньяков часами выслеживать свои жертвы. Энергия помутившегося разума гнала его вперед.
Обычно неловкий и непамятливый, сейчас он безошибочно находил дорогу. Вот дерево, похожее на пылающий костер. Вот заброшенный дворик с гнилым пеньком посередине. Вот заросли, в которых скрывалась она.
— Соня! — позвал Цыпф, давясь одышкой. — Соня! Снова хрустнула ветка. Но на сей раз не в кустах, лицом к которым он стоял, а где-то позади.
— Соня! — он резко обернулся.
Никого. Ветер, еще более шальной, чем накануне, творил с деревьями что хотел. В лицо летели холодные брызги дождя и мокрые лепестки цветов.
— Верните мне сестру! — голос его сорвался. — Зачем вы ее мучаете?
— Побойся своего Бога, — чужой мужской голос заставил Цыпфа отшатнуться. — Мы не инквизиторы. Тот, кто сказал это, стоял совсем рядом, и черный колпак был надвинут ему глубоко на глаза.
— Где Соня?! — взвизгнул Цыпф. — Где моя сестра?
— Ну чего верещишь… Спокойно. Увидишь ты свою Соню.
Дурной туман, под воздействием которого Цыпф находился последние часы, постепенно рассеивался. Теперь он узнал и голос, вернувший его из мира несбыточных снов в беспощадную действительность. Именно этот не знающий жалости голос гнал аггелов на штурм старой мавританской крепости. Как раз этот глумливый язык издевался над Зябликом, изнемогавшим от боли на раскаленной сковородке.
По понятиям аггелов, Цыпфу была оказана великая честь. Его встречал сам Ламех, пятое колено Каиново и верный продолжатель дела Кровавого Кузнеца. Другой бы на месте Левы стоял навытяжку, а он взял да и присел себе на пенек. Ноги, которым еще много чего предстояло впереди: и долгий путь в неволю, и кандалы, и танцы на сковороде, — требовали отдыха.
— И все же я хотел бы видеть свою сестру, — сказал Цыпф, глядя в землю.
— Это будет зависеть только от тебя, — в голосе Ламеха не было никаких приличествующих случаю эмоций: ни удовлетворения собственной победой, ни издевки над опростоволосившимся врагом.
— А если конкретно?
— Женщина, которую ты называешь Соней, наш испытанный и преданный соратник. Ты ее брат по крови, но отнюдь не по духу. Вновь воссоединиться вы сможете только при одном условии.
Цыпф отметил про себя, что для бывшего преступника Ламех изъяснялся чересчур витиевато. Не то литературу соответствующую почитывает, не то держит в консультантах какого-нибудь лектора-краснобая. Вслух же он спросил:
— При каком?
— Ты вступишь в ряды аггелов, пройдешь полный обряд посвящения, присягнешь на верность отцу нашему Каину и делом докажешь искренность своих побуждений.
— А не поздно ли мне… в ряды вступать, — Цыпф позволил себе выказать легкую строптивость. — Боюсь, что рога не вырастут.
— Главное — не рога. Главное — дела во имя славы Каина. Нередко к нам приходят люди весьма преклонных лет.
— Как я понимаю, посылать меня в бой вы не собираетесь? — Лева смелел все больше и больше.
— Служить Каину можно не только оружием. Мы никогда не ставили знака равенства между грубой силой и изощренным умом. Исполнителей у нас достаточно. А вот в мыслителях всегда ощущалась нужда.
— Вы мне льстите.
— Лесть не в чести у детей Каина… Не для того много лет назад мы подкинули тебя в стан врагов, чтобы сейчас делать простым бойцом. Победит тот, кто заботится о будущем. Много таких, как ты, тайных каинистов, ждут своего часа и в Отчине, и в Кастилии, и даже в Степи.
— Вы про Киркопию забыли, — брякнул Лева. — Тамошний народ вас бы понял.
Ламех смерил Цыпфа долгим, ничего не выражающим взглядом.
— Когда человек, попавший в безвыходную ситуацию, начинает шутить, это означает одно из двух, — произнес аггел. — Или он знает путь к спасению, или уже махнул рукой на собственную жизнь.
— Махнул… Так будет ближе к истине… Вот вы недавно назвали меня тайным каинистом. Вы уверены в этом?
— Абсолютно. Нынешние твои убеждения нас нисколько не интересуют. Если бы ты с детства находился под влиянием идей Каина, то мог бы преждевременно раскрыть себя. Теперь же ты вне всяких подозрений. А мы со своей стороны позаботимся о том, чтобы в нужное время ты безоговорочно стал на сторону детей Кровавого Кузнеца.
— Хотите сказать, что нужное время пришло?
— Иначе зачем бы я беседовал с тобой?
— А если… я не приму вашей стороны?
— Мы практикуем не только добровольную, но и принудительную службу, — впервые в голосе Ламеха прозвучало что-то идущее от чувств, правда, от чувств недобрых.
— Пытать станете?
— Это было бы чересчур примитивно. Хотя и такой метод не исключается. Но обычно к таким экземплярам, как ты, мы применяем другой подход. Не хочу сказать, что каинисты свято чтут родственные узы, но в чувствах, порождаемых кровным родством, они разбираются.
— Что-что, а этого у вас не отнимешь…
Ламех на эту реплику не обратил никакого внимания. Точно так же и кот позволяет плененной мышке немного попищать и побегать в последние минуты жизни.
— Готовя тайного служителя Каина, мы всегда оставляем у себя заложника, — продолжал он. — Отца, мать, брата, сестру… Их дальнейшая судьба зависит от отношения нашего протеже к делу Кровавого Кузнеца.
— Вы хотите сказать… что можете причинить моей сестре зло? — ужаснулся Цыпф.
— Если она не склонит тебя на нашу сторону, непременно, — уголки рта Ламеха дрогнули, что должно было означать улыбку. — Но ведь ты не станешь доходить ситуацию до такой крайности?
— Стану, если вы потребуете от меня предательства! — Цыпф обхватил голову руками. — Она моя сестра, я люблю ее… Но даже ради братской любви нельзя губить своих друзей.
— Тебе придется трудно… Анархия разъела твою душу. Ты отвык подчиняться и не умеешь командовать даже самим собой… Но это поправимо. Что же касается твоего выбора между сестрой и друзьями, это спорный момент… Посмотрим, как ты заговоришь, когда мы бросим ее на сковородку. Кроме того, у твоей сестры есть дети, твои племянники. Ты познакомишься с ними, но уже в камере пыток.
— Сволочи, — прошептал Цыпф. — Какие вы сволочи.
Ламех ударил его — но не кулаком, как равный равного, а открытой ладонью, как слабака. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы у Цыпфа из носа хлынула кровь, а из глаз слезы.
— Запомни, гнида, в следующий раз за такие слова я оторву тебе язык. Кем бы ты ни стал к тому времени. Хоть президентом Отчины, хоть государем Кастилии, хоть великим ханом Степи, — впервые из уст Ламеха вырвались искренние, привычные слова, но уже спустя секунду он овладел собой и уже совсем другим тоном добавил: — Что же касается друзей, мы не требуем, чтобы ты немедленно погубил их.
— А что вы требуете? — лицо у Цыпфа горело, как от удара плетью.
— В первую очередь — откровенности. Ты должен ответить мне на несколько вопросов.
— А потом?
— Когда придет это потом, состоится совсем другой разговор, — Ламех чуть заметно поморщился. — Кстати, как могут расценить твое отсутствие друзья?
— Плохо. У них тоже возникнет ко мне несколько вопросов. А кривить душой я не умею.
— Даже ради жизни родного человека?
— Ради жизни родного человека я не могу петь оперные арии. Или, например, танцевать в балете. Не дано, знаете ли. По той же самой причине я не могу кривить душой, — озлился вдруг Цыпф. — Вот таким дерьмом я уродился!
— Что же мне с тобой делать? — Похоже, Ламех и в самом деле призадумался.
— Ладно… Возможно, я и отпущу тебя, но только взамен на некоторую информацию. Отвечай быстро. Куда вы сейчас идете?
— Домой, в Отчину, — честно признался Цыпф.
— Вы и в самом деле обладаете неким сверхмощным оружием?
— Да, — и это было правдой.
— Вы поддерживаете связь с Доном Бутадеусом?
— Сейчас — нет, — (абсолютная истина).
— Почему последнее время возле вас сшиваются варнаки?
— Мы сами не знаем, — и на этот раз Лева ничуть не покривил душой.
— Точно? — рука Ламеха со стремительностью жалящей змеи метнулась к горлу Цыпфа.
— Т-точно… — захрипел он.
— Ладно. Живи пока, — Ламех убрал руку, и Лева мешком сполз с пенька на землю. — Все остальное зависит только от тебя. Когда будет нужно, мы свяжемся с тобой. Возможно, это произойдет в самое ближайшее время.
— Я хочу увидеть сестру… Пожалуйста, — лежа в ногах у Ламеха, попросил Лева.
— Иди, она догонит тебя… Но говорить вы можете не больше пары минут…
Неверным вихляющимся шагом Цыпф побрел обратно. Сейчас он ненавидел самого себя с такой силой, что даже патрон было противно тратить. Эх, утопиться бы в каком-нибудь болоте…
Когда это было нужно, аггелы умели передвигаться бесшумно. Из кустов магнолии, исполнявших под ударами ветра какой-то дикий танец, выскользнула, как тень, женщина-аггел и молча пошла рядом с Цыпфом. Он почти силой ухватил ее за холодную, мокрую руку.
— Я все же вспомнил твое имя, — прошептал он.
— А теперь и не рад, — глядя мимо него, усмехнулась Соня.
— Почему — не рад? Очень рад.
— Ты с нами?
— С кем? — не понял Цыпф.
— С детьми Каина.
— Нет… что ты!
— Почему же тогда тебя отпустили?
— Не знаю… Отпустили и все.
— Ты знаешь, что будет со мной и моими детьми, если ты обманешь Ламеха?
— Он говорил мне… — Цыпф закашлялся.
— Но тем не менее ты остался при своем мнении.
— Послушай…
— И слушать ничего не хочу! — Она яростно глянула на него. — Черствая твоя душа! Хочешь погубить всех нас? Хочешь, чтобы в знак предупреждения тебе прислали голову моего сына?
— Не я придумал эти игры…
— Но и не я! — отрезала Соня.
— Тем не менее ты давно играешь в них. У тех, кто не уверовал в Каина, рога не растут.
— Я все это делала ради тебя! Мне сказали, что, если я буду послушной, тебе сохранят жизнь.
— Тебя шантажировали самым банальным образом… Точно так же, как и меня сейчас.
— Никто тебя не шантажирует, — горячо заговорила она. — Будущее принадлежит нам, детям Каина. Только они одни могут спасти этот мир. Только они одни даруют людям надежду на будущее.
— О чем ты говоришь, — поморщился Цыпф, — разве можно построить будущее на крови нынешних поколений…
— Почему бы и нет? Любое великое дело замешано на крови. Вспомни историю христианства. А на чем несли свою веру последователи Мухаммеда? На своих клинках! Даже Будда не щадил врагов.
— Может быть… Но никто, кроме вас, не возводил убийство в культ… Соня, прости, у меня не так уж много времени. Мне предстоит еще непростое объяснение со спутниками, и я не знаю, чем оно кончится. Поэтому давай прощаться.
— Хорошо тебе так говорить, — она отступила в сторону. — Ты уйдешь, а я останусь. Вчера у меня отобрали детей. Сегодня — оружие. Завтра отберут одежду. Я буду сидеть в каком-нибудь темном и холодном подвале, ожидая своей участи, и никто не подаст мне корки хлеба, даже ты, брат.
— Что же мне делать? — забыв об осторожности, взвыл Цыпф. — Сесть в этот подвал вместо тебя? Удавиться? Лизать пятки аггелам?
— Этим ты ничего не изменишь. Тех, кто желает лизать аггелам пятки, хватает и без тебя… Но если ты и в самом деле не хочешь нашей смерти…
— Я не хочу вашей смерти!
— Тогда сделай вот что… Я слыхала, что вы раздобыли здесь какое-то необычайно мощное оружие. Отдай его аггелам. Это спасет и нас, и тебя.
— О чем ты говоришь… Дать вам в руки факел, которым можно спалить весь мир? Никогда.
— Вот ты, оказывается, какой, братец, — печально улыбнулась она. — А ведь я тебя вчера пожалела…
— Как это? — удивился Цыпф.
— Я должна была вытрясти из тебя все, что возможно… Сломать тебя… Сделать послушным орудием в руках аггелов. И я была готова к этому… Хватило бы и силы, и доводов… Вот только с бдолахом осечка вышла… Перебрала немного… Знаешь, как он действует? Правильно, что хочешь, то и получишь… Вот я и получила… Одну только жалость к тебе… Слезы да сопли… Уже за одно это я заслуживаю беспощадного наказания.
— Пойдем со мной! — Цыпф снова попытался поймать ее руку. — Порви с аггелами! Мои друзья поймут тебя. А потом мы найдем способ выручить твоих детей!
— Нет, — она отступала все дальше. — Рогатые никогда не возвращаются к людям… Кто однажды поверил Кровавому Кузнецу, ни за что ему не изменит. Каиново клеймо не может смыть даже смерть… Спасибо тебе за все, брат…
Как это ни странно, но отлучка Цыпфа прошла безо всяких последствий. Когда он вернулся, все еще спали, а на часах стоял наивный Толгай, которого вполне удовлетворили жалобы Левы на несварение желудка.
Но ничего не кончилось. Все еще только начиналось. Смерть на костре мучительна, зато сравнительно скоротечна. Цыпфу же была уготована куда более жестокая мука — огонь душевного страдания неотступно жег его изнутри. Как бы Лева ни поступил сейчас, какое бы решение ни принял, в конечном итоге он все равно оставался подлецом. Ради спасения сестры пришлось бы предать друзей. А верность прежним идеалам неминуемо привела бы к гибели родного человека. Это был тупик. Неразрешимая дилемма. Удавка, которую тянут сразу за два конца. Все уже давно встали и готовились к завтраку, а он продолжал лежать лицом вниз, изображая спящего. Проходившая мимо Верка негромко сказала:
— Ох, не нравишься ты мне сегодня. Может, беда какая-нибудь случилась? Излей душу, пока не поздно.
Впрочем, слух о его недомогании вскоре распространился повсеместно, и Леву оставили в покое.
Наступила жестокая пора — пора решений.
Спустя примерно час Лева встал, с рассеянной улыбкой выслушал шуточки друзей и отозвал Лилечку в сторону. Оставшись с девушкой наедине, он поздравил ее с днем рождения и вручил цветы. Надо заметить, что делал он это впервые в жизни.
— Ой, какие симпатичные! — восхитилась Лилечка. — Где взял?
— Да тут, неподалеку… — неопределенно ответил Лева.
— А почему ты такой хмурый? — Лилечка, чмокнула его в щеку. — Животик болит?
— С животиком у меня как раз все в порядке — Лева принялся старательно протирать свои очки. — Тут другое дело… Не знаю даже, с чего и начать…
— Ну опять! — огорчилась девушка. — Вечно ты мне настроение испортишь. Если что-то плохое, так лучше не начинай… Ради моего дня рождения потерпи до завтра.
— Я бы потерпел, — у Левы непроизвольно вырвался тяжелый вздох. — Да не получается. На все только пара часов и осталось…
— На что — на все? — радостная улыбка на лице Лилечки уже сменилась страдальческой гримасой.
— На все, — повторил Лева, сделав ударение на последнем слове. — На этот разговор, на задуманные дела, на жизнь…
— Ты хочешь сказать… — ресницы ее затрепетали, как крылья подшибленной бабочки, — что через пару часов тебя уже не будет в живых?
— Так получается, — он неловко развел руками и уронил при этом очки. — Хорошо, что ты поняла это без долгих объяснений.
— Значит, и объяснений не будет? — она спрятала побледневшее лицо в букет, но глаз с Левы не сводила.
— Будут. Объяснения будут. Как раз для этого я и позвал тебя… — Он поднял очки, но потом, как ненужную вещь, отшвырнул их прочь. — Представь себе, что в бушующем море гибнет лодка с тремя пассажирами на борту. Это, во-первых, ты сама. Потом кто-то из твоих друзей, которому ты очень многим в жизни обязана. И, наконец, единственный на свете родной тебе человек, имеющий к тому же своих собственных детей, которые одни не проживут. Плавать никто из вас не умеет, а спасательных кругов только два. Ты знаешь, что такое спасательный круг?
— Знаю… Мне бабушка морские рассказы читала.
— Так вот, распоряжаться спасательными кругами имеешь право только ты. Как ты поступишь? Кому даруешь жизнь, а кого обречешь на смерть?
— Почему именно я должна это решать? — Лилечка, похоже, находилась в полнейшей растерянности.
— Таково условие моей задачки.
— Ничего себе задачка… Не собираюсь я за других решать. Расскажу все как есть и пусть сами думают. Или пусть жребий тянут. Только по-честному.
— Дело в том, что лодка попала в бурю по твоей вине, — Лева понизил голос.
— И кто бы из твоих спутников ни погиб, тебя все равно замучает совесть.
— Теперь все ясно, — многозначительно кивнула Лилечка. — Лодка гибнет. Не из-за меня, конечно, а из-за тебя. Спастись могут только двое из троих, вот только не знаю, кто они такие…
— Это так, условность.
— И ради спасения этих условных двоих ты решил пожертвовать собой, чтобы потом, значит, не мучиться совестью.
— Примерно…
— А обо мне ты подумал? — Она отшвырнула букет.
— Конечно. Ведь ты тоже находишься в этой лодке.
— Помощь ниоткуда не придет? — Лилечка буквально сверлила Цыпфа взглядом.
— Помощь не придет, — ответил тот печально. — И буря не утихнет. Даже после моей смерти.
— Подожди-ка, — она скрестила на груди руки. — Что-то тут не так… Ты не людей хочешь спасти, которые в этой лодке по твоей вине оказались, а самого себя. Утоплюсь, дескать со стыда, а вы там сами между собой разбирайтесь. Круг спасательный, наверное, всего один. А может, и того нет. Ну ты, Лева, и эгоист. Причем самой крутой закваски. Эгоист-самоубийца.
— Не мне судить… Возможно, ты и права. Но другого выхода для себя я просто не вижу. Я сознательно иду на смерть, потому что не могу сделать выбор. Это то же самое, что выбирать между чумой и холерой. Надеюсь, хоть какие-то ваши проблемы благодаря этому разрешатся. Попроси за меня прощения у всех и предупреди, что вокруг полным-полно аггелов. Они не нападают, так как опасаются кирквудовской пушки. Им не известно, что сейчас она ни на что не годится.
— Ты уходишь к аггелам? — Лилечка в ужасе зажала ладонью рот.
— Да, но это не предательство, — поспешно объяснил Лева. — Сейчас они считают меня своим серьезным козырем. Возможно, это и так, но только до тех пор, пока я жив. Став мертвецом, я сразу превращусь в фальшивую карту, и вся их игра развалится… А теперь прощай.
— Лева, не уходи! — закричала она. — Давай расскажем обо всем нашим! Они обязательно придумают что-нибудь!
— Нет, — сейчас Лева был почти спокоен. — Я очень уважаю и Зяблика, и Смыкова, и Веру Ивановну, но у них совсем другие понятия о жизни. Не берусь судить, хуже или лучше, но другие… Тем более что чужому человеку в мою шкуру не влезть.
— Лева, подожди! Ну хоть немножечко! — взмолилась Лилечка. — Если это наша самая последняя встреча… Я на все согласна… Помнишь, в той черной норе под гаванью мы договорились, что, если наступит конец, мы все же выкроим минуточку для любви… Лева, давай, а?
— Не могу, — голос у Левы сразу осип. — Я очень благодарен тебе, но не могу… Боюсь, после этого я потеряю решимость… Ты просто не знаешь, чего мне стоило все это… Я весь как комок нервов, Мне нельзя позволить себе даже минутную слабость…
— Я все равно не отпущу тебя! — Лилечка вцепилась в его куртку.
— А вот этого не надо! — он рванулся. — Не превращай последние часы моей жизни в ад! Хочешь, чтобы я сошел с ума?
— Да ты и сейчас ненормальный! Как можно было придумать такое? Псих припадочный!
— Каждый человек вправе поступить так, как велит ему совесть! — Куртка на Левке затрещала.
— Если болячку не трогать, она сама заживет! — Лилечка оказалась цепкой, как заправский самбист. — Зачем ее зря бередить! Так и совесть твоя! Сама со временем успокоится, только не растравляй ее.
— Не ждал я от тебя таких слов!
— А я такой дурости от тебя не ждала! Некоторое время борьба шла с переменным успехом, но Левке, хоть и с трудом, все же удалось вырваться.
— Умоляю, возвращайся назад! — Он метнулся в сторону. — Я все равно убегу от тебя!
— Попробуй! — Лилечка кинулась за ним вслед. — Если надо, я за тобой до самого Эдема буду гнаться… До самой Отчины… Не на ту нарвался… Это я только с виду тихая…
Началась гонка, оба участника которой со стороны выглядели форменными дураками. Лева мчался несуразными скачками и, дабы уберечь глаза от встречной растительности, размахивал перед собой руками (о брошенных в порыве отчаяния очках теперь можно было только сожалеть). Лилечка не отставала ни на шаг. Не всякая покинутая жена, даже та, муж которой вдобавок унес с собой и семейную кассу, была способна проявить такую прыть. Несколько раз она уже почти настигала дезертира, но все время что-то мешало: то ветка по лицу хлестанет, то оторвется хлястик Левкиной куртки, до которого сумели-таки дотянуться ее пальцы. Девушка просто осатанела. На все мольбы своего сердечного дружка она отвечала угрожающе-лаконично: «Не уйдешь, трус поганый…»
И тем не менее преимущество Левы, обусловленное разницей в физиологии полов, начало сказываться. Как бы ни были плохи его физические кондиции, у Лилечки, до восемнадцати лет из дома вообще почти не выходившей, они оказались еще хуже. Разделявшее их расстояние начало мало-помалу увеличиваться и вскоре достигло полусотни шагов. Потеряв Леву из виду, девушка должна была ориентироваться только по шуму его шагов, что еще больше затрудняло погоню.
Последние слова Цыпфа, которые Лилечка смогла разобрать, были таковы:
— Дальше нельзя… Опасно… Берегись аггелов…
На это она ответила предельно прямо:
— Ты лучше сам поберегись… Отделаю тебя так, что и аггелы позавидуют.
Спустя примерно три четверти часа Левка, вполне уверенный, что Лилечка безнадежно отстала, наткнулся на передовую заставу аггелов. Сначала его хотели просто придушить, но Левка прокусил пятерню, зажимавшую его рот, и успел крикнуть:
— Ламех! Мне срочно нужен Ламех!
Тем не менее в ставку самозванного потомка Каина его доставили в почти бесчувственном состоянии. Свидание с Ламехом состоялось во внутреннем дворике хорошо сохранившейся виллы, построенной в латиноамериканском стиле из весьма убедительной имитации каррарского мрамора. Несколько десятков аггелов-новобранцев устанавливали на дне высохшего бассейна культовую сковороду, с которой уже было ободрано все, что могло свидетельствовать об истинном предназначении сего предмета. Здесь же высилась куча свеженаколотых дров.
— Я не ждал тебя, — не утруждая себя приветствием, недружелюбно проронил Ламех, внимательно наблюдавший за возней в бассейне. — Почему ты здесь?
— Сестра сказала, что мы заслужим вашу благосклонность, если я раздобуду то самое оружие, которым вас громили в гавани.
— Громили? — презрительно усмехнулся Ламех. — Нас? Ты что-то путаешь… Воинство аггелов неисчислимо. Что значит по сравнению с ним жалкая кучка разленившихся на караульной службе псов, приворовывавших бдолах и менявших его на кастильских шалашовок? Этот гад Грибов давно был у меня на примете. О шкуре своей заботился больше, чем о деле Кровавого Кузнеца. Дальше сотника за десять лет так и не дослужился. Да и сотником-то я его только за то сделал, что ихний колхоз над нашей зоной когда-то шефствовал. Гнилой свеклой и тухлой капустой снабжал. Разве Зяблик тебе не рассказывал?
— Нет, — молвил Лева, которому уже абсолютно все равно было, кто такой сотник Грибов и в каких отношениях он находился с Ламехом.
— Ах да… — поморщился аггел. — Совсем забыл… Он же тогда в крытке вшей кормил… Ну да ладно. Толкай свою речь. Будешь, наверное, за оружие цену набивать?
— Нет, — молвил Лева все тем же безразличным тоном.
Жить ему — если оправдаются все расчеты — оставалось минуты три-четыре. Лева уже морально подготовился к смерти и убедил себя, что это вовсе не конец, а начало чего-то нового, неизведанного. (Тут уж пригодились проповеди Зяблика о переселении души.) И все же невозможно было оторвать взгляд даже от этих постыло-серых, но успевших стать привычными далей. Хотелось до бесконечности вдыхать сырой, странновато попахивающий воздух. Так и тянуло в последний раз сделать глоток воды, погладить шероховатый ствол дерева, надкусить травинку.
Однако выбор был сделан. Телесная оболочка еще попирала ногами грешную землю, а душа уже рвалась на волю.
— Нет, — повторил Левка. — Нет.
— Не понял! — Ламех косо глянул на него. — Ты что, штымп порченый, издеваешься надо мной?
— Нет, — ответы Левки не отличались разнообразием.
— Что — «нет»? — обычная невозмутимость уже начала покидать Ламеха.
— Оружия нет, — сказал Левка отчетливо. — И меня нет. Ничего вам не достанется. Ошиблись вы, козлы рогатые!
Не давая врагам опомниться, Левка сунул руку в потайной карман, случайно обнаруженный им пару дней назад под подкладкой трофейной куртки. Устроен карман был так хитро, что даже пистолет в нем почти не прощупывался, не говоря уже о гранатном запале, много места не занимавшем, но вполне способном прикончить человека (если, конечно, успеть сунуть его в рот).
Карман был глубокий, и рука ушла в него почти по локоть. Было там немало всего: несколько мелких монеток, завернутые в вощеную бумагу фосфорные спички, окаменевший сухарик, армейская пуговица и много табачных крошек. Вот только ничего похожего на проклятый запал не попадалось, хотя Лева прекрасно помнил, что прихватил его с собой, перед тем как отправиться к аггелам. Не то он вывалился из кармана во время борьбы с аггелами, не то был изъят при обыске в тот момент, когда Лева находился в бессознательном состоянии.
Ситуация создалась идиотская, чтобы не сказать больше.
С одной стороны, за свои слова надо было отвечать (при упоминании о рогатых козлах головы всех присутствующих, как по команде, повернулись в сторону Цыпфа), а с другой стороны, столь наглое поведение безоружного пленника как-то настораживало аггелов. Что бы там ни говорил Ламех, а побоище у фонтана Посейдона не только не выветрилось из памяти каинистов, но и успело обрасти новыми жуткими подробностями. Никто не мог даже предположить, какой очередной неприятный сюрприз ожидает нынче детей Кровавого Кузнеца.
На Левку уже было наставлено не меньше десятка стволов, однако в присутствии Ламеха никто не осмеливался открыть стрельбу. Тот хоть и скрежетал от ярости зубами, но на людях старался сохранять величие, приличествующее его высокому сану.
— Ты почему грабку в карман засунул? — спросил он зловеще-строго.
— Да так… проголодался… — Лева почистил о рукав извлеченный из потайного кармана сухарик и принялся грызть его, что было весьма кстати — помогало маскировать нервное клацанье зубов.
Маразматическое поведение Левки запутало Ламеха. Он просто не мог взять в толк, что имеет дело не с хитро продуманным планом действий, а с отчаянием дилетанта, утратившего путеводную нить своих замыслов.
— Что ты там такое про оружие плел? — спросил Ламех. — То оно есть, то его нет…
— Дайте вспомнить… — Левка попытался изобразить на лице крайнюю степень задумчивости, но получилось нечто такое, что вызвало сочувствие даже у закоренелого каиниста Ламеха.
— Может, ты, приятель, ширнулся? Или колес наглотался? Тут в некоторых местах такая дрянь попадается, что от глюков целый месяц спасения нет.
Цыпф в ответ промычал что-то неопределенное. Все его планы, в равной мере геройские и дурацкие, разом рухнули. Надо было срочно выдумывать что-то новое, но в голову, как на грех, ни одна толковая мысль не лезла — сказывалось душевное потрясение, вызванное пропажей запала. Как это он не догадался взять с собой несколько штук и по разным карманам рассовать? Правильно говорил Смыков, что запас задницу бережет.
— Похоже, он голос потерял, — пожал плечами Ламех. — Вояка… Эй там, кто-нибудь, тряхните его!
Детина, стоявший к Левке ближе всех других аггелов, очевидно, страдал тугоухостью, иначе чем еще можно было объяснить его действия, определяемые отнюдь не понятием «тряхнуть», а скорее — «трахнуть».
— Это тебе за козлов рогатых, — тихо сказал он, дуя на свой правый кулак.
— Извиняюсь, — вежливо произнес Левка, вставая на ноги. — Я совсем в другом смысле… Знаете, как говорят: свинье Бог рог не дал. Значит, свиньям рога не положены. А козлам положены. По чину. Ну и вам, естественно.
— Засунь своего Бога знаешь куда? — вновь осерчал Ламех. — Где оружие?
— Вот я про это и хотел сказать, — Левка, слегка контуженный ударом, затряс головой. — Нету его пока… Доступа не имею… Но постараюсь… Через денек примерно…
(Шальная надежда вдруг овладела им — а вдруг поверит, а вдруг отпустит? На сковородку, уже полностью подготовленную к делу, он старался не смотреть.)
— Ни хрена не понимаю, — Ламех оглянулся по сторонам, словно выискивая кого-то в толпе аггелов. — Позовите Циллу, да побыстрее.
Кто-то из молодых шустро кинулся во внутренние покои виллы и уже спустя минуту вернулся вместе с женщиной, которую Левка Цыпф считал своей сестрой.
Мельком и без особого интереса глянув на незадачливого братца, она обратилась прямиком к Ламеху:
— Звал? Что случилось?
— Ты посмотри на этого придурка. — Ламех ткнул в сторону Левки пальцем. — Пришел безо всякого вызова и несет какую-то туфту… Это ты ему велела оружие раздобыть?
— Кто же еще… Ты сам меня об этом просил.
— А он, понимаешь ли, пустой явился… Не нравится мне такой коленкор.
— А что, если его дружки сейчас какую-нибудь пакость против нас затевают?
— высказалась Соня-Цилла.
— Нет, у них все спокойно. Недавно доклад от дозорных был.
На протяжении этого краткого диалога Цыпф во все глаза рассматривал сестру. В отличие от прошлых встреч она вела себя сейчас абсолютно спокойно и на заложницу, озабоченную своей судьбой, совсем не походила. Даже всемогущий Ламех разговаривал с ней не так, как с другими аггелами, а как с равной себе.
— Нам можно поговорить наедине? — Соня, — растерянно позвал он.
— Зачем? У меня от своих секретов нет, — взгляд ее был совершенно равнодушен, ни огонь бдолаха, ни наигранная жалость к самой себе больше не оживляли его.
— Соня… хочешь узнать, зачем я пришел сюда?
— Вот это действительно любопытно.
— Я пришел сюда для того, чтобы на глазах у вашей братии покончить с собой. Понимаю, что этот поступок можно назвать малодушием, но иного выхода для себя я не вижу. Дело в том, что я стал опасен. Как для тебя, так и для моих друзей. Выбрать что-то одно я не могу. Моя смерть избавит тебя от участи заложницы, а их — от потенциального предателя.
— Почему же ты не выполнил своего плана? — еле заметно усмехнулась Соня-Цилла. — Струсил, как всегда?
— Не вышло… Хотя моей вины здесь нет. Причиначисто техническая.
— Те псы, которых ты называешь друзьями, знают о твоих намерениях?
— Думаю, что да… Уже должны знать.
— Выходит, ты открылся им. Покаялся. Обрубил все концы, — что-то недобро дрогнуло в ее лице.
— Пусть будет так…
— Как же я ошиблась в тебе, — теперь в ее тоне сквозила брезгливая жалость. — Как же мы все ошиблись в тебе. И на что ты сейчас рассчитываешь? На нашу милость? На мое сострадание?
— Как можно рассчитывать на милость каннибалов и сострадание братоубийц, — Левка надеялся, что кто-то из аггелов не вынесет оскорблений и всадит в него пулю. — Просто обидно, что я обманулся и на этот раз. Хотел спасти родную сестру, отвести беду от ее детей, а оказался в гнусной ловушке.
— Ничего этого не случилось бы, прими ты нашу сторону, — отрезала она. — Да и в людях тебе пора разбираться. Разве я похожа на убитую горем заложницу? Память у тебя действительно хорошая. Ты вспомнил, как меня звали много лет назад. Но нужно еще и головой немножко соображать. Ведь имя Циллы, любимой жены Ламеха, вот так запросто не дается. Не всякая из нас удостаивается такой чести. Это заслужить надо.
— А ты, сестричка, как я понимаю, заслужила. Представляю, чем можно заслужить авторитет у каинистов.
— Темный ты. Обманутый. Разве можно судить о том, что для тебя остается тайной за семью печатями? Все вы, непосвященные, видите только внешнюю сторону наших дел. Нас обвиняют в убийствах, насилиях. Это гнусная демагогия. Мы не убиваем. Мы просто очищаем землю от недостойных. Нас часто называют стервятниками. Это название нас устраивает. Если бы стервятники не пожирали падаль, она отравила бы своими миазмами все вокруг. Левка, твои друзья и те, кто за ними стоит, — падаль. Падалью был козопас и наушник Авель, которому воздалось по делам его… А наши методы… Пусть они не нравятся кому-то. Какое это имеет значение? Единожды переступив через рабскую мораль почитателей Распятого, можно уверенно шагать дальше. Тебе не понять, как притягательны, как заворожительны идеи Кровавого Кузнеца… Не удивительно ли, что до сих пор ни один каинист не изменил своей вере? По-моему, такого прецедента в истории нет.
— Тут ты допустила небольшую неточность, — прервал ее Цыпф. — Следовало бы сказать немного иначе: в живых не осталось ни одного каиниста, который изменил своей вере.
— Ты обманут, Левка, — печально вздохнула она. — Как ты обманут!
— Верно, — согласился он. — Обманут. И, что самое печальное, именно тобой.
— Тот обман был во благо тебе. А кроме того, среди нас это не считается грехом. Наш отец, чтобы спасти себя, пытался обмануть того, кого вы считаете Богом-Создателем.
— Может, сестричка, ты меня и относительно своих детей обманула?
— А вот детей моих ты не касайся! — холодные глаза ее вновь оживились, на этот раз яростью тигрицы. — Все мои дети отдали жизнь за дело Кровавого Кузнеца! И я ничуть не жалею об этом! От тебя же, мразь, я публично отрекаюсь!
— Она резко повернулась к Левке спиной. — Поступай с ним, как считаешь нужным,
— слова эти относились уже к Ламеху.
На минуту во дворике виллы наступила тишина. Затем аггелы, словно опомнившись, кинулись доделывать свои дела: кто-то занялся колкой дров, кто-то ладил ведущий на сковородку трап, кто-то растягивал по дну бассейна цепи, до этого кучей лежавшие в стороне.
— Твоя сестра немного погорячилась, — сказал Ламех, когда Соня-Цилла скрылась в тех же дверях, из которых недавно появилась. — Ты и в самом деле сильно провинился перед детьми Кровавого Кузнеца, но лично я считаю, что шанс на исправление тебе все же можно дать. В память о шансе на жизнь, который Каин-изгнанник выторговал у ослепленного яростью лжебога, — теперь, когда с Левой все было ясно, речь Ламеха опять полилась плавно и величаво. — Хотя тебе придется начинать все с самого начала. Наравне с мальчишками ты пройдешь все этапы посвящения, после чего некоторое время повоюешь рядовым бойцом. Не здесь и не в благословенной Хохме, а в Отчине, Эдеме или Кастилии. Если ты уцелеешь в этой праведной борьбе да к тому же еще сумеешь доказать свою абсолютную преданность, мы вновь займемся твоей судьбой.
— Вот даже как… Мне дают шанс… Очень благородно с вашей стороны… — Нервы Левы уже были на пределе. — А что требуется взамен… Кроме беззаветной службы рядовым бойцом?
— Ничего особенного… Расскажешь нам все, что тебе известно о врагах Каина, твоих бывших друзьях. Их слабые и сильные стороны. Их взаимоотношения. Система охраны, применяемая на ночевках. Планы на будущее. Связи на местах. Но больше всего, конечно, нас интересует оружие, которое вы раздобыли здесь. Его устройство. Принцип действия. Как оно попало в ваши руки. Имеются ли другие подобные экземпляры. Ну и все такое прочее.
— А если я откажусь?
— С твоей стороны это будет глупостью. Трагической глупостью, я бы сказал. Ты все равно ответишь на наши вопросы, но свой шанс на спасение упустишь. То, что от тебя останется, даже вороны клевать не станут.
Левка хотел сказать твердое «нет», но получилось почему-то уклончивое: «Можно подумать?» Где-то в броне его души образовалась трещинка, через которую мало-помалу вытекала былая решимость.
— Только до тех пор, пока не разгорится костер, — ответил Ламех.
Аггелы, в тот же момент налетевшие на Левку, сорвали с его ног ботинки, а на руки надели железные браслеты с цепями.
— Надеюсь, дрова у вас сухие? — на эти слова Лева истратил последний запас своих нравственных сил.
— Где ты здесь найдешь сухие дрова! — сказал Ламех с напускной досадой. — Уж прости, если не угодили тебе…
Человек, впоследствии принявший имя Ламех, лет до двадцати пяти вообще не подозревал о существовании такого ветхозаветного персонажа. В той жизни, которая досталась ему, не было места для слова Божьего. Что же касается козней дьявольских, то, по общему мнению соседей, он как раз и был их зримым воплощением. Кличку Песик он получил еще в раннем детстве за своеобразную манеру драться — если сил в руках не хватало, в ход безо всяких колебаний пускались зубы, на диво крепкие и острые.
История его появления на свет в свое время потрясла весь Талашевск.
Случилось это не в роддоме, не в фельдшерско-акушерском пункте и даже не в домашней обстановке, а в — вокзальном туалете, чудом сохранившемся в первозданном виде еще со времен постройки Московско-Варшавской железной дороги, впоследствии переименованной в Белорусскую. (Все остальные станционные постройки на протяжении полувека сжигались трижды: в девятьсот пятом — революционными рабочими, в двадцатом — отступающими белополяками, а в сорок втором — партизанами знаменитого батьки Бурака.) Однажды осенним днем посетители той части туалете которая была помечена буквой «М», услышали звуки, для заведения подобного рода весьма не характерные. Не вызывало никакого сомнения, что принадлежат они младенцу, едва только появившемуся на свет и этим фактом весьма опечаленному. Но самое удивительное было то, что истошные крики ребенка доносились не из-за стенки, делившей туалет пополам (это еще можно было как-то объяснить), а как бы снизу — из выгребной ямы.
Делегация особо детолюбивых граждан, справив свою нужду, с некоторой опаской проникла в отделение «Ж», где и обнаружила полуживую гражданку, вид которой свидетельствовал о том, что совсем недавно она разрешилась от бремени. В цементном полу туалета имелось восемь сквозных отверстий, в просторечии именуемых «очко». Рев младенца особенно явственно доносился из того отверстия, которое, кроме обычной туалетной дряни, было помечено еще и каплями крови.
Как говорится, состав преступления был налицо. А время, заметим, — суровое. Недавно закончилась одна война и уже планировалась новая, так что баб, не желавших увеличивать народонаселение советской державы, сажали даже за аборты.
Срочно послали за милиционером, обычно торчавшим на привокзальной площади, но сейчас, по случаю осенней непогоды, избравшим местом своей дислокации станционный буфет. Тот примчался немедленно — усами, покроем мундира и саблей на боку очень похожий на дореволюционного жандарма.
Был этот милиционер служакой расторопным и самоотверженным. Другой на его месте послал бы за золотарями или в крайнем случае нанял бы за четвертинку какого-нибудь бродягу, а этот полез в выгребную яму сам, только синюю шинель скинул да саблю отстегнул.
Выгребную яму не очищали еще с лета, да и дожди все последние дни лили, не переставая, так что намечавшаяся спасательная операция была не менее опасна, чем спуск в преисподнюю. Один только запах настоенной на хлорке мочи мог сразить наповал, не говоря уже о прочих особенностях, присущих отечественным станционным туалетам.
По наблюдениям бывалых людей, дерьмо не тонет, но зато в нем и плавать нельзя — сразу засосет. Пришлось милиционеру подтянуть к себе ребенка длинной доской. Тот орал, сучил кривоватыми ножками и тряс окровавленным обрывком пуповины, но на поверхности держался довольно уверенно, видно, своим удельным весом уступал даже дерьму.
Затем спасенного младенца обмыли под водозаборной колонкой, завернули в милицейскую шинель и передали с рук на руки прибывшему из больницы фельдшеру. Милиционера отправили в баню, а мать-преступницу — в следственный изолятор.
В дальнейшем судьбы этих троих людей больше не пересекались.
Милиционер получил благодарность от непосредственного начальства, а от районных властей медаль «За спасение утопающих», которую впоследствии так ни разу и не надел, — стеснялся. Его рапорт о досрочной выдаче полного комплекта обмундирования был удовлетворен. Чуть позже списали и табельное оружие — пистолет «ТТ», побывавший вместе с хозяином в выгребной яме. От контакта с едкими фекальными массами металл сплошь покрылся белесыми пятнами, которые не удавалось свести даже полировальной пастой.
Мать была осуждена за попытку умышленного убийства и бесследно сгинула где-то в лагерной мясорубке. Следствие очень интересовалось личностью отца незаконнорожденного ребенка, но показания, данные сразу против нескольких человек, впоследствии не подтвердились: столичный тенор сумел доказать, что никогда даже и не слышал о Талашевске, а один известный всей стране военачальник предъявил документ, из которого следовало, что полученные на фронте ранения не позволяют ему вступать в интимные отношения с женщинами.
Ребенок остался на попечении глухой и сильно пьющей бабки. В первый класс он не пошел — нечего было одеть, да и надо же было кому-то следить за самогонным аппаратом, неровен час, еще взорвется. Пил он с тех пор, как помнил себя, но только первач и немного — не больше кружки в день. То, что не успевала вылакать бабка, шло на продажу и на натуральный обмен. За бутылку самогона давали полмешка картошки или пять охапок дров.
Склонность к правонарушениям и пренебрежение к общепринятым нормам поведения проявились у Песика так рано, что впору было говорить о его врожденной аморальности, хотя такую возможность современная педагогическая наука начисто отрицала. Что тому было виной: то ли душевная травма, полученная при криминальных родах, то ли специфическая химическая среда, в которую угодил младенец непосредственно после появления на свет, то ли гены неизвестного отца давали о себе знать — но уже в пять лет эта сиротка творила такое, от чего брался за голову даже видавший виды участковый. Песик крал все, что можно было украсть, даже вещи абсолютно ему не нужные; колотил, кусал и забрасывал камнями своих сверстников; неоднократно обваривал кипятком ненавистную бабку; травил соседских кур; калечил кошек и голубей; проявлял нездоровый интерес к девочкам и склонял наименее целомудренных к непристойным забавам.
Когда юному разгильдяю стукнуло восемь лет, органы опеки опомнились. Внук-самогонщик был отнят у бабки-алкоголички и определен в интернат для трудновоспитуемых детей. Наконец-то соседи вздохнули с облегчением, а участковый на радостях даже выпил, что делал в последнее время крайне редко, поскольку имел по этой линии строгий партийный выговор и служебное несоответствие.
Веселая жизнь для Песика окончилась. Ввиду того, что собранные под крышей интерната дети и в самом деле были трудновоспитуемыми, их никто и не воспитывал
— зачем зря силы тратить. Главное, чтобы они не сбежали на волю, не сожгли интернат и не забили друг друга до смерти. Воспитателям не возбранялось применять против несовершеннолетних изгоев общества самые непедагогические методы, вплоть до содержания в карцере, лишения пищи и гомосексуального насилия.
Песик совершал побеги из интерната с регулярностью перелетной птицы — дважды в год, весной и осенью. Маршруты его странствий пролегали от Мурманска до Ставрополя и от Бреста до Иркутска. Несколько раз он пытался уйти за рубеж, но, не зная ни местности, ни тактики действия пограничных нарядов, всегда попадался. После одного такого случая, когда Песик нанес увечья пограничной собаке, его уже не вернули, как обычно, в интернат, а направили в колонию для несовершеннолетних преступников.
Нравы здесь были покруче, однако Песик не затерялся в серой массе воришек, хулиганов и наркоманов. Недолгий, но продуктивный опыт конфронтации с обществом, кроме многого другого, научил его одному правилу, до сих пор срабатывавшему безотказно: если хочешь верховодить в стае себе подобных, если хочешь заранее парализовать волю потенциальных врагов и конкурентов, прилагай все старания для того, чтобы твои поступки поражали жестокостью и непредсказуемостью. Уж если драться, то чтобы твой противник остался без уха, без глаза или без зубов. Уж если опетушить новенького, то до разрыва промежности. Уж если конфликтовать с администрацией, то по-настоящему, не жалея себя — глотать битое стекло, резать вены, держать сухую голодовку.
В шестнадцать лет Песик получил первый в жизни подарок — наколку на плечо в виде тюльпана. Таков был воровской закон. В восемнадцать лет, выходя на волю, он имел на другом плече розу, а на пальцах правой руки два татуированных перстня. Один обозначал — «загубленная юность». Второй — «тянул срок в зоне».
Бабка, дождавшаяся-таки единственного внука, так ему обрадовалась, что вскорости отдала Богу душу. Была она настолько стара и изъедена недугами, что вскрытие, грозившее Песику новыми нешуточными неприятностями, не проводилось. Похоронив бабку на скорую руку, он стал полноправным владельцем покосившейся избенки, шести соток запущенного огорода и самогонного аппарата устаревшей конструкции. Все это Песику было абсолютно не нужно. Манила его жизнь совершенно иная.
К этому времени он четко делил человечество на две части — себя самого и всех остальных. Причем право на жизнь и связанные с ней удовольствия имел исключительно он один. Конечно, Песик отдавал себе отчет, что лишить достояния сильных мира сего не так уж просто, и поэтому решил начать со слабых. Днем он грабил прогуливающихся в лесопарке пенсионеров, вечером шмонал у ресторана пьяниц, а ночью шуровал на рабочих окраинах, отбирая кошельки и золотые украшения у возвращающихся со второй смены швей и текстильщиц. Дабы посеять среди фраеров страх, Песик жестоко избивал все свои жертвы (даже тех, кто расставался с собственным имуществом без звука).
Впрочем, все это было мелочевкой и особого резонанса в городе, где на каждой улице орудовала своя банда, не вызывало. Серьезные дела начались потом.
Как-то Песик загулял в своей избенке с известной всему блатному обществу профурой по прозванию Валька Холера. За скромную закуску и пару стаканов самогона эта, в общем-то, вполне симпатичная бабенка позволяла делать с собой все, что угодно. Так, как ее, не трахали, наверное, даже небезызвестную мертвую царевну, которая (если верить народной молве) до королевича Елисея сожительствовала одновременно с семью богатырями. Благодаря легкому и отходчивому характеру, Валька могла стойко переносить не только все виды половой агрессии, но и издевательства, способные унизить даже бессловесную скотину.
К этому времени она успела уже и голышом на столе сплясать, и в рыло пару раз получить, и многократно совокупиться, но все еще продолжала ластиться к Песику. Смеха ради он затушил о ее сосок сигарету и вновь занялся любовью — уже безо всякого интереса, как бы выполняя нудную обязанность. Зато Валька под ним млела — сопела, стонала, закатывала глазки и ловко подмахивала задом. От нечего делать он запустил ей пальцы в рот и она принялась жадно их сосать. Тогда Песик, обуянный тем же чувством, что раньше заставляло его мучить кошек и птиц, просунул пальцы подальше, аж до корня языка.
Это даже долготерпеливой Вальке не понравилось. Она зашлась кашлем и довольно чувствительно тяпнула Песика за пальцы зубами. Желая уберечь свою конечность от дурацкой травмы, он другой рукой ухватил Вальку за горло. Та выпучила глаза, посинела, но подмахивать почему-то стала еще энергичнее.
Щекочущая волна сладкой похоти обдала все тело Песика. Чуть ли не пуская от вожделения слюну, он душил Вальку уже обеими руками. В тот момент, когда последние судороги агонии сотрясали ее тело, он получил ни с чем не сравнимое, прямо-таки неистовое удовольствие.
Но, как говорится, хорошо кататься, да плохо саночки возить. Опомнившись спустя некоторое время, Песик решил вместо саночек использовать бабкину тачку, на которой та вывозила когда-то на рынок скудные дары своего приусадебного участка. Абсолютно никаких угрызений совести он не испытывал (не та была натура), но слегка опасался за свою свободу. Вальку довольно часто видели в его компании, а однажды он даже отколотил ее на глазах всего честного народа. Естественно, что при обнаружении трупа Песик сразу попал бы в число подозреваемых.
Учитывая все эти обстоятельства, он решил вывезти Валькино тело подальше от города, на свалку, и там закопать. Образ жизни, который покойница вела в последние годы, делал ее исчезновение вполне объяснимым.
Дожидаясь темноты. Песик выпил весь имевшийся в доме самогон и еще дважды совокупился с мертвой подругой. После этого он тщательно протер все места, на которых могла остаться его сперма (лагерная наука не прошла даром, да и собственной смекалки хватило), и начал обряжать покойницу в те тряпки, что она носила при жизни.
В полночь, засунув уже остывшее тело в мешок, Песик двинулся в путь, который в зависимости от обстоятельств именуется то последним, то скорбным. Лично для него этот путь был еще и очень опасным. Любой милиционер мог заинтересоваться грузом, перемещаемым неизвестно куда под покровом ночи. На этот случай Песик прихватил с собой не только лопату, но и остро отточенный топор.
Особенно опасным был отрезок пути, пролегавший за городом. По кюветам на тачке особо не проедешь, а машины хоть изредка, но шастали по ночному шоссе. Всякий раз, завидев свет приближающихся фар, Песик съезжал под защиту лесополосы. В конце концов это ему надоело. Бросив тачку, он взвалил бездыханное тело на плечо и двинулся к свалке напрямик, через недавно засеянное кукурузой поле. Мокрые от росы молодые побеги хлестали его по ногам, и вскоре в ботинках захлюпало.
Все это: и след, ясно свидетельствующий о тяжелой ноше того, кто его оставил, и микрочастицы кукурузных листьев на одежде, и отпечатки мешка, который он время от времени сбрасывал с занемевшего плеча на землю, — взятое вместе могло стать серьезной уликой против Песика, но тут уж ничего нельзя было поделать. Впрочем, о местных сыщиках он успел составить весьма нелестное мнение. От Шерлока Холмса они отличались примерно так же, как лимузин «Роллс-Ройс» отличается от занюханного «Запорожца».
Еще на подходе к свалке он заметил отсветы тусклого пламени и почуял запах гари. Это навело Песика на мысль не предавать Валькино тело земле, что было занятием долгим и нудным, а на манер индусов подвергнуть его кремации. Особенно ярко горело с того края, где автобаза обычно сливала отработанный мазут. Сунув тело в самый центр костра, он забросал его сверху охапками текстильных отходов и изношенными автопокрышками.
Если у бедной Вальки была душа и если эта душа еще не успела отлететь далеко, то сейчас она могла с горечью наблюдать за конечным этапом глумления над своей телесной оболочкой.
Каким бы законченным подлецом ни был Песик, но всю следующую неделю он чувствовал себя так, словно у него на заднице гнойный свищ открылся. Толкаясь по пивным, играя по маленькой в притонах, лакая на задних дворах гастрономов водяру, он внимательно прислушивался ко всем разговорам, но о горькой судьбе Вальки Холеры ничего слышно не было. Не такая это была личность, чтобы ее исчезновение опечалило кого-нибудь.
Песик не поленился даже снова наведаться на свалку. Там, похоже, все было спокойно. Костры догорели, и два бульдозера гусеницами утрамбовывали свежий слой мусора. Потом пошли проливные дожди, и Песик успокоился окончательно.
Однако спокойствие это было относительным. Полностью пришло в норму только чувство самосохранения. А вот чувство любострастия, разгоряченное упоительным мигом соития с агонизирующей женщиной, наоборот, возбуждалось все больше и больше. Вскоре Песик буквально места себе не находил.
И наступил наконец такой момент, когда терпеть стало невмоготу. Действуя как лунатик, он покинул свой дом и направился в сторону реки, где до этого неоднократно видел загорающих в одиночестве особ женского пола и даже намечал их как возможные цели для грабежа. (Дуры эти, отправляясь на пляж, не снимали с себя ни сережек, ни колечек, ни кулонов.) К реке вплотную подступали густые заросли ивняка, оставляя свободной лишь узкую полоску берега. Здесь загорали и отсюда рыбачили. В зарослях распивали спиртное и занимались любовью.
Двигаясь вдоль берега, Песик неминуемо засветился бы. Поэтому он стал выслеживать свою жертву под прикрытием зарослей. Такая не скоро, но все-таки нашлась.
Местом своего отдыха ничего не подозревающая девица выбрала укромный уголок, с трех сторон окруженный кустарником, так что ближайшие соседи по пляжу, до которых было не меньше полусотни метров, видеть ее не могли. Пользуясь этим обстоятельством, она загорала без верхней части купальника. Лет девице было около тридцати, а пышные формы ее тела не предполагали наличия нравственности.
Выйдя из кустов, Песик улыбнулся самой обворожительной из своих улыбок. Руку с наколками он предусмотрительно сунул в карман.
— Привет. Как водичка? — вежливо осведомился он.
Девица ничего не ответила и быстро натянула лифчик. Пришлось Песику наклониться и самому потрогать воду.
— В самый раз, — заключил он с удовлетворением.
— Вот и плыви по ней, — недружелюбно сказала девица.
— Я плавать не умею. Может, научишь? — Песик стал так, чтобы его тень падала на девицу.
— За науку нынче деньги платят. — Она отодвинулась немного в сторону.
— Этого хватит? — он извлек из кармана четвертную купюру, последние свои крупные деньги.
— Слушай, вали отсюда! — девица села. — А деньги бабушке отдай. Пусть тебя в парикмахерскую сводит. (Действительно, Песик после выхода на волю немного зарос, а в те времена длинные волосы у мужчин считались чуть ли не признаком аморальности.)
— Бабушка моя откинулась, — он оглянулся назад: не видит ли их кто с реки.
— Сирота я.
— Усыновлять я тебя не собираюсь, — отрезала девица. — И не надейся даже.
— Зачем меня усыновлять? Мы с тобой и пожениться можем, — усмехнулся Песик.
— Женилка у тебя еще не выросла! — Девица пока не понимала, с кем имеет дело.
— А это мы сейчас проверим, — он начал не спеша расстегивать брюки.
— Я закричу! — предупредила она.
— Только пискни, — со зловещей улыбкой сказал он. — Буфера оторву и в пасть засуну.
Брюки его вместе с трусами уже лежали на песке. Девица вскочила, ухватив свой сарафан. Настоящего страха, похоже, она еще не испытывала. Песик был слишком молод, чтобы казаться опасным.
— Пусти, сопляк! — она попыталась толкнуть его в грудь.
— Пущу, когда женилку мою испытаем. — Песик крепко обхватил ее поперек тела. — Только не дергайся, если живой, хочешь отсюда уйти.
Девица беспомощно затрепыхалась в его руках и уже было раскрыла рот, чтобы позвать на помощь, но Песик резким движением боднул ее головой в лицо. Хрустнул сломанный нос. Это сразу лишило девицу воли к сопротивлению.
— Не надо, — давясь кровью забормотала она. — Не бей… Лучше по согласию…
— Ладно. Ложись, шалава, — Песик толкнул ее на песок. — И шмотки скинуть не забудь. Я тебе не лакей.
Грубо навалившись на голую, покорную, тихо скулящую жертву, Песик, ради большего унижения, харкнул ей в лицо и почти сразу сомкнул на горле руки… Ох, как он ждал этого момента!
Когда все закончилось, он затащил труп в самую гущу зарослей да вдобавок еще и забросал ветками. На душе было легко и спокойно, словно камень с нее свалился.
— А говорят, что нет в жизни счастья! — сказал он вслух и ухмыльнулся.
Хорошенько запомнив место (ночью он собирался вернуться сюда и утопить тело в реке), Песик двинулся в обратный путь. Было самое время пропить ту самую подкожную четвертную, да и у покойницы он успел кое-что позаимствовать: часики-браслет, сережки с бирюзой и рубля три денег, не считая мелочи. Была на ней вроде еще и золотая цепочка, да где-то затерялась.
У ближайшего гастронома, в котором никогда не переводилось вино «Кзыл-шербет», прозванное в народе «Козлом щербатым», Песик встретил одного своего приятеля. Был он с виду кабан кабаном, но кличку почему-то носил совершенно не соответствующую своим габаритам — Щуплый. Имея группу инвалидности (когда-то отравился метиловым спиртом и с тех пор видел чуть получше крота, но чуть похуже курицы), он на законном основании нигде не работал, из-за лени не воровал и поэтому всегда норовил выпить на халяву, а потом еще и пустые бутылки сдать для пополнения собственного кармана. В Талашевске это называлось «сесть на хвост».
Правда, было у Щуплого и одно положительное качество. Разрушенная метиловым спиртом печень почти не перерабатывала алкоголя, и он упивался уже после четырех-пяти стаканов вина, а значит, сильно разорить своих собутыльников не мог.
Поведение его отличалось деловитостью и прямолинейностью. Китайские церемонии и пустопорожнее витийство он терпеть не мог.
Узрев приближающегося к злачному месту Песика, Щуплый лаконично осведомился:
— Есть что? — Это означало: «При деньгах ли ты, милый друг?»
— А как же! — Песик похрустел перед его носом четвертной купюрой.
— Я сбегаю, — сказал Щуплый тоном, не допускающим возражений.
— Давай, — милостиво разрешил Песик. — Я тебя в парке подожду.
— Сколько брать? — уже на ходу обернулся Щуплый.
— Для начала пузыря три.
— Мало будет, — на синюшном лице Щуплого появилось выражение досады.
— Если мало — добавим, — успокоил его Песик, все еще ощущавший в душе и теле необыкновенную легкость.
— Ну тогда я еще и подымить возьму.
— Может, ты себе на мои деньги и галоши купишь?
— Не, только пачку «Примы». — Метиловый спирт повредил не только здоровью, но и уму Щуплого. Любые слова он воспринимал буквально, а юмора не понимал абсолютно.
Пока приятель отлучался за вином (а за столь ходовым товаром приходилось еще и постоять; хоть Щуплый и брал его всегда без очереди, но не один же он такой деловой здесь был), Песик прохлаждался в парке, имевшем весьма дурную славу и поэтому редко посещавшемся гражданами, не ставившими своей целью распитие спиртных напитков. Здесь не то что фраеру залетному могли бока намять, а даже мента позорного из галифе вытряхнуть.
Не добавляли популярности парку и вороны, избравшие его для своего гнездовья. Этих черных горластых бестий слеталось сюда столько, что просто невозможно было, пройдясь из конца в конец аллеи, не получить на голову заряд жидкого помета.
Единственными украшениями парка, кроме изрезанных ножами садовых скамеек, служили скульптура героя Гражданской войны деда Талаша (одетый в кожух и ушанку, он целился из карабина в сторону райкома партии) да шеренга чугунных осветительных мачт, сработанных, надо сказать, не без изящества. У основания каждой мачты имелся небольшой распределительный ящик, в котором жилы подземного кабеля соединялись с проводами светильника. Постоянные посетители парка называли эти ящики «холодильниками». Почти в каждом из них хранились стаканы, а иногда даже кое-какая снедь, оставшаяся с предыдущих пирушек.
Песик еще и первой сигареты выкурить не успел, как примчался взмокший от усердия Щуплый.
— Ну и сволочной нынче народ пошел! — едва усевшись на скамейку, принялся жаловаться он. — «Куда, — говорят, — молодой человек, вы вперед всех лезете. Мы, между прочим, уже давно стоим». Представляешь?
— А ты что?
— А я так с понтом отвечаю: «За „молодого человека“, конечно, спасибо. Но вот за все остальное сейчас отхватите. По высшему разряду. Не стоять будете, а лежать. И, возможно, даже в гробу». Сразу заткнулись, гады.
— Разве с тобой поспоришь…
— Это уж точно, — довольный комплиментом, осклабился Щуплый. — Из горла будешь тянуть или за стаканом сбегать?
— Из горла сойдет…
— Ну тогда твое здоровье! — Щуплый ногтем большого пальца сорвал с бутылки жестяную пробку и хорошенько приложился к горлышку.
Его примеру последовал и Песик. Было ему хорошо, а стало еще лучше.
— Прочь пошла, курва старая! — заорал Щуплый на бабку, начавшую приближаться к ним с целью завладения опустевшей тарой. — В колхоз иди работать! Там такие, как ты, нужны! Быкам яйца драить!
Повторили. Вино было вполне пристойное — пять процентов сахара и восемнадцать градусов крепости. Правда, слюна от него становилась фиолетовой, как химические чернила.
— Сдача-то где? — напомнил Песик. (Водилась за Щуплым такая скверная привычка — зажиливать сдачу.)
— А вот! Тютелька в тютельку, — он протянул Песику ком влажных рублей и трояков.
— И ни копейки себе не взял? — не поверил Песик.
— Ну разве что гривенник на сигареты… Тебе что — жалко?
— Доверяй, но проверяй. Лозунг социализма.
— Ага… А что это ты вином облился? — он тронул рубаху на груди Песика. — Вся грудь в красненьком… Хотя нет… Кровь это. И уже подсохнуть успела.
Действительно, рубаха Песика была перепачкана кровью, пролившейся из перебитого носа его жертвы. И как это он сразу не заметил?
— Да так, ерунда… — Песик сразу взял себя в руки. — Рубильник у меня слабый… Чуть что, юшка капает. Ты вот что… Сбегай еще за вином. Только никому не болтай, что я здесь.
— Ни гу-гу! — с готовностью пообещал Щуплый. — Только нахлебников нам еще не хватало. Гони монету.
Пока он отсутствовал, Песик сбросил рубашку и на скорую руку застирал ее в облупившейся цементной чаше, предназначенной для разведения цветов, но в данный момент переполненной дождевой водой. Затем он тщательно осмотрел всю свою одежду. На брюках следы крови, слава Богу, отсутствовали. Он правильно сделал, что заранее снял их… Жаль, что с рубахой досадный промах вышел. Придется ее потом сжечь. А жалко. Все-таки импортная. Шестнадцать рублей стоила.
Щуплый что-то задерживался. Не иначе, как на сей раз ему не удалось запугать очередь и возмущенные покупатели выкинули нахала на улицу. Драчливым Щуплый был только на словах. Если бы дело вдруг дошло до настоящей потасовки, его мог бы отметелить даже пацан. Да и хрен с ним, с халявщиком… Пусть получит на орехи. Болтать меньше будет. Лишь бы только бутылки не побили.
— Ой, что делается! — сильно озабоченный чем-то Щуплый плюхнулся на лавку. Даже бутылки он нес не открыто, как в прошлый раз, а упрятал поглубже в карманы брюк. — Ну и времена пошли! Хуже, чем при татарах! Люди в гастрономе рассказывали, что сейчас возле речки бабу задушенную нашли. Купалась она там, значит. Да не одна, а с кавалером. Тот на полчасика в город отлучился. Тоже, видно, бормотухой запасался. Ну и, само собой, встретил друзей, подзадержался… Возвращается, а подруги на прежнем месте нет. Весь песок взрыт, будто на нем черти плясали. Стал он копаться в этом песке и нашел ее золотую цепочку. Порванную. Чует, неладное дело. Сам он с моторного завода, а там еще много ихних балдело. Стали искать повсюду и находят, значит…
Щуплый торопливо откупорил бутылку и присосался к горлышку, как голодный теленок к коровьему вымени.
— Что находят? — спросил Песик. Ему не надо было прикидываться спокойным, он и на самом деле был совершенно спокоен.
— Труп той бабы находят! — Щуплый поперхнулся. — Голая совсем! Рожа черная, на шее синяки, язык на сторону вывалился. Там уже и прокурор, и начальник милиции с операми. Кавалера того задержали. А скоро, говорят, по всему городу шмон начнется. Как бы и нас с тобой под горячую руку не прихватили.
— Нас-то за что? — пожал плечами Песик. — Лично я сегодня на речке не был.
— Ты не был, а я вот был! — выпалил Щуплый.
— Что ты там делал? Раков ловил?
— Бутылки собирал! Попутал черт! Всего-то и нашел десять штук. Одну еще и не приняли. Щербинка, говорят, на горлышке. У-у-у, крохоборы проклятые!
— Видели тебя там? — поинтересовался Песик.
— Еще бы! Я там все кусты прошуровал!
— Ты по какой статье сидел?
— Да за ерунду… — Щуплый снова забулькал вином. — С корешом углы на вокзале вертел. Да еще по пьянке. С первым же чемоданом нас и взяли.
— Нынче таких, как ты, брать не будут, успокойся. В первую очередь тех прихватят, кто за изнасилование да за убийство чалился. Ты для мусоров неинтересный.
— Думаешь? — с надеждой спросил Щуплый.
— Уверен.
— Дай пять! Обнадежил ты меня. За это и выпьем. Щуплый приканчивал уже вторую бутылку. Пора было бы ему и вырубиться. Или, может, это испуг нейтрализует алкоголь?
— Пей, чего сидишь, — сказал Песик. — Я тут с тобой долго волыниться не собираюсь.
— А т-ты с-сам почему не пьешь? — язык Щуплого уже начал заплетаться.
— Да расхотелось что-то… Кончай за меня, если есть желание.
— А к-когда у м-меня желания не б-было… Обижаешь, друг…
Перед третьей бутылкой Щуплый сделал небольшой перерыв. Песика он узнавал уже с трудом, грозил ему пальцем и несвязно бормотал:
— Т-ты… это самое… с-сарай не запирай… Я п-по-том за к-косой приду…
— За какой косой? — не понял Песик.
— Это я, п-по-твоему, к-косой? — пьяно обиделся Щуплый. — Т-ты, падла, сам косой… Отвяжись от меня…
Пришлось Песику самому откупоривать бутылку и чуть ли не силой вливать ее содержимое в горло приятелю. «Если после такой дозы Щуплый и останется в живых, то ничего из случившегося сегодня уже не вспомнит», — так полагал он.
Забросив пустые бутылки подальше в кусты, Песик засунул взятые у покойницы вещи в задний карман Щуплого и уложил его на скамейке лицом вверх. Если начнет вдруг блевать, так сразу и захлебнется. А теперь пора было сваливать. Менты и в самом деле могли начать облаву на всех подозрительных.
Прогулочным шагом выйдя из парка, Песик отыскал исправный телефон-автомат и набрал номер дежурной части райотдела милиции. Когда на другом конце сняли трубку, он гнусавым голосом сообщил:
— В парке на скамейке сидит какой-то опасный тип — матом выражается и к прохожим пристает. Просим принять срочные меры. Заранее благодарим.
Так уж получилось, что в течение одних суток талашевские обыватели были поставлены на уши два раза подряд: сначала зверским убийством на берегу речки, а потом необычайно эффектными действиями правоохранительных органов, уже спустя несколько часов раскрывших это жуткое преступление. (Слух о том, что один из задержанных изобличен и улики слишком явные, распространился по городу тем же вечером.) Стражей закона, которых раньше или боялись, или ненавидели, теперь зауважали.
Впрочем, орлам-сыскарям и соколам-следователям еще рано было почивать на лаврах. Требовались юридически неоспоримые и подтвержденные экспертизой доказательства вины Щуплого, ну и, естественно, его чистосердечное признание.
Пока что милиция располагала только вещами покойницы, обнаруженными работниками медвытрезвителя при личном обыске Щуплого, да фактом его нахождения на пляже в период времени, предшествующий убийству. Оба эти обстоятельства, даже взятые совокупно, еще не гарантировали успех следствия. Щуплый мог купить часы и сережки у настоящего убийцы, мог случайно обнаружить их на месте преступления или в конце концов мародерским образом снять с уже остывшего трупа.
Сам подозреваемый толком ничего объяснить не мог, ссылался на провалы в памяти и валил все на дежурного медвытрезвителя, который якобы мстил ему на почве ненормальных личных отношений. (Когда-то в юности оба они и в самом деле ухлестывали за одной и той же красоткой, впоследствии отдавшей предпочтение совсем постороннему зубному врачу.) Из местного КПЗ были срочно выдворены все административно-арестованные, и Щуплый остался единственным узником на все шесть камер. Двое суток почти непрерывных допросов практически ничего не дали. Щуплый о событиях того трагического дня вспомнить ничего не мог, а только постоянно просил пить, в чем ему отказывали на том основании, что снабжение задержанных водой осуществляется по нормам, которые он уже давно выбрал. Однако вторыми блюдами его кормили исправно, не жалея на них ни соли, ни перца.
Вскоре у Щуплого, человека от природы слабодушного и мнительного, начала ехать крыша. Сто раз подряд выслушав подробную версию своего преступления и примерно столько же раз получив по разным частям тела увесистые удары дубинкой, мокрым полотенцем и просто кулаком, он уже сам стал верить в собственную вину.
На исходе третьих суток, выведенный из обморока тычком электрокнута, позаимствованного когда-то запасливыми сыщиками на межрайонной выставке достижений сельского хозяйства. Щуплый стал давать те показания, которые от него требовались. За такую покладистость он был поощрен кружкой воды. Мотивы преступления несчастный приятель Песика объяснял временным помрачением рассудка. Что ни говори, а три пузыря портвейна «Кзыл-шербет» в конечном итоге обошлись ему очень дорого.
Короче, по части свидетельской базы и чистосердечного признания подозреваемого у следствия все было шито-крыто. Куда хуже обстояли дела с представленными на судебную экспертизу вещественными доказательствами. Сначала облажались с грязью, добытой из-под ногтей Щуплого. В ней не обнаружили ни крови, ни частиц эпидермиса погибшей. Пришлось бедняге под диктовку следователя писать объяснение, что в момент убийства он имел на руках перчатки, которые впоследствии выбросил в неизвестном месте.
Образец спермы, взятый на месте преступления, вообще пришлось подменить, чему в немалой степени способствовали приятельские отношения, давно установившиеся между оперативными работниками и штатными судебными экспертами.
Для общего объема в дело напихали всяких бумажек, подтверждающих социальную опасность Щуплого: справки о прежних судимостях, характеристику с последнего места работы, заявления соседей о его бытовой неуживчивости и даже выписку из медицинской карты, подтверждающую наличие у него хронической гонореи.
Внимательно ознакомившись с увесистым томом, прокурор поморщился, но все же подмахнул его. Зато претензии к следствию возникли у суда. Слушание дела дважды откладывалось. Вконец запуганного и замороченного Щуплого таскали по психиатрическим экспертизам. Одни признавали его вменяемым, другие как раз наоборот. Впрочем, свои четырнадцать лет усиленного режима Щуплый все же получил и больше в Талашевске о нем никто не слышал.
На время следствия Песик от греха подальше съехал в Казахстан на хлебозаготовки. Сезонными рабочими там брали всех подряд и даже паспорта не спрашивали. На чужбине маниакальная страсть к совмещенному с убийством соитию не покидала Песика, но реализовать ее в условиях восточно-казахстанской степи было практически невозможно. Местные жительницы сторонились приезжих и не имели привычки прогуливаться в одиночестве. Да и бригадир, ни на йоту не доверявший вороватым и хулиганистым сезонщикам, держал их под неусыпным контролем.
В Талашевск Песик возвращался глубокой осенью, при некоторых деньгах и при явных симптомах острого психического расстройства, вызванного длительным подавлением своих самых сокровенных желаний. Как бы шутки ради он лапал проводниц и случайных попутчиц за ляжки и груди, но не этого ему было надо — руки сами тянулись к приманчивым женским шеям. При этом он испытывал такое возбуждение, что и онанизмом заниматься не требовалось.
Однажды Песик уже почти добился своего — завалил на нижнюю полку какую-то страхолюдную мешочницу, вроде бы ничего не имевшую против быстротечного дорожного флирта. Однако едва только пальцы Песика ощутили ритмичное подрагивание сонной артерии, как она заподозрила что-то неладное и подняла кипеж на весь вагон. Ехавшие в соседнем купе дембеля так отделали Песика пряжками ремней, что на следующей станции пришлось вызвать «скорую помощь».
Прибыв в областной центр, он сначала наведался к кое-каким надежным людям и выяснил, что страсти, бушевавшие в Талашевске летом, утихли и что убийца уже понес заслуженное наказание. Весть была хорошая, но на душе от нее легче не стало. Душа Песика требовала совсем другого.
То, в чем он позарез нуждался, — согласную на все дешевую вокзальную потаскуху — он отыскал уже глубокой ночью. Безжалостные менты линейного отделения гнали ее и из зала ожидания, и из буфета, и даже из туалета, так что бедняжке приходилось околачиваться под холодным ноябрьским дождем.
Торг длился недолго. Она требовала червонец, он обещал только пятерку, ссылаясь на некондиционный вид жрицы продажной любви.
— Если я зубы вставлю и умоюсь, так вообще полсотни стоить буду, — возражала она.
— Ладно, — сдался вскоре Песик, которому было уже невмоготу, — семь рублей. Но даешь раком.
— А мне все равно, — махнула рукой легкомысленная барышня. — Хоть раком, хоть боком, хоть через плечо.
На том и порешили.
Салон, предназначенный для приема клиентов, находился в ближайшем жилом доме и представлял собой подвал, освещаемый только лунным светом, проникавшим сквозь узенькое окошко. В углу этой мерзкой берлоги валялся на полу драный ватный матрас и куча всякого тряпья. Впрочем, на Песика это никакого впечатления не произвело — к особому комфорту он сейчас как раз и не стремился.
Потаскуха предусмотрительно потребовала деньги вперед и тут же спрятала их в какой-то малоразличимой щели. Песик подумал, что этим позорным семи рублям придется дожидаться здесь сноса здания или третьей мировой войны.
Тем временем зашуршала стягиваемая с тела одежда. Сразу запахло давно не мытой плотью. Даже не дав партнерше разоблачиться окончательно, Песик повалил ее на матрас.
— Ты что! Ты же не так хотел! — только и успела пискнуть она.
— Так! Именно так! — прорычал он, грубо тиская дряблое, податливое тело.
Все было закончено в течение нескольких минут. Предсмертный хрип жертвы и ликующий вопль насильника могли слышать только населяющие подвал крысы да выслеживающие их бродячие кошки.
Вернувшись в родной городишко, Песик направился прямиком домой, затопил печку и отсыпался почти сутки. Теперь он был почти нормальным человеком, но такое состояние вскоре должно было пройти, как проходит чувство сытости или запой.
Однажды его посетил участковый и предложил трудоустроиться в кратчайший срок, даже не поленился выписать официальное предупреждение. Песик пообещал — не в его интересах сейчас было конфликтовать с милицией — и целых два дня проработал грузчиком домостроительного комбината. За этот срок он не удосужился даже двух кирпичей передвинуть и был уволен администрацией за систематическое нарушение дисциплины. Трудовая книжка с записью о хоть и кратком, но вполне реальном стаже, позволяла Песику на законном основании сачковать еще пару месяцев.
Дальше в будущее он не заглядывал. Зиму надо было как-то перекантоваться, а потом спешно делать из Талащевска ноги, потому что военкомат уже включил его в план весеннего призыва. Для стройбата годились и слепые, и горбатые, и судимые.
Привычные симптомы душевного непокоя посетили Песика где-то перед Новым годом. Сначала он еще кое-как крепился — рисковать не хотелось, — но потом совершенно утратил контроль над собой. К вечеру тридцать первого декабря он был уже не человеком, а диким зверем со всеми присущими тому качествами — кровожадностью, ненасытностью и изворотливостью. Дедам Морозам с ватными бородами, Снегурочкам в мини-шубках, зайчатам с поролоновыми ушами и волкам в картонных масках было невдомек, что среди них бродит настоящий, а не бутафорский хищник.
В четыре часа утра он изнасиловал, задушил и сбросил в канализационный колодец десятиклассницу, возвращавшуюся со школьного бала. В убийстве обвинили ее приятеля, имевшего несчастье в новогоднюю ночь рассориться с девушкой. Однако, как ни крутилась милиция, особых улик против парня не имелось и его уже собирались отпустить домой под подписку о невыезде, но накануне освобождения он повесился на веревке, сплетенной из обрывков рубашки. Естественно, что этот факт был интерпретирован как косвенное признание в преступлении. Вину задним числом списали на самоубийцу, и дело прекратили. После этого у Песика появилось обманчивое чувство безнаказанности.
Следующей его жертвой, пятой по счету, снова стала школьница — уж очень они все были неосторожны, уж очень слабо сопротивлялись и уж очень сладка была недолгая девичья агония.
В высших инстанциях наконец поняли, что в Талашевске творится что-то неладное. Все дела за последнюю пятилетку, связанные с изнасилованиями, срочно затребовали в областную прокуратуру. Занялись ими люди, кое-что в криминалистике понимающие, и вскоре три дела: по убийству возле реки и по обеим школьницам были отложены в сторону.
Однако объединить их вместе коллегия прокуратуры не решилась. В противном случае пришлось бы брать к ногтю многих заслуженных товарищей — лишать их чинов, должностей, а возможно, и свободы. Ведь как-никак два дела из трех уже числились раскрытыми.
Вопрос спустили на тормозах: талашевского прокурора спихнули на пенсию, начальника милиции заслали на север сторожить зеков, а следователей, особо рьяно поработавших со Щуплым, уволили по первой подвернувшейся причине. Самого Щуплого, к сожалению, спасти уже не удалось — его с младых лет подпорченная печень не выдержала лагерной баланды и наотрез отказалась выполнять функции, необходимые для жизнедеятельности организма. В акте вскрытия был проставлен краткий диагноз — «цирроз».
Между тем в Талашевск без всякой помпы прибыла специальная следственная группа из МВД республики. С местными сыщиками она почти не контактировала, а плела какие-то свои хитроумные сети. На учет были взяты все лица мужского пола (кроме, естественно, малолеток и стариков), хоть однажды попадавшие в поле зрения милиции, все психбольные и все праздношатающиеся. Этот немалый контингент просеивался неторопливо и тщательно, как при поиске драгоценных камней, когда каждое очередное сито бывает мельче предыдущего.
Одновременно передопрашивались все свидетели по старым делам и проверялись все случаи необъяснимого исчезновения женщин. Вскоре в поле зрения спецгруппы появилась старушка, непосредственно перед арестом видевшая Щуплого в компании с Песиком (ранее от ее показаний просто отмахнулись). Затем кто-то из аналитиков заинтересовался долгим отсутствием Вальки Холеры, считавшейся чуть ли не законной пассией все того же Песика, неоднократно запятнанного в прошлом, а ныне тунеядствующего.
Сопоставив ориентировочную дату возвращения Песика из Казахстана (о чем неосмотрительно проболтался один из его дружков) с оперативной сводкой по области, вышли на убийство вокзальной проститутки, способ совершения которого был аналогичен трем остальным.
Песика (впрочем, не его одного) стали пасти по двадцать четыре часа в сутки. В его отсутствие дом был подвергнут тихому шмону, в результате которого обнаружилось много такого, что хозяину принадлежать никак не могло.
Столичные судебные психологи довольно точно рассчитали дату очередного преступления, и Песик, майской ночью вышедший на охоту за романтичными малолетками, обожавшими в столь глухую пору услаждать свой слух соловьиными трелями, а взор — прихотливыми узорами созвездий, довольно скоро напоролся на субтильное (а главное, одинокое) создание в белых пышных бантах и короткой юбчонке.
Однако на сей раз Песика ждало горькое разочарование. Едва только он, заранее ощущая предстоящее наслаждение, пустил в ход руки, как девчонка, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся вовсе не девчонкой, а малорослым, но удивительно жилистым мужиком, скрутила его буквально в бараний рог да еще и браслеты на руках защелкнула.
Конечно, отпевать Песика было преждевременно. Мог он еще отбиваться. Не руками, так ногами. Не ногами, так головой. Зубами в крайнем случае. Но чутье подсказывало ему, что лучше сейчас прикинуться сиротой казанской (или талашевской, какая разница). Поэтому, прикрывая голову скованными руками, он жалобно заканючил:
— Дяденька, за что? Обознался я! Ой, не бейте, дяденька!
Дяденек со всех сторон набежало уже немало, и Песик понял, что сопротивляться действительно не имело смысла. Несколько раз его пнули ботинками по ребрам, но как-то без озлобления. Неудобно было здоровым мужикам топтать валявшегося у них в ногах и едва ли не рыдающего юнца.
— Тот это? Вы уверены? — с сомнением произнес кто-то в темноте.
В лицо Песику ударил свет ручного фонарика, и сразу несколько голосов убежденно заявили:
— Тот, тот!
— Ой не тот я, дяденьки! — опять захныкал Песик. — Обмишурились вы! Никого я не трогал! Гулял себе, и все!
— Заткнись, паскудник! — Его поставили на ноги так резко, что чуть не оторвали руки, а затем потащили к машине, уже подъезжавшей задним ходом к месту происшествия.
Нельзя сказать, чтобы он очень уж перепугался. Бывало в короткой жизни Песика всякое: и воспитатели в интернате выделывали с ним такое, что с живыми людьми выделывать просто невозможно; и злые пограничные овчарки стаскивали его за штаны с дерева; и смертный холод пришлось ощутить не единожды. С некоторых пор он считал себя бывалым уркаганом, и поэтому вдвойне было обидно, что менты его так дешево купили.
Впрочем, теплилась еще в душе у Песика надежда, что взяли его вовсе не из-за загубленных баб и девушек, а по какой-то другой, возможно, вполне смехотворной причине. Разные в жизни бывают случайности. Однажды к его приятелю, вору-карманнику, только что чисто взявшему пухлый лопатник, внезапно подошел постовой. Тот с перепугу и пырнул мусора финкой. А потом выяснилось, что постовой всего-то и хотел, что огонька попросить. Вот так по причине отсутствия спичек один человек попал в реанимацию, а второй туда, где даже белым медведям холодно.
По прибытии в райотдел Песика безо всяких околичностей затащили в специальную следственную камеру, где в бетонном полу, как в бане, имелось сливное отверстие, стены не пропускали наружу ни единого звука, а вся мебель, состоявшая только из стола и пары табуреток, была намертво закреплена на месте. Допрашивали его сразу несколько человек — все в гражданском и все Песику незнакомые. (Своих-то, талашевских мудозвонов он знал как облупленных.) Уже на десятой минуте допроса, после того как разобрались с анкетными данными, Песику стало ясно, что сбываются самые мрачные его предположения. Повязали его не за какую-нибудь мелочь и не за чужого дядю, а за свои собственные мокрые дела.
Но самым неприятным было даже не это! До умопомешательства невыносимо было сознавать, что не довелось ему сегодня осуществить задуманное. Не затрепыхается уже больше под ним нежное девичье тельце; не хрустнут под пальцами хрупкие, словно птичьи, шейные позвонки; не шибанет от паха к сердцу упоительное чувство удовлетворенного вожделения; никогда не доведется ему целовать и грызть быстро наливающееся смертной бледностью, а от этого еще более притягательное личико.
— Нет! — Он заскрежетал зубами. — Убегу! Из-под следствия убегу! Из зала суда! Из камеры смертников! Убегу! Даже не свободы ради, а чтобы еще хотя бы раз пережить это адское наслаждение…
В том, что ему светит вышка, Песик не сомневался.
Следователь и подследственный обязаны общаться по определению. Тут уж ничего не попишешь. Уголовно-процессуальный кодекс требует. Да только ждут они от такого общения результатов прямо противоположных. Если первый старается узнать о втором как можно больше интересного, то второй этого интереса отнюдь не разделяет и ведет себя соответствующим образом: или молчит, как рыба, или, выражаясь по фене, «лепит горбатого».
Для начала Песик выбрал второй вариант. На любой, даже самый незамысловатый вопрос он отвечал так пространно, с такой массой совершенно излишних подробностей, что постепенно удалялся в сферу, к тому самому вопросу никакого отношения не имеющую.
Следователь, например, спрашивал у него:
— Пострайтесь воспомнить, что вы делали шестого августа прошлого года?
Песик, пялясь на него честными и наивными глазами, начинал уточнять:
— В августе?
— В августе, — кивал следователь.
— Прошлого года?
— Прошлого.
— А какой это день недели?
— Четверг, — следователь заглядывал в календарь.
— Значит, шестого августа прошлого года в четверг?
— Да, — следователь уже нервно постукивал авторучкой по столу. —
— А какое время вас интересует?
— Допустим, вторая половина дня.
— Шестого августа прошлого года в четверг во второй половине дня я ничего не делал, — сообщал Песик таким тоном, словно страшную тайну открывал.
— Как, вообще ничего не делали? — удивлялся следователь.
— Ничего в том смысле, что я про этот день ничего не могу вспомнить. Вот вы мне сами, пожалуйста, ответьте, что вы делали шестого августа прошлого года в четверг во второй половине дня.
— Здесь вопросы задаю я! — и без того недобрый прищур следователя становился вообще злой щелочкой. — Отвечайте на поставленный вопрос.
— Сейчас постараюсь… — Песик задумчиво глядел в потолок, пожелтевший от табачного дыма. — Вам, гражданин следователь, легче, у вас получка есть… от нее можно отсчет вести… У вас в жизни всякие интересные случаи бывают, которые в памяти держатся… А я что… Живу, как Божий одуванчик, из дома почти не выхожу, одно только радио и слушаю. Вот и все развлечения… А чем вообще этот день примечателен, напомните, пожалуйста?
— В этот день американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, — следователь опять заглянул в календарь.
— Точно! — радостно восклицал Песик. — Вспомнил! Все вспомнил! Утром как раз про это и сказали по радио. Что, дескать, сегодня печальная дата. Исполняется, уже и не помню сколько лет, со дня преступления американского империализма. Этот акт беспримерного варварства не был оправдан военной необходимостью и не мог повлиять на исход войны, быстрое окончание которой явилось результатом героических действий советской армии на Дальнем Востоке. Ну как? Хорошая у меня память?
— Хорошая, — терпеливо кивал следователь. — Ну ладно, по радио сообщили про Хиросиму. А дальше что?
— А дальше, если не запамятовал, началась передача «Вести с полей». Так себе передача. Я ее не очень люблю. Рассказывают про урожаи, про передовой опыт, про всяких там знатных комбайнеров…
— Я вас не о программе передач спрашиваю. Я спрашиваю о том, что вы сами в этот день делали. Куда ходили? С кем встречались?
— Куда я ходил? Шестого июля прошлого года в четверг во второй половине дня в печальную годовщину преступления американской военщины я мог пойти только в одно место. В ближайшую пивную и там нажраться с горя. А когда я нажираюсь, то вообще уже ничего не помню. Ни где я был, ни что я делал, ни с кем встречался. Вы про такие дни меня не спрашивайте, гражданин следователь. Ни про Первое мая, ни про Пасху, ни про годовщину Парижской коммуны. Я такие дни напрочь не помню. Как будто бы их и не было. Вы меня про нормальный день спросите. Ну спросите! Спросите, например, что я делал первого февраля этого года. И я всегда отвечу. Первого февраля этого года я встал рано спозаранку и пошел в сарай рубить дрова, потому что мороз на улице стоял градусов под двадцать…
— Молчать! — лицо следователя приобретало кирпичный цвет. — Отвечать только на мои вопросы. Отвечать кратко и конкретно. Понятно?
— Понятно… А я разве не так отвечаю? Как я могу помнить, что было шестого августа прошлого года во второй половине дня в годовщину варварской бомбардировки Хиросимы, если…
Бац! Челюсть Песика чуть не слетает с салазок. Кулак следователя в крови. Подследственный мешком валится с табурета и имитирует состояние глубокого нокаута. Допрос на время прерывается. Пару часов выиграно, но сколько их еще ожидает впереди…
Убедившись, что просто так Песика не расколешь, следователи предъявили ему обнаруженные при обыске вещи: пустые портмоне и кошельки, которые он по собственной дурости своевременно не выбросил; серебряный портсигар, очень уж приглянувшийся ему самому; и несколько золотых побрякушек, не нашедших пока сбыта.
Песик заявил, что это наглая провокация, что ни одной из предъявленных вещей он раньше и в глаза не видел, а появиться в его доме они могли только с помощью нехороших граждан милиционеров. И вообще, что это за обыск, при котором отсутствует хозяин? Где акт, где санкция прокурора, где подписи понятых?
Тут Песик, не ведая того, попал в самую точку. Обыск проводился в тайне от городских правоохранительных органов и законным путем оформлен не был. Надежда следователей была лишь на то, что у Песика, потрясенного видом обнаруженных улик, развяжется язык. Да не на того они нарвались.
Посредством титанических усилий были найдены владельцы некоторых похищенных вещей, но ни один из них не сумел опознать Песика. Да и не удивительно, ведь налеты он чаще всего совершал в темноте, а жертву вырубал первым же ударом.
Ничего не удалось выяснить и о судьбе Вальки Холеры. Песик и не собирался отрицать, что знает такую. Да, трахал ее. А разве это дело подсудное? Ее, между прочим, полгорода трахало, в том числе и некоторые милицейские чины. Куда она могла подеваться? Чего не знаю, того не знаю. Валька птица перелетная. Сегодня здесь, а завтра там. Вот потеплеет, может, и вернется. Хотя что ей в этом занюханном Талашевске ловить?
На пользу Песику работало и то обстоятельство, что его следователи были людьми столичными, деликатными и вышколенными, а кроме того, хорошо осведомленными о судьбе предшественников, в свое время наломавших дров со Щуплым. Дело находилось на контроле министра и генпрокурора. А это означало, что любая бумажка в нем должна была отвечать обязательному условию: комар носа не подточит.
Поэтому били Песика не очень часто и даже не с целью вызвать на откровенность, а главным образом для собственной разрядки. Пытки жаждой и лишением сна к нему вообще не применялись. А когда Песика однажды сунули для острастки в камеру к двум забубенным педерастам, он так отделал обоих, что надолго избавил от пристрастия к молодым ребятам.
Короче, дело буксовало. Срок расследования раз за разом продлевался, но так не могло продолжаться до бесконечности.
Раскололи Песика элементарно, что еще раз подтвердило справедливость похабненькой пословицы о хитрой заднице, на которую всегда найдется хрен с винтом.
Следователи внезапно как будто бы утратили интерес к Песику, стали реже выдергивать на допросы, а потом даже перевели в общую камеру. В принципе он был уже готов к такому повороту событий. Не взяв его ни мытьем, ни катаньем, хитрые милицейские псиры сделали ставку на подсадного стукача (таких иуд блатной народ называл «наседками»). Памятуя об этом, Песик ни с кем особо не откровенничал, а про себя сообщал кратко: сижу по оговору, безвинный, как голубь.
Население камеры менялось: одни приходили, другие уходили (кто на волю, кто на этап), а иные и задерживались на неопределенный срок. И как это всегда бывает в мужском коллективе, объединенном одной общей заботой, между людьми возникали симпатии и антипатии.
Совершенно неожиданно для себя Песик близко сошелся с уже немолодым уркой по кличке Бурят. Правда, так его смели называть только за глаза. Мелкая шушера, составлявшая основное население камеры, обращалась к ветерану уважительно: «Фома Фомич». Занимал он лучшее место у окна, и без его ведома нельзя было ни чинарик закурить, ни таракана прихлопнуть.
Увидев Песика впервые и убедившись, что тот знаком с чисто зековским ритуалом «прописки». Бурят сдержанно осведомился:
— Кто такой? Где чалился? Какую статью вешают?
Песик, прекрасно зная, что и в тюрьме, и в зоне, и в следственном изоляторе вести распространяются быстрее, чем пожар в лесу, честно ответил на все вопросы, добавив, впрочем, сказку о своей полной невиновности. На Бурята эта сказка никакого впечатления не произвела.
— Пистонщик, значит, — он окинул Песика оценивающим взглядом. — Да еще и хомутник. Таких, как ты, деловые не уважают. Ну да ладно, живи пока. О твоих подвигах в пидерной камере мы наслышаны. Молодец, что не дал себя опетушить. Может, и получится из тебя брус шпановый.
Смысл этой речи был примерно следующий: «Хоть ты и насильник, да еще и душитель, но держишься правильно. Есть даже надежда, что скоро станешь среди блатных своим».
После этого Бурят как бы забыл о существовании Песика. Сам он о своих подвигах не распространялся, но ходил слух, что дело ему шьют расстрельное — из трех инкриминируемых статей две тянули на вышку.
Примерно такое же положение было и у Песика. Вот на этой почве они в конце концов и сошлись.
Уж кого-кого, а Бурята в стукачестве заподозрить было нельзя. Он никогда никого ни о чем не расспрашивал, а если кто-нибудь из сокамерников начинал пороть лишнее, презрительно цедил сквозь зубы:
— Заткни фонтан, дешевка. Тут среди нас точно наседка есть, а может, и не одна.
У Песика, в общем-то не признававшего никаких авторитетов, Бурят вызывал невольное уважение. Все в нем было предельно достоверно и естественно: независимое поведение; многочисленные и сложные, но вполне заслуженные наколки; доскональное знание всех воровских законов и обычаев; привычка всегда сидеть на корточках, а при разговоре с начальством держать руки за спиной.
«Феня», на которой он ботал, то есть говорил, сильно отличалась от нынешней, больше похожей на жаргон уличной шпаны, и корнями уходила еще в царские каторжные тюрьмы и притоны Хитрова рынка.
Бурят мог часами подробно рассказывать о каждой зоне, в которой сиживал, о каждой пересылке, об особенностях любого этапа, что железнодорожного, что водного, что воздушного. Он мог перечислить всех офицеров охры, назвать их слабые и сильные стороны, описать характеры. Он поименно знал, где и в каком месте отбывают срок воры в законе, некоронованные короли преступного мира. С каждым из них Бурят водил когда-то дружбу и просил при случае передавать привет. В карточной игре ему не было равных. Любой, кто соглашался раскинуть с ним «стиры» — самодельные карты, — рисковал остаться без штанов. Впрочем, Бурят был великодушен и прощал долги всем подряд.
В камере он установил железный, но справедливый порядок. Никто не смел отлынивать от дежурства, каждый обязан был следить за личной гигиеной («Кто опустился, тот уже, считай, сгнил», — говорил он), все конфликты улаживались в течение считанных минут, все передачи делились поровну, воровство каралось самыми жестокими мерами. Когда какой-то мордоворот, до этого, кроме вытрезвителя, нигде не бывавший, посмел усомниться в правах Бурята, тот разделал его, как верткий мангуст разделывает злую и коварную, но чересчур медлительную кобру.
Вскоре Песик стал у Бурята чем-то вроде правой руки. Спали они рядом, ели чуть ли не из одной миски и, если сигарета была последняя, курили ее по очереди.
Однажды, вернувшись с допроса. Бурят завел с Песиком негромкий разговор:
— Ну, паря, наверное, будем прощаться. Завтра меня на суд погонят. Чую, на этот раз от вышака уже не отвертеться. Ну и хрен с ним. Погулял я по этой земле от души… Ты сам хоть и играешь в несознанку, но от срока не отвертишься. А потому мотай на ус мою науку. С ней нигде не пропадешь.
Он подробно рассказал Песику о том, как следует вести себя по прибытии в зону, какие тайные сигналы подавать и к кому обращаться за помощью.
— Когда с паханами говорить будешь, на меня ссылайся. Доля Бурята в каждом общаке есть. Пусть с тобой поделятся. Мне галье уже не пригодится.
— Думаешь, вот так и поверят мне? — усомнился Песик.
— Должны поверить, если ты речи мои хорошо запомнил. Но на всякий случай я тебе наколку сделаю. Она тебе заместо паспорта будет.
Они занавесили свой угол простыней. Песик разделся до пояса, а Бурят прокалил на спичке обычную медицинскую иглу и достал из-под тюфяка флакончик туши. Сразу стало ясно, что в этом деле он виртуоз. К середине ночи (а свет в камере никогда не гасили) левую сторону груди Песика украшал орел, раскинувший в стороны крылья, а в лапах сжимавший восьмиконечную звезду.
— Обрати внимание, — Бурят протянул Песику маленькое зеркало, неведомо каким путем оказавшееся здесь и счастливо пережившее все шмоны, — тут каждое перышко на крыльях и каждый коготок свое скрытое значение имеют. Кому положено понимать, сразу поймет. Я тебе пока объяснять не буду, недосуг. Потом в зоне сам все узнаешь. Благодарить меня будешь до гроба. Среди блатных ты теперь вроде как дворянин.
Затем, опять же из-под тюфяка, где у Бурята был чуть ли не склад устроен, появилась фляжка спирта. Малая часть его ушла на дезинфекцию наколки, кожа вокруг которой уже начала воспаляться, а остальное выпили за удачу, дружбу и будущую встречу, где бы она ни произошла, хоть в преисподней. Песик выразил надежду, что вышка все же минует Бурята, и тогда тот поведал сокамернику леденящую кровь историю своего преступления, жертвой которого стал не только инкассатор банка, но и двое некстати подвернувшихся ментов.
Не желая выглядеть на фоне старшего товарища мелким фраером, Песик тоже раскрыл перед ним душу: и про Вальку Холеру расписал во всех подробностях, и про незадачливую купальщицу, и про вокзальную лярву, и про обеих школьниц.
— И хорошо тебе было после этого? — поинтересовался Бурят.
— Жутко как хорошо! Так ни от водяры, ни от марафета не бывает. Вот таким же орлом себя чувствую, — он ткнул пальцем в наколку на груди.
— Счастливый ты, паря… Или очень несчастный, — задумчиво сказал Бурят. — Ладно, давай покемарим. День у нас с тобой трудный будет.
Уже засыпая, Песик подумал: «Трудный день? Почему? Ну с Бурятом, положим, все понятно, суд — дело нервное… Но я-то тут при чем? У меня как раз день самый обычный намечается…» Не мешало бы, конечно, ему и призадуматься над этими загадочными словами, но в сонном забытьи любая толковая мысль была вроде как мышиный хвост — мелькнула, и нет ее…
День и в самом деле оказался для Песика таким трудным, что даже и сравнить было не с чем. Бурят знал, что говорил. Его самого тихо увели еще до подъема, а спустя час на допрос поволокли Песика. Едва увидев масляные рожи своих следователей, он сразу понял — все, влип!
Ему предъявили магнитофонную запись ночных откровений, где был только его голос, а реплики Бурята почему-то отсутствовали. Потом сообщили, что в самое ближайшее время в район талашевской свалки выезжает оперативная группа со специальной аппаратурой и собаками, тренированными на поиск человеческих останков. Если от Вальки Холеры уцелела хоть одна косточка, то ее обязательно обнаружат. А в привокзальном подвале, где осенью была задушена женщина легкого поведения, уже найдены семь рублей, запрятанных в щель между кирпичами. Не исключено, что на купюрах остались отпечатки пальцев убийцы.
Песику крыть было нечем.
Раскроить башку о бетонную стену следственной камеры ему не позволили. Не увенчалась успехом и попытка перегрызть собственные вены. Песик и до этого был в наручниках, а сейчас их забили так, что кисти рук мгновенно побелели.
Когда Песик немного пришел в себя, ему предложили компромисс. Следователи обещали исключить из дела все эпизоды, кроме последнего убийства. Тянуло оно лет на пятнадцать, но это все же была не вышка. Взамен от Песика требовалось чистосердечное признание, дальнейшее сотрудничество и пристойное поведение на суде.
Как говорится, торг здесь был неуместен. Песик молча кивнул и не глядя подмахнул целую кипу заранее подготовленных протоколов, для чего его правую руку на пару минут освободили от оков. Потом еще около часа уточнялись некоторые моменты, упущенные Песиком в беседе с Бурятом. Он не утаил ничего. В знак поощрения ему поднесли стопку водки, вручили пачку сигарет и водворили в одиночную камеру. Наручники сняли только там, и белые, как бумага, ладони стали на глазах синеть.
Уже много позже, попав в зону и слегка пообтеревшись в ней, Песик узнал, что имел честь общаться с самим Фомой Фомичем Шляховым, наседкой всесоюзного масштаба. Сам до этого неоднократно судимый, он согласился на сотрудничество с органами и в своей профессии (не сказать, чтобы очень уж редкой) достиг высот, сопоставимых только с теми, которых в музыке достиг Моцарт, а в литературе — Шекспир.
Не существовало такого клиента, к которому Фома Фомич не смог бы найти индивидуальный подход. Топил он и крутых паханов, и вредителей-академиков, и агентов иностранных разведок. Однажды даже расколол начальника милиции, подозреваемого во взяточничестве. Уж тот-то по долгу службы о таких, как Фома Фомич, все знал, а ведь не сумел сдержать словесного поноса.
Шушера, сидевшая с ними в камере, тоже почти в полном составе находилась на содержании милиции. При Фоме Фомиче, великом артисте, они исполняли роль массовки.
Кстати говоря, изображение орла, оставленное Песику на память, никакой зашифрованной информации в себе не имело. Это был всего лишь фирменный знак, которым Фома Фомич метил почти все свои жертвы…
…Дальнейшие события разворачивались как по-писаному. Следствие сдержало свое слово, а Песик — свое. Закатили ему даже меньше, чем ожидалось, — тринадцать лет. Статья у него была «звонковая», ни под какие амнистии не подпадающая, но Песик на чужую милость никогда и не рассчитывал. Настоящий человек, в его понимании, должен был сам себя показывать, сам себе отпускать грехи и самостоятельно добиваться амнистии. Однако содействия в этом он искал не у юристов-крючкотворов, а у темной ночи, острого ножа и красивого фарта.
Фома Фомич Шляхов, он же Бурят, был последним человеком, вызвавшим у Песика хоть какую-то симпатию. С некоторых пор он стал испытывать к людям глубокую и стойкую неприязнь, которую, к счастью, не мог реализовать в масштабе глобальном. Это, впрочем, не мешало ему устраивать мелкие подлянки: калечить слабых, обманывать доверчивых, издеваться над опущенными и стравливать между собой вчерашних дружков.
Если Песик и мог еще кого-то любить, то исключительно свои будущие жертвы и только очень непродолжительное время. Взаимности эта любовь не предполагала.
Так уж повелось, что те, кто был осужден по статьям, сходным со статьей Песика, подвергались в зоне двойному давлению — как со стороны администрации, требовавшей неукоснительного соблюдения режима, личной лояльности и выполнения плана, так и со стороны своих же братьев-зеков, презиравших насильников, гомосексуалистов и извращенцев.
С такими поступали адекватным образом: насиловали, опетушивали и подвергали изощренным издевательствам — «опускали», короче говоря. Опущенным в лагере жилось хуже, чем неприкасаемым в Индии. Они не имели права есть за общим столом и пользоваться общей посудой. Работа им доставалась самая грязная и позорная. Даже руку этим изгоям подавать было нельзя.
Что касается Песика, то его эта незавидная участь миновала. В коллектив, а вернее, в стаю временно изолированных от общества социально-опасных типов он вошел так же естественно, как единичный кирпич входит в общую кладку. Его сразу признали за своего, хотя к настоящей власти в зоне никогда не подпускали — молод, мол, еще. Пусть пооботрется, наблатыкается и заработает себе настоящий авторитет.
Людей Песик ненавидел по-прежнему, но это вовсе не означало, что он собирался открыто конфликтовать со всеми подряд. Временно можно и на вторых ролях отсидеться, тем более, что у старших товарищей действительно было чему поучиться.
После отбоя, когда блатное общество собиралось в каком-нибудь укромном уголке почифирить, наступало время «толкать романы». Каких только историй, и реальных, и выдуманных, нельзя было там услышать!
Один из главарей зоны, зек первого отряда Федька Лишай, любил, например, теоретизировать о человеческой природе, базируясь при этом на Библии, позаимствованной у мрачного и неразговорчивого старовера Силкина. По словам Лишая, выходило, что большая и лучшая часть человечества принадлежит к потомству Каина, ведущего свое происхождение вовсе не от официального прародителя Адама, а от сатаны, на время принявшего образ змея-искусителя. И первородный грех Евы состоял вовсе не в том, что она отведала плод с какого-то там мифического дерева, а в том, что уступила домогательствам Божьего врага.
Если кто-нибудь из присутствующих возражал, что, дескать, ничего такого в Библии нет. Лишай только саркастически ухмылялся.
— Буквально толковать Святое писание нельзя, как передовицы газет, — говорил он. — Подлинный смысл всегда скрытно таится между строк и доступен немногим. Почему, спрашивается, змей к бабе пристал, а не к мужику? Разве мужика трудней совратить? Да в сто раз легче! А дело все в том, что баба рожать способна. Вот он, хитрец, и замыслил своим потомством землю заселить. А до этого момента Адам с Евой вообще друг к другу равнодушны были. Зачем размножаться, если ты бессмертен? Ева страсть к блуду от сатаны переняла, а уж потом, когда Боженька им обоим под зад ногой наподдал, и Адама этому научила… Далее. Первым, само собой, родился Каин. Будущий убийца. Разве мог у тихони Адама такой уркаган родиться? Да ни в коем случае! Сатаноид это. Зато с младшим братом Авелем все ясно. Папенькин сынок, это уж точно. Овечек пас и Богу молился. Думаете, Каин его случайно кокнул? Нет. Кукушонок точно так же поступает, когда законных потомков из гнезда выбрасывает. Сыну сатаны и сыну раба Божьего на одной земле не ужиться, особенно в первое время. Но, правда, Бог эту первую мокруху быстренько раскрыл и погнал Каина подальше с глаз своих. Казнить не стал, уж очень тогда население малочисленное было… Стали потомки Каина строить города и плодиться. Вон их сколько в Библии указано. Читаю по нисходящей: Енох, Ирад, Мехиаель (тьфу, язык сломаешь), Мафусаил, Ламех, Иавал и так далее. И у каждого, между прочим, были свои потомки. И только лет через семьсот у Адама с Евой третий сын родился, Сиф, надо полагать, тоже законный. Потомки его должны были в меньшинстве оказаться и среди потомков Каина раствориться. Но не растворились, гады. Встречаются еще разные там хлюпики, гуманисты и законники. Вот их-то и надо в зону сажать, а не нас. Мы, потомки Каина, истинные хозяева жизни. Почему же мы по чужим законам живем, чужому Богу поклоняемся и разные притеснения терпим? Почему нас за убийство судят? Каин ведь убивал! Эх, не повезло нам, кореша, что говорить. Ошельмовали когда-то в незапамятные времена наших предков хитрожопые сыновья да дочери Сифа. А будь моя воля, я бы старые порядки вернул. Представляете: жить, работать и учиться по Каину.
— Побили бы люди тогда друг друга, — возражали ему опять.
— Ничего… Ворон ворону глаз не выклюет, а волк волку хвост не отгрызет. Хватит на их век и голубей, и овечек.
— А коли кончатся вдруг и те, и другие?
— Так не бывает. Овец всегда больше, чем волков. Сам прикинь, сколько фраеров на одного делового приходится? Прикинул? Вот то-то и оно…
В конце концов Силкин не выдерживал такого глумления над Божьим заветом и отбирал Библию у Лишая.
— Пустословы вы непотребные! — говорил он скорее с укором, чем с досадой.
— В жизни нужно правды держаться, любви, мира и веры. А не царство сатаны славить.
— Что же ты, дед, сам любви и правды не держался? — удивлялся Лишай. — Сначала свой блуд тешил, потом кровушкой невинной замарался, а теперь, понимаешь, Бога славишь. Ну ты и фрукт!
— Знать, испытание такое мне было свыше ниспослано, — крестился двуперстием Силкин. — Согрешил я, не отрекаюсь. Зато теперь грех свой денно и ношно замаливаю. И за вас, заблудших, нынче помолюсь…
— Помолись, дед, помолись… Только сначала чифирька хлобысни…
— Ну если только один черпачок… Ох, слаб человек и многогрешен…
Великое Затмение Песик встретил в штрафном изоляторе. Это надо понимать так, что сие грозное и печальное событие на нем никак не отразилось. Рукомойник, туалет и окно в изоляторе отсутствовали. Кормили одним только хлебом, и то через день. А если электрический свет погас, то и хрен с ним. Подумаешь, событие. Хоть выспаться спокойно можно.
Тревожило Песика сейчас совсем другое: не закатят ли ему еще лет пять довеска.
А провинился он следующим образом. Половой голод мучил поголовно всех заключенных, но большинство хоть как-то разряжалось — кто с женами и заочницами раз в год, кто с Дунькой Кулаковой и опетушенной молодежью регулярно.
В этом вопросе Песик представлял исключение. Он признавал только один-единственный способ удовлетворения страсти, меньше всего подходящий для исправительно-трудовой колонии строгого режима. Если по территории зоны изредка и передвигалась какая-нибудь женщина — медсестра или кто-нибудь из бухгалтерии,
— то обязательно в сопровождении охраны.
При виде округлых бедер, высоких грудей, а главное, нежной шейки Песик буквально стонал от похоти. Долго так продолжаться, конечно, не могло, и однажды, случайно столкнувшись в лесопильном цехе с нормировщицей, подсчитывавшей сменный выход деловой древесины, он коршуном набросился на нее — повалил, задрал юбку, порвал кофточку и успел немного подержаться за горлышко. Двое здоровенных охранников сумели оторвать Песика от громко вопящей женщины только после того, как оглушили сосновым горбылем.
Песика уже дважды допрашивал местный начальник оперчасти, каждый раз прозрачно намекая, что таким маньякам место только одно — на три аршина под землей.
Неудачная попытка дорваться до женского тела еще больше распалила Песика. Ведь он уже почти добился своего — сжимал руками эту столь притягательную шею, видел прямо перед собой остекленевшие от страха, вылезающие из орбит глаза, ощущал трепет перепуганного сердца.
Короче говоря, Песик пребывал в таком исступленном состоянии, что не реагировал ни на царившую в камере тьму, ни на странную тишину, установившуюся в коридоре изолятора.
Первым сигналом из внешнего мира, по-настоящему заинтересовавшим Песика, был скрип поворачиваемого в замке ключа. Что бы это могло значить? Ведь сидеть ему оставалось еще как минимум суток пять, а надзиратели общались со штрафником исключительно через окошко кормушки. Неужели его уже отправляют в суд?
Последовала обычная лающая команда: «На выход! Руки за спину!» В коридоре было ненамного светлее, чем в камере, но удивило Песика не это, а то, что надзиратели имели на вооружении автоматы. Где это видано, чтобы вертухаи в зоне баловались с огнестрельным оружием? Этим козлам даже дубинки доверять опасно. А может, пока Песик сидел в изоляторе, новый указ вышел?
В наручниках его препроводили в казарму и впихнули в родную камеру. Обстановка здесь нынче была совсем не та, что раньше. Намордник на окне отсутствовал, зато откуда-то появилась параша. В поведении людей ощущалось какое-то лихорадочное напряжение, какое бывает только накануне решительных событий, одинаково грозящих и бедой, и спасением.
— Что вы, в натуре? — удивился Песик. — Может, химией отравились, которой клопов душат?
— Отстал ты, в своем кондее сидя, от жизни, — сказал Лишай. — Иди сюда, покалякаем.
Между ними состоялся довольно долгий разговор, в ходе которого Песик несколько раз подходил к окну и любовался на царивший снаружи мрачный пейзаж. На участие в бунте он согласился безоговорочно и даже сам напросился в штурмовую группу.
— Ждать недолго осталось, — сказал Лишай в заключение. — Или костьми ляжем, или всех сук повяжем. Но, я думаю, фарт на нашей стороне будет… А пока с Зяблика глаз не спускай. Что-то он мне не нравится… Ни нашим, ни вашим. Болтается, как сопля на палочке. Если вдруг заподозришь что, сразу мочи.
Во время бунта Песик вел себя геройски, а в момент, когда штурмовая группа попала под кинжальный автоматный огонь и все вдруг повисло на волоске, спас положение.
Однако оказавшись на свежем воздухе, вне прикрытия каменных стен, Песик повел себя осторожно. Буза в зоне затеялась серьезная, и кончиться она должна была большой кровью. Можно, конечно, захватить лагерь. Бывали уже такие случаи. Но долго продержаться в нем невозможно, это ведь не Брестская крепость. Набегут местные менты, подъедет спецура из области, нагонят бронетехники, собак пустят
— и останется от зоны только братская могила, да и то без обелиска. В космическую катастрофу, надолго установившую в окружающем мире совсем другой расклад сил, Песик верил как-то не очень.
В зоне творилась полнейшая неразбериха. Дым горящих построек застилал все кругом. От «черемухи» слезились глаза. Где свои, где чужие — не отличить. Короче, это был тот самый счастливый случай, которого Песик ждал уже не один год. Просто грех не воспользоваться.
Он быстро облачился в форму какого-то прапорщика, не то притворявшегося мертвым, не то и в самом деле отдавшего Богу душу, перепачкал лицо сажей пополам с кровью, поглубже надвинул на глаза фуражку и стал пробираться к воротам.
Застукай сейчас Песика братва, мало бы ему не показалось. Дезертиры заслуживают той же участи, что и вертухаи.
Однако Песик, ловко пользуясь хаосом всеобщего побоища, сумел втереться в толпу отступающих охранников и вместе с ними покинул лагерь.
Прикидываясь раненым, он полдня просидел в каком-то окопчике, а когда оборону периметра зоны взяла на себя армия и подоспевший отряд городской милиции, в числе многих других оставшихся не у дел вертухаев спустился к реке. Здесь они принялись промывать свои воспаленные глаза и наспех бинтовать друг другу раны.
Один из надзирателей внезапно выругался, сорвал погоны и направился к мосту, ведущему в город.
— Ты куда? — окликнули его.
— В гробу я такие дела видел! — огрызнулся он. — Не собираюсь подыхать здесь за двести рублей! У меня дома семья третий день не пивши и не жравши!
Его примеру последовало еще несколько человек разного звания и разных лет. Никто не стал их останавливать, грозить трибуналом или пенять присягой.
«Что же это такое, в самом деле, творится? — удивился Песик. — Никогда бы не подумал, что эти суки легавые на такое способны. Это же всего лишиться: зарплаты, пайка, пенсии…»
Прикрывая измазанное лицо рукой и старательно прихрамывая, Песик тоже подался прочь от зоны. Во время заключения он не переставал строить разнообразнейшие планы побегов, начиная от элементарного подкопа и кончая одноместным геликоптером, созданным на базе бензопилы, но никогда не предполагал, что сможет уйти так легко.
Погони вроде бы не ожидалось (охрана зализывала свои раны, а все милицейские силы были сосредоточены в одном месте), и Песик позволил себе немного расслабиться. Внезапно обретенная свобода наполняла его душу ликованием, однако глухой серый колпак, накрывший город и его окрестности, внушал инстинктивную тревогу. То, что он видел над своей головой, ничуть не напоминало прежнее небо. Уж если эту картинку и можно было с чем-то сравнить, то только с огромной, тускло освещенной тюремной камерой.
На противоположном берегу несколько женщин с ведрами в руках спускались к воде. Несмотря на осень, погода стояла теплая, и все они были одеты в легкие сарафаны, оставлявшие открытыми ключицы и шею.
— Привет, красавицы! — Песик помахал им рукой.
— Привет, служивый, — сдержанно ответили ему. — Кто это тебя так разукрасил?
— А никто! Но скоро все такие будут, даже хуже. Вам, красавицы, я это персонально обещаю…
Город был для Песика, как покинутый сторожами сад, а каждая женщина в нем
— как яблочко. Только руку протяни, и сорвешь.
Он оказался в положении гурмана, глаза которого разбегаются от множества разнообразных лакомств. Он не торопился, он выбирал, искренне полагая, что заслужил это право долгими и постылыми годами отсидки.
Женщин старше тридцати он отвергал напрочь, не та свежесть. Мелюзгу тоже игнорировал: «Когда-нибудь попробую, но не сегодня». Подруга нужна была ему всего-то на несколько минут, но зато идеальная, чтоб и месяц спустя от воспоминаний сдавливало нутро.
Чтоб не пугать окружающих, он умылся возле какой-то лужи (ох, в дефиците была здесь водичка) и руками пригладил мокрый ежик волос.
Долгожданная незнакомка, как ни странно, обратилась к нему первой. В этот самый момент она вылезала из разбитой витрины универмага.
— Эй, прапор, — вид человека в форме ничуть не испугал ее, — ну-ка помоги…
Песик, которому хватило одного взгляда, чтобы сразу понять: «Да, это именно то, что надо!» — услужливо подскочил к витрине.
— Принимай мешок, — сказала красавица строго. — Сейчас еще один будет.
Раньше в этих мешках, судя по всему, хранился сахар, а то, что наполняло их сейчас, можно было назвать одним словом — «ассорти». Пользуясь отсутствием милиции, в универмаге подметали самое последнее.
— Пошли, — сказала затем юная мародерша таким тоном, словно Песик состоял при ее особе штатным носильщиком.
— Пошли так пошли, — согласился он, взваливая на плечо мешок, в котором что-то зазвенело, забрякало и забулькало. — А далеко?
— Там видно будет, — отрезала барышня. Дать более развернутый ответ ей, видимо, мешал довольно увесистый груз.
«Бедняжка, — ухмыльнулся про себя Песик. — Из последних сил тужится, а того не знает, что это добро ей никогда не пригодится. Если что и заберет с собой в могилу, так только мешок, который я ей потом на голову накину».
Теперь, когда жертва была намечена, тянуть дальше не имело смысла. Однако на улицах, по которым они двигались, было довольно людно, и Песик решил потерпеть до конца маршрута. Ведь будет же там какая-нибудь конура — склад, подвал или гараж.
Конура оказалась просторной квартирой, расположенной на первом — слава те, Господи! — этаже вполне приличного, хотя и сильно воняющего засоренной канализацией дома. С облегчением скинув с плеча мешок, Песик огляделся. Насколько можно было судить, хозяйка до знакомства с ним успела сделать не один удачный рейд. Водка стояла ящиками, селедка — бочками, мука — мешками. Тут же ворохами громоздилась новехонькая одежда.
— Запасливая ты… — присвистнул Песик.
— А ты как думал, прапор, — усмехнулась барышня и, смело задрав юбку, начала рассматривать ссадину на ляжке.
— Ушиблась? — у Песика пересохло в горле.
— Ага. Может, залижешь?
— Попозже…
Он начал тихонечко, по стеночке обходить ее, чтобы напасть сзади. До цели оставалось уже несколько шагов, но барышня внезапно вскочила и исчезла в соседней комнате (все ее движения были на диво резки и стремительны). Оттуда она вернулась с тарелкой, на которой красовались два чайных стакана, несколько желтых куриных яиц и шматок сала.
— Хлеба нет, — сказала она деловито. — Пекарня не работает.
— Ничего, — кивнул Песик. — Можно и без хлеба. Быстро наполнив стаканы, она сказала:
— Пей и выматывайся отсюда. У меня дел по горло. «Почему бы и не выпить, — подумал Песик. — Выпью. А потом твоей кровушкой закушу».
Он потянулся за стаканом, но барышня проворно перехватила его руку.
— Интере-е-е-есно, — она рассматривала наколотые на его пальцах перстни. — Разве в вашу контору судимых берут?
— Да это так, ошибка молодости… — Песик попытался вырвать руку, но ушлая барышня сжимала ее, как клещами.
— Ошибка, говоришь? — она заглянула Песику в глаза. — Да ты, наверное, такой же прапорщик, как я девственница. Особенно стрижечка твоя мне нравится… Погоди, погоди… Видела я где-то уже твою рожу. Не тебя ли года три назад за удушенную девку судили? Может, ты и ко мне за этим самым пришел?
Одной рукой продолжая удерживать Песика, она другой нашарила початую бутылку водки. Пытаясь опередить ее, Песик потянулся к стакану, который при умелом использовании был гораздо опаснее ножа, но запоздал на мгновение. Бутылка с треском раскололась о его голову. Глаза залила водка, а потом кровь.
Сознание он если и потерял, то всего на секунду, хотя со стула свалился. Барышня тем временем лихо опрокинула свой стакан и принялась чистить яйцо.
В квартиру с шумом ввалились два мрачных мужика. Они волокли сорокалитровый бидон подсолнечного масла, а сверх того — два круга сыра.
— Нет там больше ничего, — буркнул один, косясь на Песика.
Другой, не произнеся ни слова, приставил к виску распростертого на полу гостя ружейный обрез. Хозяйка квартиры заговорила, в промежутках между фразами не забывая откусывать от яйца:
— Лично я ни против воров, ни даже против убийц ничего не имею. Если бы ты кого по делу пришил, я бы и не почесалась. А вот бессмысленные убийства не одобряю. Зачем ты без всякой нужды баб переводил? Я, кажется, тебя спрашиваю!
— Тебе не понять, — процедил сквозь зубы Песик.
— Мне тебя не понять, тебе меня… — вздохнула барышня. — Ну вот скажи тогда, зачем это мне нужно — за всех талашевских баб заступаться? Не понимаешь? То-то и оно… Приговор мой будет такой… Жить ты будешь, но к женскому полу уже больше не подступишься. Снимайте с него штаны.
Девушка встала и жестом фокусника выхватила откуда-то опасную бритву, холодно поблескивающую даже в отсутствии источника света. Может, впервые в жизни Песику стало по-настоящему страшно. Перспектива остаться скопцом была куда ужасней неволи и даже самой смерти. Он завыл и бешено забился, но крепкая рука уже сжимала его мошонку.
— Не надо! — захлебываясь слюной, завыл Песик. — Прошу! Лучше убейте!
— Не надо, говоришь? — девушка продолжала тянуть на себя детородный орган Песика. — Меня Ритой, кстати, зовут. Но для своих я — Королева Марго. Понятно? Будешь теперь на меня работать. Приговор пока считаем условным. Если подведешь, я тебя лично охолощу. За мной не заржавеет. У кого хочешь спроси. Согласен ты на такие условия?
— За свои яйца я и не на такое соглашусь, — искренне признался Песик, но про себя подумал: «Ничего, сучка, я тебе это унижение не забуду!»
— Ну вот и договорились. Одевай штаны, — она спрятала бритву и принялась протирать водкой руки.
Разные времена рождают своих героинь. Особенно времена лихие. Столетняя война породила пламенную Орлеанскую Деву. Братоубийственная российская распря — кровавую Соньку Золотую Ручку и мало в чем ей уступающую Лариску Рейснер. Катастрофа, названная Великим Затмением, явила миру Королеву Марго, одно упоминание о которой заставляло трепетать Талашевск.
В банде состояло человек десять-двенадцать, но на дело обычно ходили вчетвером: Королева Марго, два мрачных мордоворота, приходившиеся ей дядьками, и Песик.
Когда в магазинах и на складах брать стало нечего, перешли к квартирным налетам. Объекты Королева Марго находила сама, обходя дома под видом сестры милосердия общества Красного Креста. Ей — хрупкой и миловидной, с глазами-фиалками и губками бантиком — открывали почти всегда, а потом еще и чаем хотели угостить. Неосторожных хозяев не смущали ни блатные повадки самозванной медички, ни прокуренный голос, ни подбородок, похожий на крепкий мужской кулак.
Банда, к тому времени уже разжившаяся автоматическим оружием, дожидалась ее сигнала в подъезде. Если в квартире находились только старики да дети, Королева Марго управлялась и одна, а если сопротивление обещало быть серьезным, звала на подмогу сообщников.
Брали только золото, меха, драгоценности и дорогой хрусталь. Уходя, хозяев в живых не оставляли — непременно донесут. Если среди них попадались молодые женщины или девочки, их отдавали Песику. Насилие и последующее удушение всегда происходили в присутствии Королевы Марго, отпускавшей по этому поводу весьма забавные комментарии. Песик на первых порах смущался чужих глаз, но потом привык. Дядья подобные оргии терпеть не могли и в это время обычно закусывали на кухне. Чрезмерностью их аппетит мог соперничать разве что с их же скупостью на слова.
Попухли все они глупо — не на милицию нарвались и не на отряд самообороны, а на другую банду, имевшую схожую специализацию. Перестрелка длилась не меньше часа. Когда же удача стала окончательно клониться на сторону конкурентов, Песик одной очередью уложил и подраненных дядек, и саму Королеву Марго (он никогда не мог простить ей страх, пережитый при первой встрече).
Из осажденной квартиры он ушел по водосточной трубе — но не вниз соскользнул, как ожидали враги, а вскарабкался наверх.
Жилье и имущество Королевы Марго перешло в его собственность, однако новую банду Песик собирать не стал. Не стяжатель он был по натуре. Голода и жажды можно было не опасаться, а другие потребности он удовлетворял за счет юных побирушек, которых ужас сколько развелось за последнее время. Под морг он приспособил имевшийся в доме просторный подвал.
Жить можно было припеваючи, но не давали. То кастильцы налетят, то арапы ворвутся, то воссозданная Коломийцевым служба безопасности начинает очищать город от криминальных элементов. Кроме того, слух о маньяке, убивающем девочек, распространился достаточно широко. Знающие люди даже примерный адрес этого монстра указывали. Пришлось Песику спешно ретироваться из города. А в лесу или в глухой деревушке одному не прожить — сожрут, если не волки, так люди.
Песик скитался из одной банды в другую, пока не пристал к экспедиционному отряду сил самообороны. Главной задачей этих отпетых головорезов, среди которых было немало бывших зеков, уцелевших при ликвидации талашевской исправительно-трудовой колонии, было проведение глубоких рейдов на территорию сопредельных стран, неведомо каким образом возникших вокруг.
Такая жизнь пришлась Песику по нраву. За погубленных кастильцев или степняков, а уж тем более за арапов, никто не корил, а наоборот, еще и благодарили. Взамен своей доли добычи он просил только бабу, редко двух, чем лишь укреплял свой авторитет. Как-то сама собой вокруг Песика сложилась кучка единомышленников, еще помнивших глумливые комментарии покойного Лишая к ветхозаветной легенде о Каине и Авеле.
Сначала в шутку, а потом и всерьез они стали звать себя каинистами. Но пока это была всего лишь игра, одна из тех, до которых так охочи мужчины. Сам Песик, не имевший склонности к отвлеченному мышлению, не очень-то ею интересовался. Возможно, каинизм так никогда бы и не стал настоящей религией, если бы не усилия прибившегося к отряду отца Николая — расстриги, пьяницы, бабника и садиста.
Закончив сразу два высших учебных заведения — филфак университета и духовную семинарию, — он еще при советской власти был лишен сана за то, что однажды при свидетелях вылил на голову попадье ведро нитрокраски (в церкви тогда как раз шел ремонт), а потом, уже во время разбирательства, показал митрополиту кукиш.
Оставшийся без прихода (и без дохода), отец Николай некоторое время болтался от иеговистов к кришнаитам, а от дзен-буддистов к хлыстам, но нигде долго не задерживался. Очень уж радикальны были его взгляды на все, что касалось вопросов веры.
Мысль основать новую религию у него появилась давно, но, как на беду, отсутствовали факторы, благоприятствующие этой грандиозной задумке. У отца Николая не было ни знатного происхождения, как у Шакъямуни, ни богатой жены, как у Мухаммеда, ни влиятельных покровителей, как у Лютера.
Свое истинное призвание он нашел лишь в экспедиционном отряде, которым к тому времени уже командовал Песик. Идея возвеличить личность Каина и на этой основе создать понятное и привлекательное для черни религиозное учение сразу вдохновила отца Николая. Да и обстановка способствовала этому — пылали не только границы Отчины, пылала каждая деревенька, каждый городок. Постоять за себя можно было только при помощи конкретного зла, а абстрактное добро оставалось как бы не у дел.
Адепты новой веры (которые с подачи отца Николая назывались теперь аггелами) признавали Каина пророком другого, куда более жестокого и страшного существа, чье пришествие ожидалось в обозримом будущем. Формально все аггелы были равны между собой и могли без зазрения совести уничтожать друг друга, но на это богоугодное дело (если исходить из заветов Каина) был наложен временный мораторий.
Зато беспощадное избиение всех тех, кто не примкнул к аггелам, а в особенности инородцев, только приветствовалось. Земля должна была стать вотчиной потомков Кровавого Кузнеца, и не существовало таких средств, которые были бы неприемлемы на пути достижения этой цели.
Песик и сам удивлялся столь стремительному и широкому распространению новой веры. Десятки фанатичных проповедников, сопровождаемых отрядами вооруженных аггелов (тогда, правда, еще сплошь безрогих), рассеялись по городам и весям Отчины. Борьба с ними если и велась, то очень вялая.
Изменилась ситуация и в экспедиционном отряде, по численности уже разросшемся до размеров доброго батальона. Если раньше отец Николай был при Песике кем-то вроде шута и капеллана одновременно, то теперь уже Песик был у отца Николая не больше чем начальником храмовой гвардии. Назревал конфликт духовной и светской власти.
Песик, не желавший быть на побегушках даже у верховного жреца Каина, моментально составил заговор, который поддержали все его бывшие сокамерники. Кто-то из них придумал коварный план. Следуя ему, Песик сначала вынудил отца Николая к публичному братанию, а потом заколол тем же самым ножом, которым незадолго до этого добыл необходимые для церемонии капли крови.
Присутствующие при этом аггелы и ахнуть не успели, как было торжественно объявлено, что происшедшее у всех на глазах убийство является всего лишь ритуальным актом поклонения Каину.
Никакого ущерба престижу новой религии это не нанесло — наоборот, стало модно резать своих братьев, а заодно и других родственников. Как и любая зараза, каинизм распространялся с невиданной быстротой. Правда, кастильцы, степняки и арапы не щадили аггелов, но и те, в свою очередь, в долгу не оставались. Редкая, прямо-таки сатанинская жестокость, с которой они действовали, должна была отбить у всех инакомыслящих волю к сопротивлению.
Вскоре базы аггелов появились не только в Отчине, но и в Хохме, Трехградье, Агбишере. Экспедиция, посланная на исследование Гиблой Дыры, случайно проникла в досель никому не известную страну, цивилизация которой опередила цивилизацию Отчины на несколько сотен лет, что, впрочем, пошло ей скорее во вред, чем на пользу.
Страна, названная аггелами Енохом (так Каин нарек некогда свой первый город), была практически мертва (ее немногочисленное население не смогло даже оказать аггелам сопротивления), но хранила огромные запасы материальных ценностей. Ради сохранения секретности пользоваться этим богатством до поры до времени было запрещено. Исключение делалось только для огромных металлических люков, заменявших аггелам ритуальные сковороды. Сей предмет со временем стал неотъемлемой частью культа Каина.
Чуть позже аггелы проникли и в Эдем, где столкнулись с переродившимися в нефилимов выходцами из Еноха, Отчины и некоторых других стран. Здесь же они узнали секрет бдолаха, чудодейственного средства, способного влиять на организм в соответствии с самыми сокровенными человеческими желаниями. Сначала он применялся только как допинг перед боем или как универсальное лекарственное средство, но впоследствии стал для аггелов таким же священным растением, как лотос для индусов и кока для инков.
При содействии бдолаха каждый аггел должен был доказать свою преданность каинизму. У тех, кто действительно свято верил в Кровавого Кузнеца, со временем вырастали рога — легендарная каинова печать, которой Бог-создатель отметил братоубийцу. Безрогих аггелов беспощадно отсеивали, как нестойких в вере лицемеров. Все это, конечно, не распространялось на высших иерархов каинизма, постоянно носивших на голове черные колпаки, — попробуй определи, что там под ними.
Прибрав власть к рукам, Песик сделал все, чтобы избавиться от своих старых соратников, еще помнивших, как он шестерил в зоне. Некоторые погибли от подмешанного в бдолах яда, который действовал так быстро, что жертва даже не успевала ощутить страх смерти. Другие сгинули в заранее обреченных на неудачу походах. Третьи были облыжно обвинены в чересчур вольной трактовке идей Каина и за это разрублены на части (тут уж никакой бдолах помочь не мог).
Приняв имя Ламеха, одного из славнейшних потомков Кровавого Кузнеца, Песик как бы перечеркнул свое прошлое. Новое поколение аггелов, не испорченное культурой и жизненным опытом, буквально боготворило его. Рекрутировалась эта молодежь на свалках, в подвалах, на больших дорогах и невольничьих рынках, а воспитывалась по примеру египетских мамелюков кровью и железом.
После заключения Талашевского трактата борьба с аггелами пошла всерьез, но к тому времени болезнь каинизма уже стала хронической. Избавиться от нее теперь можно было только двумя способами: или выкосить под корень все рогатое воинство, или целиком уничтожить пораженный заразой организм…
Дрова действительно оказались сырыми, и костер все никак не разгорался. Матерно выругавшись, Ламех собрался отлучиться куда-то, но к нему подскочил аггел, как в бурнус, закутанный в зелено-коричневую маскировочную сеть, и что-то зашептал на ухо.
— Вот как! — Ламех не смог сдержать удивления. — Давайте ее сюда. Будет парочка, баран да ярочка.
Левке и до этого было так нехорошо, что, казалось, дальше некуда, но тут выяснилось, что есть куда. Интенсивность душевной муки, похоже, предела иметь не могла.
Снаружи уже слышался возмущенный голос Лилечки:
— Пустите! Пустите, черти!
Двое аггелов втащили ее во дворик и поставили на другой стороне бассейна, прямо напротив сковороды, из-под которой уже выбивался легкий дымок.
— Здравствуй, красавица, — сказал Ламех ласково. — Так я и думал, что еще увижусь с тобой. Рад несказанно.
— А если рад, поцелуй кобылу в зад, — не задержалась с ответом взлохмаченная и раскрасневшаяся Лилечка.
Еще недавно даже и представить себе было нельзя, что пугавшаяся комариного писка девушка решится на столь самоотверженный поступок и последует за в общем-то чужим ей человеком чуть ли не в пасть к дьяволу. Оставалось неизвестным, сотворило ли это чудо любовь или просто дал о себе знать бедовый бабушкин характер.
— Куда она шла? — спросил Ламех у аггелов, доставивших Лилечку.
— Похоже, за ним следом, — один из аггелов указал на Цыпфа. — Да еще кричала: «Левка, вернись! Вернись, паразит!»
— Оружие при ней было?
— Нет, — осклабился другой аггел. — Всю общупали. Вот только это нашли.
Он продемонстрировал губную гармошку, которую со словами: «Отдай, гад!» — Лилечка тут же вырвала из его рук. Накинувшихся на девушку аггелов остановил Ламех.
— Пусть остается ей, — сказал он благосклонно. — Даже инквизиторы позволяют ведьмам брать с собой на костер орудия их колдовства.
Аггелы, по-видимому, умели понимать не только слова, но и интонации своего вождя, потому что Лилечка в единый миг лишилась обуви, зато обрела цепи.
— Цилла сообщила мне, что ты неравнодушен к этому юному созданию, — Ламех обратился к Левке. — Конечно, ее следовало бы использовать в других, гораздо более приятных целях, но сейчас она послужит тем ключиком, который отомкнет замок твоего красноречия.
— Видишь, миленький, как все неудачно получилось, — сказала Лилечка Левке, все это время не спускавшему с нее глаз. — Надо было бы тревогу поднимать, а я, дурочка, за тобой побежала. Слава Богу, хоть живым застала…
Левка смотрел на нее и молчал. Слов у него не было.
Лилечку столкнули в бассейн и, потянув за одну из цепей, принудили взойти на сковороду. Аггелы, до этого возившиеся с костром, принялись размахивать кусками картона, раздувая огонь и одновременно отгоняя в сторону дым.
Поверхность сковороды еще не успела нагреться, и Лилечка, осторожно ступая босыми ногами, дошла до ее центра. Обе цепи сразу натянулись, заставив раскинуть в стороны руки. В правой ладони она продолжала сжимать губную гармошку.
— Больно! — скривилась девушка. — Зачем же так сильно дергать!
— Прекратите! — Левке казалось, что он кричит, а на самом деле из его горла вырвалось еле слышное сипение. — Ваша взяла! Перестаньте мучить ее, и через час оружие будет здесь.
— Как же ты собираешься его раздобыть? — неизвестно, чего в словах Ламеха было больше, — издевки или недоверия.
— Это уже мои проблемы.
— Да ты и поздороваться со своими корешками не успеешь, как они тебя на нож поставят. Что я, Зяблика не знаю? Он ссучившихся не прощает.
— Никто не знает, что я здесь. Она должна была все рассказать, да не успела, — Левка кивнул на Лилечку, уже начавшую шаркать ногами.
— Лева, не надо! — закричала она. — Я выдержу! Не связывайся с этой сволочью!
— И я такого же мнения, — спокойно кивнул Ламех. — Оружие от нас никуда не денется, а вот молодые девки на нашей сковороде давно не прыгали. Жаль такое зрелище упускать.
— Может, я лучше под музыку попрыгаю? — внезапно предложила Лилечка. — И мне легче, и вам веселее.
— Почему бы и нет, — ухмыльнулся Ламех. — А ты девица рисковая. Не ожидал даже.
Лева завопил что-то покаянное, но ему зажали рот да еще дали хорошенького тычка по печени. Одна из цепей ослабла ровно настолько, чтобы Лилечка смогла поднести гармошку ко рту.
— Русская народная песня «Барыня», — объявила она таким тоном, словно стояла не на адской сковороде, а на сцене какого-нибудь клуба. — Кстати, плясовая.
Начала она так лихо и задорно, что спустя полминуты некоторые аггелы уже притоптывали в такт музыке. Можно было подумать, что Лилечка дует не в обыкновенную губную гармошку, а в сказочную дудку, заставляющую всех присутствующих помимо воли пускаться в пляс. То ли девушка действительно в совершенстве овладела этим простеньким инструментом, то ли жар сковороды, уже начавший кусать ее за пятки, не позволял играть кое-как.
— Лихая у тебя бикса, — покосившись на Левку, с одобрением сказал Ламех. — Вот только «Барыню» на пару положено плясать. Не желаешь ли присоединиться?
Лапа, зажимавшая Левкин рот, на секунду убралась, что позволило ему произвести в сторону Ламеха прицельный плевок.
— Считаю твою наглую выходку знаком согласия. Посмотрим, кто из вас лучший танцор… — Ламех хотел сказать еще что-то, но, глянув в сторону бассейна, онемел.
У Лилечки, оказывается, уже и так объявился партнер. Был он темен лицом и шкурой, слеп, страшен обликом, но именно поэтому очень подходил к этой сковороде — адское исчадие на адской посудине.
Лилечку варнак успел подхватить под мышку, а сам стоял на горячем железе так же спокойно, словно был обут в асбестовые галоши. Захватив свободной лапой сразу обе цепи, он потянул их на себя и легко сбросил упиравшихся аггелов в бассейн.
— Стреляйте! Чего хавало раскрыли, порчаки позорные! — едва только ситуация выходила из-под контроля, Ламех сразу переходил на привычный ему язык.
Со всех сторон загрохотали пистолеты, но стрелять было уже не в кого. Пули клевали пустую сковороду. Задетый рикошетом, истошно взвыл один из свалившихся в бассейн аггелов. В клубах дыма плясали жирные черные хлопья.
В начавшейся суматохе о Левке как-то забыли. Не совсем, конечно, — пять или шесть аггелов по-прежнему не спускали с него глаз, но испытание на сковородке было отложено.
Ламех, хватанувший целую горсть бдолаха, как бешеный метался по дворику виллы и вымещал свою ярость на подчиненных. Тому из аггелов, который посмел заметить, что попасть из пистолета в варнака еще никому не удавалось, он едва шею не свернул. Успокоить Ламеха смогла только появившаяся на шум Соня-Цилла.
— Ну что тут такого страшного случилось? — рассуждала она. — Верно, смылась девчонка, так ведь мы за ней специально и не охотились. Тебе не об этом надо думать. Тебе надо думать, как Смыка и Зяблика пришить да их оружием завладеть.
— Не пофартит нам, если варнаки с ними заодно, — возразил Ламех. — И когда только они, суки, спеться успели…
— Не иначе как варнаков против нас тот самый Дон Бутадеус подстрекает. Вот уж кого надо было бы к ногтю взять, — лексикончик у Левкиной сестрицы был под стать какой-нибудь бандырше.
— Эх… — Ламех в сердцах махнул рукой. — Мне он давно как кость поперек горла…
— А с этим ты что решил? — Соня-Цилла Левку уже и по имени не называла.
— Сам пока не знаю… — Ламех в задумчивости потер то место на щеке, куда угодил Левкин плевок. — На сковороду поставить? Так варнаки уволокут. Пристрелить? Так ведь еще пригодиться может… Пусть пока в подвале посидит, а там видно будет.
На том и порешили. Левку сволокли в подвал, где под потолком имелось одно-единственное окошечко, решетка которого послужила для крепления цепей. Обувь ему, естественно, не вернули, хорошо хоть верхнюю одежду оставили.
После всех пережитых ужасов Левку потянуло в сон, и он, гремя цепями, как богоборец Прометей, стал устраиваться на ночлег. Пол подвала был каменный, холодный да вдобавок еще и сырой. Пришлось постелить куртку. При этом в ней что-то явственно звякнуло, что весьма удивило Левку, лишившегося при обыске всех металлических предметов, начиная от пистолета и кончая обломком бритвенного лезвия.
После недолгих поисков Левка нащупал в поле куртки некий предмет, формой и размерами соответствующий пресловутому гранатному запалу. Вскоре в вывернутом наизнанку потайном кармане обнаружилась дырка, в которую свободно проходил палец. Получалось, что запал никуда не пропадал, а все эти мучительные минуты находился у него под рукой. Тут уже деликатный Левка не удержался от ругательства.
Надорвав подкладку, он извлек запал на белый свет (который назывался так только по привычке, а на самом деле был тускло-серым, как вода в илистом озерце). Теперь свести счеты с жизнью не представляло никаких трудностей. Но Левка уже передумал. Друзьям он ничего плохого не сделал, а умереть из-за коварства Соньки было бы чересчур большой честью для нее.
При том, что положение Левки оставалось весьма незавидным, настроение его постепенно улучшалось. Лилечка — очень хотелось этому верить — находилась в безопасности, а ему самому не нужно было больше мучиться над неразрешимой проблемой выбора между невольным предательством и невольным убийством. И все было бы хорошо, если бы только не этот сырой подвал, цепи на руках и — в перспективе — раскаленная сковорода.
Он быстро заснул, спал почти без сновидений и был разбужен тяжелыми шаркающими шагами снаружи. Затем в замке заскрипел ключ. (Как уже успел убедиться Левка, все замки, которыми пользовались аггелы, в том числе и тот, что скреплял его цепи, имели товарное клеймо Талашевского завода «Красный штамповщик».) Аггел, посетивший Левкино узилище, мог бы шутя одолеть любого одесского амбала. Плечи его едва проходили в дверной проем, а кулаки были так велики, что вряд ли помещались в карманах. Кроме пистолета за поясом и связки ключей на мизинце левой руки, он имел при себе еще ржавую банку вроде той, из которой хозяйки поят домашнюю птицу, и надорванный пакет сухих овсяных хлопьев.
— Жри, — лаконично сказал он, оставив пайку у порога, а сам принялся внимательно осматривать Левкины цепи.
Кроме редкой физической силы, тюремщик обладал еще и завидной осторожностью. Не лишен он был и практической сметки, о чем свидетельствовало следующее предложение:
— Если у тебя часы остались или рыжье какое, ты мне лучше на хранение сдай. Целее будет. — Сказано это было гнусавым голоском потомственного сифилитика.
Левка выудил из кармана несколько медных монеток — в основном копеек и двушек, — которые и предъявил корыстолюбивому аггелу. Тот озадаченно глянул на Левкину ладонь, потом на самого Левку и, выругавшись, ногой выбил деньги.
Это во многом предопределило его дальнейшую судьбу. Боль в отбитых пальцах вывела из себя даже миролюбивого Левку. Едва только собиравшийся уходить аггел повернулся к дверям, как Лева, сорвав предохранительную чеку, сунул запал в задний карман его брюк. Передвигался аггел тяжело, как бегемот на суше — мешало увесистое мужское хозяйство, не помещавшееся между столбообразных ног. Поэтому за четыре секунды, в течение которых действует замедлитель, он не успел покинуть пределы подвала, чего очень опасался Левка.
Запал рванул — почти как пистолет выстрелил. Жалобно взвыв, детина рухнул на пол. Брюки на его правой ягодице дымились и быстро набухали кровью.
Конечно, Лева и не надеялся прикончить такого бугая одним гранатным запалом. Во время последней кастильской войны бывали случаи, когда талашевские партизаны казнили сходным способом особо зловредных инквизиторов. Но для этого запал забивался глубоко в задний проход осужденного, который потом долго и мучительно умирал от потери крови. Здесь же ставка делалась на то, что человек с развороченной ягодицей на некоторое время утратит способность к сопротивлению.
Расчет Левки на этот раз оправдался. Пока аггел вопил, извиваясь на полу, он успел выхватить у него из-за пояса пистолет, а потом уже спокойно подобрал ключи, отлетевшие в сторону. После этого можно было не торопясь напиться воды из ржавой жестянки.
— Не вопи, — сказал он затем аггелу. — А не то придется тебя добить.
— О-о-о! — выл тот. — Помира-а-аю!
— Не помрешь, — успокоил его Лева. — Там у тебя ни одного крупного сосуда нет. Одно сало.
Сняв ручные кандалы, он под угрозой пистолета попытался нацепить их на раненого аггела, да не получилось — железные браслеты не сходились на широченных запястьях.
— Где сейчас ваши люди? — спросил Лева, убедившись в тщетности своих попыток. — Спать еще не ложились?
— Уже проснулись давно и пошли твоих дружбанов мочить, — ответил аггел, осторожно ощупывая зад. — А-а-а! Сам Ламех их повел.
— А здесь сколько осталось?
— Не считал.
— А если подумать? — Лева ткнул его стволом пистолета в ухо.
— Человек десять. Может, чуть больше.
— Чем они занимаются?
— Я откуда знаю. О-о-о!
— Тебя просили не шуметь. Лежи тихо и тогда жить останешься. А я пойду себе потихоньку.
— У-у-у! — вновь взвыл аггел. — Куда же ты пойдешь, если наверху двое наших дежурят. Они тебя, как блоху, прихлопнут.
— Что-то не очень они спешат тебе на выручку, — засомневался Левка.
— Зачем им в мои дела лезть… Может, я побаловаться с тобой решил. Но уж потом они сюда непременно заявятся. Так что готовься. Отвечать будешь за мою задницу.
— Слушай, ты меня доведешь сейчас! — разозлился Левка. — Уж если мне действительно придется за что-то отвечать, то лучше за твою башку!
Лукавил аггел или говорил правду, осталось неизвестным, однако слова его весьма озадачили Левку.
Покинуть виллу можно было только скрытно. Если же придется затевать наверху перестрелку с часовыми, то, во-первых, еще неясно, чем она кончится (Лева здраво оценивал свои боевые качества), а, во-вторых, пальба разворошит все это осиное гнездо. Попробуй уйди тогда под огнем десятка стволов.
Из тягостной задумчивости Левку вывел раздавшийся в коридоре шум. Неужели аггелы, обеспокоенные долгим отсутствием товарища, и в самом деле идут сюда?
Красноречивым взмахом пистолетного ствола призвав раненого молчать, Левка приготовился к обороне. В такую переделку ему довелось попасть впервые, но ведь когда-нибудь да надо начинать. Или, как ни печально это звучит, заканчивать.
Звуки тем временем приближались, хотя были какими-то странными — как будто кто-то крался по коридору, но одновременно волок на себе шкаф.
— Здесь! — голос был похож на сипение удавленника.
Тут же в каталажку ураганом влетел Толгай с обнаженной саблей в руке. Цыпф едва-едва удержался от выстрела.
— Привет, Левка, — радостно оскалился степняк. — Живой-здоровый? Мой риза… довольный… очень довольный…
За Толгаем в распахнутую дверь ввалился Зяблик, да не один, а на пару с полузадушенным аггелом, горло которого он крепко сжимал локтевым сгибом левой руки. Сразу было ясно, что бдолаха сегодня он отведал вволю.
С первого взгляда оценив обстановку, Зяблик одобрительно кивнул:
— Отвага водку пьет и кандалы рвет. Так Ванька-Каин любил говорить, сущий голубь, кстати говоря, по сравнению с нынешними каинистами… А теперь надо линять отсюда в темпе. Ламех у нас на хвосте висит, да и здесь рогатых хватает.
Как бы в подтверждение его слов снаружи донеслась глухая дробь выстрелов.
— Тиз! — заволновался Толгай. — Быстрее! Смык с бабами япа-ялгыз остался… Один… Помогать надо…
Обоих аггелов, обязанных своими жизнями только мольбам Левки, заперли в подвале, после чего всей гурьбой бросились наверх, где, как пожар на дровяном складе, быстро разгоралась перестрелка.
— А пушка? Где кирквудовская пушка? — не утерпел Лева.
— Разбили мы ее к хренам собачьим! — махнул рукой Зяблик. — Ты ведь к аггелам сбежал… Мало ли как дело могло повернуться.
— Да не сбежал я! — горячо возразил Левка. — Неужели Лилечка не объяснила вам мои обстоятельства!
— О твоих обстоятельствах мы еще поговорим, — Зяблик, остановившись на верхней площадке ведущей во двор лестницы, осторожно выглянул наружу. — В более спокойной обстановке и очень подробно. Но мало тебе не будет, заранее обещаю.
Продолжить угрозы ему помешала пуля, вонзившаяся в дверной косяк. Воспользовавшись паузой, инициативу в разговоре перехватил Цыпф:
— Лилечка здесь?
— Все они здесь. Зашились вон на той стороне. По ним в основном и пуляют.
— А как вы от Ламеха ушли?
— Да, считай, повезло. Варнак Лильку почти к самому лагерю доставил. Правда, сразу же и смылся. Странные чуваки… Она нам все и доложила быстренько. Мы сразу снялись и тикать. Потом Смыков на какую-то башню залез и видит, что аггелы на нашем бывшем месте шуруют. Вот мы и решили… Пока они там, мы сюда наведаемся. Я бы, может, и не пошел тебя, засранца, спасать, но уж больно бабы просили. Но и здесь местечко, гляжу, горячее…
— Уходить отсюда надо, — обижаться на Зяблика Лева не мог. — Если Ламех подоспеет, нам туго придется. Только вот как?
— Есть один план, — процедил сквозь зубы Зяблик и вдруг заорал изо всех сил, чуть не оглушив Левку: — Кончай стрелять, суки рваные! Если не прекратите, я вам баню устрою почище той, что в гавани была. Мы за своим человеком приходили. Если мешать не будете, разойдемся полюбовно. А иначе я тут камня на камне не оставлю. У нас такая штука есть, что от нее даже трехдюймовая броня не спасает. Слыхали, наверно?
Стрельба действительно прекратилась, и с противоположной стороны дворика раздался голос Сони-Циллы, в отсутствии Ламеха, очевидно, принявшей на себя командование аггелами.
— Что же вы тогда из пистолетов палите, а свою грозную штуку в дело не пускаете?
— Да тут, оказывается, и дамочка есть! — удивился Зяблик. — А кто ты, собственно говоря, такая?
— У Левки спроси, — был ответ.
— Сестра это моя, — под грозным взглядом Зяблика Левка потупился. — Стерва та еще. Правая рука у Ламеха.
— И как же твою сестричку обзывать можно?
— Как хочешь. Можно Сонькой, а можно Циллой.
— Ясно, — понимающе кивнул Зяблик. — Сонька Ламехова Ручка… Эй, красавица! — вновь зычно заорал он. — Отвечаю на твой неделикатный вопрос. Я бы, конечно, из этой штуки стрельнул. Мне вас нисколечко не жалко. Мне себя жалко. Штука эта поопаснее водородной бомбы. Не то что нас с вами, а всю эту поганую страну может разнести да еще Гиблую Дыру впридачу. Если не веришь мне, у Левки спроси. Он у нас человек научный. Даже задницу энциклопедией подтирает.
— Лева не обманет. Лева у нас известный правдолюбец, — позволила себе съязвить невидимая Соня-Цилла. — Ладно, пусть скажет что-нибудь…
— Ну-ка, покажи класс, — понизил голос Зяблик. — Задави их ерундицией.
— Э-э-э… — не совсем уверенно начал Лева. — Тот из вас, кто слыхал о принципе причинности, сразу поймет, что может случиться, если в природе нарушатся причинно-следственные связи. Люди превращаются в животных и наоборот. Из могил встают мертвецы. Земля становится водой, вода — огнем, а огонь вообще пустотой. Разрушаются самые глубинные основы мироздания, вплоть до субатомного уровня. Я уже не говорю о возможности наложения на наш мир иных пространств, устроенных принципиально по-другому. Вы, конечно, можете не верить мне. Действительно, раньше такие феномены не были известны науке. Но здесь, в стране будущего, они являются лишь побочным эффектом некогда действовавшей энергетической системы. Впрочем, справедливость моих слов некоторые из ваших коллег испытали на собственной шкуре. Жаль, что они уже никогда не смогут подтвердить это.
— Вот так-то! — веско добавил Зяблик. — Нам терять нечего. Сейчас мы уходим и даже согласия вашего не спрашиваем. Но если хоть один здешний халамидник попробует встать у нас на дороге, ни Бог, ни черт, ни Каин вам уже не помогут. Секир-башка, как говорят мои друзья нехристи… Палец я все время буду держать на спуске, учтите.
— Что ты задумал? — прошептал растерянный Цыпф. — Пушки-то у нас нет.
— Не твое дело. На, причастись, — Зяблик сунул ему пригоршню бдолаха. — Кроме большого ума, нужно иметь еще и небольшую смекалку.
Отыскав поблизости кусок ржавой трубы, он выровнял ее на колене, а сверху набросил свою куртку. Получилось что-то похожее на замаскированный обрез, из которого в итальянских фильмах мафиози убивают представителей прогрессивной общественности, а также честных прокуроров.
— За мной! — Зяблик смело шагнул вперед и направил свое блеф-оружие в ту сторону, откуда до этого раздавался голос Сони-Циллы. — Смыков, где ты?
— Здесь, — глухо донеслось из какого-то окна.
— Веди свое войско к воротам! Живо, пока у меня палец на спуске не сомлел.
Лязгнула одна из многих дверей, выходящих во дворик, и возглавляемый Смыковым женский отряд трусцой двинулся к воротам. Сам он держал пистолет стволом вверх, Верка целилась неизвестно в кого, а глядя на Лилечку, можно было подумать, что та сама собирается застрелиться.
— Подождите немного, — голос Сони-Циллы звучал уже не так уверенно, как раньше. — Одно условие. Вы собирались на родину, вот и ступайте туда. До границы здесь рукой подать, а там уже сами разбирайтесь. Но ни в коем разе не смейте возвращаться в глубь страны.
Ватага уже покинула дворик, отстал лишь пятившийся задом наперед Зяблик. Ему-то и пришлось отвечать за всех:
— Ничего не могу обещать, лярва рогатая. Но честно скажу: ложил я на эту страну с прибором. В следующий раз меня сюда и калачом не заманишь. Счастливо оставаться.
Удалившись от злосчастной виллы метров на пятьсот, Зяблик без сожаления забросил трубу в кусты и вновь облачился в куртку, изрядно перепачканную ржавчиной. Тем членам ватаги, которые были не в курсе его последней авантюры, Зяблик небрежно объяснил:
— На понт я аггелов взял, ясно? Они же Горыныча в натуре не видели, ну если только издали. Вот их мандраж и пробрал. Кому охота из человека в жабу превратиться или в семимерном мире век коротать?
— Оно-то, может, и так, — произнес Смыков с сомнением. — Но боюсь, что гражданин Ламех их от мандража скоро вылечит. И попрут тогда за нами аггелы полным своим составом.
— Следов не надо оставлять! — огрызнулся Зяблик. — И шуметь поменьше. А то топочете, как солдаты в бане… Эй, Чмыхало! — обратился он к степняку. — Сонгы будешь… Последним то есть… Следы заметать… Эзне югалту… Понял?
— Моя понял, — кивнул Толгай с меланхолическим видом. — Я всегда сонгы… Спать — сонгы… Кашу есть — сонгы… Убегать — сонгы…
Лилечка и Цыпф шли, держась за руки. Даже опасность, на манер домоклова меча продолжавшая висеть над ватагой, не мешала их милой беседе.
— Если бы ты знала, как я испугался, когда тебя поймали аггелы! — вздыхал Лева.
— А я вот нисколечко! Верила, что варнаки меня обязательно выручат. Правда, когда аггел гармошку отобрал, испугалась чуть-чуть… Кстати, когда мы опять в том мраке оказались, где варнаки живут, я их умоляла за тобой вернуться. Да где там… Не понимают они по-русски. Хорошо хоть меня к самому лагерю доставили.
— Неравнодушны они к тебе… С чего бы это? — в голосе Левы сквозило плохо скрытое раздражение.
— Уж договаривай, если начал, ревнивец, — похоже, что Лилечкино хорошее настроение сегодня нельзя было поколебать ничем. — Да, неравнодушны… Но совсем не потому, о чем ты думаешь. Между прочим, они и не мужчины вовсе.
— А кто? — усомнился Левка. — Женщины, скажешь?
— Ни то и ни другое. И сразу все вместе. Как это называется?
— Гермафродиты, что ли?
— Вот-вот! Мне дядя Тема именно так и говорил. Очень живучий народ. Приспособились в своем пекле ко всяким напастям. Даже если один-единственный из них на свете останется, род все равно не прервется. В случае крайней нужды варнак сам себя оплодотворить может.
Ватага шла быстро, чуть ли не бежала. Переместившийся в голову колонны Зяблик выбирал путь, отдавая предпочтение мощеным участкам, а если какой-то след все же оставался, его старательно заметал пучком веток Толгай, шедший в арьергарде. С общего согласия привал решили не делать, дабы осилить за один прием сразу два перехода. История Левкиных злоключений была принята в общем-то сочувственно. От комментариев не удержался только Смыков:
— Вы, товарищ Цыпф, типичный представитель так называемой гнилой интеллигенции. Из вашей среды вышли все крупнейшие политические ренегаты. Что вы тут ни говорите, а на досуге необходимо всерьез разобраться с вашими истинными убеждениями…
Вскоре разговор коснулся условий, выдвинутых напоследок Соней-Циллой.
— Зачем, спрашивается, они нас так упорно выпроваживают из Будетляндии? — Смыкова, как всегда, грызли сомнения.
— Осточертели мы им здесь, вот и все! — высказалась Верка.
— Чертям нельзя осточертеть, — возразил Смыков. — Не из тех они, кто врага вот так запросто отпускает. Есть тут, видно, какая-то каверза.
— Каверза тут простая, — сказал Цыпф. — Выдвинув такое условие, она рассчитывала, что мы непременно поступим наоборот и вернемся в Будетляндию, где аггелы вновь попытаются рассчитаться с нами.
— Сестрица твоя баба тертая, — включился в разговор Зяблик. — В натуре человеческой толк понимает, как и всякая стерва. Специально сказала «уходите», чтобы мы решили, будто нас заманивают обратно, и по этой причине действительно ушли из Будетляндии.
— Ну это уже похоже на детскую игру «веришь — не веришь», — развела руками Верка. — Кто кого на обман возьмет.
— Да и бес с ним, — сказал Смыков. — Не это сейчас главное. Главное, от аггелов оторваться. А уж как до границы дойдем, там все и обсудим.
Разговоры на этом и в самом деле прекратились — темп ходьбы не располагал к пустой болтовне. Несколько раз Смыков самоотверженно взбирался на господствующие над местностью сооружения, но никаких признаков погони не обнаружил. Все вокруг будто бы вымерло.
Для пущей скрытности ватага проделала часть пути по эстакаде, вознесенной высоко над землей и являвшейся элементом сложнейшей дорожной развязки. Дожди и ветры не позволяли пыли задерживаться здесь, а потому опасность наследить отсутствовала.
По истечении двенадцатого часа непрерывной ходьбы Смыков подал наконец команду на отдых. На сей раз приют им предоставило какое-то культовое сооружение, если судить по архитектуре — христианский храм, чему, впрочем, противоречила странная символика на шпилях, объединявшая в единое целое крест, полумесяц и шестиконечную звезду. Это здание имело целый ряд преимуществ, весьма немаловажных для беглецов: мощные входные двери, способные устоять даже перед противотанковой гранатой, цокольный этаж, из которого в разные концы расходились коммуникационные туннели, и, наконец, прекрасный обзор, открывавшийся с центральной башни.
Приемник кирквудовской энергии удалился сейчас на расстояние, вновь делавшее его похожим на ажурную паутину, а вовсе не на брошенный в небеса рыбачий невод. В том направлении, куда двигалась ватага, простиралась плоская, безлесая пустыня, явно уже не принадлежавшая к Будетляндии. Зрелище было малопривлекательное — унылое серое небо над некрасивой серой землей.
— Я вообще-то предполагал, что отсюда мы попадем прямо в Гиблую Дыру, — сказал Смыков, вглядываясь в даль.
— Нет, — покачал головой Цыпф. — Эрикс, царство ему небесное, упоминал еще какую-то страну, по своим природным условиям мало чем отличающуюся от Нейтральной зоны.
— Далека ты, путь-дорожка, — тяжело вздохнул Смыков.
Усталость быстро сморила людей, но уже через пару часов всех разбудили причитания Толгая, стоявшего в карауле:
— Ой, беда… Янчын… Огонь… Небо горит… И действительно, узкая полоска неба над неведомой страной тлела, как угли догорающего костра. Для людей, давно позабывших о звездах и светилах, зрелище было столь же непривычным, как для туарега, рожденного в сердце Сахары, — снежная метель.
— Что такое! — протер глаза Зяблик. — Я такой фигни отродясь не видел!
— А вдруг это солнышко встает! — воскликнула Лилечка.
— Брось, подруга, — осадила ее Верка. — Совсем ты запамятовала, какое оно, солнышко. На зарю это похоже, как попойка на святое причастие.
— Не полярное ли это сияние? — предположил Смыков. — Кто наблюдал полярное сияние?
— Я наблюдал, — сплюнул Зяблик. — В Воркуте такой радости от пуза. Но тут ничего общего. Да и какое сейчас, едрена вошь, может быть полярное сияние!
— Знаете, а по описаниям очень похоже, — неуверенно заметил Цыпф. — Историки сообщают, что подобные явления предшествовали многим печальным событиям, в том числе разрушению Иерусалима и убийству Цезаря.
— По описаниям кошка на тигра похожа, — возразил Зяблик. — Кто полярное сияние сам не видел, тот меня не поймет. Не оно это, ясно! Голову даю на отсечение.
— Знаете, что мне это больше всего напоминает? — задумчиво сказала Верка.
— Пожар. Очень большой пожар. Когда ночью лес или степь горят, на небе точно такие сполохи бывают.
— То ночью, — буркнул Смыков. Зяблик же возразил Верке с неожиданной горячностью:
— Пожар, говоришь? Да не бывает таких пожаров! Ты только глянь, небо через весь горизонт светится! Каким же этот пожар должен быть? На тысячу верст? А чему в Гиблой Дыре гореть? Или в той же Нейтральной зоне? Воде гнилой? Песку? Камню? Да и гарью совсем не пахнет. Насмотрелся я в Сибири на лесные пожары. Если в Забайкалье горело, то дым над Ангарой стоял. Дышать нечем было, хоть противогаз надевай.
— Все ты на свете видел, — сочувственно вздохнула Верка. — И полярное сияние в Воркуте, и лесные пожары в Сибири. А про тропический тайфун ничего не расскажешь?
— Ничего! — ответил Зяблик вполне серьезно. — Я в тех краях не сидел. Ты про тайфуны лучше у Смыкова спроси.
Загадочное сияние между тем постепенно разгоралось и вскоре из багрового превратилось в золотистое (не став от этого менее тревожным). Так и не найдя сему феномену более или менее правдоподобного объяснения, ватага возобновила прерванный сон. Наблюдение за пылающим горизонтом было поручено очередному караульному, которым по иронии судьбы оказался Лева Цыпф.
Перед тем как уснуть, Смыков строго сказал:
— Сами понимаете, что от вас требуется неусыпное внимание. Глядите в оба. Не игнорируйте никаких мелочей.
— Извините… — замялся Лев?. — У меня зрение не очень… Я очки потерял…
— Потерял, как же… — Порывшись в карманах, Смыков протянул Левке его очки. — Возьмите и больше личными вещами не разбрасывайтесь.
— Ох, спасибо! — обрадовался Лева.
— Не меня благодарите, а Зяблика… Он на них чуть не наступил.
— Когда в Отчину вернемся, литр поставишь, — сонно буркнул Зяблик. — Нет, лучше два…
За завтраком выяснилось, что небо светилось еще некоторое время и, по часам Смыкова, погасло где-то в половине четвертого утра. Погасло быстро, в течение считанных минут, и с тех пор над неведомой страной висела обычная серая муть. Никаких других чрезвычайных происшествий за время ночевки не случилось. Похоже было, что аггелы действительно оставили их в покое или, что выглядело более правдоподобно, попросту потеряли след беглецов.
Хотя Смыков высказывался в том смысле, что надо бы устроить Левке Цыпфу товарищеский суд да еще такой, чтоб другим впредь неповадно было, начавшиеся сразу после завтрака хозяйственные хлопоты поглотили ватагу целиком и полностью. Перед походом в неизведанную страну необходимо было запастись провиантом и кое-каким имуществом, в Отчине являвшимся большим дефицитом. Воды решили взять в обрез — только личные фляги и небольшой неприкосновенный запас. Лучше вернуться с полдороги назад, чем тащить на себе бесполезный груз. В конце концов, даже в абсолютно безжизненной Нейтральной зоне проблем с утолением жажды никогда не возникало.
Около восьми часов вечера полоса неба над горизонтом опять посветлела, медленно налилась тусклым огнем, около часа посияла чистым золотом и затем угасла, сделав привычные тоскливые сумерки еще более мерзкими.
Осторожный Смыков предложил переждать в Будетляндии еще одни сутки. По истечении этих суток, внешне спокойных, но муторных, как и любое ожидание, выяснилось, что загадочные сполохи появляются регулярно через каждые шестнадцать часов плюс-минус пять минут, что, впрочем, можно было списать на погрешности в наблюдениях, связанные с нестабильным состоянием атмосферы. Следовательно, явление это, тут же названное «лжезарей», имело явно выраженный циклический характер, в неживой природе обусловленный только влиянием космических факторов. Впрочем, точно с таким же успехом это могли быть не поддающиеся человеческому осмыслению последствия краха кирквудовской энергетики, что-то вроде иномерного янтаря или живого свечения в подземельях. Короче говоря, поход начинался без особого энтузиазма и даже с опаской.
— Да что, вы в самом деле, менжуетесь! — сказал Зяблик, поправляя на спине внушительных размеров дорожную укладку. — Запеченный таракан жара не боится. Прорвемся как-нибудь. Бдолах с нами, да и Лилькина гармошка кое-что значит.
Идти решили короткими переходами, всякий раз предварительно высылая вперед разведчика. Меры предосторожности, конечно, были беспрецедентные — такое до этого не практиковалось даже в Нейтральной зоне. Смыкову вменялось в правило вести подробный дневник похода с указанием всех мало-мальски значительных ориентиров. Он же отвечал за сохранность бдолаха. Штатными дозорными выбрали Зяблика и Толгая, а это означало, что каждому из них придется пройти расстояние как минимум вдвое большее, чем остальным. Прочие члены ватаги дополнительными обязанностями не обременялись — и обычных с лихвой хватало.
Уже несколько часов спустя, когда башни экуменистического (Экуменизм — учение, ставившее перед собой задачу объединения всех религий.) храма исчезли из поля зрения и о Будетляндии напоминал только раскинувшийся над ее центром сетчатый шатер, окружающий пейзаж стал меняться. Исчезла всякая растительность, включая мхи и лишайники. Исчезли ручьи, озерца и лужи. Исчезла даже почва в привычном понимании этого слова — то, что хрустело под ногами, походило не на песок, не на щебень, а скорее на шлак. С видом знатока поковырявшись в нем, Цыпф сообщил, что не видит здесь никаких аналогий с первичным грунтом Нейтральной зоны.
— И вообще у меня создается впечатление, что мы попали на неизвестно для чего созданный плац, совсем недавно выровненный бульдозерами и катками, — Лева вытер о штаны свои пальцы, перепачканные так, словно он копался в печном дымоходе.
В середине дня сделали привал и выслали на разведку Толгая. Фигура его, постепенно уменьшаясь, долго маячила впереди, пока не превратилась в точку, почти не различимую на фоне серой равнины.
Первая запись, сделанная Смыковым в дневнике похода, была такова: «Прошли примерно пятнадцать километров. Ориентиров нет. Признаков воды нет. Вообще ничего нет, что и является единственной достойной упоминания особенностью этой страны».
Едва успели перекусить, как начал сеять дождь, противный, как и все здесь. Выставив под его струи пустые котелки, ватага сбилась в кучу и накрылась единственной плащ-палаткой. Зяблику немедленно захотелось курить, но все, кроме дипломатично промолчавшей Верки, воспротивились.
— Терпеть надо! — заявил Смыков. — Это место общественного пользования, а не ресторан и не номер-люкс в гостинице. Уважайте мнение большинства.
— Можно подумать, что ты, Смыков, в номерах-люкс бывал! — фыркнул Зяблик.
— Да тебя в приличную гостиницу дальше швейцара не пустят. И даже твое служебное удостоверение не поможет.
— Заблуждаетесь, братец вы мой, — ответил Смыков гордо. — Сам я действительно в таких гостиницах не бывал, ни к чему мне это, но один мой приятель прожил в номере-люкс целых две недели. И все мне потом подробно рассказал. Представляете, он в сутки платил семнадцать сорок!
— Смыков, не бывает таких гостиниц, — усомнилась Верка. — В Талашевске лучший номер от силы рубль двадцать стоил. Так там белье каждое утро меняли и туалетную бумагу бесплатно выдавали.
— Мало вы что о жизни знаете, Вера Ивановна, — с видом превосходства усмехнулся Смыков. — Есть такая гостиница, чтоб мне на этом месте провалиться. Правда, не у нас, а в Москве. «Россия» называется.
— И какой же бурей твоего приятеля туда занесло?
— Случайно, скажем так. Его из Талашевска в Саранск на переподготовку направили. В те времена там располагалась межреспубликанская учебная база вневедомственной охраны.
— Сторожем твой приятель, значит, был? — не унималась Верка.
— Почему сторожем! В ночной милиции инспектором. Должность, конечно, не ахти какая, но тем не менее при форме, при льготах. До этого он, правда, вместе со мной в следствии работал, но погорел по собственной глупости.
— Не тому, кому надо, дело пришил? — ухмыльнулся Зяблик.
— Как раз и нет. Язык за зубами по пьянке держать не мог… Ну и стишки всякие, в основном сомнительного содержания, любил цитировать. Помню, было у нас в райотделе торжественное мероприятие по случаю дня милиции. Совместно с представителями партийных органов, суда и прокураторы. Сначала, конечно, официальная часть, а потом банкет. Перекушал мой друг Серега дармового коньяка и давай в полный голос читать. Кстати, к сочинительству стихов он сам отношения не имел. Как впоследствии выяснила особая инспекция, они и раньше в списках ходили. Под названием «Парад милиции». Сплошное очернительство и клевета.
— Послушать бы, — сказала Верка. — Тогда и разберемся, где клевета, а где истинная правда.
— Полностью я этих стихов, конечно, не помню… Ну если только парочку строк…
— Ладно, не ломайся, как барышня!
Смыков по привычке откашлялся и, запинаясь чуть ли не на каждой строчке, продекламировал безо всякого выражения:
…Колонна за колонной, За рядом ряд,
Родная милиция Выходит на парад.
У всех в строю Суровые лица.
Все как один Хотят похмелиться.
Впереди шагает Группа дознания,
Пьющая водку До бессознания.
За ними вслед — Отдел БХСС,
Который и пьет За чужое и ест.
А вот приближаются Инспектора ГАИ,
Готовые пропить Даже души свои…
— Рифмы хромают, но содержание глубокое, — похвалил Зяблик. — А дальше?
— Дальше не помню, — отрезал Смыков. — Но все в том же духе вплоть до госпожнадзора и паспортного стола. Кончается стихотворение примерно так: «А за работниками следствия, берущими взятки без последствия, шатаясь после кутежа, бредут ночные сторожа». Это он как раз вневедомственную охрану имел в виду. Резонанс, конечно, получился соответствующий. Но еще до того, как Серегу с банкета выпроводили, начальник райотдела сказал: «Раз ты так неуважительно о следствии выразился, то и ступай себе в ночные сторожа». Наутро уже и приказ был готов. Формулировка. стандартная. За моральное разложение и личную недисциплинированность, выразившуюся в том-то и том-то, понизить такого-то в звании и откомандировать в распоряжение отдела вневедомственной охраны…
— Смыков, мне про ваши милициейские попойки опротивело слушать, — перебила его Верка. — Ты же про гостиницу начал. В которой номер семнадцать сорок стоит.
— Сейчас будет про гостиницу, — успокоил ее Смыков. — Как я вас уже информировал, первым делом Серегу направили в город Саранск на переподготовку. В Москве пересадка. А он до этого в столице был только проездом. Вот и решил на пару деньков подзадержаться. Осмотреть памятные места и сделать кое-какие покупки для семьи, на что жена отвалила ему целых двести рублей. Родных и знакомых у него в Москве не имелось, но добрые люди дали адресок одной дамочки. Она в гостинице «Москва» какой-то мелкой сошкой служила. Не то дежурной администраторшей, не то старшей горничной. Серега ей предварительно позвонил с Белорусского вокзала и на метро отбыл к месту назначения.
— В форме? — поинтересовался Зяблик.
— В штатском. Форму он в чемоданчике вез. Дама эта его уже в фойе поджидает.
— Красивая? — не выдержала Верка.
— Так себе. Там красавиц в администраторши не берут.
— Почему?
— А почему улицы булыгами мостят, а не бриллиантами? Чтоб соблазна никому лишнего не было… Но вы меня, пожалуйста, не сбивайте. Администраторша у Сереги интересуется, какой ему номер желателен — обычный или получше? А он мужик с гонором, хоть и провинциал. Возьми и брякни: «Мне самый лучший». Администраторша обещает поселить его в люкс и сообщает цену: «Устраивает?» Его это, конечно, не устраивает, но отступать поздно. Да и кое-какие деньги все же имеются.
— Чувствую, Смыков, не про гостиницу ты нам хочешь рассказать, а про гостиничный разврат, — догадалась Верка.
— Само собой, — согласился Смыков. — Какая же гостиница без разврата!
— Может, я лучше пойду Толгая встречу? — предложила заранее смущенная Лилечка.
— Дождь ведь, — стал увещевать ее Цыпф. — Еще простудишься ненароком.
— Сиди уж, — покосился на девушку Смыков. — Я без подробностей буду рассказывать. В общих чертах… Поднимается, значит, Сергей в свой люкс на лифте. На пару с лифтершей, можете себе представить. Та ему нагло строит глазки и делает всякие намеки. Дескать, как вы собираетесь в столице развлекаться. «Обыкновенно, — отвечает Серега. — Имею намерение посетить Мавзолей, ГУМ и ВДНХ. Ну еще, может, Музей революции, если время останется». Лифтерша на него, как на психа, вылупилась. У публики, которая в люксах обитает, обычно запросы другие. Серега — парень сообразительный и, оценив ситуацию, спрашивает: «А что вы можете предложить?» «Да что угодно! — та отвечает. — Но главным образом то, чего так не хватает одиноким мужчинам». Тут лифт до нужного этажа дошел, и разговор прервался…
— Ну-у-у, — недовольно протянул Зяблик. — А я-то думал, что он ее прямо в лифте трахнет.
— У вас, братец мой, одно только на уме, — поморщился Смыков. — Лифтерша при исполнении, ее трогать не полагается…
Короче говоря, осмотрел Серега свои новые апартаменты, а это целая квартира с роскошной мебелью, засадил бутылку водки, которую с собой прихватил, и застосковал…
— И мысли его устремились в соответствующем направлении, — подсказала Верка.
— Мужскую натуру вы, Вера Ивановна, неплохо понимаете. Видно, недаром королевой у арапов были. Не прошло и часа, как Серега снова оказался в лифте и принялся выяснять, что, собственно говоря, лифтерша имела в виду, когда про одиноких мужчин говорила. Та ему открытым текстом объясняет, что имела в виду особый род женских услуг, который оплачивается по специальному тарифу. «Если желаете девочку в номер, мы это сейчас устроим». — «Желаю!» — соглашается Серега. «Какую вам?» — «А что, у вас разные есть?» — «На любой вкус. Брюнетки, блондинки, рыжие. Полные, худые, средней упитанности. Искушенные в любви и совсем неопытные. Домохозяйки и профессорши. Садистки и мазохистки. Есть даже азиатки и негритянки из Университета дружбы народов».
— И он, конечно, выбрал негритянку, — пригорюнилась Верка.
— Нет. Отечественную блондинку. Молодую, не очень полную, но с большой грудью и соответствующим задом. Сказал, что образование значения не имеет, но справка из венерического диспансера не помешала бы. Лифтерша только фыркнула и говорит: «У нас товар высшей категории, можете не сомневаться. Идите в номер и ожидайте. Заодно приготовьте пятьдесят рублей».
— Пятьдесят! — ужаснулась Верка. — Да я на скорой помощи семьдесят четыре получала с премиальными! И хорошим мужикам бесплатно давала!
— Слушай, заткнись, — попросил Зяблик. — То, что ты дура бескорыстная, и так все знают.
— Что уж тут, Вера Ивановна, о деньгах жалеть, — с непонятной печалью вздохнул Смыков. — Снявши голову по волосам не плачут… Сидит, значит, Серега в своем номере и, естественно, волнуется. Проходит примерно час. Звонок в дверь. Является лифтерша. С девицей. Все как по заказу. Вдобавок еще пачка презервативов. Затем лифтерша вместе с полестней исчезает. Девица очень художественно раздевается. Стриптиз называется.
— Как? — не поняла Лилечка.
— Стриптиз, — повторил Смыков. — Буржуазное изобретение. Для предварительного возбуждения, так сказать, низменных чувств мужчины. У нас легально не практиковался.
— Еще бы! — хохотнула Верка. — Представляю стриптизершу в рейтузах фабрики «Большевичка».
— Ладно… — неодобрительно глянул на нее Смыков. — Важны не рейтузы, а то, что под ними… Далее следует ночь любви. В разнообразных позах и со всякими ухищрениями, известными советскому народу. Рано утром блондинка уходит. Ей, видите ли, нужно в институт на первую пару успеть. Серега весь день отсыпается, восстанавливает силы шампанским и домашней колбасой, а под вечер опять бежит к лифтерше. Требует ту же самую блондинку, которая крепко запала ему в душу. Ответ отрицательный. «Проси любую другую, хоть персидскую княжну, но прежней девчонки ты уже не увидишь. Ни за какие деньги. Такой у нас здесь порядок заведен».
— Не повезло твоему дружку, — посочувствовала Верка.
— И не говорите! Горю Сереги нет границ, и, чтобы хоть немного его развеять, он тут же заказывает худую брюнетку средних лет с мазохистскими наклонностями.
— Смыков! — вновь прервала его Верка. — Я тебе таких историй могу рассказать вагон и маленькую тележку! Что из того? Где тут мораль?
— Вы, Вера Ивановна, мораль в басне ищите, а это жизненная история… Ну а уж если вы без морали не можете, то она состоит в том, что Серега прожил в гостинице не двое суток, как собирался, а две недели. Спустил все деньги и четыре раза телеграфировал друзьям в Талашевск по поводу финансовой помощи. В учебном центре получил выговор за опоздание, но даже не почесался. А когда вернулся домой, в узком кругу сказал:
«Год буду отдавать долги. Следующий год — копить деньги. А потом опять поселюсь в номере-люкс гостиницы „Россия“».
— Баб, выходит, он там не всех перебрал, — сказала Верка.
— Не всех, но многих. Один его заказ, кстати, так и не выполнили.
— Какой, интересно? Юную пионерку с большими сиськами и садистскими наклонностями?
— Нет. С малолетками там, наоборот, никаких проблем не было… Просто ему после одной эстонки захотелось вдруг цыганку и чтобы та, сидя на нем, непременно исполняла под гитару романсы.
— Нет таких, значит, в Москве?
— Может, и есть, да только за один день не нашли.
— История вполне правдоподобная, — Зяблик лукаво прижмурился. — Только чует моя душа, что в гостинице «Россия» жил не какой-то там Серега, а ты сам, Смыков.
Все так увлеклись болтовней, что даже не заметили, как вернулся насквозь промокший Толгай.
— Везде был, — сказал он, тыча пальцем в разные стороны. — Прямо был… Туда был… Бушлык! Пустое место… Мертвый место…
— Но идти-то вперед все равно надо. Хоть по мертвому, хоть по живому, — Смыков глянул на часы. — Или сначала лжезарю понаблюдаем? Недолго осталось.
— Можно и понаблюдать, — лениво согласился Зяблик. — Не жизнь, а лафа. Сначала сказки слушали, а сейчас бесплатное кино смотреть будем… Между прочим, Смыков, могу тебе для справки авторитетно сообщить, что ничего такого сверхъестественного у этих цыганок нет. Сам я их не пробовал, но от одного железнодорожного ревизора слыхал. Припутал он в скором поезде одну безбилетную цыганочку. Штраф она платить не хочет, но на все остальное вроде согласная. И был тот ревизор, между прочим, в новых лакированных туфлях. Все купе заняты, в том числе и служебное. Пришлось цыганочку в туалет затащить. А какая там любовь может быть, сам понимаешь. Но ничего, оба стараются. И вот в самый разгар этих дел ревизор замечает, что его туфли как бы пудрой кто досыпал и слой этот раз за разом становится все гуще.
— Вот это жеребец! — похвалила Верка. — Так бабу приласкать, чтобы у нее с лица пудра посыпалась! Уметь надо!
— Да не пудра это была, а перхоть! — сардонически ухмыльнулся Зяблик. — И не с лица она сыпалась и даже не с головы, а совсем с другого места!
— Нет, вы как хотите, а я пройдусь, — не выдержала Лилечка. — Одна на небо полюбуюсь…
На горизонте там и сям уже вспыхивали тусклые зарницы, похожие на отблески далекой грозы…
Спустя двое суток, однообразных, как и все в этом мире (с легкой руки Толгая получившем название «Бушлык»), отправлявшемуся в очередной дозор Смыкову посчастливилось обнаружить некое загадочное сооружение, вызвавшее всеобщее настороженное любопытство.
Часть его изломанных остатков торчала над уровнем земли, а часть вплавилась глубоко в шлакообразный грунт. Вследствие всего этого судить о первоначальной форме и назначении находки было почти невозможно, однако многое говорило за то, что это летательный аппарат будетлян, рухнувший с неба в момент Великого Затмения. Структура его обшивки и некоторые конструктивные особенности (отсутствие всяких швов, например) очень напоминали боевую машину, с которой в свое время ватаге пришлось немало повозиться.
— Махина, — присвистнул Зяблик. — Наверное, не одна тыща пассажиров помещалась. Глянь, сколько иллюминаторов. В десять рядов.
— Н-да-а… И грохнулась эта махина, по-видимому, на подлете к аэродрому,
— заметил Смыков. — В противном случае ее бы на двадцать километров раскидало.
— Давайте не будем уподобляться дикарям, обсуждающим причины крушения парохода «Титаник», — вмешался Цыпф, вновь обретший душевный покой, а вместе с ним и склонность к дидактизму. — Не нашего ума это дело. Вопрос другой: имеет ли нам смысл торчать здесь. Что, если эта штука была снабжена ядерным двигателем? А вдруг всех нас в это время пронизывает радиоактивное излучение?
— Пусть пронизывает, — беспечно ответил Зяблик. — В Нейтральной зоне нас еще и не то пронизывало… И ничего, оклемались. Надо бы вовнутрь заглянуть. Как ты, Смыков, мыслишь?
— Заглядывайте, если вам собственной жизни не жалко, — Смыков пожал плечами.
С помощью Толгая, привычно подставившего спину, Зяблик дотянулся до овального отверстия в обшивке будетляндского авиалайнера и, раскачавшись, рывком забросил в него свое тело. Вниз посыпалась всякая труха, пахнущая резиной и железной окалиной.
— Неймется человеку, — вздохнула Верка. — Как таракан, ни одной щели пропустить не может.
— Это у него после зоны такая привычка осталась, — пояснил Смыков. — Недаром ведь полжизни в камере просидел. У Эрикса была болезнь закрытого пространства, а у Зяблика, наоборот, непреодолимая тяга к нему.
— Ну-ну, поговорите там еще! — приглушенный голос Зяблика раздавался уже совсем не из того отверстия, через которое он проник вовнутрь. — Я все слышу и за таракана тебе, Верка, не прощу. Если я таракан, то ты вошь тифозная.
— Нашли вы там что-нибудь интересное? — без особого любопытства поинтересовался Смыков.
— Ни фига… Прах и пепел. Да и темновато тут…
— Тогда вылазьте. Нечего здесь попусту задерживаться.
— Погоди… Вроде что-то написано на стенке… Сейчас…
— Да вы, никак, уже и по-будетляндски читать научились! — съязвил Смыков.
— По-нашему написано… Большущими буквами от руки… Только читать все равно трудно. Одно слово пока только разобрал: «Спастись». Или «Не спастись». Потом что-то про огненный пролив… не то прилив… Киньте мне кресало и тряпок каких-нибудь. Я факел сделаю.
— Где же я вам эти тряпки возьму? — возмутился Смыков. — С себя, что ли, последнее снять?
— Попроси у Верки запасной лифчик. Она их с собой штук пять прет.
— Больше ничего не хочешь? — отозвалась Верка. — Это ты умеешь, на чужое добро зариться! Лучше из своих подштанников факел сделай.
В конце концов решено было пожертвовать одним из полотенец, которое Толгай и подал Зяблику на кончике сабли. Минут на пять внутри разбитого авиалайнера установилась тишина.
— Возможно, эту надпись оставил кто-то из людей Сарычева, — предположил Цыпф. — Или один из разведчиков, которых мы посылали вслед за ними.
— Дураков, которые стены пачкают, всегда хватало, — Смыков недовольно поморщился. — Что у нас, что у других народов. Как только научились люди писать, сразу давай мазать на чем ни попадя. Я в Кастилии на стене монастыря такую надпись видел: «Храни нас, Господи, от твоего гнева, от козней дьявола, от скудной пищи, от нехватки вина и от половой слабости». Не иначе как монахи написали.
Сверху вновь посыпалась труха, и на землю ловко спрыгнул Зяблик, похожий на трубочиста.
— Ну и как? — поинтересовался Цыпф. — Выяснили что-нибудь?
— Значит, так. — Зяблик принялся стряхивать с себя сажу. — Если я правильно понял, смысл надписи состоит в том, что дальше идти опасно. Сюда якобы приходит огненный прилив, спастись от которого нет никакой возможности. Ну а дальше обычные славословия в честь Каина.
— Аггелы, стало быть, писали, — сказал Смыков многозначительно.
— Они, родимые.
— Ну это вполне объяснимо. Помните, как раньше на калитках писали: «Осторожно, злая собака»? А в доме никого, кроме кота ленивого, нет. Аггелы это предупреждение дали, чтобы посторонних от Будетляндии отгонять. Дескать, дальше не суйтесь, если жить хотите.
— Предупреждение снаружи пишется, а не внутри, — возразил Цыпф. — Да и спорный вопрос, для кого оно оставлено. Для тех, кто сюда идет, или для тех, кто отсюда уходит.
— Что вы хотите сказать? — вскипел Смыков. — Что дальше идти нельзя? Может, жить здесь останемся? Или обратно пойдем, к аггелам в лапы?
На некоторое время установилось тягостное молчание. Люди переминались с ноги на ногу и вопросительно переглядывались.
— Скажи что-нибудь, Зяблик, — попросила Верка. — Ты же там был… какое лично у тебя впечатление осталось?
— Я в общем-то человек маловпечатлительный, — Зяблик выковыривал сажу уже из ушей. — Но от того же старовера Силкина усвоил мысль, что есть такие знамения на земле и небе, от которых нельзя отворачиваться… И эта надпись, в самую масть. Ее человек перед смертью писал. И скорее всего своей кровью.
— С чего вы, братец мой, так решили? — не унимался Смыков.
— Кровь от поноса я пока еще отличить могу… А что касаемо остального… Странная очень надпись. Сначала все буквы ясные, потом похуже, будто бы в спешке писались, а дальше одна мазня сикось-накось… Кроме имени Каина, ничего и не разберешь. Да и жмурик там рядом лежит. Шмотки истлели, а сам высох, как деревяшка. Мумия, одним словом.
— Рога у него есть? — поинтересовался Цыпф.
— Не стал я его трогать. Плохая это примета — мертвецов зря беспокоить… Там дальше этих мумий, как пчел в улье… Есть такие ульи, в которых восковая огневка погуляла. Откроешь крышку, а внутри все паутиной затянуто, и в этой паутине дохлые высохшие пчелы висят.
— Что же нам делать? — голосок Лилечки дрогнул. — Я назад идти не хочу.
— Никто не хочет, — кивнул Зяблик. — Я вас отговаривать и не собираюсь. Не к лицу мне скеса валять, если даже Смыков вперед рвется. Давайте еще раз с судьбой в рулетку сыграем.
— Ну уж нет! — встрепенулся Смыков. — Чтобы потом не искать виновных, давайте лучше поставим вопрос на голосование.
За продолжение похода проголосовали все без исключения, но как-то вяло. Сразу руки подняли только Смыков и Лилечка, чуть погодя Зяблик с Толгаем, а уж в конце — Цыпф и Верка, понявшие, что ничего изменить они уже не смогут.
На всякий случай проглотили по щепотке бдолаха и стали собираться в путь, выслав вперед для разведки Толгая. До наступления очередной лжезари оставалось еще с полчаса.
— И все же в этом что-то есть, — сказала Верка, глядя, как вспышки багрового сияния ползут от горизонта к зениту. — Очень оживляет небо!
— Верно, — буркнул Зяблик. — Как муха покойника. Сейчас глухой купол небосвода был похож на огромный камин, грубые и темные своды которого освещают медленно разгорающийся огонь. В этой атаке света можно было различить три следующих друг за другом волны: передовую, достаточно тусклую и как бы рябоватую; среднюю, багровую, как закат перед бурей; и, наконец, последнюю, самую яркую, отсвечивающую расплавленным золотом.
— Смотрите, — сказала Лилечка. — Толгай бежит. Степняк был еще почти не виден вдали, но длинная и черная тень, изгибаясь, неслась по пустыне впереди него, как сказочная змея. Принудить выросшего в седле Толгая к бегу могли только чрезвычайные обстоятельства.
Все, кто сидел, вскочили и попытались ринуться навстречу степняку, но их остановил голос Зяблика.
— Стоять! Приготовиться!
— К чему приготовиться? — растерянно воскликнул Цыпф.
— К самому худшему приготовиться. Если придется удирать, бросайте все, кроме оружия. А ты, Смыков, береги бдолах.
— Поучи ученого… — Смыков на всякий случай еще раз пощупал надежно спрятанный под рубашкой мешочек.
До них уже доносились крики Толгая:
— Яну! Горит! Земля горит…
Далеко-далеко, на пределе видимости, серая равнина покрылась вдруг россыпью бесчисленных багровых точек, словно разом засияли тысячи волчьих глаз. Каждую секунду их становилось все больше, они сливались между собой в островки, а потом — в единый пылающий поток, неудержимо катящийся вперед.
— Вот это и есть огненный прилив, — медленно произнес Зяблик.
Небо над их головами уже полыхало отраженным светом одевшейся в пламень земли. Пахнуло жаром, словно из сердца пустыни налетел иссушающий самум. Толгай был уже в ста шагах от ватаги, когда едва ли не под ногами у него полыхнуло столбом искр и на серой шкуре бесплодной земли расцвело багровое пятно. Такие же пятна, похожие на воспаленные язвы, возникали повсюду. Невозможно было даже понять, что же это такое: вырвавшаяся на поверхность магма, неизвестно каким образом вдруг раскалившийся шлак или что-то еще.
— Бежим! — крикнул Смыков.
— Поздно! — рявкнул Зяблик, швыряя в люк будетляндского авиалайнера свой рюкзак. — Внутрь надо лезть! Если спасемся, так только там!
Не давая никому времени ни на раздумья, ни на возражения, он первым забрался в самое близкое к земле отверстие и протянул руку Верке, с которой никаких осложнений не возникло. Потруднее пришлось с Лилечкой, пищавшей и отчаянно дрыгавшей ногами. Смыков и Цыпф затратили немало усилий, подавая ее вверх. Спустя несколько минут внутри авиалайнера оказались и мужчины, в том числе Толгай, у которого на сапогах дымились подметки.
Пустыня вокруг напоминала сейчас бивак, покинутый войском, по какой-то причине не ставшим гасить своих костров. И эти бесчисленные костры непрерывно множились, расползаясь вширь и образуя прихотливые пылающие узоры.
— Сейчас вы поймете, как чувствует себя шашлык над мангалом, — прохрипел Зяблик, с которого уже градом катился пот.
— Хочешь сказать, что лично тебе это понять не дано? — с трудом проговорил Цыпф.
— Меня уже поджаривали однажды… До конца жизни впечатлений хватит.
— Вверх надо подниматься! Вверх! — вещал Смыков. — Там воздух свежее! А здесь задохнемся!
Царивший внутри авиалайнера сумрак не могли рассеять даже отблески пламени, игравшие на стенах. Всё пространство салона когда-то занимали ряды кресел, но сейчас в вертикальном положении находились лишь немногие из них, а все остальное представляло собой мешанину из золы, искореженного металла, обуглившегося поролона и донельзя высохших человеческих тел. В дальнем конце салона виднелось некое наклонное сооружение, оказавшееся остатками эскалатора. По нему ватага пробралась на следующую пассажирскую палубу, печальным видом своим мало чем отличавшуюся от предыдущей. Почти все кресла силой удара о землю были сорваны с креплений и сейчас кучей громоздились в передней части салона. Мумифицированные трупы торчали среди них как карикатурно-уродливые манекены.
Обливаясь липким потом, задыхаясь от недостатка кислорода и едва не теряя сознание от все усиливающейся жары, они достигли наконец седьмой, самой верхней палубы. Об этом свидетельствовало отсутствие на ней эскалатора и пылающее небо, видневшееся сквозь трещины в потолке.
— Сука твоя Сонька, — просипел Зяблик, ловя ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. — Нарочно нас на смерть послала… Знала, что за дела тут творятся… А мы-то еще думали-гадали, какой в этом может быть подвох…
— Рога у нее, понимаешь, — ответил Цыпф. — Не человек она уже… И судить ее по человеческим законам нельзя.
— Ничего… Попадется еще мне… Свидимся… И я ей такой суд устрою… Не посмотрю, что баба…
Ватага в полном составе валялась на полу, чуть менее грязном, чем на предыдущих палубах, и лакала из фляжек теплую воду. Смыков, демонстрируя неслыханную щедрость, выдал каждому еще по щепотке бдолаха.
— Зайчики, вы про спасение свое думайте, — уговаривала всех Верка. — Иначе никакой пользы не будет. Из последних сил о сохранении жизни молитесь.
— Ой, не могу… Голова кругом идет… — простонала Лилечка. — Душно…
— Крепись! Кто сознание потеряет, не выживет. Лева, тормоши ее…
Цыпф, которого и самого сейчас надо было тормошить, вылил на голову девушке последние капли воды.
— Терпи… терпи… Недолго осталось, — уговаривал он ее. — Минуток пять еще от силы.
Марево горячего воздуха не позволяло рассмотреть, что творилось снаружи, но пустыня уже давно была не серым ковром, вытканным пламенными узорами, а одним сплошным океаном огня, в котором не было места для иной жизни, кроме той, что облачена в плоть из камня, а вместо крови подпитывается плазмой. Возможно, это был только обман зрения, но любому, кто имел смелость выглянуть в иллюминатор, казалось, что слепяще-золотистое пространство вокруг вздымается и опадает, словно кожа, под которой перекатываются тугие желваки мускулов.
Дышать сухим жаром, в который превратился воздух, было почти невозможно. Сауна, конечно, хорошая вещь, но только до тех пор, пока ее можно покинуть по собственной воле. В противном же случае она превращается в камеру пыток.
Люди хрипели и стонали на разные лады, инстинктивно стараясь зарыться поглубже в покрывающую пол труху. Она отвратительно пахла, вызывала кожный зуд и неудержимый кашель, раздражала глаза, но по крайней мере не обжигала. Тот же, кто имел неосторожность прикоснуться к металлу, сразу зарабатывал волдырь.
Страдания эти не должны были продолжаться больше тридцати-сорока минут, но людям, варившимся в их котле, казалось, что время остановилось. Не хотелось уже ничего — ни возвышенного, ни земного, — а только глотка свежего воздуха да пригоршни холодной воды. Ради них можно было отречься от Бога и продать душу дьяволу.
Каждый уже боролся только сам за себя: выкарабкивался как мог из гибельной пучины или покорно ждал неизбежного конца. Сознание раз за разом покидало людей, и мучительный бред перемешивался с еще более мучительной явью.
Очередной раз придя в себя (и удивившись, что он еще жив), Зяблик увидел сквозь рваное отверстие в потолке салона уже не кипящую на адском огне кашу из золотистых зерен, а глухую серую муть, готовую вот-вот разразиться дождиком. И впервые после наступления Великого Затмения это постылое, ущербное небо показалось ему на диво прекрасным…
У всех слезились глаза, все харкали и стонали, все получили ожоги разной степени, но главное — все остались живы. Боль сейчас играла даже положительную роль — заставляла бдолах действовать на всю катушку.
— Не-е-е, — бормотал Зяблик. — Уж лучше утопиться, чем изжариться. Поскорей бы до лужи какой добраться или даже до болота. Залезу, как бегемот, по самые ноздри в воду и буду целые сутки отмокать.
— Через шестнадцать часов нам вновь предстоит испытать это удовольствие, — Смыков глянул на свои «командирские». — Если, конечно, к этому времени мы не сменим дислокацию.
О том, что это именно он недавно настаивал на продолжении похода через Бушлык, Смыков даже не заикался.
По обшивке авиалайнера уже барабанил редкий дождик (испарившаяся из почвы влага возвращалась обратно), и все, забыв о боли, поспешили наружу.
— Как хорошо-то, Господи, — приговаривала Лилечка, ловя ртом прохладные капли.
— Просто экстаз! — Верка, расстегнув рубаху до пупа, танцевала под дождем.
Зяблик, дождавшись, когда соберется первая лужа, действительно залег в нее. Даже Толгай, испытывающий к водной стихии сложные чувства, теперь радовался, как ребенок.
Только Смыков и Цыпф, занятые каким-то принципиальным спором, никак не реагировали на ниспосланное небесами благодеяние.
— А я продолжаю настаивать на том, что Будетляндия должна иметь общую границу с Гиблой Дырой, — говорил Цыпф. — Ведь дикари свободно перемещались из страны в страну и даже пленных с собой уводили. Вспомните рассказы Эрикса.
— Раньше, возможно, общая граница и имелась. Было, как говорится, да быльем поросло, — возражал Смыков. — Размежевка получилась. Мало ли какие чудеса сейчас случаются.
— Вы ведь схему, которую Эрикс оставил, в свой блокнот перерисовали. Вот давайте и взглянем на нее еще раз.
— Сто раз уже на нее глядели, — проворчал Смыков, однако блокнот достал.
Прикрывая его от дождя полой плаща, они углубились в изучение схемы.
— Вот последний ориентир. — Цыпф ткнул пальцем в крестик, отмечающий место погребения Эрикса. — Черное яйцо.
— Допустим, — кивнул Смыков.
— А вот граница.
— Не спорю.
— Как мы шли отсюда сюда?
— Как-как! Кратчайшим путем. По прямой.
— Вот именно! Так! — Цыпф ногтем провел по схеме короткую черту. — А у Эрикса изображена уходящая в сторону крутая дуга. Видите?
— Мало ли какой зигзаг мог изобразить умирающий человек! — продолжал упираться Смыков.
— Вот уж не надо извращать факты. Составляя эту схему, он находился в ясном уме! Мы ведь уже убедились, что все ориентиры указаны очень точно.
— Что вы, братец мой, в конце концов, предлагаете? — не выдержал Смыков.
— Вернуться к последнему ориентиру. То есть к черному яйцу. А затем идти по маршруту, указанному Эриксом. Уверен, что он выведет нас в Гиблую Дыру или какое-нибудь другое более или менее пригодное для жизни место.
— Опять, значит, с аггелами схлестнемся?
— А у вас есть другой план? Может, пойдем навстречу огненному приливу? Или подождем его здесь?
— Нет уж, дудки, — Смыков подул на свою, как кипятком обваренную, руку. — Лучше сковорода, чем духовка.
— Кстати, я почти уверен, что с аггелами мы в ближайшее время не встретимся, — закончил Лева. — Скорее всего они уже перебрались к границе Эдема. Косят бдолах и воюют с нефилимами. Мы для них давно уже мертвецы.
Еще трижды лжезаря освещала небо (никто из ватаги на нее даже не оглянулся), прежде чем на горизонте вновь замаячил раскинувшийся над Будетляндией шатер небесного невода. Все это время они пили только дождевую воду, которой в день набиралось не больше половины котелка, и поэтому первое, чем они занялись, покинув Бушлык, были поиски пристойного водопоя (как ни велика была жажда, но пить из первой попавшейся лужи или грязной сточной канавы не хотелось).
Обшарив подряд чуть ли не целый квартал, они наткнулись в одном из заброшенных домов на вместительную кладовую, замаскированную от посторонних глаз роскошным, но сильно попорченным молью гобеленом. Содержимое кладовой весьма пострадало от гниения и грызунов, но, к счастью, эти напасти не коснулись жестяных банок и стеклянных бутылок. Нашлись и соки, и шипучка, и даже пиво.
Отметив возвращение в Будетляндию обильным пиром, ватага — впервые за много дней — позволила себе отдых под крышей. Развлекались при этом как могли. Лилечка играла на губной гармошке, Толгай исполнял военные танцы своего дикого народа, а Зяблик обучал всех желающих способу хорошенько забалдеть даже от обыкновенного пива — для этого его не нужно было хлестать из стакана, а неторопливо зачерпывать чайной ложечкой.
Даже расчувствовавшийся Цыпф внес свою лепту в общее веселье — с чувством декламировал мрачные и малопонятные для непосвященных орфические гимны.
Славлю Гекату, Богиню пустых перекрестков.
Сущую в море, на суше, И в древних седых небесах.
Славлю царицу ночей, Окруженную свитой собачьей, Ту, что танцует во тьме На могильных костях…
Слушая это заунывное завывание, все, а в особенности Верка, буквально покатывались со смеху.
Спустя сутки они отыскали свой последний лагерь, разгромленный и загаженный аггелами, а потом и виллу, в подвале которой недавно томился Цыпф. Похоже было, что каинисты действительно покинули этот край. Об их присутствии теперь напоминала лишь огромная сковорода, брошенная в пересохшем бассейне, да обрывки окровавленных бинтов на полу гостиной.
Дальше продвигались уже хорошо знакомым путем, но об осторожности не забывали — постоянно высылали вперед дозорного и, презрев советы Эрикса, сторонились открытых мест. Пережитый в Бушлыке кошмар уже начал забываться, а ожоги, благодаря бдолаху, быстро заживали.
Еще через два дня вернувшийся из дозора Зяблик сообщил, что сумел разглядеть вдали огромное черное яйцо, возвышающееся над окружающими зданиями едва ли не наполовину.
Эту новость можно было считать хорошей. Остальные новости были или ни то ни се, или похуже.
— Толком вы что-нибудь объяснить можете? — допытывался Смыков у хмурого Зяблика. — Вот чего я не люблю, так это неопределенности. Если вы что-то подозрительное видели, так прямо и скажите.
— Хрен его знает, — Зяблик скривился, как будто дольку лимона лизнул. — Сам не могу понять. Предчувствия дурные… Как-то все не так, как раньше…
— Ну, конечно! — воскликнул Смыков с сарказмом. — Раньше все действительно не так было. Я по утрам дверь спальни не рукой открывал, а… хм-м… совсем другой частью тела. Вы, братец мой, капризным стали, как баба на сносях. И то вам не так, и это… Говорите откровенно, можно нам вперед идти или нет?
— Я ведь ходил… — Зяблик пожал плечами. — Может, просто кажется мне… Как говорится, пуганая ворона и куста боится.
— А на то место, где мы Эрикса схоронили, глянуть можно будет? — поинтересовалась Лилечка.
— Почему бы и не глянуть. Все равно мимо пойдем, — сказал Смыков.
— Вот что, — Зяблик откашлялся, как это он делал всегда, стараясь скрыть смущение. — Вы только не подумайте чего… Будто я нарочно шухер поднял… Но по щепотке бдолаха не мешало бы людям выдать. Кто сейчас его употреблять не будет, пусть наготове держит.
Прижимистый Смыков на этот раз спорить не стал, а позаимствовав из блокнота пару листиков, свернул шесть аккуратных фунтиков.
— Держите… Но без особой нужды не лопайте, — сказал он, наполнив фунтики бдолахом. — Не сахар ведь…
Некоторое время они шли в полной тишине, если не напуганные, то встревоженные словами Зяблика. Однако уже через пару километров напряжение рассеялось. Все вокруг, казалось, дышало покоем. Небо по-прежнему оставалось серым, но обликом своим не грозило в любую секунду рухнуть на землю. Трава и листья тускло поблескивали после недавнего дождя. Стайки пестрых птиц, которых они перепугивали с куста на куст, издавали мелодичные стрекочущие звуки. Нежилые дома вокруг хоть и имели запущенный вид, но не рождали ассоциаций с огромным заброшенным погостом.
— Вижу! — объявил шагавший впереди Смыков. — Черное яйцо вижу. Правда, пока только самую верхушку… Интересно мне, по какому случаю могли поставить подобный монумент?
— По случаю юбилея рода человеческого, — сказал Зяблик по-прежнему хмуро.
— Первый-то человек, ученые говорят, чернокожим был. В Африке родился. Вот, значит, это его яйцо и есть… от которого все мы произошли.
— А почему только одно? — полюбопытствовала Верка.
— Второе саблезубый тигр оттяпал, — объяснил Зяблик. — А может, супруга евонная откусила, когда убедилась, что у нее не обезьянство хвостатое рождается, а человеческая ребятня.
— Зябля! — позвал приятеля Толгай. — Твой ходил здесь?
— Вроде бы… — Зяблик оглянулся по сторонам.
— Улен видел?
— Ты насчет травы, что ли?
— Ага… Совсем яман улен… Такой плохой… В доказательство своих слов он раздавил каблуком пучок травы, пробившийся сквозь трещину в бетонном покрытии. Трава заскрипела, как сухой снег, и превратилась в мелкую пыль, но не зеленую, а бурую.
— Вот это номер! — Зяблик оглянулся по сторонам. — Да и с деревьями что-то неладно. Как подморозило…
— Ой! — воскликнула Лилечка, сорвавшая лист с ближайшего куста. — Колется!
— Похожие случаи были зафиксированы в Степи, — сказал Смыков, осторожно трогая траву, хрупкую, как крылышки дохлой стрекозы. — Припоминаете, товарищ Цыпф?
— Припоминаю, — кивнул Лева. — Но там пораженные участки располагались мозаично… Пятнами.
— Вот мы на такое пятно и попали.
— Дай-то Бог….
— Пятна разные бывают, — настроение Зяблика, похоже, ухудшилось еще больше. — Сахара на карте тоже как пятно… А попробуй пройди ее из конца в конец.
— Ничего чрезвычайного пока не случилось, — попытался успокоить спутников Цыпф. — Мало ли какая причина могла погубить траву. Вряд ли это как-то отразится на нас.
— Забыли вы, что кони, попробовавшие такой травы, передохли? — продолжал ворчать Зяблик.
— Но мы-то не кони! — вполне резонно возразил Цыпф.
В этот момент позади них раздался звук, похожий на тот, что издает хорошо отточенная коса, врезаясь в массив густого травостоя. Такой звук могло произвести только очень быстро движущееся тело, вылетевшее из зарослей, окаймлявших дорогу слева, и исчезнувшее точно в таких же зарослях справа.
Все непроизвольно обернулись на этот стремительный посвист, быстро затихший вдали.
— Кто-нибудь что-нибудь видел? — после недолгого недоуменного молчания спросил Смыков.
— Мелькнуло что-то… — неуверенно произнес Цыпф. — Темное, кажется…
— Во! — Толгай раскинул руки широко в стороны. — Бик зур! Большой… Туз… Быстрый…
— Это мы и без тебя поняли, — Зяблик прищурился. — Вот только откуда эта хреновина могла взяться? Ноги у нее или крылья?
— Что бы это ни было, но если оно захочет нас догнать, то догонит, — сказал Смыков. — Поэтому спокойно продолжаем движение.
Снова двинулись в путь, но уже с оглядкой. Побуревшая листва на деревьях под порывами ветра издавала не шелест, а тихое дребезжание. Черное яйцо вздымалось впереди, как гора.
Между тем дорога, по которой они шли, приобретала все более странный вид. Обочины, до этого составлявшие с бетонным полотном единую плоскость, вздымались все выше. Груды земли, обвалившиеся с этих стен, оставляли для прохода совсем узкое пространство. Многочисленные трещины разрывали дорожное покрытие вдоль и поперек. Ватага уже шла как бы по дну ущелья.
— А не лучше ли нам выбраться наверх, — предложил Смыков. — Как-то неуютно я себя в этой канаве чувствую.
Никто не стал ему перечить, и люди, помогая друг другу, вскарабкались на нависший над дорогой карниз.
— Если дождик пойдет, тут все затопит, — сказала Верка. — На лодках можно будет плавать.
— Эх, мать честная! — Зяблик в сердцах даже плюнул вниз. — Опять мы облажались! Опять куда-то не туда забрели!
— Как вы думаете, отсюда до Отчины далеко? — упавшим голосом поинтересовалась Лилечка.
— Если все будет хорошо и мы попадем в Гиблую. Дыру, то недели через полторы-две доберемся до Кастилии, — объяснил ей Цыпф. — А там уже и до дома рукой подать.
Мертвая трава противно скрипела под ногами. Каждый шаг оставлял на ней отпечаток более четкий, чем чернильный штамп на казенном документе. Еще несколько раз им довелось услышать шум, производимый какими-то неведомыми массивными телами, — иногда это был уже знакомый стремительный посвист, а иногда тяжкий грохот, сопровождаемый треском ломающихся деревьев.
Смыков, продолжавший шагать в авангарде отряда, раздвинув очередной куст, задребезжавший при этом так, словно его покрывали не листья, а кусочки металлической фольги, внезапно резко отпрянул назад. Из-за куста вспорхнула целая стая пестрых птиц и, недовольно треща, расселась на ветках ближайших деревьев.
— Уф-ф, — Смыков вытер лицо сгибом локтя. В руке у него был зажат пистолет. Никто и не заметил, когда он успел его выхватить. — Идите-ка гляньте…
Посреди небольшой полянки, трава на которой под птичьими лапами обратилась в прах, из земли торчали три человеческих торса. Лица людей уже были расклеваны птицами, а вместо глаз зияли черные ямы. Определить их принадлежность по одежде, покрытой запекшейся кровью и птичьим пометом, было сейчас невозможно.
Первым к мертвецам решился подойти Зяблик. Поочередно ощупав головы всех троих, он категорическим тоном заявил:
— Аггелы! Вот у этого рога уже вполне приличные.
— Кто же их так? — голос у Лилечки непроизвольно опустился до шепота.
— А никто, — подумав немного, сказал Зяблик. — Когда казнят или мучают, закапывают по горло, а не по грудь. Да и руки снаружи не оставляют. Этот вот даже нож сжимает… И этот тоже… Откопать себя пробовали, да не вышло. Задушила мать-сыра земля…
— И это нам знакомо, — Смыков тоже подошел поближе. — Помните, на сборе в Подсосёнье кто-то рассказывал, как в Агбишере быки погибли. Камень вроде жижи стал, а когда скотина в нем по самые рога увязла, опять отвердел.
— Земелька-то ого-го-го! — Зяблик растер в пальцах комок грунта, взрыхленного ножами погибающих аггелов. — Вера Ивановна, как, по-вашему, отчего наступила смерть?
— Так вам сразу и сказать? Без вскрытия? — Верка обошла вокруг мертвецов.
— Вы хотя бы примерно…
— Скорее всего отек легких… Как следствие ухудшения их вентиляции. Так всегда бывает, когда дыхание по какой-нибудь причине затруднено. Птички их уже потом клевали.
Смыков при содействии Зяблика попытался выдернуть одного из аггелов наружу, да не получилось — сидел он в земле плотно, словно успел там корни пустить.
— Да ладно, оставляй его так, — сказал Зяблик недовольно. — Зачем он тебе сдался?
— Патронов не мешало бы позаимствовать. Наши то уже на исходе.
— Хватит. Стрелять тут пока вроде не в кого. А когда до Гиблой Дыры доберемся, нашу миссию разыщем.
— Эй, осторожнее! — крикнула Верка, успевшая отойти чуть вперед. — Прямо сюда, кажется, идет…
Смыков и Зяблик разом выпустили руки аггела, тут же плетями упавшие вниз, и прислушались.
Издалека в самом деле быстро приближался грохот — словно бочка с камнями быстро катилась по лестнице.
— В натуре, сюда рулит… — покачал головой Зяблик. — Надо сваливать от греха подальше.
— Давайте-ка вниз спустимся! — быстренько предложил Смыков. — Умные люди в момент опасности по ямам хоронятся, а не торчат на открытом месте.
Однако он не успел сделать в сторону дороги и пяти шагов, как из зарослей, перемалывая их на пути в труху, вылетело что-то серое, шарообразное, стремительное. Трудно было даже определенно сказать, катится оно или летит, раз за разом отскакивая от земли, наподобие брошенного ловкой рукой камня-голыша.
К счастью, уже почти вся ватага находилась возле спускающегося к дороге обрыва. На пути шара оказались только три торчащих из земли человеческих торса с поникшими головами да замешкавшийся Зяблик.
Мертвые аггелы, естественно, уже не могли уклониться от неизбежного столкновения. Зато Зяблик, совершив феноменальный прыжок (несомненно, ставший бы чемпионским, если бы только в спорте фиксировались рекорды по прыжкам в сторону), сумел избежать смертельной опасности. Конечно, благодарить за это нужно было бдолах, который он, не откладывая в долгий ящик, отведал сразу же после получения.
Шар уже давно исчез из глаз (вместе с ним исчезли и три уполовиненных аггела), а в воздухе, в точности повторяя его путь, мерцало что-то вроде призрачного туннеля. Цыпф осторожно сунул руку в этот иллюзорный шлейф и, не ощутив ничего необычного, сказал:
— А если мы по этому следу и пойдем? Снаряды, говорят, в одно и то же место дважды не попадают. Так и тут…
— Это снаряд, по-вашему? — Смыков сделал страдальческое лицо. — А вдруг это трамвай, который туда-сюда только одним маршрутом ходит? Здесь вашей хваленой логике грош цена!
— Ша, засохли! — из кустов выбрался исцарапанный Зяблик. — Если такой бардак повсюду творится, мы помрем не от скуки. Как бы не пришлось добрым словом Бушлык вспоминать. Еще неизвестно, что хуже: сгореть живьем или в землю провалиться. Линять надо отсюда. И в темпе.
Однако ни бежать, ни даже быстро идти не позволяла поклажа, отягощавшая всех без исключения членов ватаги. Предложение Зяблика бросить лишний груз было встречено в штыки. Даже Толгай не хотел расставаться с богатыми трофеями, взятыми в Будетляндии, а что уж тогда говорить о женщинах.
Вскоре заросли, ветви и листья которых осыпались от легких порывов ветра, окончились и ватага оказалась на городской окраине, откуда до черного яйца уже рукой подать. Зрелище, открывшееся перед ними, было даже не удручающим, а скорее безысходным. У жабы, наверное, больше шансов пересечь в час пик многорядное шоссе, чем у этих шестерых — благополучно преодолеть то, что совсем недавно являлось городскими улицами, площадями и скверами.
Дома, ушедшие под землю на несколько этажей, торчали вкривь и вкось. Стены их бороздили трещины, а в окнах не осталось ни одного целого стекла. Постамент, на котором было установлено черное яйцо, как бы в трясину канул. Фонтаны, беседки, лестницы, брусчатка мостовой, плиты тротуаров и бетон площадей превратились в щебень.
Все, что изначально не принадлежало к миру дикой стихии, все созданное руками человека — было осуждено неведомыми силами на погибель, на полный распад и на возвращение в первобытное состояние.
Повсюду, как страшные орудия возмездия, носились массивные серые шары, и производимый ими шум можно было сравнить только с шумом рушащегося на землю каменного неба. Шары то и дело сталкивались между собой, таранили дома, прорубали в садах и парках целые аллеи, сокрушали все, что еще оставалось несокрушенным. Каждый шар оставлял за собой слабо светящийся след, исчезавший только спустя несколько минут, и весь город мерцал сетью призрачных узоров.
Спасаться было некуда — примерно то же самое творилось повсюду.
— Не сладко, наверное, приходится таракану на биллиардном столе, — пробормотал Цыпф, косясь на несущиеся мимо шары.
— Лева… а это что… та самая древняя жизнь, о которой ты говорил? Истинные хозяева земли пробуждаются от спячки? — спросила Лилечка.
— Скорее всего. Других гипотез у меня нет.
— А почему эти хозяева такие разные? И ведут себя по-разному. Вспомни тот несчастный городок в Кастилии… Или Нейтральную зону. Там одно, а здесь совсем другое.
— Любой тип жизни многообразен. Рядом с людьми живут слоны, кошки, жабы, губки, микробы… В Сан-Хуан-де-Артеза мы столкнулись с одной формой древней жизни, а здесь с другой. Первыми просыпаются от спячки наиболее примитивные существа. Сравнимые, скажем, с нашими амебами или уховертками. Потом проснутся улитки и слизни. Еще позже — волки и буйволы. Я, конечно, утрирую. Ничего общего между нашим волком… и хищником, жившим четыре миллиарда лет назад, быть не может. Не исключено, что напоследок из огня и камня встанут даже разумные существа, рассыпавшиеся в прах еще до возникновения Луны… Подумать жутко, что это будут за чудовища…
— Поберегись! — крикнул Смыков.
Совсем рядом с ними, подпрыгивая на неровностях почвы, прогрохотал один из шаров. Поднятый им горячий вихрь шевельнул волосы на головах отшатнувшихся в стороны людей. Над землей повис мерцающий шлейф, конец которого терялся где-то вдали.
— Ну что стоять-то без толку! Пошли! — заявила вдруг Верка. — Просто уворачиваться надо вовремя. Есть такая детская игра, «выбивала» называется. В тебя мячом бросают, а ты уворачиваешься.
— Мяч резиновый, — вздохнула Лилечка. — И маленький совсем.
— Принимайте бдолах, кто еще не успел, и вперед! — распорядился Смыков. — Даст Бог, проскочим… Только всем слушать мои команды. Глазомер меня еще никогда не подводил.
Пробираться по разрушенному городу было так же трудно, как преодолевать арктические торосы. Шары свистели и грохотали то слева, то справа, то впереди. Наибольшую опасность представляли те из них, которые, столкнувшись друг с другом, резко меняли направление движения.
Впрочем, как вскоре выяснилось, этот кошмарный бильярд был опасен лишь относительно, тут Верка оказалась права. Доказательством этому служило хотя бы черное яйцо, на поверхности которого шары не оставили пока ни единой отметины.
Спустя полчаса ватага миновала монумент. Слева от себя они видели загадочное светящееся пятно, совсем недавно поглотившее мертвого Эрикса и живого Барсика, а впереди расстилались городские кварталы, как будто бы еще не затронутые бедствием. Если верить схеме Эрикса, идти им нужно было именно в ту сторону. Однако как раз оттуда навстречу ватаге спешили люди в черных колпаках.
— Мать честная, только этого еще не хватало! — Зяблик выхватил пистолет с прытью, редкой даже для него.
Пуля хоть и не задела никого из аггелов, но заставила их остановиться.
— Не стреляйте! — из толпы каинистов раздался зычный голос Ламеха. — Зяблик, давай хоть на пару часов забудем прошлое! Общая беда объединяет даже непримиримых врагов! Помоги мне выбраться отсюда! Я знаю, что ты это можешь! Пускай в ход свое хваленое оружие! Зови на подмогу варнаков! Но только помоги! И я обещаю, что покажу тебе дорогу в Гиблую Дыру! Никаким другим путем покинуть эту проклятую страну нельзя!
— А ведь мы и в самом деле забыли про варнаков, — шепнул на ухо Лилечке Смыков. — Не сыграть ли вам что-нибудь душевное?
— Нет, — Лилечка отрицательно мотнула головой. — Сыграть я, конечно, могу, но это вряд ли поможет. Варнаки в такую мясорубку не полезут. Тут даже они бессильны. Вспомните, во время всех подобных катастроф они находились как бы в стороне.
— Зяблик! — вновь заорал Ламех. — Ты почему молчишь? Испугался? Или тебе не подходят мои условия?
— Далеко… — вполголоса сказал Зяблик.
— Что — далеко? — разом переспросили и Цыпф, и Смыков.
— Далеко, — повторил Зяблик. — Боюсь, что не попаду. А патрон впустую жалко тратить… Что мне этому гаду ответить?
— Ну это уж, братец мой, вы сами решайте… — развел руками Смыков. — Осторожнее!
Шар невиданных доселе размеров, промчавшись мимо, врезался в стену одного из уцелевших зданий и обрушил на себя сразу несколько десятков этажей.
— Ты что, оглох? — не унимался Ламех. — Не слышишь меня?
— Слышу, — замогильным голосом ответил Зяблик.
— Как насчет того, чтобы договориться? Мои условия тебя устраивают?
— Нет, Песик, не устраивают.
— Звякало-то свое не распускай, — голос главаря аггелов сразу приобрел зловещий оттенок. — Меня Ламехом зовут. Забыл разве?
— Для шестерок своих ты, может, и Ламех. А для меня как был Песиком, так и остался. Не со мной тебе, шкирла позорная, права качать, — Зяблик говорил так, словно собирался единым духом растратить весь запас своего презрения.
— Фасон, значит, держишь, — недобро усмехнулся Ламех. — Ну-ну…
Осталось неизвестным, что он хотел сказать еще, поскольку между двух отрядов промчался шар и его грохот на какое-то время сделал переговоры невозможными.
Воспользовавшись этим, Зяблик полушепотом обратился к товарищам:
— Гоняться за нами они вряд ли будут. Не та ситуация. Но и мимо себя не пропустят… Надо в обход пробираться, — он кивнул туда, где среди развалин города мирно сияло неподвластное силам хаоса загадочное световое пятно.
Ламех между тем времени даром не терял. Едва пыль, поднятая шаром, улеглась, сквозь повисшую мерцающую завесу стало видно, что аггелы уже не стоят кучей, как раньше, а рассыпаются в цепь.
— А вы говорили, не будут гоняться… — покачал головой Смыков. — Знаете, какая самая жадная и подлая рыба? Не щука, а окунь. Он и на крючке сидя, за карасями охотится.
— Но в уху все равно попадает… — Зяблик внимательно следил за аггелами, и любой из них, кто, пусть даже случайно, пересек бы некую условную линию, позволявшую вести прицельную стрельбу, сам неминуемо превратился бы в мишень.
— Попадают, — вздохнул Смыков. — Но карасям, которые у него в брюхе, от этого не легче.
Наконец досталось и черному яйцу. Оно величаво осело набок, но еще до этого по всей округе такой звон пошел, какого бы и от царь-колокола не дождались, окажись тот вдруг исправным.
Едва только гулкое эхо этого удара затихло в развалинах, как вновь раздался голос Ламеха:
— Зяблик, я никогда ничего дважды не повторяю. Хотя для тебя, так и быть, сделаю исключение! Как-никак, в одной зоне чалились…
— Вот про это ты лучше не вякай! — перебил его Зяблик. — В зоне я бы тебе даже свои портянки стирать не доверил. Чалились-то мы действительно вместе, да за разные дела. Со мной судьба злую шутку сыграла, а ты, паскудник, девок душил и, пока они еще теплые были, пользовался…
— Замолчи, шкура барабанная! — не выдержал, наконец Ламех.
— А ты мне рот не затыкай! Пусть знают твои шестерки, какое ты есть дерьмо на самом деле! И как ты только подумать мог, что я стану тебя спасать! Подыхай, падла! А сам не подохнешь, могу помочь! Дырку тебе промеж рогов с нашим удовольствием сделаю! Я как знал, что тебя встречу, и специально пули подпилил! До самой Гиблой Дыры твои мозги полетят! Никакой бдолах не поможет!
Зяблик так разошелся, что Смыкову пришлось за руку оттаскивать его с пути шара, рикошетом едва не угодившего в ватагу.
— Хватит попусту разоряться! — прикрикнул он на вышедшего из равновесия приятеля. — Поберегите свои лагерные воспоминания для следующего раза. Не до этого сейчас…
— Ты, Смыков, прав, как всегда, — Зяблик, по-прежнему не спуская глаз с аггелов, похлопал его по плечу. — Пора и в самом деле отсюда хилять.
Лишь только они повернулись в сторону площади, каждый камень которой сиял, словно осколок зеркала, как сзади загрохотали выстрелы, а Ламех, едва не срывая голос, заорал:
— Куда это вы, интересно? Никак уходить собрались? Да еще надеетесь, что мы вот так просто отпустим вас? Нет уж, дудки! Если подыхать, то вместе!
Пули пока или чиркали высоко над головами, или звонко клацали по камням развороченной мостовой — полторы сотни метров были отнюдь не той дистанцией, с которой можно легко поразить из пистолета движущуюся цель. И тем не менее такой аккомпанемент порядочно действовал на нервы, заставляя при каждом новом выстреле втягивать голову в плечи.
Лучшие стрелки ватаги — Зяблик и Смыков — двигались в арьергарде, но на огонь аггелов не отвечали, берегли патроны. Тут и без стрельбы нужно было все время держать ушки на макушке — вокруг со скоростью гоночных машин носились серые шары, словно паутиной затягивая гибнущий город своими мерцающими шлейфами. Вне зоны их досягаемости оставалось только загадочное световое пятно, как бы еще раз доказывая этим свою принадлежность совсем к другому миру.
Цепь аггелов тем временем изогнулась подковой, охватывая ватагу с трех сторон. Шары уже несколько раз делали в этой цепи прорехи, но их тут же заполняли аггелы из свиты Ламеха.
— В клещи нас хотят взять, — нахмурился Смыков. — Любимый их приемчик.
— Пусть попробуют, — отозвался Зяблик. — В маслятах у нас нужда не ощущается. На всех рогатых хватит. А кончатся маслята, бомбы в дело пойдут.
— Эх, сейчас бы симоновский карабин с оптикой, — мечтательно произнес Смыков.
— Или кирквудовскую пушку, — добавил Цыпф.
— Это ведь по твоей милости мы ее на слом пустили! — сказал Зяблик с досадой. — Как бы она сейчас пригодилась! Я бы этого Ламеха долбаного обратно в допотопные времена загнал!
— Разве тебе одного раза мало оказалось? Ведь мы сами тогда еле ноги унесли, — напомнил Цыпф. — Недаром покойный Эрикс предупреждал, что это оружие нельзя применять вблизи объектов, имеющим хоть какое-то отношение к силам Кирквуда.
— Где ты, интересно, такие объекты здесь видишь?
— А это что такое, по-твоему? — Цыпф указал в сторону светящегося диска. — Даю голову на отсечение, что этот феномен имеет неземное происхождение.
— Ой! — воскликнула вдруг Лилечка, на пару с Цыпфом шагавшая впереди всех.
— Вы только посмотрите, что там делается!
Здание, на которое она указывала пальчиком, было, наверное, одним из наиболее сохранившихся в округе, хотя странствовавшие шары уже успели основательно попортить его фасад. Сейчас оно тонуло, совсем как вставший на попа океанский лайнер — медленно и бесшумно, чуть кренясь на одну сторону. В землю ушел один этаж, второй, третий… Затем движение резко прекратилось, словно фундамент здания напоролся на какую-то преграду. И сразу раздался грохот
— это на стены и межэтажные перекрытия навалилась сила инерции.
Пятерых или шестерых аггелов, оказавшихся по соседству, постигла та же участь — грунт, ставший на минуту вязким, как кисель, засосал их по колено. Теперь они вели себя совсем как попавшие в капкан звери — выли, дергались, извивались, разве что своих конечностей не грызли. Никто из аггелов, шагавших в цепи, а тем более окружавших Ламеха, даже и не подумал прийти своим единоверцам на помощь.
Их истошные крики, очень нервировавшие Лилечку, прекратились только благодаря шару, вывернувшемуся откуда-то, как по заказу. По вросшим в землю аггелам он прошелся, словно трактор-корчеватель по болотному кустарнику.
Заметив, что левый фланг противника понес невосполнимые потери, Смыков толкнул Зяблика.
— А что, если так рвануть? — рубящим движением ладони он указал в промежуток между краем светящегося пятна и торчащими наружу обломками бедренных костей (самих аггелов отсюда видно не было, не то шар сплющил их до толщины газетного листа, не то унес с собой).
— Ну уж нет! — заартачился Зяблик. — Ты сам как хочешь, а я туда не полезу. Поздно уже меня вместо картофелины или репки в землю сажать. Всходов не дам.
Правое крыло аггелов загибалось все круче, отрезая ватаге единственный более или менее безопасный путь отступления. Зяблику удалось-таки срезать одного каиниста, неосмотрительно вырвавшегося вперед, но его единомышленники залегли в развалинах и открыли ну просто ураганную стрельбу. Теперь их пули ложились значительно точнее, и ватаге пришлось хорониться за всякого рода естественными укрытиями, благо вокруг их хватало с лихвой. Тем не менее какой-то наиболее меткой пуле удалось зацепить Смыкова за плечо.
— Что же это такое! — возмущался он. — Форменная несправедливость! Другим хоть бы что, а я в Будетляндии получаю уже второе ранение! — Смыков непроизвольно потрогал совсем недавно заживший кончик носа. — Хотя я вроде не шире и не выше других!
— Пуля своих ищет, — сказала Верка не то шутя, не то серьезно. — Она же дура… А дурак дурака видит издалека.
Слова эти так уязвили Смыкова, что он даже отказался от перевязки, предложенной ему все той же Веркой.
— Смех смехом, — озабоченно произнес Цыпф, — но, похоже, нас загоняют в тупик.
И в самом деле ватаге для отступления оставалось только два пути — площадь, такая мирная на вид, но безвозвратно поглощающая всех, кто рискнул ступить на нее, и прилегающее к ней пространство, совсем недавно тоже проявившее склонность к весьма зловещим метаморфозам. Тактика аггелов как раз и состояла в том, чтобы загнать ватагу или в пятно неземного света, или на кусок земной тверди, ежесекундно грозящей превратиться в непроходимую топь.
— Направо пойдешь, под пулю попадешь, — сказал Зяблик, оглядываясь на упорно продвигающуюся вперед цепь аггелов.
— Прямо пойдешь, костей не соберешь, — подхватила Верка.
— Налево пойдешь, в землю врастешь, — со вздохом закончил Цыпф.
— И тем не менее придется идти именно налево, — сказал Смыков так твердо, как только мог. — Шанс нам только там светит.
— Не боишься, значит, в землю, как Святогор-богатырь, уйти? — осведомился Зяблик, как всегда в минуты опасности бледный и сосредоточенный.
— Все мы там будем, — заметил Смыков философски. — Но если говорить о текущем моменте, надежда моя на то, что такая хреновина с землей не поминутно происходит. Авось и проскочим.
— Каргыш! — вскричал вдруг Толгай и присел, вцепившись в щиколотку. — Проклятие!
— Что там у тебя? — рядом с ним присела и Верка. — Зацепило?
— Бераз… — поморщился степняк. — Мало-мало совсем…
— Как же мало! — передразнила его Верка. — Уже в сапоге хлюпает…
Она чуть ли не силой стащила с ноги Толгая простреленный сапог и ловко перебинтовала рану. Все это время степняк смотрел на нее влюбленными глазами и, похоже, даже про боль забыл.
— Вот невезуха, — поморщился Зяблик. — Идти-то он сможет?
— Сможет, особенно если с бдолахом, — доложила Верка. — Пуля навылет прошла. Надкостница задета, но кость, похоже, цела. Стопа действует…
— Скорее, а не то нас здесь всех, как тетеревов на току, перещелкают! — Смыков сунул в рот Толгая щепотку бдолаха, но и сам на правах раненого не забыл причаститься.
— А мне? — набычился Зяблик.
— У вас, братец мой, это самое… нос в дерьме. — Смыков отделался солдатской шуткой.
Когда степняк обулся и продемонстрировал способность самостоятельно держаться на ногах, ватага, пригибаясь как можно ниже, устремилась к развалинам наполовину провалившегося под землю здания.
— Вот было бы хорошо, если бы мы удачно проскочили, а аггелы увязли! — воскликнула Лилечка.
— Смотри, не накаркай… — буркнул на бегу Зяблик. — Как бы все наоборот не получилось…
— Не бойтесь, у меня слово легкое, — заверила его Лилечка. — Зато бабушка и проклясть человека умела, и порчу на него навести…
Но, как оказалось, вольно или невольно, а беду Лилечка все же накликала.
Все произошло так быстро и так неожиданно, что сначала никто ничего просто не понял. Только что они бежали по твердой, гулко отсчитывающей каждый шаг земле, — и вот уже опора под ногами странным образом исчезла!
Впрочем, ощущение пустоты тут же сменилось ощущением капкана. Люди оказались по колено впаянными в твердую, как обожженная глина, субстанцию, еще недавно имевшую все признаки обыкновенной земли. Общей участи избежал только ковылявший в хвосте Толгай.
— Приплыли, елки зеленые! — эта фраза была первой реакцией ватаги на случившееся, и вырвалась она из уст Зяблика.
— Без паники! — вторая фраза принадлежала Смыкову, точно так же, как и третья: — Похоже, неувязочка вышла…
Верка взмолилась:
— Толгаюшка, миленький, выручай! Верный степняк и в самом деле уже хотел броситься ей на помощь, но Зяблик навел на друга пистолет.
— Назад! — страшным голосом приказал он. — Тебя только здесь не хватает! Гранаты есть?
— Есть, — кивнул тот. — Ике штук…
— Ну вот видишь, — Зяблик улыбнулся Толгаю, хотя улыбка получилась странная, не то заискивающая, не то извиняющаяся. — Сабля есть, две гранаты есть, смелости навалом… Выручай, браток… Не подпускай аггелов близко, пока мы здесь будем возиться.
Толгай молча кивнул и повернул обратно. Даже хромота его сразу пропала. Обсуждать приказ (или, если хотите, просьбу), почти наверняка обрекающий его на смерть, у степняка даже в мыслях не было.
— Крепко застряли, — Смыков, ухватив свою ногу за колено, дергал ее вверх.
— И не говори… Хуже, чем мухи в варенье, — приставив ствол к грунту, Зяблик выстрелил несколько раз подряд.
Пули оставляли в окаменевшей земле идеально круглые отверстия, от которых даже трещины не побежали.
— Эх, гранатой бы рвануть, — вздохнул Смыков. — Да только долго потом руки-ноги собирать придется.
— Погоди, пригодятся еще гранаты, когда аггелы придут поздравлять нас с благополучным приземлением, — заверил его Зяблик.
— Лева, ну хоть ты что-нибудь придумай! — воскликнула Лилечка. — Мы столько раз смерть обманывали, неужели все напрасно было!
Неизвестно, что именно: то ли мольбы любимой, то ли упоминание Смыкова о гранате, то ли злополучный запал, надолго застрявший в его памяти, — навело Цыпфа на одну многообещающую, хотя и рискованную идею. Первый опыт, естественно, ему пришлось проводить на себе самом.
Всадив почти в одно и то же место сразу три пули, Лева получил шурф, в котором мог свободно поместиться запал. Вся ватага с напряженным интересом наблюдала, как он дрожащими руками разбирает гранату.
— Дай сюда! — Зяблик вырвал ее у Левы и мгновенно отсоединил запал. — Ну что, рискнем?
— Рискнем, — обреченно кивнул Лева, заранее закрывая глаза и отворачиваясь.
Рвануло глухо, как под подушкой. Из шурфа шибанул вверх фонтан каменной крошки. Лева воскликнул: «Ай!» — но уже через секунду его левая нога благополучно покинула яму, наполненную чем-то вроде осколков битого кирпича.
— Не ушибся? — участливо осведомилась Лилечка.
— Никак нет! — радостно улыбнулся Цыпф, правая нога которого все еще оставалась в плену.
— Надо было бы горсть пороха подсыпать для эффекта, — произнес Смыков огорченно и полез в рюкзак за очередной гранатой. — А не то весь боезапас так переведем…
— На том свете он тебе не пригодится, — процедил Зяблик сквозь зубы. — Вон тот мячик, кажется, прямо в наши ворота летит…
Шар, не очень большой и не очень маленький, размером так приблизительно с церковную маковку, напролом мчался сюда со скоростью, оставлявшей людям на все земные дела каких-нибудь тридцать-сорок секунд…
Предоставив своим менее удачливым спутникам возможность самим выбираться из коварной западни, Толгай с легкой душой устремился навстречу аггелам. В том, что Зяблик или Смыков найдут выход из самого безнадежного положения, он не сомневался ни на миг, точно так же, как и в своих шансах выиграть время, необходимое для спасения ватаги.
Бдолах шел ему на пользу, как никому другому. Абсолютно свободный от каких-либо комплексов и рефлексий, Толгай умел концентрироваться на достижении одной цели, и ничто постороннее уже не могло отвлечь его.
Сейчас он не ощущал ни боли в ноге, ни страха в сердце. К засевшим в руинах аггелам (еще не раскусившим, в какую передрягу попали их противники) он летел на всех парусах, но и не забывал совершать на бегу непредсказуемые, прямо-таки умопомрачительные зигзаги. Прицельный выстрел не мог достать его. Опасаться нужно было только шальной пули.
Впрочем, аггелы не очень-то и старались. Косоглазый нехристь с одной только сабелькой в руке не внушал им никаких опасений. Мало ли какая нужда гонит его прямо под пули? Может, сдаться хочет, а может, просто с ума сошел. (Никто из каинистов, имевших дело с Толгаем в Эдеме, поведать о его подвигах, конечно, уже не мог.) Не добегая двадцати шагов до позиций, занимаемых аггелами, Толгай выронил саблю, картинно схватился за грудь и рухнул под прикрытие какой-то достаточно массивной бетонной плиты. Наружу осталась торчать только его нога, некоторое время дергавшаяся как бы в агонии.
К этому времени наиболее зоркие и догадливые аггелы уже поняли, что их извечные враги утратили не только способность к передвижению, но и всякую надежду на спасение. Дело, как говорится, было сделано, и каинисты, оставив ватагу на попечении всесокрушающих шаров, могли заняться спасением собственных жизней, однако Ламеху одной только победы было мало. Ему нужно было еще и насладиться результатами этой победы, тем более что одна из пленниц, а конкретно Лилечка, могла дать ему не только моральное, но и физическое удовлетворение. (То, что овладеть девушкой можно только при условии отделения обеих ее ног ниже колен, мало заботило его.)
— Вперед! — приказал Ламех. — По коням! Без моего приказа не стрелять.
Никаких коней у каинистов, само собой, не было и в помине. Просто у них с некоторых пор существовала такая практика: в местах, где каждый шаг грозил обернуться западней, одна половина отряда садилась верхом на другую. И если аггелы-кони вдруг проваливались по колено, а то и по пояс в землю, аггелы-всадники продолжали сохранять боеспособность.
Однако «кавалерийской» атаке помешал Толгай, до этого старательно притворявшийся мертвецом. Едва аггелы показались из-за руин, как в них одна за другой полетели гранаты. Тут уж не пофартило всадникам, представлявшим для осколков прямо-таки идеальную мишень.
Естественно, что в рядах аггелов возникла если не паника, то неразбериха, которой не преминул воспользоваться Толгай. Подхватив саблю, он издал древний боевой клич степняков и смело бросился на врага…
— Падай на спину! — заорал Зяблик. — Быстро! Все! Только костыли не переломайте!
Грохот гранаты, брошенной им навстречу неумолимо накатывающемуся шару, на время заглушил шум боя, доносившийся из расположения аггелов. Видеть результат своих действий Зяблик не мог, поскольку еще до момента взрыва улегся навзничь, лицом в небо (принять другую позу мешали вмурованные в камень ноги).
Фатализм так прочно укоренился в душе Зяблика, что любой исход событий — и смерть, и спасение — устраивал его в равной мере. Жалко было наивную Лилечку. Жалко было недотепу Цыпфа. Язву Верку тоже было жалко. И даже долбаеба Смыкова. (Погибающего в неравной схватке Толгая жалеть было уже поздно.) Не жалел Зяблик только себя самого.
Он лежал, смотрел вверх, но видел не это небо, серое и угрюмое, а совсем другое — высокое и прозрачное небо своей юности…
…Ударная волна заставила шар подпрыгнуть и совершить зигзаг, не предусмотренный первоначальным маршрутом…
Целью Толгая было не уничтожение врагов, а их деморализация. Сил своих он не берег и не распределял. Минут на десять их должно было хватить с лихвой, а дальше в будущее он не заглядывал.
Со стороны он напоминал танцующего Шиву, каждая из четырех рук которого сжимает разящий клинок. Но танцевать и рубить в таком темпе не умели, наверное, даже боги.
Все пули, выпущенные аггелами в Толгая, пока что счастливо миновали его…
Последней из каменной западни освободили Верку. Никто из членов ватаги бежать не мог — ноги превратились в бесчувственные ходули. Не сговариваясь, все устремились к манящему и губительному свету.
С трех сторон их подстерегала смерть — и справа, где грохотали выстрелы и звенела сабля Толгая; и слева, где коварная твердь караулила очередные жертвы; и сзади, откуда, взгромоздившись друг на друга, надвигались аггелы, до этого состоявшие в свите Ламеха.
Впереди их ожидала неизвестность, Бог знает когда и с какой целью принявшая вид огромного солнечного зайчика…
Сабля Толгая действовала не менее точно и эффективно, чем коса небезызвестной курносой старухи, но аггелов вокруг было слишком много. Уже несколько пуль пронзили степняка, однако в запале боя, да еще под действием бдолаха, он не ощущал ни боли, ни слабости.
— Тикай, дус! — откуда-то издалека донесся голос Зяблика. — Тикай, родимый!
Улучив момент, Толгай обернулся и смог удостовериться, что ватага уже добралась до края площади. На фоне яркого золотистого сияния люди выглядели черными плоскими силуэтами.
Напоследок, не глядя рубанув кого-то, Толгай кинулся к друзьям. Вслед за ним роем летели пули…
Скорее всего Толгай (не важно какой, живой или мертвый) добежал бы до своей цели. Но земля вдруг предательски ушла из-под его ног. Участь степняка разделили все и вся, что окружало его: последние чудом уцелевшие здания; необозримые груды руин; черный, сильно помятый сфероид, некогда изображавший гигантское яйцо; аггелы, кинувшиеся в погоню за раненым врагом, и их единомышленники, служившие скакунами для Ламеха и его ближайшего окружения.
Никого из друзей Толгая уже не было видно в сияющем впереди ореоле. Он верил, что они спаслись. Он знал, что сам спастись уже не сможет.
Еще несколько пуль пронзили степняка. Но он умер не от ран, а оттого, что перестал жаждать жизни…
— Чмыхало, ты где? Сюда! Да отзовись же, гад! — бесновался Зяблик.
— Все, братец мой! Поздно! Погиб наш Чмыхало смертью храбрых! — Смыков с трудом удерживал Зяблика в своих объятиях. — Его вы не спасете, а себя погубите!
Они находились сейчас как бы на дне озера, наполненного не водой, а светом. Мир, который они только что покинули, казался отсюда тусклым и нереальным.
Свет, совсем не бесплотный, как это виделось со стороны, а физически осязаемый, медленно стягивался вокруг них. Мягкая, но неодолимая сила давила со всех сторон, сладким сном туманила сознание, не позволяла шевельнуться.
Интенсивность и густота света постепенно нарастали, и вот наконец наступил тот последний миг, после которого все, что они еще могли видеть: печальные горы развалин, мельтешащие среди них шары-разрушители, укороченные и оттого ужасно нелепые фигуры аггелов, завалившегося на бок в позе смерти Толгая и даже возникшие где-то в отдалении монументальные фигуры варнаков, — бесследно исчезло…
…Пространство, окружавшее их теперь, было сплошь сиреневым — и земля, совсем не похожая на прежнюю землю, и небо, не имевшее ничего общего с прежним небом…
СЛОВАРЬ ЖАРГОННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
Бандырша — содержательница притона.
Бикса — подруга, любовница.
Брус шпановый — молодой, но подающий надежды урка.
Вертеть углы — красть чемоданы.
Галье — деньги.
Грабки — руки.
Делать ноги — убегать.
Деловой — представитель преступного мира.
Дунька Кулакова — онанизм.
Звякало — язык.
Каидей — карцер.
Колеса — наркотик в таблетках.
Крытка — место лишения свободы тюремного типа.
Лопатник — бумажник.
Маслята — патроны.
Менжеваться — колебаться.
Наблатыкаться — научиться.
Наседка — подсаженный в камеру осведомитель.
Облажаться — опозориться.
Откинуться — умереть.
Пистонщик — насильник.
Порчак — вор-новичок, еще не примкнувший к преступному миру.
Профура — проститутка.
Псира — собака, враг.
Скес — трус.
Хавало — рот.
Халамидник — мелкий воришка, не способный на серьезное дело.
Хомутник — душитель.
Чалиться — отбывать срок в зоне.
Шалашовка — проститутка.
Шкирла — сожительница преступника.
Штымп порченый — то же, что и порчак.