
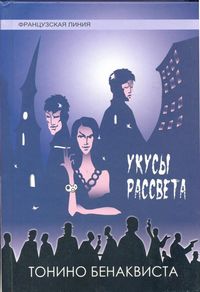
Тонино Бенаквиста
Укусы рассвета
Посвящается Жан-Марку и Жан-Марку
Но вот увидел я зарю…
О, дух ночной, благодарю
За этот пир богатый!
Возница, монстр горбатый,
Скорей верни меня домой,
В далекий тихий замок мой!
Оставь, старик, распятье,
Подай другое платье,
Плеть чеснока — долой с ворот,
Он лишь бесчестье нам несет,
Сыщи-ка мне живее
Дружка, что всех вернее,
Что никогда не предавал
— Неси шампанского бокал!
1
— Где спать будем?
— Откуда я знаю.
— Мне есть хочется.
— Ты невыносим, Антуан!
Перегнувшись через парапет фонтана, я отыскал в зеркале воды свое лицо, украшенное мыльной пеной. Потом сполоснул бритву; вода замутилась, и отражение исчезло. Мистер Лоуренс, разлегшийся на скамье, явно предпочитал освежаться, обмахиваясь своей книжицей «Правила дипломатического протокола», нежели отвечать на мои вопросы.
— Мы греемся на солнышке в саду Тюильри, ближайшая ночь обещает массу приятностей. Так какого хрена ты отравляешь нам обоим настроение вместо того, чтобы любоваться загорающими девушками? Вспомни, Антуан, сколько мы ждали этого июня.
Закончив брить левую щеку, я окунул голову в воду и потер лицо, проклиная в душе всех тех, у кого не растет борода, как, например, у мистера Лоуренса.
Эх, было бы у меня лишних сорок франков — я бы давно бросил здесь мистера Лоуренса с его томными манерами, идиотской беспечностью и извращенной любовью к пустому безделью. Да, бросил бы и свалил в кино. После чего почувствовал бы себя возродившимся к новой жизни и готовым встретить вечер со всеми его сюрпризами. Но сорок франков — это два сэндвича с сосисками-мергез. Или три часа сидения в кафе. Или треть стоимости номера в отеле «Жерсуа дю Карро дю Тампль». Или проезд ночью на такси через три парижских округа. Или телефонная карточка на полсотни единиц. Или дорога в один конец в Фонтенбло, к моей сестре — в случае полного облома. Или стирка белья на двоих в прачечной-самообслуживания. Или же запас сигарет до конца недели. А еще на них можно купить тюбик пены и одноразовый станок для бритья.
Ну почему я, в отличие от моего напарника, не способен наслаждаться солнышком и теплым ветерком, нежным журчанием воды, неспешными прогулками по улицам, чтением газеты, забытой кем-то на скамейке? Я спрашиваю у молодых туристов, зачарованно созерцающих обелиск на площади Согласия, который час. Они отвечают по-английски. Мне вдруг приходит в голову мысль: сколько бы я мог показать им в Париже мест, не значащихся в путеводителях! Панорамы, никогда не попадавшие в объективы фотографов-туристов, «знойные» аллеи вдали от «горячих» кварталов, безвестные смешные закоулки, будничные улицы, о которых можно мечтать в изгнании, но не заслуживающие никакого интереса, пока вы здесь, вечные бистро, бурлящие перекрестки, бульвары с их дурацкими легендами.
— Seven p. m.note 1
Ага, значит, мы уже перевалили на другую половину суток. В тот странный промежуток времени, что зовется вечером и начинается, как только ты этого возжелаешь. И где ничего уже не получишь за сорок франков: либо все на халяву, либо слишком дорого, чтобы снизойти до платы.
— За работу, мистер Лоуренс! Надо пошевеливаться, если мы хотим приласкать сегодня «Вдовушку Клико».
Он терпеть не может, когда я величаю его мистером Лоуренсом, но мне кажется, что это прозвище подходит ему куда больше, чем банальное имечко Бертран. Уходя из Тюильри, он специально делает небольшой крюк, чтобы шлепнуть по бронзовым сиськам присевшую женщину Майоля. Он клялся мне, что как-то ночью, оставшись бесприютным, перелез через решетку, чтобы заснуть, прильнув к этой статуе и положив голову ей на колени. Но я так и не поверил. Я улыбаюсь при мысли, что нынче только вторник Неделя, можно сказать, еще и не почата.
— Ты Этьену звонил? — спрашиваю я.
— Он куда-то торопился, спросил, где встретимся, чтобы спланировать вечер. Договорились через полчасика в кафе «Модерн».
— В кафе «Модерн»? На улице Фонтен? Ты что, шутишь?
— Ну, это первое, что пришло мне в голову.
— А получше тебе в голову ничего не пришло, идиот несчастный? Ты забыл, что мы у них в черном списке?
Парень, работающий на face-контроле в кафе «Модерн», ненавидит нас лютой ненавистью — с того самого вечера, как его взяли туда вышибалой, а мы решили проникнуть внутрь, выдав себя за журналистов. Мне тогда пришла в голову богатая мысль: якобы мы задумали серию фотопортретов и статей об охранниках, силачах и великих физиономистах, фильтрующих посетителей при входе в night-клубы. Вышибала, соблазнившись газетной славой, радушно распахнул перед нами двери своего заведения, и все шло прекрасно, пока кто-то из его дружков не вправил ему мозги: «Зачем ты впустил сюда этих ублюдков? Да они же поимели тебя, Жерар! Один ты, видать, их еще не знаешь!» С тех пор Жерар навсегда запечатлел в памяти наши физиономии. Особенно мою.
Мы проходим по улице Фонтен и тормозим напротив кафе «Модерн». Идиот охранник уже тут как тут, сидит на своем «харлее» у дверей кафе. Нас он сразу засек. И ржет вовсю, указывая на нас пальцем двум своим коллегам, на случай, если мы попытаемся прорваться внутрь, пока он будет парковать свою тарахтелку на углу улицы. Мистер Лоуренс заказывает две маленькие кружки пива. Не то чтобы мы очень уж обожали пиво, но это единственные пузырьки, которые мы можем себе позволить в ожидании шампанского.
— Видал, каков прием? Что будем делать, подождем, пока Этьен выйдет?
— Еще чего! Когда Этьен присосется к рюмке, ждать уже бесполезно.
— Вы только гляньте на эту парочку мокриц! — говорит Жерар, без приглашения подсаживаясь к нашему столику.
За спиной у него позвякивает цепь, под распахнутой курткой видна майка с надписью «Скорей продам сестру за грошик, чем сяду в тачку от япошек». Это рыхловатый белобрысый кретин с сонными глазами и веснушчатым лицом. У него сломан один из передних зубов, и щербатая усмешка уподобляет его хулиганистому подростку. Не будь он такой здоровенной и опасной скотиной, готовой бить кого попало, я бы давно приказал ему очистить место, достаточно было щелкнуть пальцами и подозвать гарсона. Но не тут-то было: он схватил мой стакан и одним махом выдул пиво.
— Я еще не забыл ту историю, в первый день моей работы. «Модерна» вам больше не видать как своих ушей, а скоро вас вообще никуда не пустят, я уж об этом позабочусь.
Бертран, якобы случайно, выплескивает пиво на джинсы Жерара.
— Ах ты, сволочь!..
Пока он размахивается, чтобы врезать моему дружку, я вскакиваю и несусь через улицу. Бертран и Жерар обалдело глядят мне вслед. А я заприметил одного актеришку, который уверенным шагом пилит прямо к «Модерну». С месяц назад мы были на вечеринке, которую он устроил по случаю получения «Сезара» за роль второго плана. Тогда он надрался до такой степени, что даже не спросил, что мы тут у него делаем. Мы тоже приняли не слабо, отчего расхрабрились и понесли черт знает что насчет цвета его гардин и его гостей. Мы даже кой-чего насочиняли про нравы в киношных кругах, чтобы его повеселить. Кончилось тем, что он достал из загашника последние бутылки «Mumm». Он был такой бухой, что без проблем разрешил нам переночевать у него. Чего только не сделаешь после нескольких бутылок с золотым горлышком!
Он наверняка забыл меня напрочь, до того мы все тогда надрались, но попытка не пытка. Хотя бы для того, чтобы проучить этого кретина Жерара.
Актеришка направляется прямо к входу, под ручку с девицей, которую я видел в тот памятный вечер. Очертя голову я бросаюсь к нему, как к близкому другу, и напоминаю о тусовке; он неуверенно улыбается, не смея признаться, что не помнит меня. Я сразу перехожу в наступление:
— Ну что, увидимся сегодня на вечеринке «Гомон»?
— На вечеринке «Гомон»? А разве сегодня…
— Ты что, не получил приглашения? Хотя что я говорю — тебе-то приглашений не требуется.
— А где это будет? На улице Марбёф?
— Нет, они сняли какой-то зал. Я как раз должен повидать дружка, который даст мне точный адрес. Вообще-то странно, что ты об этом не слышал, вот забавно…
Но он не видит в этом ничего смешного.
— А где он, твой дружок?
— Сидит в «Модерне».
Он приглашает меня следовать за ним. Подоспевший Жерар угодливо кланяется ему и отворяет дверь, но, увидев меня, разъяренно загораживает проход.
— Он со мной, — говорит актер.
Я вхожу, наслаждаясь ненавистью охранника и успевая исподтишка сделать непристойный жест в его сторону. Внутри нас оглушает музыка. Или, вернее, льющаяся из синтезаторов звуковая каша, от которой лопаются барабанные перепонки. Тем не менее само местечко вполне приятное. Современное, но приятное. Напоминает палубу теплохода своими блестящими стенами из волнистого пластика, круглыми окошками-иллюминаторами и стеклянными овальными столиками. Наша звезда экрана берет курс на ресторанный зал; я знаком показываю, что присоединюсь, как только добуду нужную информацию. Поднимаюсь в бар: полтора десятка столиков, колонны в зеленой облицовке под мрамор, музыка помягче, чтобы не мешала смаковать напитки, бармен в красном комбинезоне с вышитой на груди эмблемой «Модерна». Я замечаю известную топ-модель сногсшибательной красоты в компании молодых людей, ее сверстников. Считается, будто эти девицы ложатся спать засветло и питаются одной лишь «Бадуа»note 2 — ха-ха, как бы не так! Этьен сидит в глубине зала перед своей подружкой и двумя коктейлями. Ему полтинник с гаком, и в своей потертой кожаной куртке он плохо вписывается в стиль данного заведения. Я встречаюсь с ним уже года два, но никак не могу разрешить три вопроса: кто он, откуда взялся и как ему удается снимать таких девочек? Он торжественно обещал мне ответить на них как-нибудь потом, postmortem.note 3
Еще не отдышавшись, я подсаживаюсь к ним за столик, всем своим видом намекая на жару: вдруг он догадается предложить мне один из этих высоких пестрых бокалов, украшенных засахаренными вишнями и зонтиками.
— Я бы охотно тебя угостил, золотой мой, но льготные часы только что закончились. А после восьми на все двойная цена.
Его нынешняя подружка, хорошенькая брюнеточка с челкой до самых глаз, встречает меня на редкость искренней улыбкой — такая способна подзарядить вас на добрых два часа.
— Куда ж ты подевал своего дружка?
— Мистера Лоуренса? Оставил на улице, с кружкой пива.
— В прошлую пятницу вы бросили меня, как последние подонки. Меня разбудил в метро какой-то инопланетянин в желтом пластике.
— Уборщик что ли?
— Я был в полной отключке, и вы были просто обязаны доставить меня домой… Всегда знал, что вы твари неблагодарные.
Он забыл сказать, что, надравшись в дым, решил уцепиться за стрелки часов на мосту Сен-Мишель, дабы повторить перед нами подвиг Гарольда Ллойдаnote 4. А поскольку мы не такие уж самоотверженные храбрецы или кинофанаты, то, завидев полицейскую мигалку, предпочли смыться.
— Какие планы на вечер? — спрашиваю я. Перед тем как ответить, он треплет по головке свою куколку.
— Да никаких. Спокойно посмотрим видак. Мари устала.
Ну, понятно. Эти мастера ночных тусовок каждый вечер твердо намереваются лечь пораньше. Ими владеет нечто вроде комплекса вины, который улетучивается после второй же рюмки; обычно хищные инстинкты просыпаются в них еще до полуночи.
— А для нас не найдется хоть парочка адресов?
— Вам сколько лет, тебе и Бертрану?
— По двадцать пять.
Он грустно вздыхает при мысли о том, что прожил с лихвой обе наши жизни. И, смирившись с этим, просит у меня ручку.
* * *
— А тебя, сука, я скоро убью!
Я опускаю голову и вяло пожимаю плечами, Жерар ничего не замечает.
— Только попробуй устроить мне еще раз такую подлянку, как сегодня, и даже если ты заявишься с самим папой римским, я тебя убью. Я — ТЕБЯ — УБЬЮ, понял? -Его дружки больше не ржут.
— Пока ты там сидел, я все думал, как тебя прикончить — забить нунчаками или перерезать глотку, но нет, я с тобой обойдусь по-другому. Тебя ждет кое-что покруче.
Я прохожу мимо, не спрашивая, что именно. Но Жерар грозил мне с такой непритворной злобой, что все вокруг приумолкли.
— Тюрягой меня не напугаешь. Даже если и упекут, сколько я получу? Годика два-три? Зато когда я выйду, то буду королем Парижа. КОРОЛЕМ!
Я пытаюсь осторожненько проложить себе дорогу между накаченными бицепсами и узкими лбами, но эти трое сволочей, Жерар и его дружки, улыбаясь, берут меня в кольцо. Чужие пальцы больно стискивают мочку моего уха, дергая его во все стороны.
— Знаешь, как чувствует себя приговоренный к смерти?
Я гляжу вниз, на водосток; подходят первые клиенты, явившиеся на танцы, и троица мучителей удаляется, а я спешу к террасе, где меня поджидает Бертран.
— Ты меня понял? Я буду КОРОЛЕМ ПАРИЖА! БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ! — орет мне вслед Жерар так, чтобы слышала вся улица.
Бертрану наплевать на мое горящее огнем ухо.
— Антуан, он дал тебе адрес?
— Коктейль в Швейцарском культурном центре, в Марэ.
Бертран вскакивает с места вне себя от счастья.
— В культурном центре? Не может быть!
Мистер Лоуренс обожает посещать консульства и посольства, надеясь встретить там каких-нибудь дипломатов и поболтать с ними; правда, до сих пор он всегда терпел фиаско.
— Ты не очень-то радуйся: последний раз, у шведов, нам только и обломилось что «Аквавита». Бр-р-р, ненавижу!.. А вспомни, что мы жрали? Какие-то жалкие бутербродики!
— Ну да швейцарцы люди богатые, шампанское гарантировано.
— Да ладно! Вот увидишь, дело ограничится «Джонни Уокером» и орешками. Этьен еще сказал об открытии ресторана на авеню Терн, там будут гулять до четырех утра…
— Плевать на ресторан, мы идем к швейцарцам, черт побери!
И он бежит прочь, возбужденный до крайности, так что я с трудом за ним поспеваю.
— Я считаю июнь неоспоримым доказательством существования Бога. Он создал его лично для нас! — возглашает Бертран.
— Проблема в том, что он создал также и январь, а уж его-то он задумал специально, чтобы подложить нам свинью.
* * *
В огромном, ярко освещенном окне второго этажа культурного центра я вижу силуэты гостей с бокалами в руках. Ага, значит, нам светит жрачка. Я признаю, что Бертран был прав, настояв на этом варианте. Только, боюсь, впускают туда по приглашениям.
— У нас остались визитки?
Мы лихорадочно роемся в карманах курток.
— У меня есть карточка «Bureau Parallele Sponsoring». Думаешь, прокатит? У тебя нет чего-нибудь посолиднее?
— Спуститься в метро и состряпать другие мы уже не успеем. У меня только «Stardust Fondation France».
— Брось, сымпровизируем.
Мы бодро двигаем вперед с высоко поднятыми головами, как честные люди, которым нечего бояться; в холле нас встречают молоденькие девицы службы приема. Мистер Лоуренс держится с апломбом, которому я никогда не научусь; он глядит на окружающих с пренебрежением человека, знающего, что его здесь ждут. Нас останавливает одна из пресс-атташе:
— Господа?..
— Мое имя Лоуренс, я пришел с другом. Приглашения у меня нет, но я в списке гостей.
Дама улыбается и начинает изучать список приглашенных, выискивая там имя моего напарника. Подойдя вплотную, он помогает ей искать. Проходит какая-то пара, я сердечно с ними здороваюсь. Они удивленно отвечают и удаляются.
— Как вы сказали? Лоуренс?
Бертран отстраняется от дамы, как только ему удается углядеть в списке еще не вычеркнутую фамилию.
— Извините, я вас не нахожу… Вы журналисты? Бертран заявляет, что нас пригласил знакомый
(чье имя он только что выудил из списка); тот якобы назначил нам встречу на 20 часов, но мы слегка опоздали. Для пущей убедительности он испускает легкий вздох раздражения. Дама в сомнениях, но все же решает, что лучше впустить незваных гостей, чем выставить за дверь vip'oв.
— Добро пожаловать, господа.
В тот миг, когда мне уже предстояло влиться в толпу гостей, я прислушался к происходящему за спиной и уловил словцо «халявщик», брошенное вполголоса, словно вердикт, самой догадливой из встречающих девиц. Услышь ее мистер Лоуренс, он бы расхохотался. Я же всего лишь откашлялся, привычно состроив презрительную мину мелкого воришки, с которым никому неохота связываться. Халявщики… Подумать только, раньше таких людей, как мы, называли ласточками… Н-да, утратили мы былой лиризм.
А в общем-то, все это правда, мы действительно халявщики и паразиты без стыда и совести. Мерзкая картина представилась мне в ту минуту, когда проходивший мимо официант предложил мне первый бокал: две мелкие блошки-бездельницы, уютно устроившиеся на спине ненасытного хищника. Или парочка пронырливых мышей, запертых в буфете вместе с пышным свадебным тортом, украшенным засахаренными вишенками и свечами. В общем-то, свечи так же важны, как и сам пирог.
Женщины и мужчины в повседневной одежде стоят в ярко освещенном пространстве группками по четыре-пять человек, болтают и улыбаются друг другу; деревянная лестница ведет на верхний этаж. Неизвестно даже, что они тут празднуют. Да и какая разница, мы-то здесь не за этим. Паразиты хотят есть, это единственная причина их существования. И вот наконец там, прямо по курсу, я вижу наше счастье. Оно просто бросается в глаза, это вожделенное счастье, несмотря на легкую давку вокруг него.
БУФЕТ.
Буфет, жизнь наша! Благословен будь месяц июнь! Сейчас мы его сделаем, этот буфетик, опустошим, разорим, заставим выдать все лучшее, что в нем есть. Да здравствуют швейцарские фонды! Двое буфетчиков в белых кителях встрепенулись, увидев, как мы надвигаемся на них спокойным, но решительным шагом.
— Шампанского, господа?
Будь я проклят, если когда-нибудь ответил на этот вопрос отрицательно. У меня язык чешется рассказать этому типу как я провел нынешний день, — чтобы он понял, что от такого предложения я не откажусь вовек Десятка три гостей заняли прочные позиции рядом с подносами и жуют как заведенные, делая при этом вид, будто увлечены беседой, но успевая загребать в обе руки все подряд — бокалы, канапе, закуски, салфетки и сигареты. Не знаю ничего более отвратительного, чем эти пиявки, присосавшиеся к коктейлям и с бесстыдной алчностью опустошающие блюда. Пошлые обжоры, жалкие дилетанты… У нас с мистером Лоуренсом нет ничего общего с этим отребьем. Такие людишки позорят нашу профессию, они отвоевывают себе жратву, расталкивая соседей и выхватывая у них куски из-под носа, — печальное зрелище для тех, кто стоит поодаль, небрежно попивая минералку. Вдали я узнаю Мириам, такую же, как мы, специалистку по халяве; она посылает мне воздушный поцелуй. А вот и еще два-три типа, устроившие себе штаб-квартиру на улице Лапп. Один из них, по имени Адриен, принадлежит к старой школе: он еще ходит по тусовкам со своим лазором. Лазор — это двойной карман, пришитый изнутри к пиджаку, куда прячут украденную еду. В данный момент он пытается сунуть туда бутылку сухого мартини прямо под носом у официантов. Мне стыдно за него… Мы с мистером Лоуренсом скорее стратеги: ведем себя осмотрительно, действуем изощренно, берем буфет то в клещи, по принципу Клаузевицаnote 5, то в кольцо, по принципу Дьен Бьен Фуnote 6. Я атакую великолепное блюдо с копченой лососиной и перетаскиваю себе на тарелку несколько больших ломтей. Мистер Лоуренс не так терпелив, он выбирает себе готовый сэндвич с пармской ветчиной.
— Еще по бокалу, господа?
Я прихватываю несколько канапе со свежими анчоусами и рокфором. Не упуская при этом из виду поднос с мини-овощами, готовыми нырнуть в майонез. Сэндвич с сосисками, проглоченный в полдень на улице Рокет, забыт как страшный сон.
Уже слегка окосев, я замечаю смутно знакомую фигуру мужчины, который только что пристроился к столу. Не то чтобы близкое знакомство, однако такого разок встретишь — вовек не забудешь. Я стараюсь припомнить, где я его видел. Уверен, что на нем и тогда был этот лоснящийся смокинг, а лицо отличалось мертвенной бледностью. Он не притрагивается ни к еде, ни к вину: просто стоит, прижимая полный бокал к груди. Блеклый взгляд устремлен на меня, бескровное, изможденное лицо способно нагнать страху на любого. Впервые в жизни я разделяю трапезу с мертвецом. Подходит Бертран, заглатывая на ходу перепелиные яйца.
— Заметил того типа с глазами тухлой рыбы, который на меня уставился? Ты его раньше нигде не видел?
— А как же. На террасе «Мартини», в декабре.
Ну точно! До чего же надо было набраться, чтобы забыть такую тусовку! Новогодний праздник фирмы «Кодак». Народу — не протолкнуться, целая куча важных шишек, взрывы смеха, непонятного для посторонних, «Piper» — ящиками. И этот тип. Теперь я вспомнил: у него и тогда был вид призрака, живого трупа. Вначале я увидел его за стойкой бара, на нем была бабочка, он тряс шейкер, и я принял его за официанта. Но, как выяснилось, ему просто не понравилась «Кровавая Мэри», которую ему подали, и он объяснял бармену, как ее надо готовить. Ничуть не смутившись моей ошибкой, он протянул мне бокал. Потом мы поболтали несколько минут, и я понял, что он из наших, из «ночных». И спросил, нет ли у него чего-нибудь на примете на сегодня. В ответ он с редкой готовностью порекомендовал нам отправиться в «Bains-Douches», на закрытый концерт Кида Креола and «The Coconuts». В случае, если возникнут проблемы с входом, добавил он, можно сослаться на него. Как ни странно, но это сработало. Вдобавок концерт был супер, а потом, на танцполе, мне даже удалось, якобы случайно, коснуться спины одной из «Coconuts», блистательной красотки, вскормленной на щедрой калифорнийской земле. Наверное, я единственный в мире безработный, с кем она поимела физический контакт. Труп-любитель «Кровавой Мэри» так и не удостоил нас тогда своим появлением.
Именно это багровое пойло он и согревает сейчас в руке, даже не прикладываясь к бокалу. И по-прежнему в упор смотрит на меня. Его глаза — единственный признак жизни в этом застывшем теле. По меньшей мере стоит подойти и поблагодарить за тот подаренный нам безумный вечер. А заодно выспросить, нет ли у него в запасе еще одного такого же. Итак, вперед, на абордаж!
— Как нынче «Кровавая Мэри»?
— Никакая. Но я уже перестал кусать тех, кто не умеет ее делать. От этого остается неприятный привкус во рту.
— Хотел вас поблагодарить за тот вечерок в «Bains-Douches».
— Какой вечерок?
— Концерт «Coconuts».
— Хоть убей, не помню. Мы знакомы?
— Я думал, вы поэтому на меня и смотрите.
— Я смотрел на вас потому, что вы только что проглотили кусок тухлой лососины.
— Никакая она не тухлая. Чудесная лососина.
— Через пару часов вы убедитесь, что я был прав. Стоило ему сказать это, как у меня засвербело в желудке. Наверняка самовнушение. Меня сроду не заставишь жрать тухлятину. А этот парень, оказывается, напрочь меня забыл.
— Чем собираетесь заняться после вечеринки?
— Это авансы?
— Нет, обыкновенное пиратство. И вам известно, в какой сфере.
Он ухмыляется:
— Так вы — gatecrasher?
Буквально это означает «сносящий барьеры» — так величают светских паразитов по ту сторону Ла-Манша. У них это настоящий спорт, любимое занятие снобов. Чем престижнее тусовка, тем круче считается туда попасть. Я встречал таких типов, эдаких напомаженных мальчиков, набитых деньгами, которые крутятся в высших сферах в поисках великосветских приемов, аристократических свадеб, министерских garden-parties и оргий рок-звезд. Нам-то с мистером Лоуренсом плевать на изыски, нам подай жратвы на халяву да ночных увеселений, и с нас довольно.
— Ладно, беру свой вопрос обратно, это и впрямь не ваш стиль, потому-то вы с вашим другом мне симпатичны. Если присмотреться, вас можно назвать скорее весенними ласточками, бездомными, безработными, бедными. В общем, целый коктейль качеств; если хотите, могу назвать состав.
— Что ж, попробуйте.
— Немного социального разочарования, капелька культуры, щепотка лени, толика цинизма и немалая доля юношеских грез. Смешать и подавать охлажденным. Я ничего не упустил?
— Пожалуй, нет. Разве что чуточку стремления к реваншу.
— В вашем-то возрасте?.. Ну, может быть. А, впрочем, если вдуматься, то кто из нас не жаждет реванша?! В любом случае, даже если это и не мое дело, благословляю вас на дальнейшие подвиги. Продолжайте куролесить, хватайте все, до чего дотянетесь, впивайтесь зубами во все что можно. В молодости у людей вагон свободного времени. А человек, сказавший, что мир принадлежит тем, кто встает рано, наверняка уже гниет в могиле. Вот в чем ваше преимущество над ним. На этом все, до скорого свидания, в одну из будущих ночей. Меня зовут Джордан.
И он собрался уйти, протянув мне напоследок руку, которую я задержал в своей.
— А там, куда вы идете, не найдется ли, во что вонзить зубы на троих?
Он с усмешкой высвобождает руку.
— Наверняка нет. Это не ваша область. Разве что вы истинные асы и найдете дорогу сами, без чужой помощи.
С минуту я стою неподвижно.
Где-то сзади распевает Бертран. Он опередил меня на несколько бокалов и резвится вовсю. Подходит Мириам, теперь она целует меня по-настоящему и представляет своего нового друга. Я спрашиваю, нет ли у нее чего-нибудь получше ресторана на авеню Терн, куда мы намылились под утро.
— Есть приглашение на двоих — закрытая вечеринка на Круа-Нивер, дом 12, в XV округе. Думаю, неплохой вариант. Не то что твоя забегаловка, где окромя домашнего вина вам с мистером Лоуренсом ничего не светит, а вы не очень-то любите красненькое, ведь верно?
Она права на все сто. Ее приглашение в XV-й куда более соблазнительно. Я смотрю на часы: десять минут первого. На закрытые вечеринки нельзя являться слишком рано. Лучше подождать хотя бы до часу ночи, пока атмосфера не достигнет своего апогея, не то есть риск нарваться на неприятности. Это оборотная сторона всех частных тусовок для присутствия там почти всегда нужно иметь очень веские основания. Мы же, как правило, располагаем только адресом, одним адресом, без имени хозяина, без указания этажа и дверного кода и без малейшего представления о том, что там происходит. Бывало, в результате «ошибки стрелочника» мы попадали к людям, которые отмечали крещение младенца в крошечной двухкомнатной квартирке, где растроганные бабульки резвились, нализавшись «Marie Brizard» Французский ликер. note 7. Я уж не говорю о тусовках подростков, которые, выставив родителей из дома, пируют, угощаясь жирными тортами и пойлом типа «Banga». Правда, под столом при этом курсирует бутылка дешевого виски. В таких случаях мы предпочитаем оставлять их блевать между собой и сваливаем, на все лады проклиная кретина, давшего нам этот адрес. В общем, всякое бывает.
— Ты-то сама там будешь, Мириам?
— Нет, я иду к своему парню. А что, тебе нужно мое приглашение?
— Да.
— Извини, но не могу; вдруг мне не покатит, тогда я подгребу туда ближе к утру. Так что выкручивайтесь сами. Но я могу подбросить вас в XV-й, у моего дружка есть тачка.
Уж не знаю почему, но меня всегда больше прельщают простые адреса, они сулят тайны, они многое обещают. Стоит мне, к примеру, услышать «улица Бобийо, 25» или «улица Тюренна, 132», и я уже готов на все. Ну как можно устоять перед словами «Галерея Вивьен, дом 60» или «авеню де Брепгей, дом 2»? Недаром же говорят, что Париж — это волшебный сундук, в котором великое множество потайных ящичков и отделений. Мы с Бертраном работаем в тесной связке; в нашем тандеме он обладает апломбом, а я — нюхом. И несмотря на безжалостные утренние часы, это длится уже почти два года. Ладно, будь что будет! Нынче вечером дом 12 по улице Круа-Нивер станет нашим единственным горизонтом, нашей последней надеждой, перед тем как мы снова очутимся на улице, где ничего нового нам не грозит.
Проходит официант с подносом.
— Еще по бокалу, господа? Глоток вина поможет пищеварению.
Издевается, подлец! Он извлекает бутылку из своей серебряной помойки со льдом и бесшумно откупоривает. Мне чудится, будто с каждой минутой этот зал выглядит более ветхим, угощение — каким-то нереальным, и что я тут делаю — загадка для меня самого. Мистер Лоуренс развязно жестикулирует и громко разглагольствует. Окружающие неодобрительно на нас поглядывают. Наверное, уже довольно поздно. Почти все разошлись. Официанты собирают подносы. У меня вытаскивают из рук тарелку с клубничными тарталетками.
— Уходим?
Вместо ответа Бертран орет: «Да здравствует Баннхоф-штрассе! » Пора его отсюда выводить, иначе он начнет дергать гостей за галстуки, кукуя в такт, словно кукушка в стенных часах. На улице я делаю ему выговор: нечего понапрасну привлекать к себе внимание и нарываться, чтобы тебя вытолкали взашей. Для нас это вопрос экономики. Учитывая наш образ жизни, у нас есть все шансы продолжать в том же духе еще неопределенно долгое время. Но Бертрану на это плевать. Для него каждая вечеринка — повод для взрыва, который разнесет все вокруг. Иногда, напившись до его кондиции, я говорю себе: а может, он прав?
По дороге мы останавливаемся у торгового центра, где я отксериваю на белом бристоле фальшивое приглашение с карточки Мириам. Нам случалось проделывать трюки и похлеще. Ее новый дружок Оливье очень мил, он терпеливо нас ждет. Мириам объясняет, что он программист и хороший парень, что они с ним очень разные, но прекрасно ладят. Программист улыбается так, словно мы — компания друзей, с искренним интересом принимающая в свой круг новичка. Этот дурачок даже не подозревает, что с Мириам нас связывает лишь притворная солидарность паразитов общества. Ему еще не известно, что она прожигает жизнь на тусовках, обожает коктейли и меняет любовников как перчатки. И что через несколько часов она выдернет его из постели и потащит танцевать.
Бертран потешается, разглядывая нашу фальшивку, и читает вслух: «Euro-System» приглашает вас на летний фуршет. Вечерний костюм обязателен».
— Это что еще за зверь — «Euro-System»?
— А черт его знает! — говорит Мириам. — Но это уже не первая вечерина, которую они устраивают, и народ рвется на них, как сумасшедший.
И она осыпает своего кадра поцелуями, нежными, как подметки сандалий, прошедших все Гоа.
— Ну, желаю вам хорошо повеселиться, — добавляет она, обнимая своего дружка за шею с глупой и фальшивой улыбкой, которая должна подготовить его к бессонной ночи.
* * *
— Да вы что в самом деле, смеетесь над нами?.. Посмотрите на это голубое пятнышко в углу! Разве оно есть на вашей ксерокопии?
— Но… я не совсем понимаю…
— Оставь его, Бертран.
Из дома доносятся гитарные аккорды, будоражащие душу; это вступление к классному хиту группы «Clash», от такой музыки хочется взорвать весь город и заорать: «Да здравствует анархия! » Но ввиду столь холодного приема сейчас явно не время. Перед нами четверо типов в синих блейзерах с эмблемой на кармашке; один из них сидит и прилежно рвет в клочья наши приглашения. Остальные, с рациями в руках, бдительно охраняют вход в этот частный особняк из блеклого камня, втиснутый между мебельным магазином и современной многоэтажкой. Пять-шесть субъектов, которым, как и нам, дали от ворот поворот, терпеливо расселись на заградительных барьерах, готовые клянчить снова и снова, чтобы их впустили. Мне кажется, что этот орешек нам не по зубам.
Голубое пятнышко… Господи, чего только не придумают в наши дни, чтобы отвадить халявщиков! Я тяну Бертрана за рукав среди унизительной, мертвой тишины. Даже рокеры «Clash» и те умолкли, слышна только глухая барабанная дробь. Мне хочется бежать прочь, чтобы скрыть свой стыд, — так напуганный таракан скрывается в щели под раковиной. Ненавижу обломы. Я шепчу Бертрану, что нам нечего здесь больше делать. В ответ он испепеляет меня взглядом и бросается в новую атаку.
Похвальное упорство. Но мы сильно рискуем: охранники запросто могут вышвырнуть нас пинком под зад. Лучше уж было совсем не иметь приглашения, чем пытаться надуть этих горилл, которые именно для того здесь и поставлены, чтобы избавлять частные вечеринки от таких прихлебателей, как мы. Боюсь, наше дело тухлое.
— Я ничего не понимаю, нам дали это приглашение всего два часа назад в «Паласе»!
Еще один вид блефа — возмущение. Это уже на грани гротеска. Бертран готов на любой компромисс, лишь бы войти в эту дверь.
Да и сам я, несмотря на сильное желание смыться, невольно вздыхаю, поглядывая на этот славный особнячок. Внутри — вавилонское столпотворение. Пахнет роскошью и развратом. Таких приемов бывает от силы десяток в году. И теперь в любом другом месте ночь покажется нам бесконечно долгой, и ничто не сможет нас согреть. Я уже предвижу дальнейшую программу: сейчас мы потащимся пешком в наш «генеральный штаб» — «Тысячу и одну ночь», обвиняя друг друга в промашке, и будем умолять Жан-Марка впустить нас, и он впустит, и мы увидим, как люди танцуют и пьют коктейли по семьдесят франков за бокал. А мы будем угрюмо молчать в ожидании рассвета, с мозгами всмятку от децибелов и мерзким вкусом неудачи во рту.
— Это частный прием, господа, я очень сожалею…
Известная формулировка. Бертран пожимает плечами и вздыхает; охранники, потешаясь, указывают нам на улицу.
— Послушайте, это просто смешно. Вот что я вам предложу: мой друг подождет здесь, а я пройду внутрь и отыщу того, кто дал нам это приглашение. Это займет не больше пяти минут. Если угодно, один из вас может меня сопровождать.
С ума сойти! Бертран пошел на крайнюю меру — он надеется углядеть среди гостей случайного знакомого, который, если сильно подфартит, сможет убедить охранника впустить нас. Последний раз этот трюк сработал на ежегодном празднике газеты «Актюэль» в зале на авеню Ваграм. Но, надо думать, все, кто парится тут, на тротуаре, уже испробовали эту хитрость.
— Это невозможно. Кто вам дал приглашение?
— Э-э-э…
Бернар оборачивается ко мне в надежде, что я назову хоть какое-нибудь имя.
— Джордан, — говорю я.
Джордан… Это имя вырвалось у меня непроизвольно — просто воспоминание о призраке все еще не давало мне покоя. Вдруг показалось, что все должны знать Джордана. А почему бы и нет в конце концов?! Сработало же это в «Bains-Douches». К тому же есть шанс, что он и в самом деле находится там, внутри. Ведь он намекнул на какое-то волшебное место, куда мы должны были сами отыскать дорогу.
— Я уверен, что он уже пришел.
Гориллы переглядываются, и внезапно один из них опускает руку, преграждающую вход.
— Джордан… а как фамилия?
— Да его все зовут просто Джорданом! Вы наверняка его знаете! Уверяю вас, что он там и ждет нас; уж он-то нам разъяснит эту историю с фальшивым приглашением.
Теперь я тоже включился в игру. Блеф, в чистом виде блеф! Но если уж блефовать, то до конца, лишь бы не возвращаться, поджав хвост, в «Тысячу и одну ночь». И черт с ним, с этим Джорданом, в конце концов больше он нам никогда не понадобится.
— Вы можете его описать?
— Он всегда носит смокинг и пьет только «Кровавую Мэри». Это наш близкий друг, и не в его привычках устраивать нам подлянку. Здесь просто какое-то недоразумение.
— Входите.
— Как???
— Входите, — повторяет охранник. — Извините, что задержал вас, желаю приятного вечера.
От удивления я прямо остолбенел. Бертран силится сохранять бесстрастный вид, но я заметил, что и он изумленно моргнул при этих словах. Шайка халявщиков выпучила глаза, увидев, как мы величественно прошествовали к огромной застекленной двери, где юные девы в синих юбочках и блейзерах встретили нас с радушной улыбкой. Мне почудилось, что этот инцидент длился целую вечность, на самом же деле играл все тот же трек группы «Clash». He особо понимаю, каким чудом нам удалось вынырнуть из бездны. Достаточно было назвать имя, взятое наугад или почти наугад, и этот загадочный «сезам» неожиданно отворил перед нами двери рая. Хорошенькая блондинка указала нам путь к пещере Али-Бабы, к сокровищам, которые мы уже и не надеялись узреть. Впереди звучит «Rolling Stones». Еще один хит, который вызывает желание окунуться с головой в эту музыку, венчающую нашу удачу.
Несмотря на беспощадно яркий свет прожекторов, я ничего не вижу вокруг кроме пышной фигурной лепнины и беломраморной лестницы. Наконец мы попадаем в бальный зал в старинном стиле, с танцполом, освещенным прожекторами; в их разноцветных лучах опьяненная восторгом публика отплясывает под пение Мика Джаггера. Столы с белыми скатертями. Толпа гостей. С первого взгляда чудится, что это дымящаяся магма из трех сотен тел, которая стекает вниз по всем лестницам, собираясь в пестрое озеро на танцполе. И чтобы накормить и напоить допьяна всю эту тусовку, вдоль стен тянется вереница столов — настоящая вакханалия жратвы на все вкусы, всех цветов радуги. Такое встретишь нечасто. Пожалуй, что никогда. Где бы ты ни стоял, когда бы ни появился, здесь есть чем и поужинать, и позавтракать, и отведать блюда всех часовых поясов, любой широты и долготы. Лазанья и мясо по-кантонски, салаты из свежих фруктов и суши, новая кухня, разливанное море шампанского и бочонок с шотландским виски. Есть даже маленькая деревянная хижина, где раздают сыры, а уж на блюде с шоколадным тортом можно, если потесниться, стоять втроем. В общем, все настолько роскошно и модно, что даже противно.
А вокруг теснятся триста человек, которые налегают на эту жратву, как будто так и надо. Средний возраст — тридцатник, сливки ночных тусовок. Каким образом все они ухитрились раздобыть настоящие приглашения, когда нас с Бертраном едва не вышвырнули вон? Это еще раз доказывает, что Париж — всегда Париж и что он пока еще слишком велик, чтобы я мог схавать его. Я узнаю некоторых из гостей, одному-двоим из них киваю, остальных стараюсь не замечать.
Не сговариваясь, мы синхронно подгребаем к первому столу, где опрокидываем по паре бокалов шампанского.
— Ты есть хочешь?
— А ты?
Высокая блондинка в темных очках стреляет у меня сигарету и возвращается на танцпол; в ультрафиолете ее белая маечка отливает лиловым.
— Бертран, где будем ночевать?
— Здесь.
Ну тогда я могу чувствовать себя как дома. Именно это я и хотел услышать, донимая мистера Лоуренса своими дурацкими вопросами. Потому что он еще способен провести ночь на улице, в плаще, приткнувшись у какого-нибудь подъезда. Я же не прошу ни кровати, ни комнаты, но мне нужна хотя бы иллюзия крыши над головой. Я не настолько поэт, чтобы чувствовать себя дома под открытым небом. И не настолько бродяга. Нет, я не какой-нибудь там клошар. Знаю, до этого было недалеко, но я выбрал иной тип отклонения от нормы.
В толпе я узнаю нескольких знаменитостей. Вон там стоит актрисулька в косухе, свирепо стянувшей ее бюст, с молнией до подбородка. Совершенно непонятно, почему она так захомуталась, учитывая жару и то, что ее сиськи все равно все видели по телику, когда она играла в «Нана» Золя. Художник Гаэтано, автор комиксов, хлопает меня по плечу. Я спрашиваю, как дела у его героя, и он говорит, что намерен вскорости прикончить его. Несколько минут я уговариваю его пощадить беднягу, затем возвращаюсь к шампанскому. Бертран уже танцует. Обычно ему нужно надраться в дым, чтобы дать уговорить себя подрыгать ногами. Он отплясывает совершенно уникальным образом, совершая прыжки в стиле Грушо Маркса и хлопая окружающих по затылкам, что нравится далеко не всем; однако никто еще не набил ему за это морду. Звучит новый трек «Clash», и я уже почти готов присоединиться к Бертрану, чтобы передохнуть от окружающей меня словесной помойки. Немножко настоящего, старого доброго рока, с его гитарами и мелодическими вывертами вполне стоит ночного сна. Еще бокал, и меня не остановишь, я буду флиртовать с девушками, отжигать и валять дурака, воспевая месяц июнь, и так до самого рассвета. Глядя на это скопище зомби, беснующихся вокруг меня, я прозреваю истину: разве есть настоящая жизнь где-нибудь, кроме таких мест?!
Я бы еще долго размышлял над этим вопросом, если бы не почувствовал, что меня трогают за плечо.
Пара синих блейзеров с эмблемой на кармашке.
— Не угодно ли пройти с нами, мсье… как вас зовут?
— Это вы мне?
— Где тот господин, с которым вы пришли?
— Пройти с вами?..
— Тут один человек хочет с вами поговорить внизу, это простая формальность, не более.
— Ребята, да вы, верно, обознались!
— Не заставляйте нас прибегать к силе.
Когда они вознамерились схватить меня за рукав, я рванулся в сторону и толкнул официанта с подносом; бокалы грохнулись на пол, но никто этого даже не услышал, только небольшая группа гостей захихикала, глядя на меня, остальные продолжали плясать, и я увидел, как шампанское стекает по голым ногам и осколки стекла хрустят под кроссовками танцоров. Я крикнул Бертрану, который отплясывал вдалеке.
В этот момент чья-то рука стиснула клещами мое плечо; я врезался в танцующих, которые даже не заметили этого, и позвал на помощь, не слыша собственного голоса. Тогда я завопил во все горло — некоторые сочли, что я хочу голосом перекрыть музыку, — и юркнул в толпу, решив затеряться среди стоящих едоков; на какой-то миг я подумал, что стал невидимым, однако зоркие парни в блейзерах мгновенно лишили меня этой иллюзии. Они прижали меня к столу, растолкав обжиравшихся гостей, и те перешли к соседней кормушке.
— Вы приняли меня за кого-то другого! — крикнул я в ухо одному из охранников.
Вместо ответа он схватил меня за отвороты пиджака; я нашарил на столе блюдо с горячим мясом в соусе и швырнул ему в морду. Я обжег себе пальцы, он закрыл лицо руками, и я даже не услышал, как он взвыл от боли. Остальные схватили меня за руки и так свирепо вывернули их за спиной, что мои локти врезались друг в друга. Я выгнулся дугой и понял, что сейчас у меня лопнут кости.
Внезапно все окружающее застыло, силуэты людей растаяли, музыка распалась на отдельные звуки, и я увидел стул, который врезался в чей-то затылок на уровне моего лица. Этот удар высвободил мою левую руку.
Бертран, озверевший от ярости. Бертран, друг мой… ты видишь, до чего они осатанели?.. И все потому, что, увидев свет и услышав музыку, мы с тобой захотели отведать птифуров, которые приготовили не для нас. Парень, скрутивший мне руки, ткнулся подбородком в мою щеку. А вот и другие блейзеры на подмогу. Я видел, как Бертран упал и какая-то тень подхватила его у самого пола. И только когда его поволокли к выходу, я перестал сопротивляться и обмяк в железных тисках своих мучителей, немало удивленных этой покорностью. Меня повели за Бертраном, вернее за телом Бертрана, которое тащили к дверям. А позади нас пляшущие фигурки колебались, точно язычки пламени в затухающем костре из сплетенных тел.
2
Там, по другую сторону зеркала, человеческое пожарище напоминало старый черно-белый фильм; вспышки стробоскопа рассекали сцену на шестнадцать кадров в секунду, и все ее персонажи, даже не подозревавшие о том, что за ними наблюдают, двигались и жестикулировали только для одного зрителя — для меня. Вот надвинулось женское лицо, искаженное лихорадочным тиком; рука подправила тушь на ресницах и провела помадой по губам, скривившимся в удивленной гримасе животного, впервые увидевшего свое отражение. Бертран, распростертый на полу, застонал, приходя в себя. Вместо того чтобы приводить в чувство его бездвижное тело, как бывало в утра тяжкого похмелья, я оставил его без внимания, поглощенный тем, что происходило в бальном зале, по другую сторону зеркала без амальгамы. Это был великолепный стеклянный экран, метр на два, абсолютно фантастический — окно с видом на сцену поклонения золотому тельцу, пока еще не свергнутому; панорама действа с налетом непристойности, отравляющей, в конечном счете, все людские души. Это выглядело так, словно Господь бог одолжил мне специальные очки, позволяющие разделить с Ним его обеспокоенность моральной деградацией своих созданий. Я прямо-таки слышал, как Он говорит: «Ну ладно, о'кей, я придумал танец, а они сделали из него эту бешеную языческую пляску. Я придумал музыку, а они превратили ее в рок-н-ролл. Я придумал анчоусы, а они изготовили из них масло, которое мажут на хлеб, едят зачем-то по ночам да еще половину роняют при этом на пол». А я, жалкий паяц со стеклянными глазами, стремлюсь объяснить Ему, что каждый борется со скукой, как может, ибо чем заняться человеку с руками, скрученными за спиной?
Да, жизнь стала сурова к нашему брату-халявщику. Против нас принимаются поистине драконовские меры. А в чем мы, собственно говоря, провинились? Мы всего-то мелкие паразиты, прихлебатели, никому не приносящие вреда. Крысы, которые шныряют повсюду, но умеют исчезать, едва почуют опасность. Мне хочется заорать во все горло, что я — жертва юридической ошибки, что еще не поздно дать задний ход. О'кей, господа, простите нас, мы больше не будем, с завтрашнего дня мы возьмемся за работу, мы будем мыть вам посуду, таскать ящики с шампанским, не притрагиваясь к содержимому, стирать ваши скатерти и ложиться спать засветло, без шума и скандалов. Этот урок пойдет нам впрок, хватит корчить из себя богачей, пировать на чужих праздниках, прикидываясь хозяевами жизни. Но нас тоже можно понять…
Эх, видели бы вы Бертрана и меня на бирже труда в районе Порт де Клиши, куда мы пришли вставать на учет! Настоящая комедия, в которой участвовали помимо нас десятки других безработных, уволенных, выставленных за дверь; люди всех возрастов тихохонько сидели на стульях и слушали речь представителя биржи, разъяснявшего нам, что, по большому счету, мы должны полагаться только на самих себя, чтобы выйти из бедственного положения. Потом мы заполнили анкеты. Образование: никакого. Пожелания: никаких. Хотя нет, у Бертрана одно было — стать послом. Или культурным атташе в какой-нибудь теплой стране. Однако служащий вряд ли оценил его чувство юмора. Все препятствовало этому — мерзкая осенняя морось, гул машин на кольцевом бульваре, убогое панельное здание биржи, диафильмы с улыбающимися конторскими служащими и сварщиками в железных забралах в фонтане разноцветных искр. Нам обоим пожелали удачи, ибо, с учетом нашего возраста, мы еще могли на нее рассчитывать, хотя и ни хрена не умели делать. После чего выставили на улицу, вручив каждому розовую бумажонку, дающую право на пособие по безработице. Мистер Лоуренс торжественно объявил: «Ну-с, вот мы и перешли Рубикон! » Тогда я не сразу понял его, хотя оценил точность формулировки. Это и в самом деле было утро подведения итогов, утро, ставшее началом другой жизни. Другой. Странное это ощущение — когда что-то закончилось, еще не успев всерьез начаться. В тот день я понял, что достаточно пережить такое вот утро понедельника, чтобы вспомнить сразу все вопросы, накопившиеся за твою невинную молодость. Лишь в одном мы были твердо уверены: нас двое, а это минимальное число, дающее право говорить «мы» и необходимое для разработки альтернативного образа жизни. Перебрав несколько дурацких вариантов работы и тут же, на улице, рассчитав размер причитающегося нам пособия, мы обнаружили, что эта наша другая жизнь дальше развиваться не спешила.
Мы посидели на скамейке в саду Пале-Рояль, сыром и безлюдном. А потом, в семь часов вечера, бредя по улице Мазарини, вдруг увидели в запотевшей витрине какой-то галереи чокающихся людей. Именно в этот миг мы и осознали, что живем-то, черт возьми, в Париже. И вместо того чтобы медленно, но верно превращаться в бродяг и хлестать дешевое красное вино, можно вложить деньги в другой, невероятный, но заманчивый проект — покупку смокинга.
— Наслаждаетесь зрелищем?
Я и не слышал, как они вошли. Два типа в блейзерах; третий, с узенькой бородкой от уха до уха, стоял подбоченившись. В полумраке я едва смог разглядеть его лицо — совершенно мне незнакомое, властное, с усталыми глазами. Возраст — лет шестьдесят с гаком. Уверенная осанка. С минуту он глядел в волшебное стекло, наблюдая за агонизирующим празднеством. Это был тот черный, ненавистный час — время самых стойких тусовщиков, когда плавятся мозги, а первые сполохи зари становятся худшим приговором. Я предпочел перевести взгляд на Бертрана, который, лежа на ковре, вопросительно взирал на меня. Но что я мог ему сказать, кроме того, что из одного кошмара мы угодили в другой. Бывали у нас неприятные пробуждения, но такого мы не забудем никогда.
— Развяжите их, — бросил, не оборачиваясь, старик.
Я начал массировать онемевшие запястья, Бертран попытался встать на ноги. Я чувствовал, что должен заговорить, хотя понятия не имел, что можно сказать в подобном случае. Однако бородач не дал мне и рта раскрыть.
— Я снял помещение только ради этого зеркала без амальгамы. Вы находитесь в старинном борделе — борделе для богачей. Зеркало служило для подсматривания как любителям эротики, так и хозяевам.
И он включил свет, радостно захихикав над собственными словами и повторив несколько раз: «Зеркало без амальгамы… зеркало без амальгамы… » Я протер глаза. Письменный стол эпохи Людовика XV, лепнина на потолке, всюду, куда ни глянь, позолота.
— Мы с приятелем очень сожалеем, что вторглись в ваш дом, на ваш праздник. Мы просто хотели немного развлечься, вот и все, и совсем не собирались скандалить. Мы приносим вам свои извинения и попытаемся возместить ущерб. Хотя мы не очень-то богаты.
— Да вы просто банда кретинов и дегенератов, вы и ваши шавки в блейзерах. Я и не подумаю извиняться!
Вот и Бертран подал голос. Бертран, который еще не очухался и сейчас все испортит. Я свирепо оттолкнул его в сторону.
— Не слушайте его, мсье… Он просто не в себе… Он, конечно, извинится.
Старик резко повернулся.
— Значит, вы живете ночью?
Я мгновенно ответил «да», раздираемый страхом и удивлением.
— Почему?
Мы с Бертраном переглянулись, не зная, что сказать.
— Наверняка должны быть какие-то причины, люди не живут ночной жизнью просто так. Что толкает вас на улицу с приходом темноты? Вот они, например, там, за стеклом: почему они бодрствуют в такое время? — спросил он, тыча пальцем в зеркало.
— Ну… потому что… тогда-то все и происходит.
— Что именно? Что вы разумеете под словом «все»? Закуски и шампанское?
— Ну… и это тоже…
Старик шепнул несколько слов одному из охранников, и тот вышел из комнаты, вероятно, чтобы не мешать нашему дальнейшему разговору.
— Я просто интересуюсь, понимаете? Профессиональное любопытство. Значит, вы проводите таким образом каждую ночь?
— Ну… бывают вечера, когда мы прекрасно обошлись бы и без этого. Иногда, знаете ли, хочется развалиться на диване перед телевизором, попивая теплый травяной отвар, вот только нам это почему-то не светит.
— Нет, здесь кроется что-то еще… Поразмыслите как следует… Вам самим-то не бывает тошно? Не возникает ощущение, что вы что-то воруете?
— А может, вам еще и паспорт предъявить? Мы требуем разъяснений: почему нас держат здесь после того, как ваши гориллы первыми напали на нас? Мы будем разговаривать с вами только в полиции; кроме того, я требую врача, у меня, вполне возможно, черепно-мозговая травма. Я попал в ваш дом не как взломщик, я нахожусь под защитой закона! — орал Бертран.
— Но только не ночью, в это время никакой закон вас не защитит. По ночам вы выходите из укрытий, вы беззащитны. Видимо, поэтому вы и избрали для себя ночь — она двойственна, она дарит вам одновременно и убежище, и простор для действий.
Я бросил взгляд на часы. 5.30 утра. Старик и меня уже начал раздражать всерьез.
— Когда встречаешь людей вашего сорта, ночь, пожалуй, опасна. Но обычно дело так далеко не заходит. Самое большее, нас может вышвырнуть на улицу хозяин кафе, которому не глянулись наши физиономии.
— А как вы встретились, вы двое?
Вопрос был настолько неожиданным, что я подробно на него ответил. Я, вероятно, подумал, что он не выпустит нас, если мы откажемся потакать его капризам. Это заняло долгое время, нам пришлось собрать воедино все наши воспоминания, старикан слушал нас с невероятным интересом. При этом он то и дело просил повторить некоторые фразы и выяснял подробности, казавшиеся нам совершенно неважными. Затем он обратился к Бертрану:
— Что вы почувствовали в тот миг, когда на вашего друга напали? Я наблюдал за этой сценой, но мне хотелось бы знать, о чем вы тогда думали.
Бертран растерянно молчал. Старик явно не собирался помогать ему, напротив. Казалось, это обескураженное молчание и было ответом, которого он ждал.
— Вы сказали на входе, что пришли по приглашению Джордана. И еще сказали, что он тоже должен быть здесь. Я ждал, но…
— Да все, что мы сказали, правда до последнего слова! А если он предпочел закончить ночь где-то в другом месте, это еще не повод, чтобы бить нам морду и удерживать здесь!
— Опишите мне его.
— Ну говорю же я, что мы с ним знакомы, Господи боже! Он довольно странный тип, этот Джордан. Мы уже давно тусуемся вместе. Поначалу нам казалось, что он чокнутый, но теперь мы к нему привыкли. Вчера вечером мы видели его в Швейцарском культурном центре, он там вливал в себя литрами «Кровавую Мэри».
— И, насколько я его знаю, он вполне способен завалиться сюда даже сейчас, в пять утра; он обожает приходить под конец вечеринок, большой оригинал! Сколько раз мы с ним встречали рассвет на улице… — добавил я, стараясь говорить как можно убедительнее.
В комнату вошла молоденькая красотка в блейзере с сервировочной тележкой и улыбкой во весь рот; оставив тележку, она тотчас исчезла. Старик вынул из ведерка со льдом бутылку шампанского и налил нам по бокалу. Кроме этого нам предлагались бутербродики с соленостями, нарезанный торт, кофе и венские булочки.
— Угощайтесь, господа, вы ведь обожаете деликатесы.
С этими словами он опять вернулся к стеклу.
— Зеркало без амальгамы… Как подумаю, что занимался этим ремеслом целых тридцать лет!.. Вы нравитесь мне, мальчики. Чувствую, что знакомство с вами добавит интересную главу к моим мемуарам.
Бертран искоса глянул на меня, сделав жест, означающий, что мы вляпались по-серьезному. Нас занесло не к обиженному хозяину вечеринки. Отнюдь. Мы попали в лапы к сумасшедшему. К настоящему психу. И притом к психу со средствами и надежной охраной. Я спросил себя, в каком состоянии мы отсюда выйдем. Старик тем временем медленно заговорил:
— Ну, что ж, все прекрасно. Если бы вы знали, до какой степени меня порадовал ваш рассказ!.. Дело в том, что сам я никогда не видел этого вашего Джордана.
Меня охватило какое-то странное ощущение — смутный, глубоко угнездившийся страх вперемешку с любопытством. Бертран удивленно захлопал глазами. Старик продолжал:
— Ваш Джордан хочет меня прикончить. Я знаю, что он уже много месяцев охотится за мной.
Он повертел в руках бокал с шампанским, которое даже не пригубил. И закончил так
— Я его еще не нашел. А вот вы — найдете.
Я начал массировать себе виски, надеясь, что это поможет мне восстановить мыслительный процесс. Про себя я повторил сказанные им слова, но не услышал ничего кроме потрескивания, какое бывает в испорченных радиоприемниках. Несколько секунд я стоял, закрыв глаза. А открыв их, увидел робкую улыбку на губах Бертрана.
— Погодите… Погодите… Давайте выясним все сразу. А то получается какая-то идиотская ситуация. Я хочу объяснить вам все по порядку. На самом деле мы вам тут много чего наплели, но это просто часть нашей методики. А правда заключается в том, что с этим самым Джорданом мы едва знакомы — ну, встретились с ним разок вчера вечером в Швейцарском культурном центре, только и всего… По-настоящему никто его не знает — так, ночной прохожий… Мелькнул, и нет его… Мы просто использовали его имя, чтобы войти сюда, это один из наших приемов… Однажды мы так же проникли на Салон эротики, выдав себя за внучатых племянников Мишеля Симонаnote 8, можете себе представить! Мы называем людей, которых в глаза никогда не видели, а дальше ведем себя тихо, как мышки… Если бы вы знали, сколько врагов мы себе нажили из-за этого… Вот видите, мы ровно ничего собой не представляем… Старик расхохотался.
— Умоляю вас, поверьте, мы его совершенно не знаем… Нам всего-то и известно, что он любит «Кровавую Мэри»… Мы даже не можем назвать вам его фамилию… Такие чокнутые бродят только по ночам, в этом вы правы… Днем их нигде не встретишь.
Наступило молчание.
За стеклом черномазые уборщики начали подметать зал, тесня к выходу последних гостей широкими взмахами элегантных метелок.
— Что же он делает днем?
— Да почем мы знаем, пропади он пропадом! Говорю вам: мы видели его ровно один раз, черт подери!
— И как по-вашему, он из наркоманов, из карманников, из нищих или извращенцев? Или он просто — freak? Как это будет по-французски — freak? Урод, чокнутый, блаженный?
— Да плевать нам на вашего Джордана, мы хотим выйти отсюда и поискать утолок, где бы отоспаться.
— Такой уголок у вас будет, не беспокойтесь. С широкой кроватью и завтраком в постель. По крайней мере для одного из вас.
До нас не дошло, что он хотел этим сказать, как не дошло и все остальное. Переглянувшись и молча согласовав наши дальнейшие действия, мы дружно встали, готовые объявить, что шутки кончились и нам пора.
— Вы, конечно, понимаете, что, зная намерения Джордана, я не собираюсь сидеть и ждать его появления. Мне нужен Джордан, слышите, он мне нужен! И поскольку вы с ним знакомы, поскольку вы посещаете одни и те же места, поскольку вам все равно больше нечего делать кроме как шляться по ночам, именно вы-то мне его и изловите.
— Что?
— Проникая сюда его именем, вы даже не подозревали, какую глупость совершаете. Мне здорово повезло!
— Но ведь мы же вам сказали, что…
— Я ищу его уже много месяцев, я все испробовал. Но мы с ним принадлежим к разным мирам, к разным кругам общества. Я ничего не смыслю в ночной жизни.
— Это при том, что вы устраиваете подобные приемы?
Он не удостоил нас ответом на эту шпильку.
— Зато вы — настоящие профи, и жизнь наоборот, в вывернутом мире — эта ваша специальность.
— Вы что, шутите?.. Сперва нам набили морду, а теперь вы требуете, чтобы мы работали на вас? Обратитесь в полицию, наймите сыщиков, частных детективов, у вас ведь денег куры не клюют.
Старик опять расхохотался.
— В полицию?.. Избавлю вас от долгого перечисления причин, по которым я не могу обращаться туда; если я начну рассказывать, вы все равно мне не поверите. Зато частных детективов я уже опробовал. Пустил по следу сразу троих. Одновременно. Они работали целых четыре месяца. Четыре месяца! И в результате бесследно исчезли сами — с концами. Впрочем, это вполне логично… Я скоро понял одну вещь: для того чтобы обуздать парижскую ночь, нужны контакты, связи, знание входов и выходов. В Соединенных Штатах все по-другому: там вы объявляете о приглашении, а дальше оно передается из уст в уста в течение месяца, не меньше, и это позволяет хозяину оценить состав гостей, которых он заслуживает; в общем, странная система. А вот в Париже нет ничего хуже анонимного гостя. Ну да не мне вам это говорить. Так как же вы хотите, чтобы на подобный прием проник сыщик, ведущий тайное расследование?
Тут он не ошибся. Это был первый разумный аргумент, который я от него услышал. Жестокий закон ночных джунглей гласит: будь ты хоть трижды богач, но без надежных связей ты никогда не можешь быть уверен, что окажешься в нужном месте в нужное время. Мир вечного праздника скрывает слишком много такого, что нельзя показывать соглядатаям и чужакам. Вот один из парадоксов этого мира: смокинг здесь куда более неприметен, чем серый плащ. Еще один парадокс: чем ретивее ищешь какую-нибудь информацию, тем неохотнее тебе ее выдают.
И третий парадокс: всех нас здесь знают наперечет, даже без бэйджей на груди.
— Мне нужен кто-нибудь из ваших. И лучше вас мне не найти. К тому же у вас есть весомый козырь — вы с Джорданом приятели.
— Да ничего подобного! Мы перед этим парнем — никто и звать никак! Он-то настоящий ас, он посещает такие места, куда нас и на порог не пустят. Мы же просто мелкая шушера: бокал скверного шампанского — и у нас уже глазки блестят; приглашение в ресторан — и нам уже сам черт не брат, хотя мы не можем дать ни гроша чаевых. Да я вам больше скажу: каждый месяц мы ходим на биржу труда и пишем фальшивые заявки на работу, чтобы урвать пособие. Разве это не доказывает наше ничтожество? А ваш Джордан — аристократ, persona grata, нам до него далеко, как до неба.
Уж и не помню, кто из нас это сказал, Бертран или я. Но потом мы, все трое, на минуту умолкли.
— И все же… все же… Вы мне сейчас рассказали о нем куда больше, чем та троица кретинов, из-за которых я потерял даром столько времени.
Он налил себе кофе, а мы, сникнув, глядели на него. Мы так долго изображали ночных хищников, что в конце концов нам поверили. И поймали в ловушку. Внезапно Бертран улыбнулся той фальшивой, заискивающей улыбочкой, с которой он всегда просил бармена класть в стакан поменьше льда и наливать побольше виски.
— Ладно, договоримся, — сказал он. — Предлагаю такой вариант: мы не станем поднимать шум о том, что вы на нас напали, и обещаем тут же позвонить, если повстречаем вашего парня.
— Мы даже готовы предпринять кое-какие розыски и порасспрашивать о нем, — добавил я.
Перед тем как ответить, старик вынул из кармана пятифранковую монету и повертел ее в руке.
— И это обойдется вам дешевле, чем нанимать сыскарей, — хихикнул Бертран. — Оставьте ваши денежки при себе, мы как-нибудь договоримся.
— Да, я был уверен, что мы договоримся… э-э-э… как ваше имя?
— Бертран.
— Ну что, Бертран, орел или решка?
— Что вы от меня хотите?
— Хочу знать, кто из вас пустится на поиски первым. В данной ситуации лучше всего бросить жребий, вот я и спрашиваю, орел или решка?
— Орел.
— Ну, вы же не думаете, что я возьму да и выпущу вас обоих на свободу? За кого вы меня принимаете?
И он позвал двоих охранников, ожидавших за дверью. У одного из них вся морда была забинтована.
— Один из вас останется здесь на двое суток. Гарантирую, что с ним будут обращаться, как с моим личным гостем. А второго отпустим. Я выдам ему наличные деньги и номер телефона, куда он сможет позвонить, если добьется результатов раньше намеченного срока. В противном случае он должен звонить в пятницу, в 10 часов утра, чтобы договориться о встрече.
И он отхлебнул кофе.
— Вот так вы и будете работать, подменяя один другого, по двое суток, все то время, что потребуется для розыска. Для большей ясности скажу вам следующее: во-первых, «Euro-System» не существует в природе. Во-вторых, меня здесь никто не знает, и добраться до меня невозможно, так что не уповайте на номер телефона, который я вам дам, или на особняк, где мы сейчас находимся. В-третьих, обращаться в полицию бесполезно и не рекомендуется. Хотя в этом я вам помешать не могу. В-четвертых, помните: чем скорее я нейтрализую Джордана, тем скорее вы оба получите свободу. В-пятых, все, что я говорю, чистая правда, но не вся правда. И, наконец, знайте, что я готов на все, лишь бы разыскать этого парня. Абсолютно на все. Я прошел слишком долгий путь, чтобы теперь останавливаться. Итак, орел или решка?
* * *
Отказавшись выбирать, мы поставили себя в дурацкое положение. Начав спорить с ним, мы только напрасно потратили силы. Попытавшись оскорбить его, мы дали ему преимущество над собой. Орел или решка? Гангстер или псих? Блеф или реальная сила? Улица или тюрьма? Я или другой? Он тактично оставил нас с Бертраном наедине. И вот тут-то мы и пережили настоящий кошмар, к которому никак не были готовы. Я все забыл. У меня все спуталось в голове. Внезапно Бертран показался мне не другом, а именно другим. Чужим.
— Тебе страшно? — Да.
— Не бойся. Это лишний козырь против нас.
— Мне душно.
— Мне тоже.
— Так кто — ты или я?
— Мне душно.
— Если ты выйдешь отсюда, ты меня бросишь.
— Нет. Я тебя не брошу.
— Откуда мне знать? Может, я и сам тебя брошу.
— Да нет, клянусь тебе, что нет. Умоляю, пожалей меня… Если меня здесь запрут, я сдохну. У меня клаустрофобия, я уже готов блевать.
— Перестань ныть, ты же слышал, что сказал этот псих? Он же помешанный; через час он слиняет отсюда, и черта с два его найдешь. Хочешь, кинем жребий?
— Нет. Мне уже плохо. Я сейчас блевану. Я сделаю все, как ты решишь.
— Ты же меня бросишь.
— Никогда! Никогда!
— Ты меня пугаешь.
— Умоляю, поверь мне! Ну скажи, хочешь, я на колени перед тобой встану? Хочешь? Вот прямо сейчас…
— Да встань же ты!
— Я готов на все…
— Вот это-то меня и пугает.
3
Раннее утро. Безлюдные улицы. Я ступил на тротуар, едва волоча отяжелевшие ноги и зажав в кулаке смятые купюры. Когда я доставал деньги из кармана, ветер вырвал у меня несколько бумажек и унес на газон. Я проследил, куда они упали, и, не в силах побороть искушение, подобрал. Я чувствовал, что мне уже не хватает Бертрана, словно у меня отняли половину тела: даже сейчас я брел, привычно оставляя между собой и обочиной место для моего друга. У меня кружилась голова. Как правило, в этот час мы с Бертраном впадали в хандру. И изо всех сил старались молчать, по опыту зная, что первое же резкое слово вызовет лавину оскорблений. Каждый из нас, постанывая, точно больной зверь, становился козлом отпущения для другого и старался выместить на нем свой страх перед грядущим днем, свою усталость и бесприютность. С языка рвались горькие упреки, без них не обходился ни один день. Мы искоса следили друг за другом, злобно щерясь, готовые придраться к чему угодно. На исходе ночи Бертран был для меня существом, которое я ненавидел сильнее всего на свете, да и в его взгляде читалось страстное желание увидеть меня лежащим на тротуаре с разбитой башкой. Вот отчего мы искали прибежище в молчании, борясь с накатившей жутью.
Все такси в это время свободны, и их полно, их всегда полно в этот ранний час, даже не знаю почему. Я сажусь в «Мерседес».
— Куда едем?
Я должен что-нибудь сделать с собой, сделать сейчас же, сию минуту, иначе у меня сдадут нервы и я расхнычусь, как последний идиот, у первого же светофора. Кажется, этот момент вот-вот наступит: я чувствую, что у меня слезы подступают к горлу.
— Так куда едем?
Мне не будет покоя, нигде и никогда, разве что я наглотаюсь транквилизаторов — которых у меня, правда, нет. Как только я окажусь в постели, я начну грызть себе ногти и пальцы. Я постараюсь прореветься в надежде, что мне станет легче, но ничего не выйдет. Я знаю, что мне нужно — мне нужно мое второе, ночное дыхание, я должен снова ощутить все, что повергло меня в это состояние, — так из яда добывают лекарство. Мне понадобится много часов, прежде чем я окончательно приведу себя в форму.
— Римская улица, «Тысяча и одна ночь».
Я знаю: там отвергается сама мысль о том, что солнце уже встало. Отвергается напрочь. Здесь не признают слова «завтра», здесь ночь крепко удерживает свои позиции и никто даже представить не может, что в этот час мир уже проснулся и открыл глаза. Зато снаружи, на улице, в этот час первых глотков кофе никто не подозревает, что в здешних сияющих норах укрылась горстка ненавистников дневного света. Во всем Париже есть только три-четыре таких клуба. И эти клубы наглухо закрыты для всего, что открыто солнцу. Убежище для страдающих от обыденности. Тех, кто давно выбился бы в люди, будь они обыкновенными отщепенцами. Тех, чей девиз — «Удержи эту ночь! », ибо они плохо поняли известную песнюnote 9… Или же слишком хорошо.
Вывеска «1001» уже погасла. Шофер начинает нервничать, когда я протягиваю ему пятисотфранковую купюру, но в конце концов набирает сдачу. Город просыпается, по улицам идут люди, хозяева магазинчиков поднимают железные шторы. Надо торопиться, чтобы сохранить иллюзию ночи. Входная дверь приоткрыта, я слышу гул пылесоса в глубине большого зала, того, где бар и танцпол. На минуту замедляю шаг возле пустой кассы, затем прохожу в небольшой холл, застеленный красным ковролином, и огибаю колонну, украшенную золотистой мозаикой. Тут я снова торможу. Неужто Византия и вправду выглядит именно так? Не хватает только восточных ароматов да смуглых красавиц, исполняющих танец живота. Тысяча и одна ночь — ровно столько продержится это заведение; потом его разрушат и настроят вместо него какие-нибудь паршивые офисы. Три года отсрочки для меня и Бертрана. Так сказал здешний вышибала Жан-Марк. Наш приятель. Единственный, кто не спрашивает, есть ли у нас деньги на ресторан. Единственный, кто отдает нам свои талоны на выпивку, потому что сам не пьет. «1001» — это наша штаб-квартира, наша тихая гавань, последний приют перед тем, как очутиться на улице. Сюда мы приходим отдохнуть или поспать, сидя на диванчике, напялив на нос темные очки и, застыв точно статуи в ожидании открытия метро. Все считают, что мы выпендриваемся. А на самом деле мы спим как новорожденные младенцы. Слева расположена лестница, ведущая в малый бар. Тихонько мурлычет блюз. Ибо рок в такой час слишком вздрючивает нервы. Посетители на месте, бар живет обычной жизнью. Электрический свет заменяет солнечный, а утробные голоса — уличную рассветную тишину.
— Туанан!
Это Жан-Марк, в компании негра в кепке и элегантного молодого человека в клетчатом двубортном костюме. Тут же и Этьен, притулившийся у стола в характерной позе пьянчуги, который ищет проблеск надежды на дне рюмки. Отстранив двух-трех хмельных завсегдатаев, я пожимаю руку Жан-Марку и его дружкам.
— Ты куда подевал Транбера?
Жан-Марк — единственный, кто еще пользуется верланомnote 10 для имен собственных, и мистеру Лоуренсу не всегда нравится, когда его величают Транбером. Но нравится ему или нет, а перед Жан-Марком нужно заткнуться и терпеть. Во-первых, потому, что мы его любим. Во-вторых, потому, что и он нас любит и всегда находит нам местечко, куда можно наведаться. Но еще и потому, что он весит сто двадцать кило и наполовину азиат, а я не очень представляю, как научить хорошим манерам борца сумо. Мне всегда хотелось носить его фотографию в своем бумажнике — просто чтобы показывать ее потенциальным обидчикам. Он единственный способен привести в чувство банду бухих панков, сказав им: «А ну-ка, равняйсь и смирно, я хочу видеть здесь только один гребень! » Нам достаточно, чтобы он находился неподалеку, маячил на горизонте, и одно его присутствие нас убаюкивает.
— Ты чего, разругался со своей половиной? — настаивает он.
Мне не хочется говорить перед теми двумя. Он понимает и, взяв меня за локоть, отводит в уголок за стойкой.
— Мескаль?
Не дожидаясь ответа, он наливает в бокал коньячную мерку водки. Я уверен, что сам Жан-Марк в жизни не выпил и капли алкоголя, хотя бы ради интереса. Но он никогда не принуждает к воздержанию других.
— Если я тебе расскажу, что на нас свалилось этой ночью, приятель…
— Не утруждай себя, я знаю схему. Транбер снял какую-нибудь малютку, и она пригласила его к себе порезвиться. А у тебя случился облом, и ты в бешенстве, верно?
— Слушай, ты можешь попросить своих дружков пересесть за другой стол? Мне нужно рассказать одну историю Этьену и тебе.
— Только не ему. Он уже два часа как в отключке. Жан-Марк делает красноречивый знак своим приятелям, которые тут же послушно встают.
* * *
И вот я выложил им свою историю, перемежая ее глотками мескаля и нервно прикуривая одну сигарету за другой. Жан-Марк и Этьен уже встречали Джордана: Жан-Марк видел его в «1001» давно, еще в начале прошлого лета, а Этьен всего пару недель назад в «Harry's bar». Вначале они решили, что я их разыгрываю и что Бертран вот-вот явится сюда из-за красной портьеры. А потом мескаль сделал свое черное дело, и я уже ничего не слышал, ни их вопросов, ни их молчания, ни блюза, ни даже сорванного голоса Бертрана, твердившего, что он боится, как бы я его не бросил. Хотя нет, кое-что необычное я все же уловил. Странный интерес Этьена ко всей этой истории. Это было не любопытство и не желание влезть в чужие дела, а нечто вроде возбуждения, от которого он даже слегка протрезвел. Он назначил мне встречу в «Harry's» сегодня же, ближе к ночи. И подтвердил, что обращаться к легавым — последнее дело. На этом он настаивал особенно усердно, приводя все новые и новые аргументы. Жан-Марк был как будто согласен с ним из врожденного отвращения к полиции; за двое суток сами справимся, сказал он. Мне показалось, что им овладел охотничий азарт: еще бы, изловить человека — неплохое развлечение, вот только никому из нас было не до развлечений. Он обещал мне порасспросить своих коллег-физиономистов, «бросить клич», как он выразился.
В результате около полудня я вышел из клуба с гудящей башкой, сморенный алкоголем и усталостью. Жан-Марк вызвался подбросить меня в наше обычное пристанище, куда мы с Бертраном всегда приползали под утро, — единственное место, где мы могли привести себя в чувство, отмыться от миазмов прошедшей ночи и экипироваться для следующей. Несмотря на солидную цену, лучшего варианта нигде не найти.
Итак, Жан-Марк доставил меня в район площади Италии, в фитнес-клуб, этот храм культуризма, эту фабрику псевдободрости, где любого хилого горожанина готовы превратить в Рембо-2000. Заведение открывается в семь утра, годовой абонемент стоит полторы тысячи франков — если подсуетиться, как мы с Бертраном, и приобрести его по льготному тарифу «работника предприятия». Излишне говорить, что мы используем это место не совсем по назначению. Пока кривобокие бюрократы и секретарши, исступленно пекущиеся о фигуре, с пыхтением поднимают штанги и задирают ноги, мы лениво наблюдаем за ними, развалившись в шезлонгах у бассейна. Не знаю ничего более бодрящего, чем прыжок в прозрачную воду бассейна после ночной оргии. Потом мы засыпаем как убитые и дрыхнем до самого полудня так, что даже стук и лязганье тренажеров не в силах нас разбудить. Какое-то время спустя мы просыпаемся и, позевывая, погружаемся в теплую и пенистую воду джакузи, которая мало-помалу приводит нас в чувство. Завсегдатаи и тренеры зала здороваются с нами, как со своими. Вначале они никак не врубались, какого черта мы тут делаем. Но со временем (как это обычно бывает) привыкли к нашим рожам и больше не обращают на нас внимания. После сиесты мы принимаем душ, бреемся и часам к четырем выходим на улицу. Здравствуй, Париж!
Я вхожу в «ФИТ-клуб». Рыжая девица на контроле давно уже не спрашивает у меня пропуск. Я быстро иду в тренажерный зал, где люди всех возрастов рвут жилы на гимнастических снарядах, дабы повысить тонус, перед тем как идти в офис строчить свои бумажки, а в паузах бегают к зеркалу проверить, что у них прибавилось — или убавилось — в результате этого чудо-занятия. Вон один из них остервенело качает пресс, разбрызгивая вокруг трудовой пот. Мне, хоть убей, недоступен подобный мазохизм, но, сталкиваясь каждый день с этими «учениками спорт-чародеев», я невольно и сам начинаю поглядывать в зеркало, чтобы сравнить себя с ними, и вижу там обтянутый кожей скелет, насквозь пропитанный алкоголем, с хриплым дыханием курильщика, с сутулой спиной человека, незнакомого с гимнастикой, и тощими руками, способными удержать на весу разве что бокал шампанского. Я — ходячее отрицание всего, чему здесь поклоняются.
Обычный маршрут: раздевалка, облачение в плавки, лесенка, ведущая к бассейну. Прыжок в воду.
Я расслабляюсь и камнем иду ко дну. Лежу в глубине, животом на кафельном покрытии, борясь с подступившей дремотой. Как бы не уснуть здесь, под водой.
* * *
«SANK ROU DOE NOO». Это написано на неоновой вывеске над дверями «Harry's bar». Я вспоминаю свой последний визит сюда. Не помню, что в тот вечер делал Бертран — скорее всего, бросил меня из-за какой-нибудь девки, — и я мрачно уселся на табурет, со стаканом бурбона в руке, который и прихлебывал на американский манер. Я поинтересовался у бармена, что означает загадочная фраза над входом. Он ответил с утомленной улыбкой человека, которому задают этот вопрос сто раз на дню.
— Какой адрес дал бы таксисту американец, чтобы приехать сюда?
— Дом 5, улица Дону.
— Верно.
— Ах, так это и есть «sank rou doe noo»note 11!
— Браво! Чего вам налить?
И в следующий же миг я превратился в ньюйоркца, мое одиночество вдруг стало приятным, плотный тяжелый стакан наполнился плотным тяжелым напитком, взгляд уперся в ряды разноцветных бутылок, и мне захотелось бросить парню в белой куртке за стойкой: «Как всегда, Джимми».
Одна стена бара обклеена банкнотами, другая — флажками американских футбольных клубов, дипломами, фотографиями и газетными вырезками. Средний возраст посетителей — сороковник. Наконец-то я чувствую себя среди взрослых людей. Несмотря на гул голосов, в баре как-то странно тихо. Я с неприязнью думаю о том, что америкашки оккупировали Европу, что они заразили нас своим бескультурьем, навязали свои паршивые товары, свои тряпки, свой страх перед холестерином, свои образы, свою музыку и свои мечты о преуспеянии. Но стоит мне вспомнить главное, как я им все прощаю. А главное — их бары.
Конечно, все эти приколы дядюшки Сэма не в силах соблазнить неисправимых приверженцев красного вина, адептов цинковых стоек бистро, любителей аперитивов и жизнерадостных ненавистников пастиса, готовых расцеловать хозяина, который нежданно-негаданно налил им за счет заведения. Французы изобрели кафе, но они не способны понять, что такое бар и как там нужно пить.
Нью-йоркский бар — это высокий табурет с видом на весь этот низменный мир, табурет, с которого лучше вообще никогда не слезать. Это бармен, который умеет не замечать лишнего, не рвет в клочки кассовый чек в ожидании чаевых, а предлагает четвертый стакан, если первые три «прошли хорошо», и понимает, что чем больше он предложит, тем больше ты выпьешь; который не старается выгадать на льде и сэкономить на выпивке; который умеет сказать разбушевавшемуся клиенту: «Ладно, я вам налью, но это будет последний», и который всегда готов проводить тебя к коллеге в соседний бар, когда закрывает свой собственный.
Нью-йоркский бар — это важный чиновник, отринувший радости домашнего зэппингаnote 12, это шофер такси, отдыхающий от психованных пассажиров, это сорокалетние женщины без пола и возраста; и все они сидят бок о бок у стойки, не скандаля и не жалуясь на проблемы, потому что, в конечном счете, у каждого своя жизнь.
Нью-йоркский бар — это табачный автомат, это тяжелые стаканы, которые можно сколько угодно вертеть в руках, не рискуя опрокинуть, это полированная деревянная стойка, такая длинная, что за ней могут мирно восседать две бейсбольные команды-соперницы. Это металлическая перекладина под ногами, для большей устойчивости, это двадцатидолларовая бумажка, которую кладут перед собой и которая мгновенно исчезает, как только вы ее пропиваете. В нью-йоркском баре никто не уговаривает вас выпить и никто не укажет на дверь. В нью-йоркском баре люди не шарят по карманам в надежде отыскать завалявшуюся мелочь.
Хозяева парижских бистро никогда не поймут всего этого.
Этьен уже здесь, сидит один, просматривая газету, в расхлябанной позе тинейджера — посетителя Макдо. Впрочем, он и похож на подростка — кроссовки, джинсы, куртка. Я никогда не видел его одетым иначе, даже на самых избранных вечерах, где требуется вечерний костюм. Полсотни годков и абсолютная загадка для всех. Невозможно определить, понимает ли он хоть слово в этой «FinancialTimes», есть ли у него акции чилийских бокситов или он просто не нашел ничего лучшего, чтобы развеять скуку. Увидев меня, Этьен нервно комкает свою газетенку и отшвыривает ее на другой конец бара. Он сильно возбужден.
— Скажи-ка, ты, случаем, не шутил нынче утром? Я, как очухался, только об этом и думаю… Ну, признайся, ты нас разыграл?
Бар выглядит таким, каким я его помню. Красный ковролин на полу, уютный золотисто-коричневый полумрак цвета виски; это, конечно, не Нью-Йорк, скорее похоже на бар дорогого отеля, не хватает только пианино с его ласковым журчанием. Шестьдесят франков за бокал — я по привычке готов возмутиться этим грабежом. Совсем забыл, что с прошлой ночи денежные проблемы не должны меня волновать. Отныне мне стоит лишь запустить руку в карман, и вместо неприятной пустоты я нащупываю там толстенькую пачку банкнот, которые предстоит растратить на нужды порока. Это их единственное предназначение!
— Тебя угостить? — спрашиваю я.
От изумления он сваливается с табурета и ударяется головой о стойку.
— Что-о-о? Ну-ка повтори! Ты — меня — угощаешь? Ты?!
Вместо ответа я вытаскиваю из кармана пачку и, отслюнив купюру, подзываю бармена.
— Значит, ты не шутил! Ну тогда… два «Jack Daniel's» без льда.
Парень в белой куртке подает их нам со стаканом ледяной воды, как у них водится. Этьен никак не придет в себя, он хватает бокал трясущимися руками, и видно, что дрожат они не от выпивки и даже не от вида денег. То, что свалилось мне на голову сегодня утром, вызывает в нем глубинное, давно забытое чувство то ли сострадания, то ли солидарности. Как будто ему чудится, что беда постигла не меня, а его самого. Иди знай, что там у него на душе… И что ему довелось пережить когда-то много лет назад, перед тем как снова вернуться в подростковый возраст.
— Ты хоть представляешь, куда они могли запихнуть мистера Лоуренса?
— Даже если бы и знал, это нам ничего не даст. Старикан, которого мы встретили этой ночью, опасный тип. В тысячу раз опаснее того психа в желтой куртке — помнишь, который отплясывал в спортивных штанах в «Паласе»?
— Ну, если он хуже того типа в желтой куртке, тогда дело серьезное.
— Видел бы ты глаза этого ненормального! Такое выражение бывает только у террористов-смертников. Он на все способен — и заложника взять, и бомбу подложить, и покончить с собой в каком-нибудь бункере. В этом смысле ты прав, я не собираюсь рассказывать об этой встрече полицейским. Ты только представь: жалкий безработный в схватке с никому не известной международной мафиозной группировкой!
Наступила пауза, в течение которой я закурил очередную сигарету и смерил взглядом шикарно одетую пожилую чету, нежно державшуюся за руки. Вошел турист, но его мгновенно выпроводили, так как он был в шортах. У меня сжалось сердце при мысли о том, как отреагировал бы на такое обращение Бертран: даю голову на отсечение, что он тут же содрал бы с себя шорты и сел за стойку в одних трусах.
— Бертран у них в руках. В моем распоряжении двое суток. Затем нас меняют местами, и я попадаю в заключение. Мне кажется, этого Джордана не так-то трудно засечь, стоит только обзвонить всех наших полуночников, — даже мы трое, Жан-Марк, ты и я, за два дня сможем охватить добрую половину тусовки.
Говоря это, я буквально физически чувствовал, что время пошло: мне осталось меньше тридцати шести часов до того, как покорно отдать себя в лапы наших тюремщиков. Наш Париж не так уж велик — пятнадцать, ну двадцать ключевых точек, и большинство из них сосредоточено в трех-четырех хорошо известных кварталах. Зато Париж Джордана остается для меня тайной — мне, конечно, уже известны кое-какие уголки, где его можно встретить после полуночи, но ведь это капля в море. Я, подбирающий жалкие крохи на разных вернисажах и клубных вечеринках, всего лишь скромный дилетант и понятия не имею о настоящих роскошных приемах и празднествах. А Джордан может быть вхож повсюду, в такие высокие сферы, о которых я и мечтать не смею, — например, в тайные клубы «Argentry Internationale», в места, где запросто общаются с эмирами, в общем, в заведения, наглухо закрытые для простой публики, о которых самые продвинутые тусовщики и слыхом не слыхивали. Легко себе представить любой вариант: великосветские притоны ценителей группового секса, секту приверженцев «Кровавой Мэри», общество любителей увеселительных чартеров на Багамы и обратно, да мало ли что еще! У Бога всего много.
Посетители прибывают один за другим, рассаживаются у стойки. Этьен говорит, что надо поторопиться, пока бармен не слишком занят. Интересующий нас субъект перестает трясти шейкер и выливает из него в бокал напиток цвета мочи; последние капли смачивают соляной ободок по краям стекла. Коктейль «Маргарита». Текила, соль, лимонный сок и — ожог желудка обеспечен, если выпить два бокала подряд. Ну а если три, то покажется, будто у тебя началось прободение язвы. Этьен знаком подзывает бармена.
— Скажите, это вы здесь специалист по «Кровавой Мэри»?..
Не успел он договорить, как шейкер совершил пируэт в воздухе, дверца холодильника отворилась от толчка ноги, замелькали бутылки, струя томатного сока низверглась в треугольный стакан. Этьен лишь замахал руками, показывая, что ему ничего не нужно, как «Мэри» уже стояла перед ним.
— Я что-то не заметил, чтобы вы лили водку, — вякнул я.
Этьен пригубил и с легкой гримасой отодвинул стакан.
— Она там есть.
Бармен, невысокого роста и с воинственными усами, ждал моей реакции. Если этот парень примется рассказывать нам про Джордана так же резво, как готовит коктейли, нам придется стенографировать. Я отпиваю — только для того, чтобы начать разговор.
— Потрясающе!.. Такого нигде не попробуешь.
— Шутить изволите! Этот коктейль был изобретен именно здесь, на том самом месте, где вы сидите, в 1921 году. Ворчестерский соус, соль, перец, та-баско, водка, томатный сок, а потом лимонный — и обязательно в такой последовательности, чтобы острое и кислое чередовались.
Жаль, что я не люблю «Кровавую Мэри». Но теперь я лучше понимаю, отчего она нравится Джордану. Тем временем Этьен приступает к делу: удерживает бармена за руку и что-то медленно говорит ему; я не слышу, а скорее угадываю, что он описывает нашего парня. Бармен с минуту размышляет, затем отрицательно качает головой и отходит, чтобы сполоснуть руки под краном.
— Как быть? Спросить еще раз?
— Бесполезно… Ты представь себе этого зомби, который пьет только «Кровавую Мэри» и учит специалистов готовить ее, — такого либо знают как облупленного, либо никогда в глаза не видели. Скажи, Этьен… ты умеешь обращаться с крупными купюрами, эдак небрежно помахать ими перед носом человека, будто хочешь сказать: если любишь денежки, дружок, мы сможем договориться. Я, знаешь ли, никогда этого не делал и боюсь, что буду выглядеть круглым дураком.
С этими словами я вынимаю из кармана пятьсот франков. И вот тут Этьен меня здорово удивил: он с самым серьезным видом берет у меня деньги под стойкой и говорит:
— Это я могу.
Он кладет бумажку на стойку, прижав ее рукой, и подзывает бармена. Из-под его пальцев одним глазом выглядывает Паскальnote 13.
— Джордан говорил, что вы готовите «Кровавую Мэри» лучше всех в Париже.
Бармен секунду колеблется, затем осторожно вращает бокал с шампанским, чтобы всплывшие льдинки охладили его.
— Как-то вечером ваш парень явился сюда протестировать меня. Он увидел мою фотографию в одном журнале, где я делился своими рецептами коктейлей. Попробовал мою «Кровавую Мэри» и не поморщился. С тех пор он иногда заходит. Можно сказать, завсегдатай, но без устойчивых привычек. То придет к открытию, то поздно вечером, не угадаешь.
— Всегда один?
— Большей частью. Хотя однажды я видел его с дамой. Я это хорошо запомнил, потому что они очень подходили друг другу, в смысле облика и поведения. Красивая пара. Особенно она.
— Красотка?
— Да. Можно бы сказать и по-другому, но я никак не подберу слово. В общем, у нее был стиль. Да, вот именно, стиль!
— Стиль?
— Ну… да… Не знаю, как вам объяснить… Стиль, и все тут.
— Тот самый, при котором ножки вместе, ножки врозь?
— Что вы имеете в виду?
— Шлюх, что же еще!
Бармен выпрямляется, пожав плечами; Этьен выдает ему Паскаля и незаметно пинает меня в ногу.
— Сдачу оставьте себе. Бармен отходит к кассе.
— Какого черта ты влез, идиот несчастный! Он бы сейчас все выложил, слово за слово. Гони теперь еще одну.
Свернутая вчетверо купюра, зажатая в пальцах Этьена, скользит по стойке к бармену. Который, невзирая на мою бестактность, все-таки медленно приближается.
— Мы забыли про чаевые. Вы не помните, как звали ту девушку?
— Нет. Но вот что я скажу вашему приятелю: она вовсе не выглядела шлюхой.
— Он когда-нибудь рассчитывался с вами чеком? Или кредитной карточкой?
— Только наличными. Мы здесь карточек не принимаем.
— О'кей! Мы вам очень благодарны, — сказал Этьен, сунув деньги ему в руку.
Я встал, слизывая с губ последние капли бурбона, и вышел через вертящиеся, как в вестернах, дверцы; Этьен, задержавшись в зале, перекинулся еще парой слов с барменом и догнал меня.
— Что ты ему сказал?
— Самое главное. Что у нас найдутся еще чаевые в том же роде, если он будет так любезен звякнуть, когда здесь нарисуется Джордан.
— Звякнуть куда?
— Угадай с трех раз, дурачок! В «1001», конечно, а уж Жан-Марк сообразит, как за ним проследить. А теперь я, с твоего разрешения, линяю; делим территорию так я иду на улицу Фонтен, ты — куда хочешь, я звоню Жан-Марку часа в два, и ты тоже, если нароешь какую-нибудь информацию.
Мне ужасно хочется спросить его, где он научился этому трюку с деньгами. Но сейчас не время. На прощание Этьен протягивает мне руку, но как-то странно, ладонью кверху. Я не могу понять, чего он хочет.
— Три, — говорит он, поднимая ворот куртки. Тяжело вздохнув, я вынимаю три бумажки по пятьсот франков. Да, друзья познаются в беде.
* * *
Я спускаюсь по улице Реомюра к площади Центрального рынка. Где же ты, где, мой Бертран? По привычке думаю о нашем «почтовом ящике» на площади Вогезов. Я придумал эту штуку на тот случай, когда мы расходились по своим личным делам.
Ведь у нас с Бертраном не было в Париже никакого настоящего пристанища, вот мы и оставляли друг другу записочки в отверстии на дорожном указателе с «кирпичом» типа: «Кафе мэрии, 17 часов, четверг». Вполне эффективная система; правда, потом мы сменили ее на Жан-Марка и его «1001».
Но сегодня вечером меня охватила ностальгическая тоска. Уже. Я против воли представляю себе жуткие картины: мрачная сырая камера; Бертран получает удар сапогом всякий раз, как обругает охранника; Бертран пытается отнять хлебную корку у крысы, которая оказалась проворнее его… Не знаю, так ли это, но в одном я абсолютно уверен: наш похититель не солгал, произнеся ночью ту загадочную фразу: «Все, что я говорю, правда, но это не вся правда».
Площадь Центрального рынка. Жан-Марк обзвонил некоторых своих коллег. Один из них тут же вспомнил Джордана. Все-таки мне хоть в чем-то да повезло: вместо оригинала Джордана я вполне мог нарваться на незаметного шатена, мирно потягивающего пиво из кружки. Мне повезло и в том, что я имел выход на серьезных физиономистов, настоящих профи. Чего еще можно желать в такой ситуации?!
Мне нравятся эти ребята, я уж точно предпочитаю их простым вышибалам. Физиономист не должен играть мускулами и владеть приемами дзюдо. Физиономисту платят за его наблюдательность, нюх и память. Именно физиономист решает, кого можно впустить, а кого нельзя, тем самым устанавливая негласный этикет своего заведения. Он должен с первого взгляда определить социальную группу, этническую принадлежность, семейное положение и пол клиента, выбрав из тех четырех-пяти полов, которыми богат род человеческий. Он вполне может оставить на улице какую-нибудь важную шишку, несмотря на толстый бумажник, и впустить обыкновенного парня, который явился под ручку с раскрасавицей. Может принять троицу негров без гроша в кармане и дать от ворот поворот многообещающему актеру, если тот обладает скверной привычкой «разнюхиваться» в туалете. Он держит в памяти лица всех, кто приходит, — и тех, что допущены внутрь, и тех, кому вход сюда заказан. Как-то ночью Жан-Марк попытался обрисовать мне идеальный состав посетителей: 40% постоянных клиентов, 10% девиц, которые являются целой компанией, 20% представителей разных этнических групп, 10% страстных любителей и любительниц танцев, 10% известных людей, включая залетных богачей и, кроме того, закоренелых тусовщиков и признанных полуночников вроде нас, ибо они тоже — часть общей картины. Ну и еще 10% не поддающихся классификации, бывают и такие. Вначале нас с Бертраном часто выставляли за порог, и мы громко возмущались несправедливостью и произволом. Пара неприкаянных холостяков, шарящих по карманам в поисках монеты, — именно таких и следует отшивать сразу и надолго. Вход в солидное заведение может быть привилегией или случайной удачей, а вот разжалобить физиономиста удается крайне редко.
В самом сердце квартала Центрального рынка, недалеко от Форума, есть улица Ломбардцев. Можно начать с нее, там имеется не меньше полудюжины заведений, где подают «Кровавую Мэри».
Например, «Банана» с барменом по прозвищу Гро-Жако. Мы познакомились с ним на вечеринке, которую один шикарный журнал мод устроил в честь выхода пилотного номера, сняв для этой цели «Банану». На первом этаже расположен ресторан: фотографии Элвиса и Роберта Мичема, чизбургеры на заказ, с луком колечками и прочими техасско-мексиканскими фокусами, по сто франков за штуку, — подумать только, что это издавна было едой бедняков! Снизу доносится рок. Это играют мальчишки в подземном гараже; они репетируют «Ican'tgetno» в ожидании того дня, когда смогут выпустить собственный альбом. Я замечаю Гро-Жако, нагруженного пивными кружками и кукурузными чипсами, которые при виде меня он едва не роняет на пол.
— Ты очень кстати, Антуан, я тут попал в переплет…
— Что случилось?
— Прямо не знаю, как и быть: мне велено найти одного типа, похожего на мертвеца, он пьет только «Кровавую Мэри».
— Не волнуйся, я в курсе, что Жан-Марк звонил тебе сегодня утром. У тебя есть чувство юмора, Гро-Жако, это тебя и спасает.
— Гро-Жако больше нет, Гро-Жако умер от того, что горбился в этом зале без кондиционера и таскал подносы с жирной жратвой, Гро-Жако похудел на целых десять кило, отныне зовите меня Жо-Грако.
— Так ты знаешь Джордана?
— Нет. Но если ты голоден, могу принести тебе фасоль с чили — один клиент недоел. Ты ведь любишь закусить на халяву. Там хватит на вас двоих с мистером Лоуренсом.
— Некогда мне слушать твои глупости.
Старый рок доносится сюда из подземелья глухо, будто с того света; парни принялись за одну из песен «Rolling Stones», но сломались, как только дошли до соло на гитаре.
— Я говорил с приятелем из «Магнетика», что в доме 4 по этой улице, Жан-Марк присоветовал. Загляни туда, спросишь Бенуа. А фасоль я для тебя придержу или, хочешь, могу выдать сухим пайком на дорожку.
Когда я пришел в «Магнетик», означенного Бенуа еще не было на месте. Я сбегал в «Соленый поцелуй», где никого не знал и где никто не знал Джордана. В «Pil'sTavern» я увидел одни только пивные кружки да деревянные столики и ничего не стал спрашивать: Джордан наверняка даже не подозревал о существовании подобных скопищ модных татуировок и пива «Гинесс». Затем я обошел на той же улице три-четыре коктейль-бара — унылые заведения без стиля и шарма, без фантазии и успеха у публики. Именно в такие водят девушек при первом свидании, в полной уверенности, что они обожают фруктовые коктейли и что сюда не заглядывает всякая шпана. Потом я заглянул в пару-тройку ресторанов — «FrontPage», «Mother'sEarth», «PacificPalissades». Именно в этом последнем меня вдруг осенило, что я, дурак, иду по ложному следу: уж, конечно, Джордан и не подумает кормиться в таких местах, а песок в моих песочных часах неумолимо струится вниз. Решив передохнуть, я выпил стаканчик в «Магнетике», поджидая Бенуа. Это был саксофонист лет тридцати, который лабал здесь с парой приятелей три раза в неделю. Мы с Бертраном не очень-то любим места, где играют джаз. Его мелодии нескончаемо долги, выпивка стоит кучу денег, девчонок встретишь редко, а в зале царит атмосфера религиозного экстаза, которая действует мне на нервы. Я дождался конца номера и задал парню свой вопрос, когда он пошел по залу с плетеной корзинкой, собирая деньги за выступление. Мне не пришлось долго описывать Джордана.
— Ну, этого я запомнил на всю жизнь! Хотите взглянуть?
И он оттянул вырез майки до самого плеча. На шее сбоку розовел шрам, он почти зажил, но нетрудно было различить овальный след жестокого укуса на все тридцать два зуба. Я потрогал шрам кончиками пальцев. Мне недостаточно было видеть его.
— Этот гад добрался до ключицы, но я уверен, что метил он в сонную артерию. Он пришел сюда с девкой, знаете, из тех, что изображают пресыщенных жизнью, которые всего навидались к своим тридцати годам и считают этот мир, с людьми вместе, кучей дерьма, не стоящей их драгоценного внимания.
— Красивая девушка?
— Вульгарная. Хотя в шикарном прикиде — черный костюм, чулки с подвязками, которые мелькали в разрезе юбки, туфли на шпильках, макияж, в общем, полный комплект. Эдакая карикатура на женщину-вамп. Вырядилась на публику. А ее мужику это как будто даже нравилось. Извращенцы говеные! Этот псих вылил свою «Кровавую Мэри» в мой саксофон — ты представляешь, в мой «Selmer»\ Ну, я тоже в долгу не остался, и вот тогда-то он и попробовал прокусить мне горло. Если тебе повезет встретить этого чокнутого, советую сперва надеть гипсовый ошейник, потом расквасить ему морду, потом позвать меня, а уж я надену сапоги с железными подковами и разделаю его, как бог черепаху.
— Можно узнать, почему он на вас бросился?
— Господи, да это была просто глупая шутка. Я проходил по залу с корзинкой, увидел, как эта девица целует ему руку — ну, позорище! — и усмехнулся.
— И тогда он вас укусил?
— Нет, он бросил сто франков в мою корзину и сказал, что даст еще больше, если я перестану шуметь и слюнявить свою поганую дудку. А я ответил, что такие замечания он может приберечь для своей девки, которая слюнявит ему руку. Вот тут-то он и озверел.
Хозяин позвал Бенуа продолжить выступление, и тот едва успел рассказать мне конец истории с укусом — про свое залитое кровью плечо, всеобщий столбняк и Джордана, спокойно ушедшего вместе с девицей, так как никто не осмелился его задержать.
В дверях я невольно прикрыл рукой шею.
Половина первого ночи. На улице Ломбардцев жизнь бьет ключом, тротуары кишат полуночниками всех мастей. То и дело я сталкиваюсь с типичными представителями злачных мест — тридцатник, майка и черные джинсы (возможны варианты), колечко в ухе или волосы, стянутые хвостом на затылке, косуха, ботинки из потертой кожи. Некоторые целуются в знак чистой мужской дружбы, стукаясь при этом черными очками. Мне чудится, что таких в городе многие тысячи, что они шныряют повсюду, что это передовой отряд темного, неведомого воинства, растворившегося в летнем ночном мраке. Мне только двадцать пять, но я могу проследить исторический путь одного из мифов этой молодежи конца века — священной, высокочтимой косухи, или куртки «Perfecto». Черной, плотной куртки с металлическими заклепками и молнией наискосок И теперь мне горько смотреть, во что превратили этот миф. Давно ушла в небытие та эпоха, когда черная косуха считалась неотъемлемой принадлежносгью бандита, когда байкеры в таких куртках наводили ужас, когда человека, посмевшего обрядиться в эту мерзкую шкуру бунтовщика, немедленно отлучали от общества. Сегодня ее носят все кому не лень, кто и знать не знает о ее славном прошлом, кто красуется в ней лишь потому, что она принадлежит к параллельному миру. Скоро в таких начнут щеголять богатые дамочки из XVI округа, а там, глядишь, и до Диора недалеко. Даже самые крутые хулиганы перестали срывать их с пассажиров в метро, раз уж это одеяние утратило былую славу.
А вон там, на угловой террасе кафе, уже светлеют летние рубашки. Так что хочешь не хочешь, но лето настало, и нужно признать этот факт даже теперь, ночью, когда тебя пробирает дрожь. Мистеру Лоуренсу не нравится, когда я сужу людей по одежке, классифицирую их по этому признаку. Что не помешало нам самим получить оценку «New-wave cools tendance Blake and Mortimer»note 14 на приеме у одного продвинутого кутюрье.
А впрочем, где он — этот мистер Лоуренс? Увы, он больше не существует, поскольку ушел из моей жизни. Интересно, как он поведет себя, оказавшись на свободе, на моем месте, с полным карманом башлей и дамокловым мечом над моей головой? Честно признаться, я куда больше доверяю себе, чем ему, когда нужно изображать сыщика. Он у нас фантазер, хвастунишка, напыщенный болтун; ему не повезло — родись он в старину, из него вышел бы отличный маркиз, распутник и вольнодумец, краса пирушек в охотничьих павильонах. Или некто вроде Шатобриана с печальным взором, на краю утеса, с развевающимися по ветру волосами. Или даже какой-нибудь деятель времен Термидора, требующий голов аристократов, как требуют подать вина. А главное, у него в крови это умение пускать пыль в глаза, которое частенько спасало положение, а иногда и отворяло перед нами запретные двери. Зато практический ум, интуиция и аналитические способности у него отсутствуют напрочь. Полный нуль! Он не способен установить связь между бинтом и носовым платком, наемным убийцей и скрипичным футляром, аллергической сыпью и устрицей в месяц без «р»note 15. Хуже того: он мгновенно забывает все, что ему объяснили. За это я его просто ненавижу. Сколько вечеров, потраченных впустую, из-за того что он не мог вспомнить адрес, хотя записывал его в блокнот, который в свою очередь тут же забывал в каком-то углу, напрочь забывая, где был этот угол. И при этом самодовольно констатировал: «Ну что ты хочешь, у меня дырявая память! »
— Так как же насчет чили, будешь есть или нет?
Запыхавшийся Гро-Жако от меня все равно не отстанет. Ладно, раз такое дело, лучше заморить червячка, чтобы потом в желудке не сосало. Кто знает, что мне уготовила эта ночь, сколько еще придется выкурить сигарет и сколько кислого вина выпить натощак.
— Только не воображай, что я за тобой бегаю в заботе о твоем питании. Звонил Жан-Марк, просил передать, что слышал о твоем парне — вроде бы тот ошивается в баре на улице Тиктон. Туда пешочком минут десять. Заведение называется «Хибара».
— Ну, ясное дело, других там и нет. От кого он это узнал?
— Какой-то клиент из «1001» углядел его там. Молодчина этот китаец, заботится о тебе.
Я был уверен, что злачный IV округ города Парижа не станет таить от меня свои секреты. Начинаю думать, что чокнутый старикан, посадивший Бертрана под замок, был не так уж не прав, сделав ставку на занюханного халявщика вроде меня. Улица Тиктон в двух шагах отсюда — пройти мимо площади Центрального рынка по улице Сен-Дени и свернуть на Реомюра. Оставив Гро-Жако, я бегу прямо туда, толкнув по дороге парня, который осыпает меня проклятиями, и миновав шайку бродяг, рассевшихся на площади Невинных Младенцев. Один из клошаров играет с огромной крысой, настоящей, живой крысой, которая пытается вылезти из картонного макдональдсовского стакана. Несмотря на мое возбуждение, при виде их я не могу не подумать о своем будущем. Пересекаю улицу Тюрбиго и мельком вижу вдали справа толпу, штурмующую вход в «Bains-Douches». Туда мне тоже нужно будет заглянуть, как это я не вспомнил об этом раньше! Вместо того чтобы прохлаждаться в ожидании саксофониста, нужно было сообразить, что там должны знать Джордана — ведь это единственный достоверный адрес, который я слышал от него самого. Но теперь некогда. Я врываюсь на улицу Тиктон; убогая вывеска на фасаде «Хибары» судорожно мигает, как лампочки на карусели Тронной ярмарки. Внутри не протолкнуться, народу полно — одни мужики, если не считать пары обнявшихся шлюшек и двух развеселых панкушек; густой табачный дым разъедает глаза, над медной стойкой, по стенам и даже на потолке — сотни афиш всех времен и народов. Серебристая фольга не то прикрывает пятна, не то украшает интерьер, думай, как хочешь. Интересная деталь, красноречиво говорящая о стиле заведения: прямо над баром висят здоровенные часы, на которых отсутствует половина цифр. Остались только те, что с восьми до двух, остальные в этом мире не существуют.
В углу какой-то толстяк жрет свиной окорок без всякого соуса и гарнира. Я готов завтра же с утра идти на биржу труда, если окажется, что Джордан хоть раз посетил эту забегаловку. Мне указывают хозяина, на удивление молодого парня. Правда, вид у него вполне матерый; на голове американская бейсболка козырьком назад, на майке надпись «scusatelafaccia»note 16. Он вынимает доску для игры в кости, его белый бультерьер, встав на задние лапы, опирается о край раковины, чтобы напиться из-под крана. Я заказываю кружку пива. Хозяин переругивается со своим партнером по игре, и у меня такое впечатление, что эта свапа живо интересует всех присутствующих. Но, поразмыслив и приглядевшись, я понимаю, что всем кроме меня на это глубоко плевать. Хозяин подает мне пиво, не прерывая разговора со своим приятелем.
— Хронопочта… ты что, смеешься? Я только сейчас запаковал посылку, когда мне было об этом думать?
— Но ведь можно подождать и до завтра…
— Да ведь день рождения-то он празднует сегодня вечером!.. Ты бы сходил туда, а, Пьеро? — просит хозяин, скалясь неизвестно почему.
— Ну вот еще!.. Я жду, сейчас моя телка сюда подгребет… Попроси Кики, за полсотни он тебе сгоняет хоть на край света…
Я вынимаю очередного Паскаля, чтобы расплатиться.
— А мельче у тебя нет? — Нет.
— В такое время я тебе сдачи не наскребу, так что либо пей тридцать кружек, либо рассчитаешься в другой раз.
Слова «сдачу оставьте себе» застревают у меня в горле. Этьен прав: это большое искусство — дать кому-нибудь на лапу так, чтобы тебе не кинули деньги обратно в морду. Но и ждать мне некогда, я не собираюсь париться тут до бесконечности, сливаясь, как хамелеон, с окружающей средой. И потому с места в карьер описываю ему Джордана. Он с минуту раздумывает, стаскивает бейсболку, чешет голову, обритую наголо и гладкую, как бильярдный шар, если не считать разбросанных там и сям подозрительных шрамов.
— Ты ему кто — приятель?
— Ну… вроде того. А вы тоже?
— Да не сказал бы. Он заходит иногда… Заказывает стакан-другой, а пить не пьет. Понять не могу, какого черта ему здесь надо. Говорит, что, мол, обстановка ему по душе. Ну, раз он не шумит, не скандалит, то и пусть его…
— А сегодня вечером он заходил?
Парень глядит на часы, одновременно кидая кости на доску.
— Был пару часов назад, не больше.
— Один?
Короткая заминка перед ответом.
— И да и нет. С ним была его «роковая женщина».
— А ты часом не сыщик? — спрашивает меня его приятель.
Мне даже не пришлось отвечать.
— Это он-то сыщик? Очнись, Пьеро!
— Оставьте себе эти пятьсот франков, — говорю я, вынимая визитку «Тысячи и одной ночи». — Получите от меня еще больше, если сообщите, когда он…
Не успел я договорить, как хозяин глянул на меня зверем и швырнул Паскаля прямо в лицо.
— Ты за кого меня держишь, мать твою?
— Но я…
— Ты поганец безмозглый!..
Мертвая тишина в зале. Пивные кружки замерли у губ клиентов, сигаретный дым и тот застыл в глотках. Хозяин с ходу начинает клясть всех подряд, хотя и довольно беззлобно:
— А вы чего пялитесь, вам какое дело? Музыкальный автомат с экранчиком начал выдавать допотопный шлягер, помещение наполнили хриплые икающие звуки. Еще немного, и начнется стрельба в пианиста. Я готов выйти, не дожидаясь, пока меня вышвырнут вон; мой Паскаль валяется на полу, и я никак не могу решить, поднять его или оставить здесь в качестве платы, — боюсь, правда, что это сочтут оскорбительной милостыней. Хозяин выходит из-за стойки, и у меня возникает подозрение, что он собрался набить мне морду. Но он только поднимает деньги и сует их мне в карман.
— Я не знаю, когда он зайдет в следующий раз, твой Джордан.
Клиенты уже забыли о нас, они переключились на веселых шлюх. Одна из них подпевает с южным акцентом старозаветному хиту из сипящего автомата.
— Понятия не имею, когда он зайдет. Зато я знаю, где они будут через час — он и его красотка.
— Что???
— Я слышал их разговор. Так, случайно, проходил мимо и ухватил два-три слова, просто из любопытства, очень уж мне хотелось послушать ее голос, а то я было решил, что она глухонемая. Вообще-то она пользуется ртом только для одного — чтобы лизать морду этому типу…
И он знаком подзывает меня к стойке, где мы находились три минуты назад. Не спрашивая, наливает мне новую кружку пива, хотя я и прежнюю-то едва почал. Странный приступ симпатии, ничего не понимаю.
— Значит, ты его разыскиваешь, и время тебя поджимает. Но ты ему не друг. Хотя меня это не касается. Я могу дать тебе кое-какую информацию, но за все надо платить.
— Сколько?
— Свои башли можешь оставить при себе.
— Тогда что?
Тут он бросает беглый взгляд на своего приятеля Пьеро и, нагнувшись, шарит под стойкой. Когда он выпрямляется, я вижу у него в руках шикарный подарочный пакет. Большая коробка завернута в блестящую сиреневую бумагу и перевязана желтым бантом. Хозяин гордо созерцает свое творение. Его дружок восхищенно присвистывает.
— Я знаю кого-то, кто будет очень доволен, черт возьми!
В баре раздается пара одобрительных возгласов, кто-то аплодирует. Интересно, во что это меня собираются втянуть.
— Тебя как кличут?
— Антуан.
— Ну вот что, Антуан, излагаю кратко. Сегодня день рождения у моего дружка, он держит бар на улице Монмартр. Мы с Пьеро вспомнили про это в самый последний момент. Я не могу бросить свое заведение, а Пьеро, как видишь, ждет свою телку. Ты усек, что мне надо?
Пока не очень. Я только чувствую, что дело темное.
— Ты идешь на улицу Монмартр, дом 17, спрашиваешь Фреда и передаешь ему подарок от Мишеля и Пьеро с улицы Тиктон. Потом звякнешь мне, и я тебе подскажу, где искать того парня.
— Что в пакете?
— Да просто шутка. Наш Фредо — птица крупного калибра, вот мы и решили подарить ему… Прямо и не решаюсь сказать… Нет, не могу… Ты все равно не поймешь, это чисто наш юмор.
— Скажите все-таки, может, я посмеюсь вместе с вами.
— Как думаешь, Пьеро, сказать ему? Ну, в общем, эго чучело белки. Я его купил сегодня у одного спеца по набивке. Шесть сотен, это тебе не хухры-мухры!
— А посмотреть можно?
— Это что же, я должен тебе ее распаковать? Нет, друг, либо ты мне доверяешь, либо сваливай отсюда, о'кей?
— А кто мне докажет, что это шутка, а не другие дела? Например, что-то вроде пакетика молочного сахара прямиком из Таиланда, который стоит дороже тонны настоящего.
— Ты нас, видать, за лохов держишь? Да если бы у меня там был килограмм героина, черта с два я бы его отдал первому встречному! Шевельни мозгой!
Похоже на правду. Но все равно — таскать какой-то таинственный пакет из бара в бар, это крайне подозрительно.
— А чем ты докажешь, что тебе известно, где ошивается Джордан?
— Ничем.
Вот это хотя бы откровенно. Теперь нужно выбрать — вернуться на старт с пустыми руками или попробовать разыграть эту карту.
— Решай сам.
— Ладно, беру.
И я беру — во всех смыслах этого слова, то есть без колебаний хватаю пакет. Когда тонешь, лучше уцепиться хоть за гнилую доску, чем идти ко дну. Перед тем как назвать номер своего телефона, хозяин пристально глядит мне в глаза.
— И запомни: если ты вышвырнешь мой подарок куда-нибудь в сточную канаву, я узнаю об этом раньше, чем ты позвонишь, усек?
Оставив эту реплику без ответа, выхожу на улицу и глубоко вдыхаю почти чистый воздух. В районе улицы Сен-Дени ищу такси. До чего же у меня дурацкий вид с этой штукой подмышкой! Встречные глядят на меня с интересом. Нужно в темпе сваливать отсюда, а то я похож на влюбленного болвана, собравшегося сделать предложение. Забираюсь в «рено-эспас» и даю шоферу адрес.
— Невесте подарок везете?
— Нет, собираюсь взорвать Центральный банк. Пока мы едем, я непрерывно подгоняю его, и он проскакивает все светофоры на желтый свет.
Он высадил меня в начале улицы Монмартр. И тут опять все глазеют на мой пакет и на меня как на последнего идиота. А что если быстренько заглянуть внутрь? В такой короб можно заложить что угодно, не только красивый именинный подарок — бомбу с часовым механизмом, голову смертельного врага, геджет в виде кучки собачьего дерьма, «узи» с полной обоймой. Но пакет не воняет, довольно легок, внутри ничего не тикает, и я спрашиваю себя: может, я просто параноик? Впереди вижу вывеску «У Фреда». Перед баром выстроились в ряд «харлеи». Ох, не нравится мне все это! Идиотская ситуация! Ладно, ну-ка глянем сперва, что там. Слегка распускаю желтый бант и осторожно раздвигаю бумагу, стараясь не порвать ее. Кто узнает, что я заглянул внутрь? И потом, какое это имеет значение. Плевать мне на все, нечего выставлять меня идиотом. Меня не купишь на эту историю с белкой. Не знаю, со страху ли, от возбуждения или еще с чего, но мои руки опередили мысль и разорвали упаковку. В конце концов, какого черта! — я должен увидеть, что там спрятано. Разве можно стоять, ничего не делая, когда хвоя фантазия рисует страшные картины, а под рукой вот эта штука, которая мозолит глаза и дразнит воображение? Все окружающие пялятся на меня — торговцы кускусом, знакомые портье из «Паласа», клиенты, томящиеся у входа; все хотят узнать, какой чертик выскочит из этой коробочки и взорвется ли он у меня в руках. Я заглядываю в пакет.
В первый момент я решил, что она сейчас прыгнет и прокусит мне шею. От прилива адреналина я содрогнулся всем телом. Однако зверюшка, скалившая острые зубы, смирно сидела на своей подставке и на меня не бросалась. Кажется, белки вообще пугливы. Я погладил ее по головке и завернул, как мог, обратно в блестящую бумагу.
В нескольких метрах от бара я заметил какого-то типа, валявшегося на тротуаре. Сперва я принял его за бродягу, но потом увидел, что у него из носа ручьем льет кровь. В приоткрытой двери бара «У Фреда» стоял здоровенный громила; он смотрел на беднягу, скрестив руки на груди и злорадно ухмыляясь. Когда я подошел, он смерил меня взглядом с головы до ног, меня и мой костюмчик без возраста и шарма. Затем посторонился, пропуская внутрь и удивленно пялясь мне вслед. Думаю, он пропустил скорее не меня, а мою шикарную коробку. Я было принял его за вышибалу, но, войдя, сразу понял, что это заведение в них не нуждается.
Роскошный бар. Голубые неоновые светильники, деревянная полированная стойка, идущая вдоль всего зала, бильярдные столы в глубине помещения. Паркет, блестящий никель, свежая краска. Куда ни глянь, деревянные панели. В общем, это место внушало доверие. Если не считать публики. Целая банда качков, все одного пошиба — мрачные, немногословные, большей частью бородатые, скучающего вида, в плотных кожаных куртках и сапогах, с гравированными перстнями на каждом пальце. Обычно на них натыкаешься ночью, они ходят всюду по двое, по трое. Мы с Бертраном, как правило, вежливо уступаем им дорогу, встретив где-нибудь на лестнице или в туалете, а иногда и дверь придерживаем, когда они проходят, лишь бы не связываться. Но тут я, кажется, угодил прямо в их гнездо, в клуб, куда меня никогда не пригласят вступить. Крутые байкеры в натуральную величину, полулюди, полумотоциклы — эти уж точно имеют полное право носить косухи «Perfecto». He будь у меня подмышкой коробки, я бы почувствовал себя среди них голеньким и беззащитным как новорожденный младенец. Еще пару минут назад эта посылка внушала мне беспокойство, а теперь служит защитой; вот за это я и люблю ночь — здесь все меняется с волшебной быстротой. Вторая успокаивающая подробность — огромный праздничный торт с пышной шапкой заварного крема, едва начатый, украшенный свечками и змеей с раздвоенным жалом на верхушке, там, где обычно стоит какая-нибудь трогательная фигурка перво-причастника. И вот я двигаю, с фальшивой улыбочкой на губах, к тому, кто больше всего похож здесь на Фреда. Хотя, если вдуматься, каждый из них вполне может оказаться Фредом. Бормочу несвязные слова — именины, подарок, «Хибара»… Уж не знаю, какое из них его больше взбесило, но он вырвал коробку у меня из рук, даже не подумав благодарить. Байкеры окружили меня плотным кольцом. Стало жарко, душно, запахло потом. В одно мгновение. Сам не знаю почему, я вдруг вспомнил того парня на улице, вытиравшего кровавые сопли.
— Я всего только посыльный, — пролепетал я, пытаясь сохранить на лице подобие улыбки.
Белочка — это ведь так мило. Маленький безобидный грызун не может никого разозлить, думал я. Хозяин отодвинул стоявшую перед ним бутылку шампанского. Когда он увидел зверька на подставке, он буквально оцепенел. И все остальные тоже замерли и умолкли, хотя ненадолго, тут же раздался взрыв хохота, от которого буквально задрожали стены. Я тоже засмеялся. Смеялись все — кроме самого Фреда. И тут я вдруг понял. Понял, что даже если бы я плюнул ему в лицо, у меня и то было бы больше шансов выйти отсюда живым. Потому что белка оказалась хуже всякой бомбы. Она была наивысшим оскорблением. И бесполезно было стараться постичь его смысл. Я проклял себя за то, что попался на эту удочку. Меня поимели как последнего идиота. Несчастный халявщик, угодивший в змеиное гнездо, — так мне и надо!
Смех прекратился, когда Фред схватил меня за шиворот. Я еще пытался что-то объяснить, нес какую-то чушь, но уже понимал, что сейчас мне набьют морду. Свободной рукой он схватил белку и одним ударом разбил ее о край стойки. Какой-то парень, сидевший рядом, сказал мне:
— Знаешь, что из тебя сейчас сделают? Чучело навроде твоего грызуна. И поставят вон на ту полочку. А то у нашего Фреда давно не было новых трофеев с тех пор, как он заполучил скальп твоего дружка из «Хибары».
Но я почти не слышал его, я смотрел на бутылку шампанского, стоявшую так близко от меня, и думал, что не способен даже на это. Что я недостаточно крутой. Что я из тех, кто получает в морду, а потом кланяется и благодарит. Что мне предстоит пережить несколько черных минут. Что они разделают меня за милую душу, как бог черепаху. Что настоящим подарком, который их развлечет и доставит удовольствие, был я сам. Что мне придется перенести все это, стиснув зубы. И я стиснул зубы…
* * *
Вдали в ночном мраке я увидел белеющую верхушку Сакре-Кёр. Задыхаясь, на секунду остановился перевести дух, но тут же побежал снова. Вход в метро… я побоялся, что они прижмут меня на перроне, и свернул в другую сторону. Дальше… дальше… вот уже и купол Сакре-Кёр исчез из виду. Поворот, еще один, еще… машины с визгом тормозили в сантиметре от меня. Ужас объял меня в тот миг, как я обернулся. Никого? Да, слава богу, никого. И тут я позволил себе разрыдаться, разрыдаться до того бурно, что слезы едва не задушили меня. Я плакал так, как не стесняются плакать только в детстве, во весь голос, с громкими всхлипами и жалобным подвыванием, с полной гаммой звуков, выражающих безграничное ребячье горе. Это нервы… это просто нервы, утешал себя другой я — уже взрослый. Я заметил, что сжимаю в руке горлышко бутылки, но не смог разжать руку и бросить его. Оно так и осталось в моем судорожно стиснутом кулаке. Прислонившись к банкомату, я сполз на тротуар, и передо мной, помимо моей воли, снова возникла изумленная гримаса того типа, когда бутылка врезалась ему в висок; это единственное, что мне запомнилось, а дальше был только бег, сумасшедшая гонка, и другие осколки стекла на моем пути, вонзавшиеся мне в спину, хотя в этом я уже был не вполне уверен. Горлышко бутылки, крепко прижатое к бедру. Желание высморкаться, но сморкаться не во что. Внезапная мысль: что если и вправду забраться в банк, покрепче запереть двери, а если они меня найдут, поднять тревогу изнутри.
Они меня упустили. Новый приступ ярости вызвал у меня новые слезы. Но уже совсем иного толка. В глубине каждого плача всегда скрывается малая толика удовольствия, которое рано или поздно выходит наружу. Вот оно и вырвалось — мощным фонтаном радости и счастья. Мгновенным переходом с одного берега безумия на другой. Счастье от сознания, что я смог разбить морду тому типу, что я способен быть и таким, и эдаким, и совсем другим человеком, которому уже никогда, до самого конца жизни, не придется испытывать стыд за то, что он молча снес оскорбление. За то, что позволил испоганить и растоптать свое самолюбие. Самолюбие, сильно пострадавшее в тот момент, когда я ползал у ног Бертрана.
Невдалеке я увидел телефонную будку.
— Ну как там Фред — доволен?
— …
— Я был уверен, что ты к нему пойдешь… Он не слишком сурово тебя принял?
— Думаю, скоро у тебя высадится целый десант оголтелых байкеров, которые нанесут немалый ущерб твоему заведению. Ах, как мне хотелось бы полюбоваться этим!
Смешки на другом конце провода.
— Ты пойми, старик… Я не люблю, когда кто-то приходит ко мне разнюхивать, что да как; за такие дела морду бьют. Я припас подарочек для Фредо, а тут ты явился, вот я и решил одним ударом убить двух зайцев. А Фредо я люблю, хотя он и ведет себя порой как слон в посудной лавке, но почему бы не доставить ему маленькую радость начистить кому-нибудь харю. А за меня не беспокойся, у нас с ним общие дела, и воевать нам не с руки. Во всяком случае, из-за этого. Да, совсем забыл — хочешь узнать, почему весь Париж дразнит его Белкой?
— Мне плевать. Гони адрес.
— Ты прав, старик, адрес ты заслужил сполна. Сейчас твой альбинос должен направляться в кафешку… Черт, дурацкое такое название, вечно вылетает у меня из головы… Что-то про моду… Эй, Пьеро, как оно называется, то заведение?
Если он ничего не скажет, я сяду в первое же такси, приеду и располосую ему горло моим бутылочным осколком.
— Чего-чего? А, ну точно! Кафе «Модерн». Это на улице Фонтен.
Щелк!
Я постоял еще несколько секунд с трубкой в руке, явственно вспоминая, как еще вчера вышибала этого заведения смачно перечислял все преимущества и неудобства моей смерти.
* * *
Улица Фонтен, будь она проклята! Чертова Пигаль. Есть Пигаль для туристов — это Париж геев, это злачные Бульвары, с их жалкими стриптизами и обторчанными трансвеститами, просьба вернуться к автобусу до полуночи. И есть наша Пигаль, для аборигенов — та, где «Martial's», «Folles Pigalles», «Mikado», «Nouvelle Eve», «Loco», «Moon», «Bus». И еще эта сволочная улица Фонтен. Куда бы вы ни шли, ее не миновать, это все равно что Соммьеnote 17 для легавых. Все, кто живет в Париже ночной жизнью, в какой-то момент обязательно приходят на улицу Фонтен — встретиться со своими, спланировать вечер за рюмкой текилы, закусить ближе к утру стейком-тартар. Иногда мне чудится, что я — волчок на веревочке, привязанной другим концом к площади Бланшnote 18.
Вдали замечаю Жерара, присевшего бочком на капот чьей-то розовой тачки. Этот парень годами не видит дневного света. Ложится спать в восемь утра, просыпается к двум дня, пару часов занимается американским боксом, обходит несколько баров, чтобы поболтать с дружками, и — за работу! Очень скоро морда у него примет цвет незрелого баклажана, глаза придется закрывать черными очками, а на поясе всегда будут болтаться нунчаки, его верный защитник. Все это в равной степени относится и ко мне самому, ведь мои внутренние часы настроены так же, как у него. Правду сказал ночью тот старый безумец: если постоянно плыть против течения, наверняка свихнешься. Сон на дне бассейна не сильно восстанавливает тонус. Деликатесы каждую ночь не всегда полезны для желудка. Ну а уж шампанское…
Жерар болтает с двумя клиентами. Три часа ночи, основная публика уже схлынула, теперь до утра можно расслабляться, подменяя друг друга на посту. На входе хватит и одного вышибалы. Но при моей везучести я уж точно нарвусь на самого злобного.
Что он там талдычил про неумышленное убийство? Получит лет пять тюрьмы, выйдет через три и станет королем Парижа. Кто же после этого посмеет к нему соваться? Кто посмеет бросить ему вызов, услышав столь недвусмысленное заявление? Я спрашиваю себя, неужто это Париж и парижская ночь породили карьеризм такого рода? Может быть, Джордан уже там, в зале. Мне нужно только пройти в эту дверь. Увидеть его, позвонить старику. И мне отдадут моего Бертрана.
Пройти в эту дверь.
Повторить вчерашний маневр? Дождаться кого-нибудь знакомого, кто возьмет меня под свое крылышко и проведет мимо этого цербера? Нет, не выйдет. Во-первых, время слишком позднее и поток клиентов иссяк. Во-вторых, он сказал, что сдержит слово, даже если я заявлюсь к нему с самим папой римским. Есть и другой способ — метод гиены, дожидающейся своей очереди: подстеречь Джордана здесь, на улице. Если он соблаговолит выйти. А если его там нет? Значит, я напрасно потрачу время. А если он выйдет, как его задержать?
Нет, я должен войти внутрь. Чего бы это ни стоило.
Вдобавок сегодня у меня есть веские аргументы.
При виде меня у Жерара отвисает челюсть. Наверное, думает: это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Неужто овечка сама решила кинуться в пасть волку?!
— Эй, мокрица! Это ты или, может, я сплю?
Изумление. Мне еще никогда не удавалось вызывать у людей подобных чувств. И вдруг у меня мороз по коже пробегает. Меня охватывает дурное предчувствие. Когда он говорил «убью», это была просто болтовня. Так, глупая шутка. Разве можно принимать всерьез такие слова? Да и все остальные тоже. Это же просто развлекуха — и ночь, и люди, которых встречаешь в ночи, и жизнь, которую я веду. Только сейчас я осознал, что всего за одни сутки меня похитили, моего друга взяли в заложники, мне поручили преподнести беличье чучело, я раскроил кому-то череп, а в настоящий момент развлекаюсь тем, что изображаю камикадзе перед парнем, который жаждет взять на свою совесть грех моего убийства, чтобы преуспеть в жизни.
— Я пришел из-за вчерашнего… Я вел себя по-дурацки… Хочу извиниться.
Что бы ему еще наплести? Главное, выглядеть искренним.
— Мы ведь оба с тобой — люди ночи… Пересекаемся то здесь, то там… Не стоит нам воевать…
Сам себе дивлюсь: как я могу распинаться перед этой сволочью, когда в душе мечтаю, чтобы его катком размазало по асфальту. Вынимаю из кармана два старательно сложенных Паскаля.
— Это тебе в возмещение убытков. И пойдем выпьем там у вас, я угощаю.
Жерар в шоке. Он остолбенело вылупился на купюры, такие маленькие в его огромной ладони. Я сразил его наповал. Стою, не зная, куда глаза девать: то ли смотреть на посетителей, которые выходят на улицу, удивленно вздрагивая от темноты и ночной свежести, то ли на такси, куда садится шикарная зевающая пара, то ли на неоновую вывеску «Korovabar», с мигающей буквой «К», то ли на свой дырявый башмак. Жерар недоверчиво оглядывает меня с головы до ног и сует мою тысячу в карман.
— Ладно, это за потерянное время. А вот обида будет стоить подороже. За нее деньгами не заплатишь, нет таких денег. Ты со вчерашнего дня — покойник! Убить такого паразита — только на пользу обществу, суд примет это во внимание. Тебе и невдомек, как уважают в тюряге убийц. У меня есть все что нужно — и трудное детство, и адвокат, который знает меня лучше родной матери, и пара-тройка важных шишек, которых я охранял и которые мне теперь ни в чем не откажут. А еще у меня найдется куча свидетелей, которые подтвердят, что ты сам на это нарывался. К тому же я умею наносить такие удары, от которых ты уже не встанешь, но докажу, что это вышло случайно, уж извините, он сам подвернулся, я этого не хотел. Мне поверят.
— …
— И я настигну тебя в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ждать. Так что наберись терпения. Ты у меня на очереди.
Я перешел улицу, бессильно свесив руки, подавленный вконец. Да нет же, это просто шутка. Он решил меня закошмарить, но это шутка… Парень изображает крутого Уокера… Ему нравится нагонять страх… это его работа… А угрозы — ну это, чтобы развлечь дружков… И все же…
Странно слышать, как человек планирует свое пребывание в тюряге. Может, пока не поздно, слинять в Фонтенбло, к сестре? Но ведь я сам настоял, чтобы взаперти оставили не меня, а Бертрана. У него хватило мужества довериться мне. Оказавшись возле помоек в начале улицы Мансар, я отыскал взглядом уличные часы, чтобы узнать, сколько мне осталось. Меньше двадцати двух часов.
Что ж, старина Жерар, ты чересчур уверен в себе. Я честно хотел мира, но ты отказался. Ладно, хоть я паразит и слабак, мне придется сделать тебе больно, Жерар. И я уже знаю, как именно. Я все равно войду в твое заведение. Спорим?
Я не сразу обрел счастье, ибо искал его в несчастье других. А именно в лице парочки отщепенцев, у каждого из которых были веские и, скорее всего, одинаковые причины сделаться обладателями полтысячи франков. Я был уверен, что они найдут достойное применение моим деньгам. Я обнаружил этих бродяг под строительными лесами, где они ночевали в картонных коробах, и тут же завербовал. Я действовал как последняя сволочь, особенно, когда расчетливо сказал себе: выдай им башли в два приема, на случай, если они решат смыться, и начни переговоры с этим бритым недоноском — вид у него хилый, взгляд голодный, но продувной. Они шли за мной следом, и я показал им мотоцикл Жерара, дотронувшись до него на ходу. Жерар поставил его на углу еще вчера, хвастаясь машиной перед своими дружками.
Это был черный «Harley Davidson Electra Glide» 1340. Заветная мечта истинного рыцаря асфальта. Лучший боевой конь нашей современной, лишенной иллюзий эпохи. В любом уголке земного шара, мчась на «харлее», человек способен раздвинуть пространственные и временные границы. На нем летят, как на валькирии, на его стартер жмут, как на спусковой крючок винчестера, его оглаживают, как мустанга. «Харлей» слышен издалека, его можно узнать по особой музыке, присущей только ему одному, по великолепной токкате с божественным крещендо. Чистый Бах.
На какой-то миг я представил Жерара у телефона — умирающая мать, брат, покончивший самоубийством… ну нет, такими пустяками этого психа от двери не оттащишь. Умирают, ну и хрен с ними!.. Он, кажется, говорил, что у него было трудное детство. Двое моих наемников поспевают за мной, держа в руках ломики, подобранные на стройке. Я прячусь среди машин в трехстах метрах от места действия.
Бродяги начали крушить «харлей» — сперва бак, потом фары, это самое легкое, зато как приятно смотреть на золотистые осколки! Вскоре они покончили со всем, что можно было расплющить, вырвать и скрутить. Из карбюратора вылетел сноп искр. Вот тут я испытал настоящее удовольствие. Но чертова машина все еще сопротивлялась. Наконец она с противным скрежетом стала крениться на бок. Значит, мы водим знакомство с важными шишками, так, Жерар? Мои бродяги подсунули ломики под мотоцикл, пользуясь ими как рычагами, но опрокинуть его не смогли. Зажигалка… Да, нелегко изуродовать столь мощный корпус, как нелегко без привычки добить здоровое человеческое тело. Оно кричит, оно сопротивляется, оно корчится в судорогах, отказываясь умирать. Оно может продержаться много часов. Значит, мы умеем наносить такие удары, от которых не встанешь, так, Жерар? Я не чувствую никакого запаха, но от машины сейчас должно вонять горелой кожей… До чего же он хорош, этот «харлей», даже в стадии агонии! Люди торопливо проходят мимо, будто ничего не видят, — боятся ввязываться. Еще несколько ударов, и пробка бензобака наконец сбита. Мотоцикл истекает бензином. И чем ожесточеннее они молотят по нему, тем мне веселее; жалко, что им не удастся распотрошить его вчистую, раздолбать мотор, искромсать арматуру.
Замерев и еле дыша, я гляжу, как огонь подбирается к бензобаку. Дальше все происходит очень быстро. Привлеченные пламенем, сбегаются люди. Я стою поодаль от места трагедии, ожидая, когда сообщат Жерару, что тут же и происходит. У меня аж дух захватило при виде этого тупицы, который бессмысленно пялится на останки, не в силах поверить в случившееся. Растерянные глаза человека, которому небо обрушилось на голову. Он стоит такой маленький, такой одинокий, такой испуганный. Вход в ресторан свободен. Парочка злодеев подходит ко мне за второй половиной гонорара. Один из них заявляет:
— Надо бы добавить, хозяин.
— Это еще почему?
— Из-за картинки.
— Какой картинки?
— Да там на баке красно-зеленая голова кобры с разинутой пастью.
— Ну и что?
— А то, что за это полагается надбавка, хозяин.
Я так и не понял, на что он намекает, но все-таки сунул ему еще пятьсот. В конце концов это не мои деньги. Затем неторопливо пересек улицу и прошел мимо кассирши «Модерна». Она спросила меня, что там стряслось. Не ответив, я спустился вниз по узкой лесенке, ведущей в самое жерло вулкана.
От грохота децибелов у меня просыпается старая зубная боль. Людская магма, секундное оцепенение, в общем, обычный хаос. Город спит, но в его чреве бурлит жизнь. То, для чего я сюда пришел, терпит еще пару минут. Прежде всего нужно глотнуть мескаля, чтобы взбодриться. Город там, наверху, мирно спит. И ничего не подозревает.
Бессмысленная энтропия, царство абсурда. Рты, искривленные неразличимыми криками. Сердце колотится в бешеном темпе электронного ритма. Макияж, растекающийся от пота, темные круги на майках, лес мелькающих ног. И еще все то, что не видно, но угадывается: безответные улыбки, потерянные взгляды, пьяные обещания, тщетные надежды в безжалостной ночи. Атмосфера, пропитанная запахами людских секреций. Торжественный обмен телефонами, нацарапанными на пачке «Мальборо». И скрытый расчет. Мне это известно, я тоже долгое время на что-то надеялся. И сколько же раз мне казалось, что я нашел выход из этого ада. Половина присутствующих жаждет секса, другая половина спасается от одиночества. А город там, наверху, мирно спит. Ну и пусть, оставьте его в покое!
Джордана здесь нет. Ни в баре наверху, ни внизу. Да и трудно представить его в этом людском водовороте. И все-таки мне почему-то кажется, что те двое из «Хибары» не соврали. Встречаю Гаэтано, автора комиксов, — он нетвердо стоит на ногах, но как всегда не теряет головы. Мы здороваемся, ударившись ладонями, на растаманский манер. «Глаза — мой единственный сексуальный орган», — говорит он. И добавляет, что в «Bains-Douches» девок больше. Я бросаю его и принимаюсь обшаривать укромные уголки заведения; людское море захлестывает меня, рубашка уже насквозь промокла от пота, я расспрашиваю всех мало-мальски знакомых мне людей, но Джордана никто здесь не видел, нет, ничего похожего. Мне хочется кому-нибудь дать в морду и заорать, перекрывая эту гребаную музыку, что я пришел по делу, что я всех их ненавижу, этих бездельников, какого хрена они тут делают — питаются иллюзиями, безумием и шумом, которых не сумели найти в другом месте?! Я проклинаю самого себя за то, что принадлежу к их клану, за то, что столько раз спал в этих вот креслах, с пересохшим горлом, нацепив черные очки, в ожидании конца века.
— Двойной мескаль!
Сто двадцать франков растворяются в паре глотков. Я чувствую, что способен спустить все бабки еще до конца ночи. Мне даже совестно не будет — Бертран на моем месте тут же бы выкупил свой драгоценный томик мемуаров Талейрана, который я заставил его отнести букинисту на улице Гей-Люссака. Книга была в хорошем переплете, с иллюстрациями, но из-за подпорченных гравюр нам дали за нее всего четыре сотни. Я заказал еще мескаля и выпил, закрыв глаза, чтобы лучше прочувствовать, как он обжигает мне желудочный тракт. Закрыл глаза и опустил голову.
И вот в тот миг, когда я поднял ее, готовый противостоять людскому водовороту, я увидел ту девушку. Она стояла, прислонясь к кафельной стене, и зачарованно смотрела на отжигающую публику, словно завидуя этому избытку энергии и ритмичным содроганиям тел. Больше всего меня удивила ее худоба. Все, кто пытался ее описать, ничего об этом не говорили.
Зато насчет прикида они оказались правы: если она хотела выглядеть женщиной-вамп, то вырядилась как нельзя лучше. Боевое облачение. Оскорбительно вызывающее. Черное с головы до ног — стандартный набор соблазнительницы без малейшего намека на воображение, без всякой индивидуальности, ничего, ровным счетом ничего — банальный уличный стиль, не более оригинальный, чем костюмчики от Шанель. Может, конечно, свои личные вкусы она воплотила в белье, но белье скрывалось под одеждой. Хотя вряд ли оно было от Дамара. В общем, одни сочли бы ее вульгарной, другие — заурядной, для остальных она была чертовски возбуждающей. Мне же скорее внушала страх. Все, кто стремится доказать, что они реально существуют, внушают мне страх. Все, кто молча сдается на милость победителя, внушают мне страх. Только ночь способна породить таких мутантов.
Я отвернулся буквально на секунду, чтобы взять сдачу у бармена, а она уже исчезла. Я запаниковал. Но вдруг увидел ее совсем рядом, она слегка задела меня. Я было подумал, что она хочет выпить, но она только сунула в рот дольку лимона, которую я оставил рядом с рюмкой. От прикосновения ее ноги я вздрогнул, как от электрического разряда. Меня объял неведомый ужас, который я поклялся себе разгадать когда-нибудь позже. Она отошла от стойки, и я проследил, как она вошла в дамский туалет.
— Брось ты ее, — сказал мне Гаэтано.
— Почему?
— Ядовитая девка.
— Что ты имеешь в виду?
— Да ладно тебе… сам понимаешь… Такая даст кому попало, только заикнись.
— А ты пробовал?
— Ну, я еще с ума не сошел!
В этот момент ему на шею вешается высокая брюнетка, и они удаляются.
— Ты хочешь со мной, козлик? — спрашивает меня смазливая девица, которой я загораживаю вход в туалет.
В подтверждение репутации сатира, я заглядываю одним глазком внутрь, но вижу лишь мешанину тел в облегающих нарядах и лиц в полной боевой раскраске. Наконец выходит та, которую я жду. Я почувствовал, как ее рука коснулась моего живота, но решил, что ошибся. Девушки не бывают безумны до такой степени. Девушки не бывают безумны до такой степени, чтобы думать, будто парни безумны до такой степени. Она возвращается в бар, садится на табурет у стойки и неведомо откуда вынимает губную помаду. Я подхожу.
— А зеркало? Разве можно красить губы без зеркала?
— Зеркало мне ни к чему, — отвечает она с усмешкой.
— Что так?
— Не важно. Я заметила, что вы смотрели на меня, и хочу вам кое-что предложить.
— Да?
— Но я не знаю, как выразиться. Это мой главный недостаток — не умею нормально выражать свои мысли. Мне уже говорили, что я слишком резка. Это, наверное, от робости или уж не знаю отчего. У меня, наверное, проблема с… формулировками, но люди осуждают это, они думают, что я такая грубая… в общем, мне трудно объяснить.
— Не переживайте. Будьте проще, говорите, что хотите, вот и все.
— Я не умею говорить просто, это прямо болезнь какая-то, вы тоже посчитаете меня идиоткой, но я не могу одновременно говорить и думать о том, что говорю. Я, что называется, задним умом крепка: мне объясняют что-нибудь, я пытаюсь ответить, а слова не идут с языка, и только на следующее утро я говорю себе — дура, вот что надо было ответить! Но отвечать уже поздно. Мне даже приходится иногда прерывать свидание, чтобы обдумать и подготовить нужные слова. А хотите, я вам признаюсь в самом позорном? Я хожу в туалет, чтобы записать и выучить наизусть ответы на чужие вопросы.
— Со мной у вас проблем не будет, говорите, что придет в голову, я это просто обожаю.
— Переспим?
— Хотя нет, сперва, наверное, нужно познакомиться. Меня зовут Вьолен.
— М-м-м… красивое имя.
— Вы так считаете? Оно означает насилие и ненавистьnote 19.
— Мне и в голову не приходило… Я…
— Смотрите, там сзади кто-то делает вам знаки…
— Что?..
— Он не успокоится, пока вы не подойдете к нему. Заодно подумайте, а когда вернетесь, скажете мне, да или нет.
Я оглядываюсь. Этьен?.. Кажется, он. Да, верно, он. Машет, подзывая меня к себе. Я пересекаю зал, ничего не видя и не слыша вокруг. Только вдали путеводной звездой маячит рука Этьена.
— Какого черта ты здесь, Антуан? — А?..
— Я еле-еле вошел, вышибала совсем озверел, всем дает отлуп, там с ним целая кодла байкеров. Ты меня слышишь?
— Ага…
— Ты что, нажрался, мать твою?
— Н-нет.
— Тогда объясни, что творится в этой гребаной забегаловке!
— Да так, ничего…
Кажется, женщина-вамп заразила меня своей болезнью: я больше не способен ясно выражаться. И хотя я сижу напротив моего дружка Этьена, мысленно я все еще там, рядом с ней. И уже боюсь ее потерять.
— Я спалил «харлей» Жерара.
— Что-о-о? Ты шутишь? Или совсем с катушек съехал? Тебе не с руки валять дурочку, приятель, ты со своим Джорданом и без того по уши в дерьме. Я навел справки, он опаснейший тип. Эй, очнись!
И он помахал пятерней у меня перед глазами.
— Ты, случаем, не наширялся?
— Наширялся?
И тут я получил здоровенную оплеуху, заставившую меня широко раскрыть глаза.
— Слушай меня, ты, дерьмо! Я пытаюсь тебе объяснить, что ты носишься за психованным маньяком. Он кусает людей. По-настоящему кусает! Я заглянул в «Голубую ночь» и встретил там Жана-Луи, фотографа, он показал мне свой шрам, вот таких размеров. Этот тип кусается! Ты усек?
— Я… знаю.
— Что ты бормочешь? Хочешь еще схлопотать? Я обернулся посмотреть, не ушла ли она.
— Это кто такая?
— Это… Это девушка, которая целует руки Джордану.
— Ты что, издеваешься? Откуда ты знаешь, что это она?
— Это она.
— И что же она тебе сказала?
— Что хочет переспать со мной.
Долгая пауза. Музыка. Мне бы выпить еще, хоть капельку.
— Ты спятил, Антуан! Неужто ты купишься на это?
— Почему бы и нет?
— Потому что это плохо кончится, я чувствую, что тут дело темное. Я честно хотел тебе помочь, но теперь…
— А если она выведет меня на Джордана?
— Если ты пойдешь с ней, на меня больше не рассчитывай.
— Мне нужно идти, иначе она исчезнет. Я допытаюсь у нее, где Джордан, сдам его старику в пятницу утром и вытащу Бертрана, так что мне даже не придется его подменять. И все это за сорок восемь часов, и ни часом больше. У тебя есть другие варианты? Нет? Тогда какого хрена ты читаешь мне мораль и корчишь из себя пророка? Думаешь, тебе все позволено, раз ты на двадцать лет старше всех нас?
Я не жалел, что вывалил на него все это, не жалел даже о последних своих словах. Я ожидал, что он ответит в том же духе, осыплет меня ругательствами. Но он сидел молча, не шевелясь, вконец ошарашенный. Мне плевать. Девушка по-прежнему была там, у стойки, у нее хватало такта не глядеть в мою сторону. Я стал думать, что бы мне еще сказать Этьену. Но тут заметил, что он уставился на дверь.
А в дверях стоял Жерар. Мертвенно бледный. Испепеляя меня взглядом убийцы. И рядом — парочка его коллег-вышибал.
— Не хочу выглядеть старым пророком, но, по-моему, они ждут, когда ты выйдешь, чтобы размозжить тебе голову, — говорит Этьен.
— Они не могут знать, что это я.
И я настигну тебя в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ждать… Не надейся, друг Жерар, я этого жду и я вполне спокоен. Девушка еще там, но может уйти с минуты на минуту. Этьен хлопает меня по колену.
— Старый пророк, конечно, не имеет права давать тебе советы, но, по-моему, живым тебе отсюда не выйти. Делай что хочешь, но дай мне время сделать один звонок.
Я чуть было не сказал, что больше не нуждаюсь в его услугах, как вдруг увидел, что Жерар пожимает руку парню с забинтованной головой. Жерара явно не интересовало состояние черепа его дружка, первым делом он жестами изобразил состояние своего «харлея». Я узнал его собеседника. Это был Фред.
— Ладно, согласен. Иногда и тебя посещают удачные мысли, Этьен…
* * *
Внезапно музыка стихла. Полицейский не посмел обыскивать Вьолен, зато отыгрался на мне. И на всех прочих, сиротливо застывших на танцполе в этой гнетущей, неуместной тишине. Этьен исчез. Разъяренный хозяин выражал свое бурное возмущение двум инспекторам полиции. Орал, что у него в заведении сроду не водилось «наркоты». Что он даже установил камеры наблюдения в сортирах. Легавые просили его успокоиться: ничего и никого подозрительного они не обнаружили, все в порядке. Босс разразился речью о завистниках-конкурентах, которым только дай волю, они в два счета потопят твое заведение, и в этот миг Вьолен спокойно сказала мне:
— Пошли?
И вот среди общего переполоха я вышел из зала под яростными взглядами Фреда и Жерара. В них горело и недоумение, и злоба, и страстное желание изничтожить меня на месте, прямо тут, на троауаре. Но пока что я получил лишь несколько камней в спину, когда был уже далеко, в самом конце улицы Фонтен. Я так и не узнал, кто из этой парочки швырнул их. Странно, это меня совершенно не волновало. Из двух зол я выбрал худшее — ту бомбу, которая обратила в прах все эти баллистические потуги. Ту, что сейчас цокала острыми каблучками по булыжной мостовой.
* * *
Меня почему-то всегда изумляет встреча с бездомными, как будто я один имею право на эту привилегию.
Я не принадлежу к числу фанатов секса. Моему либидо особенно похвастаться нечем. Но единственные отчетливые воспоминания о женщинах, которых мне доводилось знать, связаны с их домами, с тем пространством, где они вели себя как полноправные хозяйки. Мне нравится запах их комнат, нравится следить за их проворными обыденными жестами, за стыдливыми и хитрыми уловками, с которыми они укрываются от постороннего взгляда.
Я привычно подумал о каморке за восемьдесят франков в отеле «Жерсуа дю Карро дю Тампль», с одним-единственным пластмассовым стулом и шерстяным одеялом, которое мы с Бертраном в сильные холода стаскивали друг с друга. Не говоря уж о кошмарном звонке, который безжалостно будит вас ровно в полдень, напоминая, что пора убираться. Нет, это неподходящее место, чтобы вытягивать признания из незнакомки. Я спросил, нет ли у нее чего на примете. Ее устроит любое помещение, сказала она.
По большому счету нам повезло, комната могла оказаться и хуже. Свежий палас, темно-розовые обои, аккуратно застеленная кровать. Мини-бар, из которого Вьолен тут же вытащила бутылочку минералки. Я подыскиваю элегантную фразу, которая с ходу объяснила бы ей, что я не собираюсь с ней трахаться, но черный жакет уже падает на пол, обнажив плечи с россыпью веснушек. И вот наконец в темноте светлеет ее тело. Беспредельная скорбь в запавших глазах, мертвенная бледность истощенного лица с резкими чертами. Поцелуешь ее в губы и оцарапаешься. Обнимешь, и у нее затрещат кости. Переспишь с ней, а проснешься на горстке праха.
«Задним умам крепка», — так она говорила мне в баре. Я пытаюсь представить, как завтра буду лежать в этой кровати, полусонный, мучительно вспоминая, что должен сказать ей сейчас, и горько сожалея, что не сумел вытащить из нее вчера все что нужно.
— Там есть бутылка шампанского, — сказала она.
— Так откупорьте ее.
Все-таки отсрочка. Можно будет разлить вино в пластмассовые стаканчики, в полумраке произнести тост, медленно допить последние капли перед схваткой. Я на минутку удаляюсь в ванную и, присев на край ванны, споласкиваю лицо холодной водой. Только бы не забыть главное — Джордан, Джордан, Джордан. А все остальное — шампанское, чулки, веснушки — пустяки, ерунда, мне совершенно не хочется с ней спать, у ее тела даже запаха нет, она ровно ничего не делает, чтобы соблазнить меня, да я ей и не нравлюсь, ей безразлично, с кем трахаться, со мной или с другим, я просто подвернулся ей под руку, как вот эта комната, а мыслями она далеко отсюда, я это чувствую.
Она застыла перед зеркалом, словно ее гипнотизирует вид собственного тела; широко раскрытые глаза впились в отражение. Я пригубил шампанское из стаканчика, который она наполнила до краев, затем чокнулся с ее стаканом, но она и бровью не повела, и я ощутил себя незваным гостем, вторгшимся на это любовное свидание — с самой собой. Я вот никогда не разглядывал себя с таким страстным, таким болезненным интересом.
— Ну и как вы себя находите?
Ответа нет. Внезапно ее глаза тускнеют, как у стариков на пороге смерти. Я кладу руку на ее веснушки, и она приходит в себя.
— Что вы сказали?
— Я спросил, считаете ли вы себя красивой. Короткое молчание, сопровождаемое глотком шампанского.
— Зеркала мне не нужны. Я ведь вам уже говорила. Я себя не вижу. Я существую только в вашем взгляде, больше нигде.
Неужто это намек на желание? Кто знает. Я трусливо вернулся к своему шампанскому, лишь бы замять разговор. Теперь я убедился, что имею дело с психопаткой. Притом с пьяной психопаткой. Да и как не свихнуться и не спиться, таскаясь повсюду за Джорданом, точно верная собака! Я предчувствую, что после подобного вступления меня ждет небольшой экзистенциальный спектакль. В исполнении алкоголички. Вот уж действительно самое время для излияний! Сценарий я знаю наизусть — бессвязное повествование о загубленной жизни, о вечных роковых неудачах, берущих начало в первородном грехе: в общем, драма на дне океана, с жалкими бурями и мертвым штилем, inveritovinassenote 20. Нет, ее ночи не похожи на мои. Она из когорты больных, а не паразитов.
Чем-то она похожа на депрессивного Грегуара, случайного приятеля, который однажды прицепился ко мне и Бертрану с неистовой силой отчаяния. Вспоминаю тот день, когда он рухнул на тротуар бульвара и внезапно объявил, что больше никогда не встанет. Еще миг назад он был полон веселой бравады, и вот на тебе! Мы не поверили, решили, что он шутит, и начали, посмеиваясь, трясти его. Он сказал: «Мне страшно!» И задышал прерывисто, как умирающий. Мы с Бертраном доставили Грегуара домой, в каморку под крышей, и нам пришлось несколько часов кряду по очереди сидеть возле него, держа за руки, — он соглашался жить только так, сжимая наши руки, словно в них и только в них был заключен мир и покой. Я тогда впервые столкнулся с болезнью.
Ибо Грегуар страдал от нее с первых же минут своего пробуждения, эта немочь сжигала ему нутро, вызывала тошноту и слезы, заставляла сидеть взаперти, за ставнями и шторами, но ему все было мало. Нам пришлось завесить окно черной простыней, чтобы окончательно преградить путь в комнату солнечным лучам. Представляете, как это было весело — часами сидеть без дела в кромешной темноте, держа за руку этого психа, который не отпускал нас ни на шаг!
Зато каждый вечер с ним происходило чудо. В сумерках он уже мог сказать несколько слов. Спокойных, коротких, глупеньких слов. И тогда мы облегченно вздыхали — теперь можно было отойти на минутку, воспользоваться передышкой, чтобы заставить его выпить хоть глоток молока. А с наступлением ночной тьмы он начинал говорить, торопливо и безостановочно, как ребенок, научившийся строить полные фразы. Он говорил обо всем и ни о чем, мягко и монотонно, иногда с улыбкой; он соглашался выглянуть в окно и полюбоваться звездами. Постепенно забывая, что утром его ждет все тот же кошмар.
В те редкие часы, когда к Грегуару приходил спасительный сон, мы с Бертраном долго обсуждали все это и наконец поняли. Поняли простейшую вещь: Грегуар боялся течения дня, мысли о том, что жизнь движется вперед, развивается там, снаружи, без него — без его участия, без его двадцати лет, без его душевных терзаний. Зато в нежном сумраке ночи, на ее темных широтах, все слова обращались в прах, и никто от него ничего не требовал. Оставались только вечерняя прохлада и право хранить неподвижность в остановившемся времени.
Болезнь продолжалась дней десять. Мать Грегуара приходила каждое утро, но он отказывался ее видеть. И она общалась с ним через нас, ибо таково было желание ее сына.
Ныне Грегуар трудится в сфере финансов или вроде того. Он объявил нам, что теперь он камбистnote 21, и долго объяснял, что это такое, но я так и не понял. Он считает нас милыми, но отсталыми подростками. И мы никогда больше не говорили с ним о болезни.
Однако болезнь может принимать самые разные формы. Каждый из бедолаг, посещающих «Тысячу и одну ночь», подхватил ее вирус. И сейчас я уверен, что эта драная кошка, которая не узнает самое себя в зеркале, лижет руки кусачему маньяку, дает первому встречному и отвечает на заданный вопрос только следующим утром, страдает самой тяжелой формой этой болезни.
— А если я скажу, что не собираюсь спать с вами сегодня ночью, сколько времени вам потребуется на ответ?
Я произнес эти слова намеренно шутливым тоном. Но шутка прошла незамеченной. Может, этой девице и вправду нужно сто лет, чтобы ответить. Я вдруг ощутил странную глухую боль в голове. Наверняка похмельный синдром. На сей раз легкий спуск в опьянение мне не удался. Обычно все проходит успешнее.
— Пожалуй, прилягу.
Кто это сказал, неужели я сам? Я только услышал эти слова. Какая прохладная подушка. У меня смыкаются глаза.
— Вот идиотство… это сейчас пройдет… извините…
Скверная ночь, скверные встречи, скверное шампанское. Хорошо бы проблеваться. Голова делается все тяжелее, буквально продавливает подушку. Так бывает при гриппе. ДжорданБертранДжордан-Бертран…
Я изо всех сил цепляюсь за эти слова, но не могу произнести их вслух. Господи боже, что это со мной… Хорошо бы сунуть голову под кран… под холодную воду…
— Просто смешно… извините…
Все плывет куда-то… В глазах рябит…
Я пытаюсь ухватиться за что-нибудь — за имя, за мысль, за уголок подушки, но круговорот продолжается.
Сквозь туман, застлавший мне глаза, я увидел над собой великаншу; скрестив руки, она жадно наблюдала за моей агонией.
Миг спустя моя голова прочно впечаталась в подушку. Прочно и окончательно.
Эй ты… психопатка… а ну говори, где Джордан, ты ведь знаешь, не притворяйся, ты ведь лижешь ему руки при всем честном народе… не могу понять, отчего все так кружится… можно подумать, я мертвецки пьян… Но… мы не выйдем отсюда, пока ты…
— Что вы… что ты… подлила мне в стакан, дрянь…
Внезапно чудовищная тяжесть едва не расплющила мне живот…
Я взвыл от неожиданности, потом от боли; тяжесть усилилась, теперь она давила на член…
Ох, только бы открыть глаза!..
— Я мертва, Антуан. Но никто этого не знает. В этом наша сила. Я никогда не рождалась на свет, Антуан…
Нечеловеческим усилием я поднял веки… Она… Сидит на мне… Я сейчас сдохну… Она меня раздавит… Я потеряю сознание… Чего она хочет?..
— Я прихожу из царства мертвых, чтобы мучить вас, живых. Не пытайся бороться, Антуан. Не ищи больше ни Джордана, ни меня. Скоро у тебя не будет на это ни желания, ни сил. Ты соединишься с нами, Антуан. Ты станешь одним из наших…
Я услыхал какие-то загробные звуки… Различил смутные очертания… Последний раз попытался открыть рот. Что… чем она меня опоила, эта тварь?..
— Через несколько секунд все будет кончено, Антуан…
Я почувствовал, как ее ногти хищно впились мне в затылок, прерывистое дыхание обожгло мое плечо, губы приникли к шее. Гадина-Страшная боль пронзила мне шею, из горла вырвался отчаянный вопль.
4
Гнилой вкус во рту, в глотке, под языком. Все эти чудовищные видения, жуткие призраки, истлевшие мертвецы. Я начал стонать, пытаясь стряхнуть с себя этот назойливый кошмар. Моя рука ощутила влажное пятно на подушке, я хотел было повернуться, чтобы взглянуть, но мне помешала боль в затылке; я только и понял, что мои пальцы угодили в блевотину. Перед глазами чередой проплыли смутные образы — скалились какие-то маски, раздавались утробные смешки. Это потешались надо мной. И еще меня придавила невыносимая усталость, как будто я долгие недели работал в шахте без единой минуты отдыха. Боль в пояснице, в ногах, в груди. И в затылке. Я болен.
Желудок горел огнем. Шею нестерпимо жгло. Уцепившись за край постели, я смог перевалиться на пол, отдохнул минутку и пополз на четвереньках в сторону ванной. Это заняло у меня дикое количество времени. Открыть кран. Наверное, я уснул. Меня привела в чувство горячая вода, она обожгла руку, свесившуюся в ванну. Теперь раздеться. И поскорее нырнуть в это вожделенное тепло, чтобы забыть о саднящей боли ран. Прямо с головой, лишь бы смягчить тупые удары палицы внутри черепа.
— Ничего себе!.. Мне холодно.
Вода ледяная, наверное, я долго проспал в ванне. Уткнувшись лицом в кафель.
— Муж хотел вызвать полицию, это я его отговорила. Простыни изгажены вконец, как я их буду теперь отстирывать, скажите на милость? Я даже не про рвоту и не про кровь, но ведь пододеяльник весь изорван. Ваши гадости меня не касаются, но здесь все-таки не бордель, мсье!
Голос удалился, и я понял, что хозяйка вышла из ванной и раздвинула в комнате шторы. За окном было светло. Боль снова впилась в мозг, до меня теперь долетали лишь смутные отголоски речи. Это заставило меня подняться на ноги в холодной воде; так я и стоял, не в силах двинуться, дрожа и стараясь не упасть. Хозяйка вдруг оказалась рядом, она протянула мне полотенце. И я увидел ее изумленное лицо. Она оглядывала мое тело. Мою неприкрытую наготу. В зеркале над раковиной я смутно различил чью-то жалкую зеленоватую фигуру и понял, что это мое отражение. Грудь была исполосована кровавыми бороздами. А когда я получше утвердился на дрожащих ногах и сфокусировал взгляд, то заметил свежую, сочащуюся кровью рану. На шее.
Я мало что понял из рассказа хозяйки — до того, как она выставила меня вон, — разве что самое главное. Ситуация начала постепенно проясняться.
— За два дня у вас заплачено, но полдень уже миновал, значит, вы как бы оставили номер еще на сутки.
— Погодите… Сегодня какой день?
— Пятница, мсье. Пятница, два часа дня. Уж не знаю, что за оргию вы тут устроили, но вообще-то… Вы явились с той девицей в четверг, часов в пять утра. Она ушла почти сразу, кажется, через пару часов, и ничего не сказала, только уплатила по двойному тарифу, вот мы и подумали, что вы хотите оставить за собой комнату еще на день.
— Но не мог же я проспать целые сутки!.. Хозяйка взглянула на часы.
— Проспать… Уж не знаю, чем вы тут занимались, если поглядеть на простыни, но вы просидели взаперти ровно… тридцать шесть часов. И не вздумайте скандалить, скажите спасибо, что мы не вызвали полицию, когда увидели вас в таком состоянии; надеюсь, вы не откажетесь оплатить третий день, ведь у нас расчетный час — полдень.
Ничего не соображая, я вынул деньги из кармана.
— И не забудьте о простынях.
Палица все еще жестоко долбила мозг. Я болезненно зажмурил глаза, увидев солнце в вертящейся двери холла.
— С вас еще за бутылочку «Эвиана» и полбутылки шампанского.
От пачки осталось всего четыре бумажки по пятьсот франков. Я добрался до конторки и вручил их ей. Наверное, этого было достаточно, раз она смолчала. Но только выйдя на улицу, я реально почувствовал, что уплатил по счету.
Улица. Пятница. 14 часов. Подлое солнце бьет в глаза. Последняя улыбка той безумной. Укус. Джордан. Пятница. Тротуар кренится у меня под ногами.
За окнами кафе суета посетителей. Отрыжка от шампанского. Солнце.
— Что закажете?
Откуда я знаю. Горячую ванну. Пятница…
— Что закажете?
Рвоту! У меня больше нет денег. На улице солнце палит как ненормальное. Выйти отсюда.
Солнце палит. Джордан. Она целует ему руку, не кусая. Жерар, Фред, байкеры. А Этьен? Вход в метро.
Здесь прохладно. Я сажусь на скамейку, шум поездов разрывает мою голову. Пятница. «Кровавая Мэри». След зубов на шее. Я не вижу себя в зеркалах… Пятница.
— А Бертран?
Я болен. Я опоздал. Бертран в темнице, на соломе. Ты ведь меня не бросишь!.. Мне нужно поспать. Только не здесь на солнце. От него так болит голова. Пятница. Я опоздал.
Я отыскал в кармане свернутую бумажку — тот номер телефона. Бертран ждет. Я не опоздаю, Бертран. Просто передам тебе эстафету. Теперь твой черед.
— Мне нужна… монета. Всего одна монетка, мсье. Чтобы позвонить. Умоляю вас!
Прохожий пожимает плечами, глядя на мою загаженную одежду, отекшую морду, заплывшие глаза, дрожащую протянутую руку.
— Ты уверен, что это для звонка?
И он вынимает монету в десять франков, которую я судорожно хватаю из страха, что он передумает.
5
Сорок пять минут я торчал прямо посреди площади Шатле, созерцая круговерть машин, в ожидании той, что откроет передо мной дверцу. Сорок пять минут на этом адском пекле. Старый черт не оставил мне выбора. Я едва успел прийти в себя и снова научиться передвигать ноги. Наконец рядом посигналила синяя BMW. Внутри, в полумраке, находились четверо. Среди них я увидел Бертрана. Как только я сел, машина тронулась и покатила к набережной. На заднем сиденье я оказался рядом с охранником, который отделял меня от моего друга. Старик сидел впереди; он бросил короткие указания шоферу и обернулся ко мне со странной тревожной улыбкой, на которую я не отреагировал. Бертран протянул мне руку, и я молча крепко пожал ее. Он сказал:
— Неважно выглядишь.
Я пристально взглянул на него самого: что-то непохоже было, что он претерпел муки, которые я навоображал себе в редкие часы ясного сознания.
— С тобой прилично обходились?
Бертран не успел ответить, старик атаковал меня вопросами. Слишком напористо для того призрака, которым я стал с прошедшей ночи, для моего разбитого, измученного тела, для ушей, не переносивших шума голосов, для глаз, ослепленных июньским солнцем. Пока машина шла по мосту к левому берег); мне только и удалось сказать:
— Я мертвец. Я вернулся из царства мертвых, чтобы терзать живых. Но скоро и вы станете одним из наших.
Охранник поперхнулся и, опустив глаза, начал чистить себе ногти. Шофер сумел удержать руль, только притормозил на какой-то миг. Старик отвернулся от меня и сел, как положено, лицом к лобовому стеклу. А Бертран с преувеличенным интересом уставился на Сену.
— Я не буду рассказывать вам все подряд, час за часом, потому что на меня свалилось слишком много такого, что невозможно описать, эдакая психоделика, как будто я прожил за двое суток целый век и притом не здесь, а в каком-нибудь туннеле близ Рубе. Не думайте, что я брежу, это всего лишь флэш-бэк.
Впереди показалась церковь Жанны д'Арк. XIII округ Парижа.
— И среди всех моих глюков самый памятный — улыбка чудовища с длинными острыми клыками, которые отхватили у меня кусок шеи.
Старик вне себя резко развернулся ко мне.
— Ну хватит идиотничать, что вы там несете? Прекратите ваши…
Конец фразы застрял у него в горле, потому что я расстегнул ворот рубашки и он увидел мою шею.
Пауза. Шофер зыркнул на меня в зеркальце заднего вида. Охранник ретиво принялся за ногти другой руки.
— Какая сволочь на тебя напала? — испуганно пролепетал Бертран.
Эта фраза вызвала у меня улыбку — я произнес почти такую же год назад, в ситуации, чем-то похожей на сегодняшнюю. Удивительное совпадение перекрестков, кошмаров, отклонений. Вечеринка в Сен-Реми-ле-Шеврёз. Виски — хоть залейся, барбекю, бассейн и сауна, где я, надравшись в дым, отмокал чуть ли не целую ночь, перед тем как рухнуть на капот машины Жан-Марка, который отвез меня в столицу. Бертран вернулся только через два дня. Перед тем как мы расстались, в последний раз я видел его, когда он запирался вместе с двумя хорошенькими малютками в единственной ванной с унитазом, преисполненный твердой решимости устроить там сеанс водной групповухи. Позже он рассказал мне конец этой истории: сотня переполненных мочевых пузырей, рычащие страдальцы, его упорный отказ впустить их в туалет, выбитая дверь и в результате изодранная и покрытая синяками грудь Бертрана. Эх, хорошее было времечко!
— Да отвечай же, мать твою! Какой гад это сделал?
— Не гад, а гадина. Это девица. Сумасшедшая, которая во всем подражает Джордану, особенно в искусстве кусаться.
— Кусаться? — взревел старик.
— Вот именно. И я сильно подозреваю, что он-то ее и подослал, чтобы отвадить меня от розысков. Я задавал слишком много вопросов в том ресторане, а потом, как последний дурак, решил, что она… И я до сих пор не знаю, какую отраву она подлила мне в выпивку. Знаю лишь одно: это было только предупреждение. А вот вы еще не знаете, что ваши частные ищейки и я угодили в одно и то же дерьмо, потому что никто не способен выследить Джордана. Это невозможно.
— Почему?
— Знаю, что вы сочтете меня невменяемым, но как, по-вашему, называются те нелюди, которые появляются лишь ночью и исчезают на заре? Существа, у которых нет отражения и которые могут принимать любой облик. Которые приходят из царства мертвых, чтобы питаться кровью живых. По-моему, угадать нетрудно.
Мы проехали мимо Пантеона.
Охранник уже почистил все что мог. Теперь он взялся ковырять багровый прыщ на тыльной стороне руки.
Машина обогнула Люксембургский сад. Я осторожно откинулся назад и прижался затылком к подголовнику, укрываясь от бьющих в стекло солнечных лучей. И, глубоко вздохнув, сказал:
— Слушайте, босс, если вы хотите, чтобы вам пустили кровь, я, конечно, не могу этому помешать. Впрочем, уже слишком поздно, мне все равно больше не будет покоя. Лучше бы я остался под замком и позволил действовать Бертрану. Он всегда справлялся с вампирами лучше меня.
— Перестань дурить, Антуан!
— Друг мой, именно этим я и займусь в самое ближайшее время — перестану дурить. А ты отправишься разбираться с Дракулой. Лично я пас.
Бертран не отвечает. Странное молчание. Я продолжаю ерничать — что же мне еще остается.
— Господа, я весь ваш. Заготовьте мне маленький уютный гробик или столь же уютный карцер. любую жратву без чеснока, и — встретимся через сорок восемь часов!
Кажется, после этих слов я еще и хихикнул. Наступило совсем уж долгое молчание, справа проплыл Новый мост. Жжение в ране, ломота в костях и долбящая боль в голове все еще не утихали. Но мне стало куда легче переносить все это с той минуты, как я заткнул пасть троим своим попутчикам. Вот только привыкнуть бы еще к проклятому солнцу…
Охранник застыл в нервном ожидании, устремив взор на затылок шефа. И вдруг я услышал глухие рыдания. Сперва я не поверил собственным ушам и только через минуту осознал, что это скулит старик. Он повернулся ко мне с мокрыми глазами и прошептал:
— Я верю вам, Антуан. Я вам верю.
Он не мог сдержать слезы, и это совершенно сбило меня с толку. А от его слов «я вам верю, Антуан» я вообще остолбенел.
Охранник потупился, не в силах перенести это зрелище.
Старик попросил:
— Расскажите мне о ней…
— О вампире в юбке? Красотка, шлюха, психопатка, рабыня Джордана, да что я знаю! Если я встречу ее еще раз, я ее съем. У меня от одних воспоминаний клыки вырастают.
И, помолчав, я добавил, неожиданно для себя самого:
— Поймите же, от этого укуса мне уже никогда не опомниться.
Улица Риволи. Тюильри. Аттракционы, карусель.
А у меня в перспективе мрачная камера с соломенной подстилкой, и это прекрасно! Скорее бы познакомиться с крысой, которой я с радостью уступлю свою хлебную корку. Скорее бы оказаться под надежным присмотром тюремщиков, что будут охранять мой сон. И я буду сидеть там, паинька-паинькой, в тишине и безопасности, вдали от жизненных бурь, в приятном одиночестве, потихоньку восстанавливая утраченное здоровье. И счастливый донельзя, что никому я не нужен. Но все равно наступит день, когда я повстречаю ту веснушчатую психопатку и ткну ее носом в зеркало — пускай увидит там подлую шлюху, каковой она и является, — а потом заставлю ее сказать, что она со мной сделала, и если она что-то там забрала у меня, пусть вернет, а если чем-то наградила, пусть возьмет обратно, а потом я ей вобью в глотку распятие и сожру ее живьем, сожру всю, с потрохами, как настоящий вампир, или оборотень, или фантом, или каннибал, в общем, я им устрою такую фантасмагорию, о какой они и не мечтали, я им отравлю ночь-заступницу, я их заставлю понюхать чесночку, этих носферату гребаных, я им покажу «Цракулу против Халявщика», а ее, эту зомби в юбке, я проткну острым колом насквозь, до самого сердца, и оставлю гнить на ярком солнце. Мне терять нечего, мне теперь все по барабану, отныне я принадлежу к миру живых мертвецов.
Машина свернула к Вандомской площади.
— Слушайте, вы ведь не собираетесь возить нас по этому чертову Парижу до самой ночи? Мне нужно сказать Бертрану пару-тройку слов, чтобы передать эстафету, так он потеряет меньше времени и наберется побольше гемоглобина. Ничего существенного, но все же некий план на сегодняшний вечер, это позволит ему выиграть несколько часов.
Старик велел шоферу остановиться на площади. И все мы с минуту сидели неподвижно. Вероятно, эта минута требовалась на размышление Бертрану. Который наконец сказал:
— Нет.
Одно только слово — «НЕТ».
— То есть?
Старик знаком велел своим людям выйти из машины. И у меня возникло мерзкое предчувствие, что эта сцена готовилась заранее, что это «нет» тоже готовилось заранее и что сейчас передо мной разыграют тщательно отрепетированный скетч. Старик тоже вышел, оставив нас одних.
— Антуан, ты, может быть, не сразу поймешь, что я хочу сказать, но дослушай сначала, не набрасывайся на меня, как ты это умеешь. Я сегодня с самого утра пытаюсь найти нужную формулировку…
Я решил, что он сейчас тоже объявит, будто подхватил в своей тюряге вирус тугодумия.
— Тебе придется продолжать, Антуан. Я возвращаюсь туда, где был. Так будет лучше для нас обоих, я не могу тебе объяснить почему.
— Не понял?
— Ведь это хорошая новость для тебя, разве нет? Ты так боялся заточения — вспомни, как ты ползал передо мной на коленях, крича про свою клаустрофобию. И потом, ты справишься гораздо лучше меня, ты же знаешь, какой я бестолковый — только испорчу все дело и напрасно потрачу драгоценное время. Разумнее будет, если мы поделим обязанности именно так — ты снаружи, я внутри.
— Будь добр, повтори, что ты сказал!
— Слушай, я хотел бы выразиться яснее, но я и сам пока многого не понимаю; короче, мне необходимо туда вернуться.
— В застенок?
— Да. Впрочем, никакой это не застенок. Молчание.
— Необходимо, говоришь? Что же это значит — необходимо? Слушай, может, они подсадили тебя на героин?
— Не болтай ерунды!
— А может, ты влюбился в своего надзирателя? Снова молчание.
— Или тебя загипнотизировали, Бертран, они манипулируют твоим сознанием? С такими психами все возможно, ведь вот встретил же я вампиров.
— Перестань!
После длинной паузы я разразился хохотом, который болью отозвался в голове и боках.
— Ну конечно! Наконец-то до меня дошло… Бертран, ты просто гений… Я не спец в психологии, но теперь все ясно: если один из нас перестанет бояться заключения, весь их шантаж полетит к черту. Какая тонкая мысль! Великолепный блеф — сбить с толку тюремщиков, требуя отправки в тюрьму. Замечательно!
— Это не совсем так, Антуан. Просто у меня там тоже наметился кое-какой след. Повторяю: я еще не могу тебе все объяснить, я и сам пока в тумане. Но если мне представится возможность разыграть одну карту, я это сделаю. Кажется, я нашел выход, пока сидел там.
— Выход?
— Ну, в общем, один вариант, слишком хороший, чтобы оказаться правдой. Но для этого тебе придется найти Джордана. Да, именно так. Это необходимо. И теперь я прошу тебя, Антуан. Ты должен найти этого психа и сдать его старику; ты сделаешь это для меня, исключительно для меня, Антуан!
И он повторил после долгой паузы:
— Для меня.
— Что-что? Ну-ка скажи еще раз! Да это просто глюки, дружок, я сейчас тебя разбужу, этого не может быть…
— Я слишком много выиграю на этом.
— Господи, что же они с тобой сделали? Чего наобещали? За кого ты их принимаешь? Они же тобой играют, как марионеткой, а ты, придурок несчастный, им веришь!
Короткая пауза.
— В то утро ты сказал, что готов на все, что ты задохнешься, сидя взаперти. Ты это говорил, нет?
— Да, я так сказал.
— И еще ты говорил, что готов на все что угодно.
— Да, я и это сказал.
— Так найди Джордана.
И он торжественно протянул мне руку.
У меня не хватило жестокости оставить эту руку висеть в воздухе.
Он крепко пожал мою.
А потом вышел, даже не взглянув на меня, и сделал знак старику занять свое место в машине.
Я чувствовал, как меня медленно захлестывает ледяная волна одиночества.
— Признайте по крайней мере хоть одно, Антуан: я оказался прав, сделав ставку на вас. За двое суток вы достигли неизмеримо большего, чем те кретины, которых я нанимал.
Я помолчал; моя рука невольно потянулась к израненной шее.
— То, что вы говорите, отдает вонючим лицемерием, но, к сожалению, верно.
— Бертран не обладает вашей закалкой. У него полно других достоинств. Бездна обаяния. Он мне очень нравится. Его ждет блестящее будущее. Но он абсолютно не способен проявить упорство, каким отличились вы. Его талант в другом. И все то время, что он проведет на свободе, пропадет впустую. А вы уже взяли след, Антуан. И поэтому мы сменим правила игры. Я еще никогда не был так близко к Джордану, как сегодня. И я могу многое сделать для вас.
— Что вы ему наобещали?
— У него свои мечты, Антуан… Но вы-то, вы сами? К чему вы стремитесь? Что я могу обещать вам?
Поразмыслив, я спросил:
— Сколько?
И несколько вульгарным жестом потер палец о палец, намекая на деньги. Старик удивленно поднял брови.
— Вас привлекает богатство? — Да.
— Этого я не ожидал, хотя… Ну, скажем… сколько пожелаете.
— Желаю вон тот магазин на углу площади.
— «Van Cleef et Arpels»?
— Да, прямо под ключ.
Он колебался, не понимая, шучу я или нет.
— А впрочем, на самом деле я хочу гораздо больше. Я хочу вновь стать человеком. Снова полюбить солнце и день. Хочу жить нормально, как прежде, и забыть все это дерьмо. Поселиться в деревенском захолустье, ложиться с курами, вставать с петухами, кормиться с огорода, в положенные часы, запивать еду водой из колодца, обрести утешение в Боге. В общем, снова стать человеком. А теперь мне пора на работу.
Мне почудилось, что сейчас он опять расхнычется. Только не из-за меня. Я понял, что он думает о ком-то гораздо более дорогом и близком.
Хлопнув дверцей машины, я увидел тех троих; они стояли, дожидаясь, когда я выйду, чтобы занять свои места. Я сказал боссу, чтобы гнал наличные. Конверт был готов, он тут же вынул его из кармана пиджака. Если там лежали такие же купюры, как в первый раз, сумма набиралась вдвое или втрое больше предыдущей.
Бертран даже не соизволил обернуться, когда машина сворачивала за угол.
Н-да, в самообладании мистеру Лоуренсу не откажешь.
Я вспомнил, как валялся у него в ногах и скулил, умоляя не оставлять меня в темнице. Молодец мистер Лоуренс. Сволочь!
В то утро, хныкая у его ног, я утратил что-то неизмеримо более ценное, чем свою дурацкую так называемую свободу. И у меня хватило глупости отшвырнуть это сокровище, проливая слезы испуга.
А вот он сегодня не стал меня умолять, нет. Слишком горд. Но по его тону я почувствовал, что у меня есть шанс стать собой прежним.
Я подозвал такси и велел доставить меня туда, где можно было спокойно и без риска дождаться вечера.
* * *
Итак, у меня снова только двое суток, час в час. Мириам дала мне телефон человека по имени Джонатан, главного редактора ежемесячника «Аттитюд», где работал Жан-Луи. С этим мне здорово повезло: Жана-Луи так просто не сыщешь. По той лишь причине, что Жан-Луи, в отличие от нас грешных, работает. Я познакомился с ним в самом начале своей тусовочной карьеры, в «Bains-Douches»; он постоянно ошивался там в баре, выведывая у бармена слухи, сплетни и последние новости, готовый в любой момент выхватить из футляра свой верный «Nikon» и поймать в объектив любую знаменитость, чтобы пополнить свежатинкой фотохронику «Пари-Нюи», «Неонов», а потом уж и своего родимого «Аттитюда». Так он ухитрился щелкнуть Ричарда Гира без очков, когда тот целовался с Боуи, который был, наоборот, в очках. И Рода Стюарта, чешущего у себя в промежности. И Элтона Джона за ужином с Ивом Сен-Лораном. И Лайзу Миннелли в потрепанном виде. Словом, звезд шоу-бизнеса. Хотя не брезговал он и аристократами-вырожденцами, и богатыми наследниками, и воротилами бизнеса — хозяевами жизни. Да и всеми прочими, кого заносила судьба в наш Город-Светоч. Помню свою первую встречу с ним: он нацелил на меня аппарат, я изобразил сладкую улыбочку, а он рявкнул: «Сгинь из кадра, кретин! » Я оглянулся: позади стоял Уильям Харт, уже готовый сказать «cheese». С тех пор мы иногда пересекаемся с Жаном-Луи, и каждый раз для меня это добрый знак, доказательство того, что я попал в нужное место. Не будучи друзьями, мы, тем не менее, относимся друг к другу уважительно, болтаем как хорошие приятели и обмениваемся сплетнями в ожидании звезд; а пару раз я давал ему наводки на крутые тусовки, о которых в его газете ничего не знали. Что не мешает ему, несмотря на долгое знакомство, привычку и взаимную симпатию, выбрасывать все снимки, на которых он ненароком запечатлел меня.
Сейчас я точно знаю, что он там. Именно там, внутри, за ограждением. Перед входом толпятся приглашенные: шикарно одетая, свеженькая публика, которая скоро утратит и шик, и свежесть. Главный редактор, выдавая мне адрес, только и сказал: «Ну, дерзай! » И дерзость, кажется, очень скоро мне понадобится, вкупе с хорошей долей везения.
Однако я принял некоторые дополнительные меры, узнав от него, что Жан-Луи сегодня дежурит у Диора, на показе осенне-зимней коллекции. В тех редких случаях, когда мы с мистером Лоуренсом пролезали на эти дефиле, нас ждало поистине королевское развлечение — ведь там собирается весь парижский бомонд. Жан-Поль Готье в Зимнем цирке — пару месяцев назад. Кристиан Лакруа в «Зените» — в прошлом году. И оба раза Бертран бросал меня, едва проникнув за первое ограждение, чтобы подобраться к гримерке, где переодевались топ-модели; что вы хотите, это заветная мечта любого существа мужского пола, которому хоть раз в жизни довелось пролистать журнал «Vogue». И, представьте, это ему удавалось. Он с самым невинным видом просматривал список участниц дефиле, выуживал оттуда имя какой-нибудь из девиц и, нацарапав его на бумажке, бежал за кулисы, крича, что несет ей срочную записку — якобы звонили из агентства. И проникал внутрь. И смотрел во все глаза. Наслаждаясь зрелищем, недоступным для простых смертных. Мне вот никогда не хватало наглости на такие эскапады.
Словом, я принял меры по части одежды. Вообще-то я давно уже нуждался в новом прикиде, и конверт старикана мне здорово помог в этом деле. Я выбрал, даже не взглянув на ценники, черный костюм и белую рубашку. И красный вышитый шелковый галстук. Неплохая замена дешевому тряпью с Монтрейльского рынка, от бельвильских старьевщиков и с ярмарки «все-за-десять-франков».
Приодевшись, я поспешил к открытию первого бара в «Тысяче и одной ночи»; Этьен и Жан-Марк, встревоженные моим исчезновением, уже поджидали меня там. Пробившись сквозь толпу страждущих приверженцев happy hours, я только и успел сказать им, что стал живым мертвецом, и обещал вернуться, как только повидаюсь с Жаном-Луи. Я даже не смог притронуться к мескалю, который мне налили. Зато железный обруч, весь день сжимавший мне голову, наконец распался, оставив после себя только странное недомогание, постепенно таявшее с заходом солнца. Наверное, это болезнь уже вступала в свои права. Да-да, я в это верю.
Белокурая дама, фильтрующая посетителей у входа в красивое здание на улице Сент-Оноре, не нуждалась в помощниках, чтобы отваживать незваных гостей. Жан-Луи, конечно, пришел загодя, еще до начала церемонии, и было бессмысленно ждать его снаружи, поскольку первый показ едва начался. Я сразу увидел, что нахрапом туда не войти. И решил проникнуть внутрь, что называется, по-пластунски. Как крот — еще один паразит, который боится дневного света. Я трижды обошел здание в по-исках черного хода для поставщиков. Улица Божон. Коричневый фургон торгового дома «Дэллоуэй». Похожий на инкассаторскую машину, бронированную и неприступную. В былые времена, стоило нам где-нибудь засечь такой грузовичок, и мы уже знали: тут пахнет жареным. Мы выслеживали свою добычу, словно охотники — по следам. Мы были уверены, что именно в этом месте, именно этим вечером нам перепадет наша доля бутербродов. Так что, если я дожил до сегодняшнего дня, то в этом есть и заслуга торгового дома «Дэллоуэй».
А теперь пора было приступать к завершающей стадии операции: подкатить к первому встречному грузчику и спросить у него, где Бернар — «ну, этот, которого еще кличут Мину, уж и не знаю почему! » Бернар был одним из самых старых официантов заведения. Однажды вечером он показал нам свое расписание на будущую неделю — для него это была настоящая каторга, а мы о таком и мечтать не могли: каждый первый понедельник месяца — коктейль в «British Club House», каждое 16-е число — коктейль в «American College», ну и так далее. Поскольку он регулярно видел нас на приемах, всегда пунктуальных, всегда улыбчивых, голодных, но вежливых, то и проникся симпатией к паре оболтусов, которые были ровесниками его детей.
Я обогнул столы под навесом, где готовилось пиршество для участников показа, которое начнется часам к одиннадцати вечера, когда выпроводят всякую шушеру и журналистов. По пути я успел заметить официантов, выгружавших формочки с утиным филе и гусиной печенкой, прикрытой традиционным смородиновым листком, но не ощутил к этим изыскам ровно никакого интереса. Наоборот, мой желудочный тракт мгновенно съежился и затвердел, как хоккейная клюшка. А, кстати, когда же это я ел последний раз? Не помню. Но этот печальный факт лишь подтверждает, что я больше не нуждаюсь в пище, что я лишился одной из главных услад моей прошлой жизни, когда весь я состоял из жаждущей глотки, хищных зрачков и луженого желудка, той жизни, где была нежно-розовая лососина, треугольные бутербродики и море шампанского.
Вдали звучит венский вальс, которым встречают приглашенных; я пробиваюсь в зал против течения, ибо людской поток стремится в парк, а на меня всем глубоко наплевать. Гости спешат к устроенному на свежем воздухе буфету с аперитивами, ожидая конца первого дефиле. Гомон стоит, как на птичьем рынке. Вот он — вожделенный миг, когда можно продемонстрировать самое идиотское платье и посплетничать о роскошных тряпках. Софиты расставлены вдоль всей аллеи, как прожектора на взлетном поле. Я вхожу в холл, битком набитый девицами-портье в красных пиджачках; отсюда можно пройти в show-room. Быстренько обхожу помещение, ища глазами Жана-Луи. В зале куча телефонов, которыми никто не пользуется, на столе — стопка пресс-релизов с программой презентации и подарком фирмы — веером с инициалами великого кутюрье. Стены затянуты серым полотном, серый — коронный цвет Диора. Я замечаю Марго Хемингуэй, Аджани и прочих знаменитостей — значит, где-то поблизости должен бродить и Жан-Луи. Две дамы громко обсуждают показ, в полном восхищении от моделей; одна из них убеждена, что в этом году Диор уж точно получит высшую награду — Золотой наперсток. В обычное время я наверняка поставил бы франк-другой на подобную информацию. Но тут я вижу Жана-Луи; притаившись за кадкой с раскидистой юккой, он щелкает фотоаппаратом как заведенный.
— Антуан?
— Не помешал?
— Ничего. Я тут заснял малышку Хемингуэй.
— Ты ради нее сюда пришел?
— Да не совсем. Похоже, она завязала с выпивкой. А я-то мечтал засечь ее в тот момент, когда она присосется к скотчу. Но увы!
— Тогда что же?
— Да вот, стерегу Рурка.
— Какого хрена Рурку делать на этом показе? Тут же не слет байкеров.
— Похоже, он теперь с Синтией.
— С Синтией? Кто такая?
— Главная топ-модель Диора.
Он на секунду бросает меня, чтобы щелкнуть Реджину, и возвращается.
— Слушай, Жан-Луи, тут такое дело…
Я расстегиваю две верхние пуговицы на рубашке и показываю ему след укуса. Не моргнув глазом он кладет свой аппарат. Отступает в угол. И, стараясь не привлекать внимания, оттягивает ворот своей рубашки-поло. На шее возле ключицы — небольшой, мерзкого вида шрам.
— Значит, ты говорил с Этьеном в четверг вечером.
— Ну да! В «Голубой ночи». Он сказал, что вы охотитесь за Джорданом. И давно пора.
— Как это случилось?
— Да дней десять назад в «Bains-Douches». Я уже не первый раз видел его физиономию и там, и в других местах. Мне он чем-то приглянулся, и я решил щелкнуть его, так, на всякий случай. Но ему это не понравилось. Даже очень не понравилось. Такая бешеная реакция — я чуть не загубил всю пленку.
— Как он вел себя — зарычал, оскалил зубы, а потом?
— А потом не промахнулся. Как подумаю, что смог увернуться даже от оплеухи Шона Пенна, и для чего? — чтобы попасть на зуб этому ублюдку! Он потребовал, чтобы я выдал ему пленку.
— И ты выдал?
— Ты что, смеешься?! На ней была Энни Ленокс со своим новым дружком! Нет, я его сделал как настоящий папарацци — подсунул этому придурку чистый ролик.
Толпа всколыхнулась: начался следующий показ. Я испугался, что Жан-Луи меня бросит. Но ему плевать на тряпки, он ждет Рурка.
— А где же твой дружок Бертран? Я делаю вид, что не слышу.
— Значит, у тебя осталась пленка с рожей Джордана?
— А что мне с ней делать, мать его!..
Одно несомненно — Джордана можно запечатлеть на фотопленке.
— Он там один?
— Нет, с какой-то девицей, из тех, кому и вспышка не поможет, бледная немочь. И с ними еще один тип с непримечательной мордой, этот тоже явно не желал дожидаться, когда вылетит птичка. В общем, они набросились на меня, как будто я собирался запродать их физиономии на обложку «7 дней в Париже».
Бинго! На такую удачу я и не рассчитывал. Веселая компания Дракул! Значит, с ними был кто-то третий? Наверное, тоже из этих — болезнь распространяется, переходит в эпидемию, и скоро Париж поглотит целая армия вампиров. Они уже среди нас. Они охотятся на нас. Кстати, я спросил Жана-Луи насчет его самочувствия: не ощущает ли он со времени укуса дневного недомогания.
— Я, знаешь ли, вообще ипохондрик и паникер, так что после его укуса тут же помчался в травма-пункт при «Отель-Дьё». Они взяли у меня кровь на анализ — я жутко боялся подхватить какую-нибудь мерзость из нынешних, — обработали рану, а какое-то время спустя выдали результаты.
— И что?
— Ровным счетом ничего. Небольшое переутомление, связанное с работой, и все.
Это меня успокоило. Конечно, только отчасти. Но я хотя бы убедился, что мое плохое самочувствие объяснялось скорее мнительностью, чем фильмом Кристофера Ли. Я не киноман, но хорошо помню, что Бела Лугоши, первым воплотивший на экране графа Дракулуnote 22, совсем съехал с катушек, уподобив себя своему герою. В конце жизни он спал в дубовом гробу, на чем, правда, здорово сэкономил, когда из живого мертвеца превратился в обычного. Тем же манером кончил и Борис Карлофф: сыграв креатуру доктора Франкенштейна, он свихнулся от раздвоения личности. Может быть, Джордан и Вьолен подхватили такой же вирус? Во всяком случае, мне хочется так думать, ибо я отличаюсь рациональным складом ума, даром что вляпался в ситуацию, которую рациональной никак не назовешь.
— Можно на нее взглянуть?
— На фотографию? Да ради бога. Надеюсь, это поможет тебе изловить его. Нужно только зайти ко мне… но взамен я попрошу тебя кое о чем.
Вот так-то! В Париже задаром ничего не бывает. Надеюсь, хоть этот не заставит меня разносить по городу подарочных белок.
— Что ты хочешь?
— Чтобы ты мне рассказал эту историю. Не бойся, я не собираюсь совать нос в твои дела, просто интересуюсь, не обломится ли тут и мне самому. Когда такой тусовщик, как ты, гоняется за парнем, который кусает людей в night-клубах, это многое обещает… Мы ведь в Париже, верно? Тут никогда не знаешь, где тебе подфартит.
Мне не очень-то понравилось, что он записал меня в тусовщики. Но, в общем, я с ним согласен — такое может заинтриговать кого угодно. А уж Жана-Луи и подавно. Вон тут сколько всего наворочено — его город, его ночь, его покусанная шея, яростная настойчивость Этьена и моя, Джордан и его свита, которые категорически не желают фигурировать на снимках.
— Это не твоя поляна.
— А ты уверен, что тебе нужна эта фотография?
Делать нечего, пришлось обещать. Он велел мне потерпеть с полчасика, пока сделает последний заход. Оставшись в одиночестве, я чисто машинально направил стопы к буфету в парке, освещенному софитами. Лишь несколько особенно упорных дам продолжали ожесточенно вонзать шпажки в золотистую плоть утки, разрезанной на кубики. Вот и говорите после этого, что в дармовом угощении нет ничего магического…
— Шампанского, мсье?
Поразмыслив секунду, я отверг предложение. Попросил лишь стаканчик негазированной «Перье», чтобы смочить язык и глотку. Мне пришлось отойти подальше от стола: запах снеди оказался непереносим. Я вдруг обнаружил, что даже хлеб имеет запах. В огромной плетеной корзине были разложены великолепные, искусно нарезанные овощи и фрукты, образующие картину в духе Арчимбольдоnote 23, но не портрет, а круговую мозаику. В центре красовался редис, вокруг него крошечные морковки, квадратики ананаса, помидорные шкурки, свернутые розочками, и куча других пестрых забавных штучек. Мое внимание привлек самый скромный элемент этой растительной фрески.
— Это все делает один из наших, настоящий художник Попробуйте! — сказал официант.
И придвинул ко мне блюдо с плошками разных соусов, отдаленно напоминавших майонез. Я с трудом сдержал рвотный позыв, едва не извергнув обратно всю проглоченную «Перье».
— Неужели вас ничто не соблазняет здесь, мсье? Еще бы, конечно, соблазняет; но я не посмел признаться. Затем все же протянул руку и схватил то, что хотел, спрашивая себя, не свихнулся ли я вконец. Наверное, официант так и подумал, глядя на головку чеснока в моих судорожно сжатых пальцах. Я проворно очистил дольку и, не размышляя, сунул ее в рот.
И стал жевать.
Вымуштрованный официант невозмутимо заметил, что чеснок улучшает кровообращение.
Проглотив дольку, я тихо, облегченно вздохнул.
Жан-Луи издали сделал мне знак, что можно уходить.
— А как же Рурк?
— Оказывается, еще утром свалил в Лос-Анджелес, как мне сказал один коллега, у которого более надежные источники информации, чем у меня. Ладно, я свое возьму в «Новом утре», там будет частная вечеринка с Принцем, он со вчерашнего дня в Париже. Ну, вперед!
И, вынув из кармана жвачку, протянул мне.
В такси я выдал ему более-менее правдоподобную историю, особенно налегая на мелкие реалистичные детали, чтобы он легче поверил.
Итак: Бертран переспал с девицей Джордана и после этого исчез.
Потрясенный Жан-Луи слушал, вытаращив глаза. Я щедро разукрасил свое повествование безобидными, но захватывающими подробностями — беготня по барам, стычки с байкерами, жаждущими моей смерти, Фред и Жерар, разные клубы, где я в конце концов отыскал Джордана, который буквально испарился после того, как его клыки оставили свой след на моей шее. Жан-Луи проглотил все это не поперхнувшись. Да и как он мог усомниться, если на его шее красовалась та же отметина?! Подобные стигматы сближают.
Когда он говорил о своей «берлоге», мне представлялась темная каморка, воняющая проявителем. На самом же деле Жан-Луи жил возле Аустерлицкой набережной в пятикомнатной квартире, где было полно коридоров; один из них вел в лабораторию, еще более загадочную, чем все, что он снимает. На одной из фотографий, развешенных в гостиной, я опознал Лу Рида, серьезного, как папа римский; снимок был черно-белый, расплывчатый, вызывающе ирреальный и абсолютно безнадежный в смысле сбыта. Это была «пропащая» серия Жана-Луи, в которую входили его не принятые к печати работы; сам он был твердо уверен, что когда-нибудь составит из них шикарный эксклюзивный альбом. Так он мне сказал.
— Посиди тут, я сейчас ее напечатаю.
Я расположился между двумя стопками глянцевых журналов — слева те, где он работал, справа все остальные; здесь были даже старые выпуски «Жур де Франс» времен «Недели Эдгара Шнейдера». В «Пари-Нюи» и «Пари Магазин» я наткнулся на несколько знакомых жизнерадостных лиц, на которых в половине случаев читалось «Я развлекаюсь, а вы беситесь! », на других, более сдержанных, — «Вы меня бесите, а я все равно развлекаюсь! » Это были обычные, не слишком четкие снимки, для которых не очень охотно позируют, в окружении совершенно неизвестных прихлебателей, что так и норовят вылезть вперед и положить руку на плечо звезде. Отблеск вспышки на потных лицах. Красные глаза. На одной из фотографий веселые гуляки за столом держали на коленях стриптизерок в сверкающих нарядах.
Это напомнило мне юбилейный прием «CrazyHorseSaloon», куда Этьен каким-то чудом раздобыл три приглашения. Мы с Бертраном не заставили себя упрашивать, даже галстуки надели по такому случаю. Это празднество было сияющим оазисом посреди мрачной январской ночи. Нам досталась наша доля угощения. А также волшебное зрелище — соблазнительные девицы на эстраде. И если не считать того факта, что никто не искал знакомства с нами, то все было в полном ажуре. Но все-таки я вышел оттуда с горечью в душе. Оказавшись на злом январском холоде, я задал себе и Бертрану два вопроса: «Где мы будем ночевать? » и «Когда же наконец нам достанутся такие девушки?»
Мистер Лоуренс тут же ответил на оба: «В студии моего кузена на площади Клиши» и «Не раньше, чем к сорока годам, да и то при условии, что мы станем людьми». Ночь действительно завершилась на линолеуме крохотной кухоньки кузена, где мы распили бутылку розовой «Вдовы Клико», которую мой друг ухитрился сунуть под плащ, выходя из «Crazy». Стараясь не разбудить кузена, которому оставалось еще полчасика сна перед работой, мы чокнулись вдвоем за те пятнадцать лет, что нам предстояло прожить до того, как стать людьми, с которыми хочется сидеть за одним столом.
* * *
Жан-Луи торчал в своей лаборатории уже полчаса — и все для того, чтобы зажечь три лампочки и подвесить одну цветную карточку на веревку для просушки. Если бы я не боялся показаться наглецом, то давно бы уже барабанил в дверь с просьбой поспешить.
— Никак не мог найти пленку в этой свалке, а потом я старался сделать снимок порезче.
— Ну, показывай.
Он включает яркую лампу, которая заставляет меня прищуриться. Я нетерпеливо вырываю у него из рук еще мокрую фотку.
На переднем плане проклятая парочка с разъяренными лицами вот-вот бросится на фотографа. Но я ищу глазами не их, а незнакомца. В смутной внезапной надежде: вдруг я найду в нем хоть какую-то зацепку. Увы, это всего лишь невзрачный чернявый парень лет тридцати, видный по пояс, в летной куртке. На которой даже нет бэйджа с именем.
— Ну что, доволен?
— Покажу ее всем, кому можно, тогда увидим. В любом случае можешь рассчитывать на меня, если подвернется что-либо стоящее, что потянет на репортаж.
— Да ладно, забудь. Я ведь тебя пытал только из профессионального любопытства, ты же знаешь, я всегда начеку; так что не переживай…
Его бескорыстие меня сильно удивило, но я решил не настаивать. Я получил то, что хотел. Он предложил мне выпить, но я отказался и посидел у него еще пару минут. Мы посмеялись, обсуждая проект фотосерии «Шрамы от Джордана» — черно-белые снимки крупным планом, под стеклом, прекрасно смотрелись бы на выставке авангарда. Я уверен, что на вернисаж сбежался бы весь город.
Жан-Луи не стал провожать меня, велев просто захлопнуть входную дверь. Презрев лифт, я начал спускаться пешком — мне хотелось размять ноги; по пути я думал, что нужно бы все-таки перекусить, вот только чем, чтобы потом не блевать? Салат? Ну точно, салат. Ох, нет, от одной мысли уже мутит. Спагетти? Мутит. Молоко? Мутит до рвоты. Кальмары? Мутит. Горячий шоколад с тартинкой? Бр-р-р! Рубленая треска по-провансальски? Гм… О треске по-провансальски еще можно подумать. Не очень горячая, пару-тройку ложек. Но едва я представляю себе эту ложку с дымящейся едой, как меня тянет блевать. Овощной бульон? Гадость рвотная! Филе из сайды? Блевотина! Может, мне пора к врачу. Может, хоть он разберется в моей хвори. Только вот как объяснить ему симптомы?
Выходя с этой узенькой извилистой улочки, затерянной в XIII округе, я увидел вдали странное здание Армии спасения. Нам с Бертраном никогда не хватало мужества приблизиться к нему, несмотря на определенную симпатию к Ле Корбюзье. Мы знали, что там-то нас встретят с распростертыми объятиями. Иной раз по утрам, попадись мы им на глаза, они бы точно нас забрали в свой фургон, который ездит по городу, собирая подзаборных пьяниц. А мы бы протестовали: «Вы ошибаетесь, это недоразумение, мы напились шампанским, а не дешевой красной бурдой! » В конце концов иерархия существует везде. Мы бы представляли своего рода высший свет клошаров, аристократию, снобов. На самом деле я уверен, что даже там при виде нашей якобы шикарной одежки и высокомерных физиономий с нами все равно обойдутся как с обыкновенными паразитами общества.
В нескольких метрах от себя я увидел бородача на мотоцикле, стоявшем у тротуара. Я продолжал идти в том же направлении, не останавливаясь, хотя что-то неприятно кольнуло меня, когда я с ним поравнялся. В какой-то миг мне захотелось взглянуть на его бак — не нарисована ли там кобра? — но тут на улицу выкатило свободное такси, огромная белая машина, Пегас да и только. По моему знаку она притормозила, я прямо глазам своим не поверил. Шофер опустил стекло и осведомился, куда мне. В принципе меня всегда возмущает этот вид шантажа, но сейчас…
— На Римскую улицу.
— Ладно, садитесь.
Он отпер дверцу, и тут я услышал непонятный звук, который напомнил мне, бог знает почему, цоканье погонщика. Этот странный звук издавал неподвижный мотоциклист, одновременно он грозил пальцем, и этот знак был явно обращен к моему шоферу, которому я в тот момент ответил «нет» на его вопрос, знаю ли я этого типа.
— Эй, мотопердун, ты оставишь нас в покое или нет? — рявкнул водитель, нашаривая монтировку у себя под сиденьем.
Он был настроен воинственно. Настоящий парижский таксист, готовый дать отпор кому угодно, и в данном случае я его вполне одобрял. Однако человек на мотоцикле по-прежнему издавал свой идиотский звук и даже покачал головой, хотя не двинулся с места, а на меня и не взглянул.
Орда появилась в тот миг, когда шофер уже собирался выйти разобраться.
Пятнадцать-двадцать мотоциклов, внушая ужас, медленно надвигались на нас.
Они выглядели мощными чудовищами, почти нереальными в клубящемся дыме выхлопов…
Когда я обернулся, такси было уже далеко. Бородач на мотоцикле прекратил наконец свое мерзкое цоканье.
Я кинулся бежать как безумный.
* * *
Им не пришлось ни связывать меня, ни совать в рот кляп. Да и к чему? — я мог орать и брыкаться, сколько влезет. Ангар был настолько велик, что даже их мотоциклетный круг едва занял треть пространства; все вместе напоминало огненное кольцо, куда швырнули пойманного скорпиона, которому только и оставалось, что избавить себя от мучений. Но даже сейчас, в этом ужасе, я невольно восхищался их красотой, неумолимой, как всепожирающий огонь. Ибо они, эти сволочи, дали мне время как следует разглядеть себя. И я уже был почти готов сам требовать казни, лишь бы это поскорее кончилось. Сумасшедший и заведомо безнадежный бег вконец обессилил меня; теперь оставалось только одно — смириться с неминуемой гибелью. Фред появился через несколько минут, я сразу узнал его по белой повязке, которую он носил гордо, как лавровый венок победителя. И вдруг они перестали казаться мне гордыми и прекрасными — невозможно думать о красоте, когда изо всех сил сжимаешь зубы, зная свой приговор еще до суда.
Я сжался в комок, инстинктивно стараясь прикрыть самые уязвимые части тела. Вероятно, именно эта поза и подсказала им мысль о футболе. Я впился зубами сквозь рукав в правое запястье и крепко зажмурил глаза, ища спасения во мраке. Только не разгибать колени! И не молить о пощаде — это расслабит меня, откроет брешь в моем жалком панцире. Первые удары были скорее унизительными, чем болезненными — им хотелось узнать, как этот комочек поведет себя. Вот когда я понял, отчего скорпион предпочитает быструю смерть — чтобы избежать долгой пытки. Кованые ботинки били сверху вниз, чтобы не запачкаться; потом их жесткие носы поддели и перевернули меня, как переворачивают засаленную бумажку — посмотреть, что там снизу.
Ни смешков, ни угроз, ни единого звука.
Нужно думать о другом в ожидании удара. И не открывать глаза. Думать о том, что я все равно, в любом случае, выйду отсюда.
После всего этого.
Думать о том, что все на свете рано или поздно заживает, даже синяки от побоев, даже укус красотки. Но почему они больше не бьют, почему выжидают?.. Думай, Антуан, не расслабляйся! Только не о них. Думай об этом ангаре. Я его знаю, этот ангар. Когда-то я поклялся, что ноги моей здесь больше не будет, я это прекрасно помню, да-да, сейчас главное — вспоминать ту ночь, когда я вышел отсюда в ярости оттого, что сделал неудачный выбор: тогда здесь устроили рейв, гигантскую тусовку с тиграми в клетке и психами из «HouseMusic», которые видят жизнь в желтом свете, поскольку сидят на «экстази». Бертран меня чуть не убил — в ту ночь мы упустили из-за этой тусовки шикарный прием в «РrёCatalan», на другом конце Парижа, спонсированный «Pommery» и «Hediard». Подумать только — «РrёCatalan», в Булонском лесу, далеко отсюда, в тени дерев!..
Ну, что же они медлят?..
Не могу заставить себя не ждать. Давайте же, сволочи, кончайте меня! Может, они хотят, чтобы я их умолял о пощаде, лизал им сапоги? Я уже проделал это однажды, с Бертраном, так отчего бы не повторить с чужими?!
Внезапно мне почудилось, что мое тело оглаживают тысячи горячих рук, ощущение длилось всего один миг, и тут же я понял, что это: на мои волосы, на мое лицо хлынули потоки мочи. Тугие струи хлестали меня по спине, проникали сквозь одежду, обжигали кожу.
Самое ужасное, что эти шипящие едкие струи били мне в уши, лишая возможности слышать и соображать. Кажется, на несколько секунд я отключился.
Думай, что ты живой мертвец, Антуан! Просто живой мертвец. Который больше ничего не ощущает. Который ждет прихода ночи. Чтобы отомстить за себя. Вот теперь я точно знаю, почему они мстят живым.
Думай, что ты живой мертвец.
Нет, не могу. Мерзкое ощущение горячей мочи в ухе стало нестерпимым. Мне пришлось разжать руки, чтобы отряхнуться и прочистить ушной канал. И тогда я услышал грохот мотоциклов, которые дружно, как один, рванули с места. Я поневоле открыл глаза, когда чье-то колесо больно задело на ходу мою ногу. Сквозь струйки, стекавшие с волос, я увидел вокруг себя зловещий черный хоровод машин. Безжалостная свора, загнав свою жертву, потешалась, кружа вокруг меня и успевая на ходу осыпать пинками, от которых почти невозможно было увернуться. Напоминает матч поло — сразу видно, что они знают правила игры. Не касаться ногой земли, вопить на индейский манер, подгоняя лошадь, бросаться на мяч так, словно хочешь его расплющить, и лупить по нему руками и ногами, передавая товарищам по команде. Правда, этот мяч промок насквозь, но ему поневоле приходится играть свою роль, если он не хочет, чтобы его раздавили вчистую.
Да, они славно позабавились.
Только живой мертвец способен вынести такое.
Мне чудилось, что это мстят не люди, а мотоциклы. Как будто они знали о жестокой пытке, которой я подверг их сородича. Напасть на один мотоцикл — значит оскорбить все это стальное племя. Мне вспомнились жуткие картины агонии «харлея»: развороченный обезображенный металл, превращенный в кучу горелого праха. Вот они и заставили меня поплясать, размазывая по стенке, швыряя друг другу как мячик, а потом команда-победительница взревела «ура». И моторы смолкли.
Я едва переводил дух, захлебываясь рыданиями. Втянув воздух, я ощутил собственную вонь, и это добило меня вконец, я заскулил, завыл, распластавшись на земле.
Подошел Фред. Пеший.
— Кобра против белки. Ничего работка? Я вытер нос рукавом.
— Я мертвец. Я прихожу из царства мертвых, чтобы мучить живых. И скоро вы станете одним из наших, — выговорил я между двумя всхлипами.
После изумленной паузы они взорвались хохотом. За это время я успел вытереть с лица слезы и струйки мочи.
— Что Жан-Луи потребовал за мою шкуру?
— Тебе оно надо? Зачем?
— Хочу знать, чего я стою.
— Ну, если тебе это доставит удовольствие… Твой гребаный фотограф слышал, что Дидье и Жо-жо, вон те, справа, работают как roadies на всех концертах в Парк де Пренс. Тебе известно, кто такие roadies?
— Roadies? Погоди-ка… это не те парни, которые таскают с места на место усилители, а в промежутках кемарят за сценой и хлещут «Кп», открывая банки зубами?
— Ты так говоришь, потому что шибко искренний или потому что хочешь схлопотать по морде?
— Я говорю так потому, что сам на это не способен. Нам с другом однажды предложили такую работенку, мы попробовали поднять гитару, надорвали себе спину, и вдобавок нам ни хрена не заплатили.
Окружающие ржут как кони, им и невдомек, что это чистая правда.
— Ему во что бы то ни стало нужно щелкнуть Мадонну в гримерке, совсем одну, до и после концерта. И во всем Париже одни только эти ребята могут провести его за кулисы. Я обещал ему это устроить. И в лепешку разобьюсь, но сдержу слово. Уговор дороже денег. Вот она — твоя цена.
Все ясно. Жан-Луи мог бы меня продать и за обезьяну Майкла Джексона, не то что за Мадонну.
— Мне-то самому плевать на тебя, я человек мирный, даже на халявщиков зла не держу, все равно вас всех не передавишь. Но какого хрена ты явился в мой бар с чучелом да еще пробил мне башку?
— Не знаю, что сказать…
— Ну и молчи, черт с тобой… мы свое отработали, больше тебя не тронем. Хватит, порезвились. Теперь дело за Жераром.
Я спросил себя, уж не собирается ли он пожать мне руку в знак примирения.
Теперь дело за Жераром.
Постепенно до меня дошло, что скорпион — благородное создание. Потому-то он предпочитает самоубийство. Это вам не таракан какой-нибудь. Таракан обладает прискорбным свойством цепляться за жизнь. Он может протянуть года четыре, если не попадет под чей-либо безжалостный каблук. Я безуспешно попытался вспомнить название крылатого насекомого, чей век длится всего одну ночь.
* * *
В ожидании Жерара я сказал им, что он не станет кончать меня здесь, в этом мерзком бараке; если он еще не расстался с мыслью убить меня, то сделает это на публике, голыми руками, да еще заручится какими-нибудь смягчающими обстоятельствами и надежными свидетелями, а не парнями из мотоклуба — Жерар не дурак, он рисковать не станет, он заранее все обдумал, чтобы разыграть непредумышленное убийство в состоянии аффекта. Я выложил им все это, всхлипывая и запинаясь, но в душе был по-прежнему глубоко убежден, что Жерар блефовал, просто хотел выпендриться перед дружками. Я выложил им все это, чтобы включиться в его игру, понять логику безумца.
Они выслушали мою аргументацию. Спокойно и бесстрастно. Фред заявил, что два дня назад это еще было правдой. Но после гибели своего «харлея» Жерар начисто забыл о карьере убийцы, отложив свой план на будущее, — для этого ему сгодится первый встречный. А сейчас он просто раздавлен потерей своего железного коня. И не желает ничего обдумывать заранее. Да он и думать-то разучился, наш Жерар. Ему жизнь не мила. Еще бы — снести от меня такое унижение, такой стыд и позор, а потом и гибель своего кумира, уничтоженного прямо на его глазах…
— Теперь он обойдется 38-м калибром, хлоп — и готово, ты даже и моргнуть не успеешь.
Нет, нет! Пока он не пришел, пока я не увижу его глаза, пока не услышу его голос, я все равно не поверю во все эти россказни.
— Жерар — он ведь под защитой, усек? И не только под нашей. Жерара трогать опасно…
С этими словами один из них, проходя мимо меня, чиркает рукой по горлу, от уха до уха.
* * *
Мы ждали долго. Молча.
— Три часа… а он обещал подскочить минут через десять.
— Да, тут что-то не так. Я сам говорил с ним по телефону, он прямо завопил от восторга, когда я сказал, что парень у нас. Орал, что готов прикатить даже на «японке», чем подарить ему лишние пятнадцать минут жизни.
Фред велит одному из своих съездить узнать, в чем дело, и обращается ко мне.
— Ничего, не переживай, это только отсрочка. Дыши пока, хохми, думай о приятном, спой чего-нибудь.
Нет, нет! Пока я не прочту в его глазах жажды убийства, я не смогу в это поверить.
Ворота ангара приоткрываются, пропуская внутрь черную полоску ночи, мотоцикл трогается с места, готовый выехать наружу. Яростный прерывистый рев акселератора.
И вдруг мертвая тишина. Мотор умолк.
— Ну, какого хрена, Эрик? — орет Фред.
Друг Эрик не отвечает. Я вижу, как он медленно сходит с мотоцикла там, за воротами, и наклоняется к порогу ангара. Фред начинает нервничать, остальные тоже. Эрик садится наземь и обхватывает голову руками. Вся банда разом кидается вперед, держась кучно, словно боится нападения. Я робко плетусь сзади, метрах в десяти. Они стоят кружком, двое из них изумленно вскрикнули, третий зажал руками рот, удерживая рвотный позыв. Я не сразу увидел, что там, в центре, мне пришлось несколько раз обойти их тесный крут, чтобы пробиться внутрь; меня толкал туда острый интерес, куда более острый, чем у остальных. Наконец я тронул за плечо одного из них; он глянул на меня с ужасом, как на Антихриста, растолкал остальных и попятился, давая мне пройти.
На земле лежало что-то отдаленно похожее на человека. Тело, на котором не осталось живого места. Сплошные дыры. В дырах виднелись кости. И разорванные сухожилия. И кровь, кровавое месиво от шеи до колен. Странная поза: руки вскинуты к голове, как у мальчишки, которого бьют. Но признать его легко: те, кто это сделал, оставили лицо нетронутым.
Щеки вздулись, вот-вот лопнут, изо рта торчит рукоятка пистолета. Наверняка того самого, который он заготовил для меня. Ствол засунут прямо в горло.
Один из парней начал блевать, второй последовал его примеру. Тут я понял, что буду покрепче некоторых. Я нагнулся, чтобы прочесть наконец свою судьбу в глазах Жерара, но они были пусты. Тогда я попытался найти в себе самом отвращение, ужас, потаенный страх смерти, но ничего такого не обнаружил, ничего, кроме мрачной эйфории, позволившей мне стойко перенести этот кошмарный маскарад. В этой позе, с этой штукой во рту, труп напомнил мне всего лишь жареного зайца «с кровью» и с яблочком в зубах.
Один из мотоциклов рванул с места, и это послужило сигналом для панического бегства остальных. Оторвавшись от созерцания трупа, их потрясенные глаза обратились на меня. Парни медленно стали от меня отступать. Только что не с поднятыми руками.
— Я не знаю, кто это сделал! — крикнул я, стараясь перекрыть рев мотоциклов.
Теперь в их взглядах зажегся огонь совсем другого рода, это был ужас, они смотрели на меня, как на чудовище. Фред — и тот поддался панике, вскочил на свой мотоцикл, торопясь бежать, бежать с этого проклятого места, от этого окровавленного трупа, который валялся там, на пороге, и который еще вчера был его другом, бежать от Дьявола во плоти, Дьявола, которому не нравится, когда на него ссут. Я вспомнил его последние слова: Жерара трогать опасно… Он под защитой.
Не к добру он это сказал, поспешил. И вот что мне хочется ему ответить, пока он судорожно, едва не вывихнув лодыжку, жмет на стартер своей машины: «Вот видишь, оказывается, можно тронуть и твоего Жерара, и превратить его в сито, и вбить ему в глотку пистолет, и никто его не защитит, это у меня есть надежный защитник, и это меня вы превратили в футбольный мяч… » Воздев руки над головой, оскалившись и высунув язык, я злорадствовал, нагоняя на них тот ужас, который они только что нагоняли на меня самого: глядите, сволочи, глядите на своего Жерара, и глядите на меня, и бойтесь, бойтесь меня, я живой мертвец, живой мертвец!
Мотоциклы вихрем сорвались с места и с оглушительным ревом понеслись в сторону набережной; я тоже помчался прочь, собрав последние силы, задыхаясь и кашляя, со слезами на глазах; пересек реку по первому попавшемуся мосту и побежал дальше, все еще содрогаясь от страха, что меня догонят. Наконец я очутился возле погребов Берси. Вот и телефонная будка.
— Позовите Этьена… Да нет же, вы его знаете! Самый старый из клиентов… Он должен сидеть в баре…
И тут я разрыдался вовсю, не понимаю даже, как он узнал мой голос; я пытался успокоиться, высовывал голову из будки, чтобы глотнуть воздуха, но слезы душили меня, не давая говорить.
— Ты где?
— Не знаю… Приезжай…
— Прекрати скулить, что там у тебя стряслось?
— Не знаю… Жерара прикончили… А меня всего обоссали…
И рыдания с новой силой одолели меня.
Спустя какое-то время подъехала серая «Datsun Sherry» с проржавевшими крыльями. Я попросил Этьена увезти меня далеко, как можно дальше отсюда. Он ответил, что вряд ли кто-нибудь захочет везти далеко засранца и хлюпика, который истерит у него в машине.
* * *
Выйдя из душа, я увидел, что он развалился в кресле с полным стаканом в одной руке и пачкой «транксена»note 24 в другой. Жестом он предложил мне выбрать. Я залпом выпил бурбон и попросил второй. Меня ждала чистая одежда — майка с портретом Джима Моррисона, свитер в поперечную черно-оранжевую полоску, трусы, украшенные идиотскими лозунгами, почти белые джинсы-варенки с модной прорехой на колене и кошмарные бордовые кроссовки, которые может зашнуровать только человек, отслуживший в торговом флоте. Мой красивый новенький костюм вместе с рубашкой валялся в углу как куча дерьма.
— Легавые наверняка заведут дело, — сказал я, готовый опять расхныкаться.
— Конечно. И что?..
Молчание. В глазах Этьена ни капли беспокойства. Ровно ничего.
— Боишься, что они возьмутся за тебя? Ну, если тебя успокоит моя клятва, то клянусь головой, что до тебя они не доберутся. От твоего Жерара за версту несет «висяком». Сам подумай — когда такой тип, как он, с целой кучей судимостей, валяется дохлый в ангаре, ночью, у набережной, неужели местный комиссар станет по нему плакать?
— Что ты понимаешь в легавых…
После короткой паузы он бросает, пожав плечами:
— Как знать…
Вот так он всегда — полная загадка.
Этьен впервые пригласил меня к себе домой. Значит, понял, что дела у меня хреновые. Несмотря на свое состояние, я еще с порога начал искать признаки, по которым можно было бы разгадать его тайну. Но не обнаружил ничего, кроме жалкой однокомнатной квартирки со старым диваном и стенами, оклеенными постерами с изображениями хард-рокеров. Кроме этого — бейсбольная перчатка, альбом Ги Пеллерта «RockDreams», плейер, ghetto blasternote 25. И все.
— Он хотел тебя грохнуть, так что тебе вроде бы повезло, разве нет?
— А байкеры?
— Да неужели они побегут стучать? После того как Жерара нашли в таком виде, они к тебе и за километр не подойдут.
— Ты говоришь так, словно был там.
Я сказал это, и вдруг смутное сомнение забрезжило у меня в голове. Я старался понять, какую игру он ведет, на чьей он стороне.
— Да, меня там не было. Я готов тебе помочь, но я не из тех, кто любит создавать себе проблемы. Моя специальность скорее проблемы других.
— Так ты из легавых или из братков? Этьен, усмехнувшись, наливает себе выпить.
— И того и другого понемножку.
— Это не ответ.
— Ответ. А если хочешь знать точнее, скажу так: фифти-фифти.
Это меня неприятно поразило, хоть я и не подал виду. Мне всегда казалось, что в дневное время он честно отдыхает от ночных безумств, что он чтит только happy hours, что он обычный рантье, что он принял нас с Бертраном под свое крыло, распознав нашу плохо скрытую наивность. Я думал, что мы с ним встретились в середине пути, на котором нам оставалось пройти вторую половину, а он двигался назад, к началу. И вот сейчас он вдруг предстал передо мной в своем истинном облике эдакого пятидесятилетнего мсье. Не ночной птицы, теряющей перья в загулах, не алкаша в поисках утраченной юности, не тинейджера, упрямо приверженного возрасту своих кумиров, а именно пятидесятилетним мсье. Этот господин некогда умел безупречно завязывать галстук, разбирался в винах, бездельничал внаглую, вел приятные легкие беседы, а свои тайные фантазии и кураж откладывал на потом, расходуя их слишком экономно, чтобы достичь успеха. И теперь я сердит на него за то, что он не удостаивает меня своим доверием, за то, что он стал взрослым, а я чувствую себя перед ним мальчишкой в драных джинсах, способным лишь на одно — вляпаться в дерьмо, откуда его надо вызволять. Нет, все эти взрослые начинают всерьез меня раздражать. Даже Бертран — и тот перешел на их сторону. Я чувствую, что он уже далеко и далеки те времена, когда он еще звался мистером Лоуренсом.
— Знаешь парня на том снимке? — Нет.
— Ты что, дуешься, Антуан? — Нет.
Он снова усмехается. Ничего, когда-нибудь я научусь говорить другое «нет», железное, как нож гильотины.
— Второй час ночи — мы еще успеем обойти несколько баров и показать там фотку. Если нам подфартит, может, даже повстречаем их в натуре. После всего, что с тобой случилось, тебе прямой интерес разыскать своих вампиров. Ибо с сегодняшнего вечера на твой счет стало известно кое-что новенькое.
— Что именно?
— Ты — под защитой.
— Под чьей защитой?
— Кто-то взял тебя под свою защиту. Жерар путался под ногами — и Жерара убрали; больше того, устроили целый спектакль, чтобы напугать твоих обидчиков. Тебя защищают те, кто велел тебе найти Джордана.
— Значит, это старик!
— Возможно. Он знает, чего хочет, и у него есть средства. Таким людям убрать какого-нибудь Жерара — раз плюнуть. Ну что, сделаем обход?
— Ты думаешь, я в настроении таскаться по барам — после всей той мерзости, что я пережил?
— Гм… ну, может, ты и прав, я и сам не люблю выходить по пятницам…
В обычное время мы с Бертраном старались избегать тусовок в конце недели: эти ночи принадлежали не нам, мы оставляли их загулявшим провинциалам и мидинеткам, которые весь день наводят марафет для вечернего субботнего кутежа. Единственный клевый вариант — пробраться на частную вечеринку, по пятницам и субботам это вообще идеал. Ну а в случае облома мы ходили в гости, желательно к тем, у кого есть видак.
— Но вообще-то было бы полезно проехаться по нужным местам. Конечно, придется попотеть, чтобы зайти в «Bains-Douches», но зато в уикэнд там бывают разные людишки, которых в будни никогда не встретишь.
— Есть проблемы с шмотками. Ты представляешь меня в этом прикиде в солидном баре? Да меня же спросят: мальчик, тебе сколько лет?
— А мы скажем, что у тебя есть разрешение от родителей.
К двум часам ночи Вильям, вышибала из «Bains-Douches», достигал вершины могущества. Он стоял в характерной позе своей профессии — прислонясь к двери, скрестив руки на груди и устремив бесстрастный взгляд на толпу людей, не способных понять, отчего их не допускают в ряды избранных. Они уже не смогли войти сюда на прошлой неделе. И не войдут на следующей. Но будут пытаться — снова и снова. Я еще не подозревал, что уже зачислен в эту касту отверженных. Вильям, не раскрывая рта, величественно поманил пальчиком Этьена, приглашая его пройти. Я было двинулся следом, но Вильям, по-прежнему молча, жестом дал понять, что мне туда вход закрыт. Я залился краской унижения.
— Этот идиот еще не знает, что случилось с последним вышибалой, который не дал мне войти!
— Ты теперь навеки в черном списке, смирись с этим. Вильям не желает нарушать конвенцию. Жерар собирался закрыть тебе доступ во все ночные заведения, и это была не пустая угроза. Прими это как его последнюю волю.
И Этьен с философским видом пожал плечами.
— Отныне можешь распрощаться с ночными клубами. Будешь ходить на праздничные гулянья, уличные балы и благотворительные вечера.
— А почему он пропускает тебя? Этьен усмехнулся.
— Да потому что я знал это место задолго до его рождения — ходил сюда мытьсяnote 26.
В толпе раздалось несколько свистков, когда он вошел внутрь без очереди.
Увы, Джордан не появлялся в «Bains-Douches» с того самого вечера, как укусил Жана-Луи, и не без причины: Вильям получил строжайший наказ вышвырнуть его прочь, если он посмеет прийти после такого. И чернявого парня с фотографии тоже никто не видел — ни до, ни после того случая. Джордан не Джордан, а если будешь вгрызаться людям в горло, рано или поздно станешь парией на собственной территории. И это доказывает, что он не выбирает для своих укусов ни место, ни время, то есть может взбеситься в любой миг и броситься на любого только по одной причине. Ибо Джордан — не вампир. Он просто ненормальный, зверь, отвечающий агрессией на агрессию. Но при этом он защищает не собственную шкуру. Ни саксофонист, ни этот гад Жан-Луи не схлопотали бы себе шрамов на шее, если бы не задели Вьолен, эту его хилую alter ego с замашками шлюхи, которую он любит так безумно, что кусает из-за нее людей, и если мое горло также украшает багровый след укуса, то лишь потому, что и она любит его до безумия и готова за него кусаться. Больная, сумасшедшая страсть пары невротиков. Джордан и Вьолен, инкуб и суккубnote 27, спаяны воедино; эти психи исступленно защищают друг друга от всего света, каждый из них готов вонзить зубы в кого угодно, лишь бы спасти другого. Когда-нибудь я попытаюсь-таки узнать причины этой ненормальной любви.
Этьен вышел из «Harry'sbar» с хот-догом в руке. Там тоже никто не видел Джордана и не узнал на фото их дружка. Но мой приятель не обескуражен, совсем напротив, он тащит меня в сторону Пигаль.
— На, съешь хоть сосиску.
Видя, что я не решаюсь, он сам в два счета заглатывает хот-дог. Я уже не понимаю, какого черта сижу в этой машине, в этих бордовых кроссовках, с этим господином, что обут в белые и пожирает хот-доги так, словно опять превратился в подростка на старости лет. Похоже, ему хочется, чтобы этот праздник продолжался. А я уже не вполне понимаю, зачем мне самому все это надо: ведь Бертран находится там, где ему хорошо, а Джордан и Вьолен, будь они прокляты, не желают, чтобы их беспокоили…
Пять часов утра. Полное изнеможение. Мы объехали такие кварталы, где я сроду не бывал, поскольку там сроду не бывало ни клубов, ни баров, и встретили десятки людей, которых я сроду не видел. Я почти не выходил из машины. Этьен сам рыскал по всем этим закоулкам; он был свеж как огурчик и ничем не выказывал своего разочарования.
— Кто они, эти люди?
— Да так, знакомые.
Еще один обидный ответ — он это нарочно, но я слишком устал, чтобы реагировать.
— Этьен, я уже выдохся. Кончай с этим делом, ты же видишь, что все впустую.
— Давай заглянем в «1001», может, Жан-Марк что-нибудь нарыл.
Хорошая мысль. Спокойно выпить по стаканчику в «1001».
Китаец сидит на капоте машины у дверей клуба, вокруг стоят пять-шесть его дружков, они мирно беседуют в ожидании ухода последних, самых упертых танцоров. Минут через тридцать диджей запустит венский вальс — в знак того, что пора покинуть танцпол. За это время можно, не торопясь, выпить рюмочку мескаля. Жан-Марк дружески треплет меня по щеке.
— Знаешь, вообще-то я не должен тебя впускать. Приказ по Парижу.
— Неужели и ты мне устроишь такую подлянку, мать твою!
Девицы пляшут одни, без кавалеров, то и дело сбиваясь с ритма, но не сдаваясь. Мы усаживаемся в баре; я наслаждаюсь давно забытым терпким ароматом мескаля, Этьен заказывает «Маргариту». Я чувствую приближение предрассветного часа. Американцы, сидящие в баре, весело переговариваются между собой в полный голос, пробуют завязать беседу со мной, но это последнее, на что я способен. Входит Жан-Марк. Я показываю ему снимок.
— Сразу надо было ко мне, вместо того чтобы шататься по улицам… Этот тип — мелкий жулик, вечно ошивается на массовках в кино, приторговывает травкой, и за это его терпят на съемочных площадках. Этакая гиена — промышляет, чем придется, дилер вонючий. Не думаю, что такой может водить дружбу с кем-то вроде Джордана. Я с ним почти не знаком, просто видел на съемках моего фильма.
Он говорит «мой фильм», имея в виду телефильм, где сыграл роль крутого торговца героином в Чайна-тауне XIII округа. Уж они там расстарались, экипировали Жан-Марка по полной программе: кожаный прикид, красная бандана на голове, ножик с желобком для занюхивания «порошка», в общем, слишком красиво, чтобы быть правдой. Затем он снялся в двух рекламных клипах — в первом как борец сумо, во втором как мексиканский бандит верхом на муле. После чего отказался от мысли сыграть когда-нибудь Гамлета.
— Где его можно найти?
— Понятия не имею, я даже не знаю, как его зовут. Да ты его и без имени сыщешь, разве нет?
— Верно.
Поддатые американцы поворачиваются к Жан-Марку и с восхищенным кудахтаньем хлопают его по животу и плечам — в знак здоровой мужской солидарности; обычно он терпеть не может такого панибратства.
— Как дела, big man?
— Hey big chief!note 28
Жан-Марк принимает игру с благодушием, которого я никак не мог от него ожидать. Повернувшись ко мне, он шепчет:
— Я бы их вышвырнул отсюда в два счета, эту парочку кретинов, но они приходят каждый день, а я в июле еду в Нью-Йорк.
— И не хочешь платить там за отель.
— А вдруг выгорит! Они ведь гостеприимные, эти америкашки. Ты только прикинь, сколько там стоят гостиницы!
И Жан-Марк знакомит нас со своими клиентами. Привет, Стюарт, хелло, Рикки! Услышав наши имена, они тут же окрестили нас Стивеном и Тони. Они уже прилично набрались; один из них спрашивает меня:
— Вы в какой отрасли работаете?
А номер моего банковского счета не хочешь? Еще один придурок, не знающий, что такое ночь и люди, которых встречаешь ночью.
Нормальные полуночники никогда не распространяются о том, чем занимаются днем, — наверное, оттого, что днем большинство из них ни хрена не делает. Мистер Лоуренс на подобный вопрос неизменно отвечал «ничем не занимаюсь», таким тоном, словно он этим гордился. Правда, иногда он, забавы ради, выдавал себя за консула или культурного атташе, но не с целью пустить пыль в глаза, а просто чтобы проверить, сколько времени он сможет косить под дипломата до того, как собеседник заподозрит вранье.
— So what, my friendnote 29, так ты каким бизнесом занимаешься?
Мне вспоминается, как Бертран распускал хвост перед публикой, давая понять, что дипломаты находятся в самом зените мирового паразитизма и что их жизнь круглые сутки похожа на мечту: они представляют Францию, с бокалом в руке, на официальных приемах где-нибудь в тропиках… Я же, за недостатком воображения, даю всегда один и тот же ответ. Который, как правило, не вызывает большого интереса у слушателей:
— Я безработный, не знаю, как это называется на языке вашей страны…
Ну а те, кто работает, тоже не слишком жаждут посвящать других в свои занятия. Помню одного такого типа, большого эстета по имени Родриго, высокого, черноволосого, с тоненькими усиками, всегда в эксцентричных шляпах и сногсшибательных костюмах; его испанский акцент буквально зачаровывал девушек. Он был настоящим королем «Паласа», этот Родриго. Однажды утром, когда мистер Лоуренс вывихнул лодыжку, мы столкнулись с Родриго в больнице Сальпетриер; он был облачен в белый халат, развозил тележки с едой по палатам и покорно выслушивал ругань старшей сестры. Другой знаменитый случай — некий Арно, который организовывал грандиозные тусовки по пятничным вечерам на барже, стоявшей на приколе возле Аустерлицкого моста. На правом плече у него болталась цепь, он перепивал и перетанцовывал всех своих клиентов, и никто даже заподозрить не мог, что утром он едва успевает переодеться и доползти до своего офиса в министерстве финансов, где трудится на весьма ответственном посту.
Для нас второе лицо человека, его вторая, тайная жизнь — это его день.
Американец не особо стремится навязать нам разговор; он просто шумит, буянит и продолжает пить, галстук у него совсем съехал набок. Жан-Марк выслушивает своего клиента с ангельским терпением, что ему обычно не свойственно. Если кто и готов бросить в него камень, то уж, конечно, не я, жалкий халявщик.
— Ты знаешь кого-нибудь из киношников? — спрашивает меня Этьен.
— Одного критика, не шибко важного — работает в каком-то занюханном журнальчике, но, в общем, неплохой парень.
Америкашки интересуются, что мы пьем, — они желают заказать выпивку для всей компании, как будто нам еще хочется пить, и вдобавок пить с ними за компанию. Но мы не отказываемся. Спиртное «проходит» вполне благополучно, мягко обжигая внутренности.
— You know whatnote 30? Знаешь, кого ты мне напомнил, босс? Того индейского вождя из…
— Из «Пролетая над гнездом кукушки», знаю. Ты уже две тысячи первый человек, кто мне это говорит.
Тот, которого зовут Стюарт, выглядит стопроцентным американцем — здоровые зубы, здоровая будка, в общем, из тех, кто вскормлен на витаминах, обожает бассейн и качалку. Его приятель разглагольствует на весь бар. Зевнув, я спрашиваю Этьена, что он намерен делать дальше. Но он сидит, уронив голову на скрещенные руки, и не отвечает.
Зал давно опустел, свет уже потушен, но открылся нижний бар, и тусовка самых несгибаемых полуночников перекочевывает туда. Жан-Марк наконец вознагражден за свое терпение: тот, кого зовут Рикки, дает ему свой адрес в Ист-сайде. Хорошая работа! Заполучив адрес, он тут же говорит: «Ну, можно сваливать, я бы сейчас пожевал чего-нибудь». Я бужу Этьена, толкнув локтем в бок. Он испуганно вздрагивает и интересуется, что тут случилось, пока он спал.
— Да ничего особенного. Вон тот, Стюарт, уже раз пять или шесть объявил нам, что ему нравится в здоровом теле здоровый дух, сжег десятидолларовую бумажку, чтобы выпендриться и доказать что деньги для него ничего не значат, а далым-вовсе понес какую-то параноидальную хрень мол, все бармены стопроцентные стукачи и работают на полицию, во всяком случае, у них в Штатах. Сказал, что сам мечтал быть полицейским, эдаким классическим сыщиком, слегка продажным, слегка злодеем, как в фильмах, но вот промашка вышла — не стал он легавым, а загубил свою жизнь в сфере импорта-экспорта. А Рикки сказал, что ему не нравятся слова, которых он не понимает, потому что тогда он выглядит круглым дураком; потом в какой-то момент объявил, что Соединенные Штаты не чета Франции и пусть, мол, французы не считают себя интеллектуальной элитой Запада. Потом… что же было потом?.. Ах, да, они сошлись на том, что их вина будут лучше французских, например, «Каберне», особенно когда оно состарится; что наши гамбургеры по-прежнему мерзки и несъедобны, что французы только и делают, что косят под американцев, и прочее, и прочее. Надо сказать, он был частично прав, учитывая то, в каких шмотках я провел нынешнюю ночь. Потом… Да нет, ничего интересного; последнее время они разыгрывают сцены из фильмов про гангстеров и фараонов, и я уже ни черта не понимаю. Хочешь узнать еще что-нибудь?
— Нет.
Стюарт, пьяный в хлам, тычет пальцем в голову своего приятеля, имитируя дуло пистолета. И говорит, еле ворочая языком:
— This is the forty four magnum, the most powerful handgun of the world, so go ahead, punk! Be my guest. Take your chance and make my daynote 31.
Второй отвечает:
— OK. You got a piece? You carry a piece? This is a secret signal for a secret servicenote 32?
И они хлопают друг друга по ляжкам. Стюарт объявляет, торжественно воздев палец:
— I want you to sweat, I want you to give some sweat, I want you sweatnote 33!
Мне все это уже надоело до чертиков. Я знаком даю понять Жан-Марку и Этьену, что сваливаю.
— Are you talking to me? Are you talking to menote 34? — спрашивает меня Рикки, ударяя себя кулаком в грудь.
— Не понимаю… Don't understand, моя не понимать язык Шекспир, моя уметь говорить только «Fuck! Fuck you man! Yeah man!»note 35 И все, дальше я пас!
— Я голоден! — жалобно говорит Стюарт.
— Ничего не знаю, лично мы идем спать, — твердо заявляю я.
Полчаса спустя мы втроем сидели за бифштексами с жареной картошкой в маленьком ресторанчике сети «SERNAM» возле метро «Шевалере». Я выбрал именно этот момент, чтобы красочно описать Жан-Марку труп его бывшего коллеги из «Модерна». Это произвело должный эффект: я загреб его порцию и сожрал ее с превеликим удовольствием.
* * *
Оказавшись в квартире Этьена, я недолго раздумывал о пользе сна и его необходимости, просто-напросто вырубился в тот самый момент, когда ставил будильник на 930 утра. Следующие сорок пять минут я провел в странствиях по собственному телу — увидел, как мои кости принимают нормальные размеры, как мои нейроны проходят тестирование, а сердце выныривает из кишок, чтобы занять свое законное место в организме. Очухавшись, я не стал будить Этьена, а пошел на кухню, сварил себе зверски крепкий кофе, который окончательно привел меня в форму, и позвонил кинокритику Себастьену.
Я знал его еще по факультету, с тех времен, когда он был твердо намерен стать продюсером и выкупить весь Голливуд с потрохами. В ожидании этого счастливого события он жил, как все мы, пробавляясь талонами университетского ресторана. Потом он снял две андеграундные короткометражки, которые усиленно пытался протолкнуть на разные фестивали, но не преуспел в этом и занялся кинокритикой. Его подружка сообщила мне, что он сейчас сидит на просмотре в каком-то кинозале на Елисейских полях, а куда отправится после, она не знает.
Просмотр фильма перед премьерой. Его устраивают для прессы в присутствии всей съемочной группы, после чего к полудню всех приглашают на роскошный фуршет с морем шампанского, дабы задобрить кинокритиков. Это вызвало у меня массу приятных воспоминаний. Для нас с Бертраном такой просмотр был редким случаем, когда мы начинали ночь с двенадцати дня. Мы подгребали к десяти утра, заваливались в кресла и любовались тем, как киношные люди приветствуют друг друга объятиями и поцелуями. Ну а дальше на выбор: либо мы погружались в оригинальную форму сна — тьму забытья во тьме кинозала, либо смотрели фильм, чтобы потом говорить о нем в обществе, за месяцы до того, как его увидят другие. Затем начиналось пиршество. И прочие увеселения. День пролетал в мгновение ока, и к вечернему сражению мы подходили уже вполне «тепленькими». Помню времена, когда один из телеканалов предоставлял публике свободный вход в свои студии во время съемок каких-то идиотских телеигр, где участники отвечают на вопросы и получают вещевые призы. Это действо происходило три раза в неделю с 10 до 18 часов. Мы заходили туда, чтобы покемарить, или чтобы поразвлечься, или просто так, от нечего делать. Но при этом вели себя вполне благородно — оглушительно хлопали в нужных местах как настоящие клакеры. Это был период, когда мы могли смотреть телик только там.
Кинозал «Патэ Мариньян», 10.05. Фильм начался минута в минуту. Я представляюсь девице на входе как киножурналист, корреспондент одной кабельной сети, и называю имя — свое собственное. Она впускает меня, вручив рекламную майку с названием фильма, отпечатанным на груди и на спине. Я прекрасно обошелся бы без этого просмотра, но как косить под настоящего журналиста, явившись к заключительным титрам! Когда мои глаза привыкают к темноте, я начинаю обшаривать последние ряды кресел, надеясь, что Себастьену могла прийти в голову удачная мысль расположиться именно там, — увы, моя надежда быстро развеивается. Делать нечего, придется провести два часа взаперти, во мраке. Усаживаюсь на приставной стул и смиренно готовлюсь перетерпеть эту бодягу, уповая на то, что она спасет меня от реальности.
Я проснулся от громких аплодисментов и мягкого стука откидываемых сидений. Меня подхватывает беспорядочный поток выходящих зрителей, молчаливых, все еще захваченных образами, которые можно изгнать, только попав на свет и протерев глаза. Кажется, я проспал хороший фильм. Себастьен хватает меня за руку и вынимает сигарету.
— Ну, как тебе фильм, Антуан?
— Не могу сказать, я еще весь в нем. Вообще-то я пришел повидать тебя.
— У тебя есть минутка — выпить? — Нет.
— Только не говори, что тебя ждут на работе и что ты теперь презираешь фуршеты!
Он пожимает руку нескольким коллегам, обменивается с ними шуточками «для внутреннего пользования».
— Ну ладно, только один стаканчик, — говорю я.
Сам не знаю, как у меня вырвалась эта идиотская фраза. Я чувствую себя жалким работягой, скатившимся на самое дно той пропасти, где пьют лишь в дни получки. Только один стаканчик… ну и ну!
Он мгновенно перехватывает два бокала шампанского у кого-то менее расторопного. Еще несколько дежурных поцелуев. Я понимаю, что к нему нельзя приставать, пока он занят делом, и уступив соблазну второго бокала, возникшего неизвестно откуда, осушаю его в два глотка. Интересно, значит ли это, что я окончательно исцелен? Или что окончательно свихнулся? Пытаюсь затащить Себастьена в укромный уголок, чтобы показать ему фото, но он то и дело отвлекается на коллег, записывает чьи-то телефоны и каждые пять минут заверяет меня, что здесь полно жратвы и питья — потерпи, Антуан, я скоро! Это меня бесит. Систематические напоминания о том, что я всего лишь милый халявщик с бездонным брюхом, в последнее время давят мне на психику. Особенно с тех пор, как мокрица связался с кровопийцами. Потеряв терпение, я хватаю его за руку.
— Завидую тебе, Антуан… У тебя одна развлекуха на уме. Счастливчик ты, ей-богу, не то что я… Извини, но у меня работа.
Он коварно подчеркнул это последнее слово.
Работа.
И я отпустил его руку, пусть идет к своим коллегам.
Работа.
Меня вдруг словно током ударило; я присел на ступеньки зала, как оглушенный, с пустым бокалом в руке.
Работа?..
«Давай-давай, работай! » — так кричат роженицам, готовящимся исторгнуть на свет живое существо. Так называют ту штуку, которая стоит на первом месте, перед семьей и Родиной. Это то, что, по уверениям нацистов, дарит свободу. Значит, это все — работа? Значит, ты, жалкий человечек, будешь читать мне нравоучения по поводу смысла бытия? Который заключается в этих трех слогах — ра-бо-та?
Работа! Да какая может быть работа, если с самого детства гуманитарный курс противоречил математическому? Если мечты не сопрягались с точными науками. Если непонятно, за что любить жизнь, когда видишь другую — в кино. Если не остается ничего, кроме ожидания синих утренних часов, вместо длинных чудесных вечеров.
Работа.
Пускай мое теперешнее существование продлится столько, сколько продлится, но я останусь в его уютных пределах, среди его хорошо отлаженных шестеренок, и никто не собьет меня с мысли, что шампанское — лучший ответ на все вопросы, а праздник — последний оплот против работы.
Жалкий человечек, которому наплевать на меня, ты даже не подозреваешь, что праздник, так же, как и работа, никогда не останавливает свой ход. И что если нам трудно завладеть главным, то всегда остается возможность попытать счастья в пустяках. Как тебе объяснить, что однажды, развеселым хмельным вечером, я на несколько секунд искренне ощутил себя властелином мира. Как описать те редкие мгновения благодати, которую может породить, сам не знаю почему, все что угодно — гитарный аккорд, случайная улыбка, взгляд красотки, звон бокалов, остроумная реплика, надежное ощущение близости друга. Это накатывает внезапно, без предупреждения, и длится какую-то долю секунды, и забывается так же мгновенно. Оттого-то я каждый вечер и шастаю по тусовкам — в поисках этого чуда. Зная лучше, чем кто-либо, что за дверями меня уже подстерегает чудовище с разверзнутой пастью по имени «завтрашний день».
Люди прощаются, расходятся. Себастьен объявляет мне, что спешит — у него еще один просмотр. Я показываю ему снимок. Он усмехается:
— Если будешь водить дружбу с такими подонками, вряд ли когда-нибудь сделаешь карьеру.
И велит позвонить ему в конце дня.
6
Я вошел в «HardRockCafй» ровно в 21 час, так и не найдя ответа на вопрос: как обвести вокруг пальца бдительного сумиста, не выведя его из равновесия? А сумист — вот он, сидит в одиночестве, без обычных своих попутчиков, которыми любит себя окружать; перед ним только чашка капуччино и книга. Он возбуждает всеобщий интерес, клиенты за соседними столиками пялятся на него, перешептываясь между собой. Его тонкие черные волосы свободно ниспадают на плечи, придавая ему сходство с индейским вождем по имени Сидящий Бык, уставшим от ненормальных бледнолицых, которые только и мечтают, как бы запихнуть его в резервацию.
Жан-Марк вполголоса заговаривает о Жераре. По его словам, никто, кроме него, еще не знает о смерти вышибалы.
— Тебе здорово повезло оказаться среди тех бородачей, теперь полтора десятка свидетелей могут подтвердить, что это не твоя работа, — на случай, если легавые разнюхают, что он грозился тебя кокнуть, а ты подпалил его тарахтелку.
Ему хочется обсуждать эту тему, мне — нет. Пока шел разговор, я думал о другом: каким образом вознаградить его за ту услугу, о которой я собираюсь попросить. Мы не такие уж близкие друзья, чтобы я мог бить на чувства, но и не совсем чужие, чтобы предложить ему деньги — он наверняка откажется.
Вот уже пять дней, как я вляпался в эту передрягу, и он наблюдает, как бы со стороны, за моими сальто-мортале, а сегодня вечером я должен попросить его совершить один прыжок вместе со мной.
— Я раздобыл домашний адрес того типа с фотографии и даже пробовал дозвониться к нему на работу, но его не нашли.
— И что же?
— У меня мало времени, завтра в полдень я должен встретиться со стариком и отчитаться перед ним, а он передо мной — за Бертрана. Вампир исчез, и его психопатка тоже; значит, бесполезно обходить кабаки, где он раньше хлестал свою «Кровавую Мэри», теперь мой единственный шанс — этот парень.
— И что же?
— А вот что… Кстати, ты не хочешь съесть какой-нибудь сырный тортик или шоколадное пирожное?
— Я не голоден, и вообще мне через сорок пять минут пора открывать свое заведение.
— Ну а если тебе захочется чего-нибудь вкусненького там, на 42-й улице? Старик обещал хорошо заплатить, я смогу завтра же подскочить в «Панаму»: закажу тебе билет на нужный рейс и сниму номер в «Челси» аккурат на уикэнд.
Он призадумался, но в его раскосых глазах мелькнуло что-то похожее на угрозу. Н-да, что касается метода кнута и пряника, то «пряник» мне явно не удается, зато ему хорошо удается «кнут».
— Ты взялся за дело не с того конца, Антуан. Мне это не нравится. Если у тебя есть просьба, так давай, выкладывай, и покороче.
— Я должен пойти к этому типу, и ты мне нужен как…
— Как веский аргумент для убедительности.
— Скорее для устрашения.
— Ну, спасибо. Ты не первый ко мне с этим обращаешься, но обычно меня просят помочь вернуть угнанную тачку или спертый видак.
Пауза.
— Ты ведь знаешь мою репутацию, Антуан. Ну-ка, скажи, какая у меня репутация?
— «Человек, которому ни разу в жизни не понадобилось бить кому-либо морду».
— Точно! И не надейся, что ради тебя я похерю свой имидж, я на него десять лет работал.
— Тебе не придется ничего делать. Только присутствовать.
— А что касается Нью-Йорка, то я туда поеду не раньше июля, и бонус у меня уже в кармане, и осяду я у тех утренних алкашей-американов. Так что ты не с того начал.
— Не обижайся, Жан-Марк. Ты прикинь — разве я способен напугать хоть младенца, с моими-то хилыми ручонками!
— А зачем сразу лезть в драку? Посули ему бабки, вдруг купится. Заметь, даже в этой скверной ситуации у тебя есть одно преимущество: он ведь не побежит жаловаться в полицию, не тот случай — при его-то бизнесе. А может, он вовсе и не дружок Джордана. Вот что, предложи-ка ты ему билет до Нью-Йорка!
— Не валяй дурака!
— Или сходи туда с Этьеном, ты ему нравишься больше, чем мне. И у него, кстати, обычно тоже на все находятся свои аргументы. Никто не знает, какие именно, но у него всегда все выгорает.
— Я не стал с ним говорить про это, он не очень-то любит такие дела.
— Эх, Антуан, и когда ты только научишься справляться сам?
Он с ворчанием встает и, зажав в зубах резинку, собирает в пучок волосы.
— Значит, бросаешь меня?
— Нет. Пойду звякну парню, у которого есть ключи от «1001».
* * *
Восьмой этаж дома возле мэрии XIX округа, недалеко от парка Бют-Шомон. Парня нет дома, и мы уже битый час ждем его на площадке, регулярно включая лестничную лампочку, свет которой рассекает время на трехминутные отрезки. Теперь у Жан-Марка есть возможность подробно рассказать мне, как он будет проводить время на этом своем бонус-уикэнде в Нью-Йорк-сити. Он все-таки выжал из меня лишний день пребывания, полет в бизнес-классе и еще немножко денег на карманные расходы, дабы обследовать тамошние клубные заведения, — ведь на чужбине ему придется платить за все, как простым смертным, что его крайне огорчает. Несмотря на это, я утешаюсь сознанием, что он не оказал бы такую услугу первому встречному. И что он пошел на дело только из-за меня, из сочувствия к этому Антуану, которому навязали роль крутого детектива.
Бесконечное ожидание в тишине, на этой бетонной лестнице, рядом с мусоропроводом, заставляет нас позабыть о времени и обо всем, что там, снаружи; мы перешептываемся, пытаясь успокоиться и думать о приятном. Жан-Марк сидит на ступеньке, скрючившись и растирая затекшую поясницу.
— Знаешь, Антуан… Нью-Йорк для меня — не просто Нью-Йорк. Это особый город — единственный, где я могу купить штаны на свой размер. Когда я вхожу в магазин, на меня смотрят как на нормального клиента, а когда хожу по улицам, никто на меня не пялится, и это мне в кайф. Они там спокойно относятся ко всем необычным людям, из ряда вон выходящим. Это их главное достоинство — king size! У них полно таких, как я — сверхгабаритных.
— Ты только так говоришь, а самому, небось, лестно, когда люди от тебя шарахаются и перебегают на другую сторону улицы!
— Гм… ты думаешь?
Долго мы беседовали в таком духе. Потом нам это надоело, и мы замкнулись в молчании; я даже перестал жать на выключатель лампочки и только напряженно вслушивался, не загудит ли лифт.
Стараясь забыть об этой голой и холодной лестничной клетке, я обратился мыслями к комфорту, который ждал меня летом. То есть ждал нас обоих — Бертрана и меня. Это был наш обычный способ проводить каникулы, не уезжая из Парижа. Перед летним исходом люди оставляли нам ключи от своих квартир. Разумеется, не по доброте душевной, нет, просто им спокойнее отдыхать, зная, что кто-то вынет почту из ящика и перешлет им, накормит кошек, выгуляет собак, проветрит помещение, заботливо польет цветы, ответит по телефону, чтобы а) передать им срочные сообщения и б) отпугнуть потенциальных воров, которые оккупируют город в летний период. В прошлом году у нас от таких предложений отбоя не было, пришлось даже работать врозь. Хозяевам — польза, халявщикам — удовольствие, и всем хорошо. Мы трудимся с редким усердием: еще бы, спим в удобных кроватях, отдыхаем, сколько влезет, питаемся из холодильников, которые нам оставляют набитыми под завязку, экономим собственные деньги, так что, выходя поразвлечься, берем каждый свое такси и едем в разные стороны. А впереди нас ждет еще один «горяченький» месяц — сентябрь, с его послеотпускными инаугурациями и вернисажами, где нас ждет море шампанского, в утешение перед грядущими черными днями и осенней стужей.
К двум часам ночи Жан-Марк встрепенулся и стал яростно растирать себе бока, ворча, что потерял целую рабочую ночь. Я снова испугался, что он меня бросит.
— Ну хватит, надоело! Где он шляется, этот ублюдок?
Не понимая, что он задумал, я все же поднялся вслед за ним к двери. Он пнул ее с диким бешенством, и я в ужасе подумал: сейчас проснутся соседи напротив. Жан-Марк ощупал дверные петли и начал обследовать замок.
— Кончай дурить, Жан-Марк, давай лучше придем попозже.
— Заткнись!
И я благоразумно заткнулся. Он был в таком состоянии, что я рисковал получить первую оплеуху в его жизни и тем самым испортить ему репутацию — сейчас он плевать на нее хотел. Из сидящего быка он внезапно, в один миг, превратился в разъяренного. Дверь затрещала сверху донизу, когда он ударил в нее кулаком. Потом он налег на нее всем телом, и она с противным скрежетом поддалась. Жан-Марк схватил меня за шиворот и втолкнул внутрь. Я даже пикнуть не успел. Он включил свет в передней, подпер дверь стулом и облегченно вздохнул.
— С этого и надо было начать, мать твою!
И он снова испустил удовлетворенный вздох; на его губах появилось нечто вроде улыбки.
— Я должен был разбить ему либо дверь, либо морду. Так что я сделал удачный выбор, верно? Разве нам здесь плохо, Туанан, скажи?
«Здесь» представляло собой две комнаты, заваленные каким-то хламом. Коробки с барахлом, кожаный диванчик, телефон с автоответчиком, груды пластинок, книжные полки по стенам, один из углов служит кухней. Жан-Марк делает звонок дружку, предупреждая, чтобы сегодня ночью его не ждали. Затем обходит спальню, искусно лавируя между коробками и ни секунды не раздумывая о том, что закон не поощряет взлом чужих квартир. Ну и влип же я! Халявщик, который любит пробираться к людям прямо у них под носом, тишком да ползком, поставлен перед неоспоримым фактом — сознательно взломанной дверью. А впрочем, на что же я рассчитывал, обращаясь к Жан-Марку? Что он будет вести себя, как английский джентльмен?
Не зная, чем заняться, присаживаюсь на диванчик Жан-Марк все еще не вышел из спальни, и это меня беспокоит. Вскочив с места, я кружу по комнате, широко жестикулируя, как будто спорю со своим адвокатом. Вдруг из спальни доносится странное звяканье и какая-то тихая музыка. Я бегу туда, опасаясь самого худшего. Опасения не напрасны: мой сумист возлежит на низкой тахте, застеленной черными простынями, устремив взгляд на гигантский телеэкран, где идут титры какого-то вестерна.
— У этого типа охренительная видеотека, — сообщает он.
Я стою совершенно обалдевший.
— Эй, Туанан, загляни-ка в холодильник. Я бы сейчас глотнул чего-нибудь освежающего, водички или сока. Адская жара.
На экране возникает Генри Фонда.
Не знаю, из-за жары или чего другого, но меня прошибает горячий пот и бросает в дрожь. Да, влип я по-черному. Вот так думаешь, будто знаешь человека, просишь его о мелкой услуге, и тебе даже в голову не приходит, что это может повлечь за собой целый шквал самых неожиданных и жутких событий. До сих пор я видел Жан-Марка только в дверном проеме ночного клуба, в разгар его работы, среди почтительных клиентов. А сейчас вот он, в разгаре совсем другой работы — работы взломщика, проникшего в чужое жилье.
— Ты не откроешь окно?
— Слушай, Жан-Марк, извини, но… тебе… тебе не кажется, что мы слегка того… увлеклись?
— Ты что, чокнулся? Да неужели я, король взломщиков, дам задний ход?! Сейчас три часа ночи, если твой ублюдок и явится, у него наглости не хватит скандалить из-за того, что я посмотрел его кассету. Фу, дьявол, до чего же здесь жарко!..
На экране возникает Теренс Хилл.
— Могу поспорить, что если ты как следует пошаришь, то найдешь где-нибудь пакетик травки. Скрути себе косячок, расслабься.
Я направляюсь обратно к дивану, хотя мне уже не до отдыха.
— И будь другом, поищи мне чего-нибудь выпить!
4.20 утра. Бутылка водки, стакан. Я так и не осмелился сойти с диванчика, только дернулся два-три раза, когда зашумел лифт. Но внутренне я слегка успокоился. Наверное, водка помогла. Жан-Марк продолжает упиваться видеофильмом и холодным молоком. Перед тем как сменить кассету, он даже сварганил себе бутерброд с арахисовым маслом. Стараясь заглушить тоскливый страх, я порылся в коробках, но обнаружил там сущие пустяки — нераспакованные брелки и безделушки, новенькую кожаную одежду с неснятыми этикетками и целую кучу пластиковых «сигналок» с магнитными кодами, которые звенят, когда их выносишь из магазина. Никакой «дури». Ни одной записной книжки. Подойдя к полкам, я пролистал несколько книг по искусству в кожаных переплетах, которые явно никто до меня не открывал. Наверху стояли тридцать экземпляров такого же нетронутого «Ларусса» по кино. Но между этими чистенькими обложками торчала какая-то ветхая пожелтевшая пачка листков.
Старый машинописный текст в блеклой картонной папке-скоросшивателе. Мерзкий запах заплесневелой бумаги. Вот эти страницы читали и перечитывали на протяжении многих лет, недаром же они были вконец засалены и обтрепаны. На титульном листе заголовок:
«ТИПЫ ВАМПИРИЗМА В ОБЩЕЙ СХЕМЕ НЕВРОЗОВ».
У меня даже сердце екнуло.
Под названием имя автора труда — Робер Бомон. И дата — 1958. На следующей странице выражения признательности целой куче людей — преподавателям, профессорам университетов, директору Школы фрейдизма. А внизу — цитата курсивом, взятая из «Дракулы» Брема Стокера.
Я позабыл все на свете.
Моя рука потянулась к шраму на шее.
И я стал читать.
* * *
Я читал, почти ничего не понимая, лишь смутно угадывая смысл тех редких фраз, которые выпадали из этой психиатрической тарабарщины. Это был специальный, чисто научный язык — педантичная, зачастую сентенциозная лексика, высокомерно пренебрегавшая непосвященными и недоступная простому читателю. Я читал, и меня мучило ощущение, что я пропустил предыдущие эпизоды, что все это написано не для меня. Еще один взлом чужого владения, где меня загнали в угол, в ловушку, откуда не выбраться живым. Я остервенело вчитывался в текст.
В общем, я кое-как уразумел, что автор рассматривает феномены, взятые из области классических представлений о вампирах, чтобы установить аналогии с определенной разновидностью нервных заболеваний. Носферату в версии Фрейда. Я, конечно, не разобрался в деталях, но хотя бы уловил некоторые моменты, многое объяснившие мне; в частности, феномен так называемого слепого взгляда в зеркало.
Отказ от собственного образа. Судя по всему, это типичный симптом у больных, чья психика была травмирована отчуждением со стороны близких. Лишенные внимания других людей, они перестают узнавать себя сами, и им нужен чужой взгляд в подтверждение того, что они реально существуют. Вьолен и ее остановившиеся глаза…
Следующая глава была посвящена символике укуса, вожделению к другому существу, которое можно поглотить. Врач со вкусом распространялся на эту тему, иногда даже позволяя себе шуточки, лирические отступления и кровавые метафоры. Это было для меня как бальзам на рану: Джордан и Вьолен снова сделались людьми — психами, конечно, но обыкновенными людьми, — и до чего же было приятно знать, что они не потусторонние чудовища, а просто жертвы болезни, пусть даже такой страшной. Ибо хоть нам и нравятся тайны людских душ, темные и недоступные чужому пониманию, но все-таки утешительно найти в этих безднах всего лишь горстку пыли, как в ящике старого комода, где хранятся истертые письма да сухие цветы. Вот и в их душевных тайниках накопилась куча старья, которое они так и не сумели никому впарить. И когда им это не удалось, Джордан и Вьолен, обычные психи среди множества других, придумали себе жуткую игру в вампиров и стали забавляться ею, как безумные поэты или трусливые собаки, исчезая в ночи после каждого укуса.
Но самое интересное наш ученый доктор приберег к концу: подробнейшее, красочное описание невроза, выраженного в неприятии дневного света. Вот когда я пережил миг ликования, отметив его хорошей порцией водки. Это была именно та болезнь — один к одному! — которую я лично наблюдал у Грегуара и у других, только называл ее иначе, своими словами, хотя поставил диагноз не хуже любого врача. Мне достаточно часто приходилось видеть ее вблизи, следить, как она зарождается, а потом распускается махровым цветом у всех этих трехнутых полуночников, которые не выносят дня.
И вдруг меня пронзил дикий страх, рукопись буквально обожгла мне пальцы. Теперь я глядел на нее с ужасом. Из бальзама она превратилась в яд, ибо внезапно мне стало ясно — боюсь, слишком поздно, — что в ней идет речь и обо мне самом.
— Эй, гаденыш, я тебе не помешал?.. Ах ты, паскуда вонючая!..
Стул, подпиравший разбитую дверь, отлетел в сторону, и миг спустя я увидел белые от ярости глаза вошедшего. Я не успел ответить, он заорал, как ненормальный. Я тоже — чтобы позвать Жан-Марка, но парень схватил первое, что ему подвернулось, и замахнулся, целясь мне в голову. Жан-Марка все не было; сильная рука схватила меня за шиворот и притиснула к стене.
— Я тебе сейчас башку разобью!
Прикрыв руками лоб, я еще раз выкрикнул имя Жан-Марка.
И внезапно настала тишина.
Мертвая тишина.
Ни звука.
Пальцы, сомкнувшиеся на моем горле, разжались. Я увидел бессильно упавшие руки. И вытаращенные глаза, испуганно устремленные куда-то вдаль, в другую сторону — в сторону спальни.
Видение.
Видение фантастического существа — золотистого, гладкого. Идеально круглого. Сияющего. Мерцающего. Свет, который шел от него, тоже был золотой и заливал всю комнату.
БУДДА!
Раскосые полузакрытые глаза, глаза монгольского хана, готового содрать кожу с врага. Черная коса, перекинутая через плечо. Едва появившись, он опустился на ковер — легко, как осенний лист, — вытянул ноги с неспешной слоновьей грацией. И замер, застыл в этой позе. Обнаженный бонза.
Царственный бонза.
Я услышал металлический стук дубинки, которую наш хозяин выронил на пол.
Это видение ужаснуло меня так же, как и его.
Жан-Марк в плавках. Едва проснувшийся. Разморенный жарой. Неподвижный. Только слегка распрямляется, чтобы зевнуть и потянуться. Миг спустя плавки снова исчезают в складках плоти. Теперь Будда выглядит совсем обнаженным.
А ведь я давно привык к его силуэту…
Через секунду изумление сменилось страхом.
Парень, буквально приросший к полу, начал дрожать и залепетал что-то несвязное. Я не сразу понял, что он умоляет меня заступиться, чтобы ТОТ не трогал его.
Жан-Марк, по-прежнему безмолвный и недвижный, мало-помалу выходил из дремотного забытья.
— Я ничего не собирался здесь красть. И вообще, скоро уберусь отсюда, — сказал я.
— А… а ОН… а вы… уведете ЕГО с собой?
— Не знаю. Это уж как ОН сам пожелает.
— Да-да… конечно… как ОН сам пожелает…
— Он хочет знать, как ты познакомился с Джорданом, чем этот Джордан занимается и где можно его найти.
— Джордан ну конечно Джордан Реньо конечно да-да он из пансиона Пьера Леве на Сомме поступил в 1969 уехал в 1978 живет в разных отелях а я храню его шмотки он иногда заходит…
Впервые вижу, как человек буквально заходится от страха. Если его не успокоить, он сейчас испустит дух прямо у нас на глазах.
— А ну-ка, давай по порядку. Начни сначала и говори четко и подробно.
— Не… не могу… Помогите мне…
— Что тебе надо?
— Пусть ОН… пусть ОН оденется.
Тут я его понимаю. Представьте себе картину: парень возвращается под родимый кров в пять утра и налетает на абсолютно голого борца сумо, который выходит из его постели, чтобы усесться на его ковер.
— Это сложно. Никто никогда не приказывал ему: пойди, мол, и оденься.
— Ну, пожалуйста!
Я делаю знак Жан-Марку, едва очнувшемуся от дремы. Он благосклонно натягивает свою майку 4XL и гигантские «Levi's». Потом мы с минуту ждем, пока наш парень придет в себя.
— Ну, так что Джордан?
— Мы познакомились в пансионе. Они с Вьолен сироты.
— Вьолен?
— Это его сестра.
— Как?!
— Его сестра-близнец.
— Ты что, издеваешься? Скажи еще, что они похожи!
— Ой, только не нервничайте, ради бога! А то ОН тоже начнет нервничать. Это святая правда, клянусь вам! Они не настоящие близнецы, то есть, как они говорили, не однояйцевые, но все-таки близнецы, я не вру!
Ну, конечно, это правда. Теперь все ясно, как божий день. Даже не понимаю, почему мне это раньше в голову не пришло!
— Они родились в буржуазной семье, их родители умерли, когда им было по шесть лет, и их засунули в дорогой пансион.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что сам учился в дорогом пансионе?
— Да, я клянусь, что это так!
— Ладно, дальше.
— Мальчики и девочки содержались раздельно. А Вьолен уже тогда была тронутая, и ее показывали врачам; она хотела только одного — видеть брата, а он за нее готов был убить кого угодно, даром что маленький, и когда его к ней не пускали, у него начина-лись припадки бешенства. Каждую ночь он лазил через стену, чтобы с ней повидаться; меня это жутко удивляло, я ему завидовал, хотелось быть таким же неуемным и откалывать такие же штучки. Да, он проводил с ней все ночи напролет. А потом отсыпался на переменках или прямо на уроках. Ему и учителей-то слушать было незачем, башка у него — первый сорт, мы все рядом с ним выглядели дебилами. Со мной он разговаривал, правда, немного — после свиданий с сестрой ему ни с кем не хотелось общаться; говорят, это всегда бывает с близнецами. В общем, там, в пансионе, их отъезд никого не расстроил.
— Ну а дальше?
— С тех пор они превратились в полуночников, я никогда не видел их в дневное время. С финансами у них проблем нет, живут вроде бы на какую-то семейную ренту, ведь у Реньо денежки водились, но тут я мало что знаю, об этом они помалкивают. Мы видимся от случая к случаю. Они часто меняют отели, живут налегке, без вещей. Вот он и попросил, чтобы я держал у себя его шмотки.
— Эта рукопись принадлежит ему?
— Ну да. Он за нее держится как за Библию. Вычитал в ней все эти бредни про Носферату, ему и ударило в голову; я-то сам ни хрена не смыслю в таких штуках, но от них иногда слышу разговоры про живых мертвецов. Они кусают людей; я так и знал, что они доиграются и влипнут в историю. Вдобавок его сестрица дает направо и налево, а желающих полно, хоть весь Париж перекусай. Стоит ему оставить ее одну, как она совершает очередную мерзость. Я всегда ее побаивался, эту Вьолен. А он делает все, чтобы ее не засадили в психушку. Пять или шесть лет назад он ее оттуда вытащил, уж не знаю как — небось, сунул кому надо, — но с тех пор стал очень осторожен и прячется с ней по разным углам. Вот только когда его чересчур уж раздразнят, он срывается. Больше ничего не могу сказать… Скажите, ОН мне поверит?
— Где находится тот пансион?
— Да его уж лет десять как похерили, даже архивов не осталось, если вы об этом. Я даже не знаю, где сейчас их бабка с дедом, да и живы ли они вообще.
Жан-Марк ополаскивает лицо под краном. После того, что я услышал, мне тоже невредно бы освежиться.
— Ты забыл главное. Ты должен выдать нам своего дружка Джордана, выдать с потрохами, доставить на дом, как подарок почтой. А когда я говорю «нам», это означает, главным образом, ЕМУ. ОН так хочет.
— Их последний адрес — «Отель де Франс», возле площади Республики. Хотя, может, они уже свалили в другое место, откуда я знаю… Больше я ничего не знаю…
И он по собственной инициативе, без наших просьб, раскрывает коробки, набитые одеждой, книгами, детскими игрушками. Среди вещей нет ни одного письменного документа, никаких наводок.
— Тебе известно о тусовках на улице Круа-Нивер? — Нет.
Уже рассвело. Мне кажется, он выложил все, что знал, больше из него ничего не выжмешь.
— Что вы… что вы собираетесь делать?
— По поводу?..
— По поводу меня…
— Да вот никак не могу решить, может, подкинуть твой адресок легавым? Или оставить ЕГО здесь, в засаде, на случай, если Джордан явится или ты вздумаешь его предупредить. Выбирай сам.
— Я уже!..
Можно даже не спрашивать, что он выбрал. Жан-Марк разражается смехом, от которого парень испуганно вздрагивает.
* * *
Ночная синева постепенно тает. Сегодня воскресенье. Уборочная машина старательно чистит пустынные тротуары, оставляя там и сям охряные разводы. Усердный бегун трусцой догоняет нас на каждом светофоре, теплый аромат круассанов, которые поглощает Жан-Марк, не дает нам уснуть, напоминая о кофе, которое ждет нас в «Тысяче и одной ночи». Ни мне, ни ему не хочется говорить; я закуриваю сигарету, пытаясь представить себе Бертрана, и вижу: вот он вскакивает с постели и бежит под горячий душ, радостно предвкушая, как встретится со мной через несколько часов и как мы заживем нашей прежней жизнью. Пока это только мечта, некое видение перед моими осоловелыми от бессонницы глазами. В полдень я узнаю, как обстоят дела. А теперь мне нужен хоть один часок. Только один часок отдыха в «1001», за стойкой бара, в окружении друзей, чтобы опомниться и подвести итоги.
Синий утренний час. Час, когда вампиры возвращаются в могилы — идеальный момент, чтобы захватить их врасплох, сонных и беззащитных. Достаточно лишь войти к ним, воздев кверху распятие и нацепив на шею чесночный венок, отдернуть штору, ослепить их жарким солнечным светом, окропить святой водой и прикончить, вонзив кол в сердце.
Мы укрываемся в «клубе неутомимых»; Жан-Марк расспрашивает, как прошла ночь в его отсутствие. Этьен уже поджидает меня, рядом с ним на стойке вешалка-чехол. Внутри мой новый костюм и рубашка, все чистое и отглаженное. Красноречивым жестом он даст понять, что занят беседой с уже тепленькими Стюартом и Рикки. Я прекрасно обошелся бы без общества этих неугомонных весельчаков, которые, видно, решили поселиться здесь навсегда. Они хлопают меня по спине, как старые друзья, бесцеремонные, прилипчивые, готовые дурачиться до самого полудня. Ух, как мне хочется послать их хорошим пинком под задницу через Атлантику, со скоростью «Конкорда», пускай бы надоедали своим землякам-янки! Видать, эти парни еще не перестроились на французское время.
— Где ты шлялся, идиот, я тебя уже три часа жду!
— Я знаю, как найти Джордана.
— Что?!
Стюарт голосит: «Мескаль! Мескаль для Тони!» И добавляет с мексиканским акцентом: «Check it out! Check it out!»note 36 Я изображаю кривую улыбку. Им невдомек, что я готов впиться им в глотку. Беру чехол и отправляюсь в туалет переодеваться. Попутно споласкиваю лицо и грудь холодной водой, вышвыриваю кроссовки и надеваю рубашку, пахнущую свежестью.
Увы, америкашки уже подстерегают меня с бокалами в руках, они присвистывают, приветствуя мое появление во всем новом, в черно-белом варианте. «Хелло, доктор Джекил! » — орут они. Хозяин «1001» недовольно косится на них; мне кажется, что он охотно вышвырнул бы обоих за дверь.
— Мне нужно поговорить с другом… с моим другом Этьеном, вам ясно? I've got to talk to him, you understand?
Это их туг же приводит в чувство, веселью конец. Я начинаю понимать, что в своей прежней жизни, жизни простого халявщика, мне случалось быть таким же прилипчивым, как они, таким же бездельником, желающим, чтобы праздник длился, и длился, и длился до бесконечности. Что я беспардонно надоедал людям, у которых была своя жизнь и свои дела. Американцы с обиженным видом отодвигаются и заказывают себе выпивку на другом конце стойки. Ну что ж, либо так, либо мне пришлось бы вразумлять их с помощью кулаков: в моем теперешнем состоянии я, не задумываясь, проучил бы эту парочку загулявших golden boys, свалившихся на нашу старушку-Европу. Этьен трогает меня за руку и придвигает чашку кофе.
— В одном отеле у площади Республики, — говорю я.
И показываю папку с рукописью, лежащую на табурете.
— Они с самого детства были полуночниками, эти ребята. Их потрясла смерть родителей; Джордан прочел рукопись, и с того момента они начали играть в вампиров. Это похоже на бред, но это так.
— А при чем здесь старик?
— По-моему, он заморочил меня с самого начала, сказав, что Джордан хочет его прикончить. Теперь мне кажется, что все скорее наоборот. У меня с ним встреча в полдень.
Кто-то завел жалобное соло на трубе, грустное до смерти, такие мелодии обычно сопровождают последнюю сигарету и расставание со всеми надеждами. Я спрашиваю Жан-Марка, нет ли у него чего-нибудь повеселее.
— А я пока смотаюсь в «Отель де Франс».
Жан-Марк садится за столик с огромной чашкой кофе, американцы тут же подваливают к нему и хлопают его по животу. Стараясь избежать их приставаний, он идет к магнитофону и вставляет кассету с блюзами. Томное протяжное вступление посвящено заре: «Woke up this morning… » Интересно, почему это все блюзы начинаются со слов «Сегодня я проснулся на заре»?
А я-то просил поставить что-нибудь повеселее!
При том что сам проснулся на заре и на меня свалилась вся эта куча дерьма…
Можно подумать, что все беды в мире происходят именно оттого, что человек ежедневно совершает грубую ошибку, вылезая утром из кровати. Похоже, оба американца знают этот блюз, они переводят слова, которые нам по сей день были непонятны.
Woke up this morning…
Никогда не вставать с постели. Или никогда не ложиться. На выбор.
Как ни странно, это пробудило во мне воспоминания о лицее. Только не о блюзах, а о классической литературе. Кажется, еще Гамлет поднимал этот вопрос — о выборе. Самое знаменитое сомнение в мире. Благородно ли мы поступаем, когда встаем с постели, заранее зная, что за этим последуют большие неприятности? Низко ли мы ведем себя, отправляясь в постель, чтобы забыться мирным — а иногда и вечным — сном и распрощаться со всем, что отравляло нам существование? Вот в чем вопрос! Woke up this morning…
— Слушай, мы ведь можем просто наведаться туда, глянуть, на месте ли они, твои вампиры. А то вдруг облом, хорошо же ты будешь выглядеть перед стариком, — бросает Этьен.
— Ты что, хочешь составить мне компанию?
— Подожду тебя внизу, в машине.
— Я знаю, сегодня ты ничего не скажешь, но обещай, что хоть когда-нибудь объяснишь мне.
— Что?
— Почему ты следуешь за мной. И даже оберегаешь меня.
— Postmortem. А пока что не воображай себе никаких чудес, реальность — она всегда намного проще фантазий и намного скучнее, чем тебе кажется.
Мы с ним ударяем ладонью о ладонь и дружно встаем, почти развеселившись. Рикки вырубает хриплую нескончаемую жалобу блюзмена. А Стюарт спрашивает, нет ли у нас чего интересного на примете. Я отвечаю: да, есть, но мы прибережем это для себя.
* * *
Этьен заглушает мотор, я беру папку с рукописью и выхожу из машины.
— Просто убедись, что они там, и не делай ничего лишнего.
— Я понял.
— Это, конечно, не взлом квартиры, но все-таки будь осторожен.
— О'кей!
— Если через пятнадцать минут не вернешься, я туда поднимусь.
Я подхожу к заспанному портье, который раскладывает на стойке корзинки с круассанами. Спрашиваю, позевывая, есть ли свободный номер — главное, чтобы тихий, — он заглядывает в свой кондуит.
— И может, у вас найдется бритва?..
Он вынимает пакетик с зубной щеткой и одноразовым станочком; цена сорок франков.
— Не успел, знаете ли, побриться в самолете.
— Вы издалека?
— Из Нью-Йорка.
Я бросаю взгляд на свои часы.
— На моих час ночи, самое время спать. А у вас сейчас сколько?
— Двадцать минут восьмого.
Я колдую со стрелками и прошу разбудить меня в 16 часов. Он записывает и просит оплатить номер заранее — таково правило для клиентов без багажа. Я вынимаю деньги.
— Мне дал ваш адрес господин Джордан Реньо, он сам здесь остановился, у нас назначена встреча в 17 часов в холле.
— Извините, я дежурю только по ночам. И он снова лезет в свой кондуит.
— Да, верно, он там с дамой… Я видел, они только что прошли.
— У вас можно позвонить из номера в номер или это делается через коммутатор?
— Звоните прямо: наберете сначала 2, а потом 43.
— Вас проводить или…
— Не беспокойтесь, я найду сам.
— Эй… вы не взяли ключ!..
Лифт высаживает меня на четвертом этаже. Этьен прекрасно знает, что я не удержусь и суну нос в их комнату. Он даже не очень-то меня и отговаривал. Более того, мне показалось, что он сам исподволь подталкивал меня к этому. Я напряженно сглотнул слюну, перед тем как постучать в номер 43, мое сердце бешено колотилось. Внезапно мне представились жуткие картины вампиризма — гробы, окровавленные клыки… я попытался прогнать эти образы, но мне упорно слышался замогильный скрип дверей, а за ними чудились истлевшие мертвецы… фу, черт, что за глупости, вампир — это я сам, это старик, это все остальные, а вовсе не он, его зовут Джордан, а сестру — Вьолен, и никакие они не вампиры и не чудовища, а просто несчастные больные люди. Нельзя тронуть одного из них, не ввергнув в бешенство другого, нельзя применять насилие, нужно просто сказать им, что я все понял и что все это происходит не по моей вине. Успокоить их. Говорить разумно и ясно. Наладить диалог. Нормальный и мирный. Показать эту рукопись. Все объяснить. Объяснить, что я измучен всей этой историей, что она меня не касается ни с какой стороны. В общем, поговорить.
Я трижды легонько стукнул в дверь левой рукой. А правой инстинктивно приподнял жалкие отвороты своего пиджака, чтобы понадежнее защитить шею. Перед тем как мне открыли, я успел в сотый раз повторить короткую, приветливую и искреннюю фразу, с которой начну разговор.
Я втянул голову в плечи и, бросившись, как в пропасть, в открывшийся передо мной черный проем, столкнулся с темной заспанной фигурой, которая рухнула наземь. Ногой, не глядя, я захлопнул дверь. В комнате — кромешная тьма. Я даже не знал, кого опрокинул на пол; у моих ног раздался невнятный всхлип, я попробовал нашарить выключатель, но не нашел его. Господи боже, черт подери, куда же девалась моя короткая искренняя фраза? Откуда-то издалека, из соседней комнаты послышался жалобный, едва различимый возглас: «Джордан?.. » Тишина.
— Они никогда не оставят нас в покое, сестренка. Голос звучал слишком слабо, чтобы долететь до нее. Из спальни сочился тусклый розоватый свет. Я наконец разглядел на полу тело Джордана в трусах и рубашке с отложным воротничком, распахнутой на впалой безволосой груди. Несмотря на нелепое одеяние и скрюченную позу, я тут же узнал эту синевато-бледную кожу и эти мертвые рыбьи глаза, в которых угадывалось высокомерное презрение к окружающему миру. В дверях спальни показалась Вьолен, она стояла, уцепившись за косяк Вряд ли она могла видеть нас в темноте. Она поднесла руку ко лбу и вдруг упала, как подкошенная. Джордан приподнялся, подполз к ней, обнял и начал гладить по голове. Я испытывал странное ощущение: меня как будто больше не было в этой комнате. Я стал невидим. И бесполезен. И уже забыт.
Джордан взял с ночного столика коробочку с таблетками.
— Прими это и поспи еще, сестренка.
Она проглотила таблетку, запив ее глотком воды. Я стоял как столб, не зная, что мне делать.
— Куда пойдем? — спросила она.
Ее голова начала клониться вниз, она безуспешно пыталась поднять ее, веки смыкались. Подобрав упавшую рукопись, я сказал:
— Вот… пришел, чтобы отдать вам это. Джордан приблизился ко мне почти вплотную и выдохнул:
— Только не говорите о нем!
— Сегодня воскресенье, да? Воскресенье?.. И за нами придут, да?
— Да, Вьолен. Но еще слишком рано. И он шепнул мне:
— Через две минуты она уснет. Только две минуты, умоляю! Вы можете подождать?
— Ты не забудешь меня разбудить, а? Джордан взял ее на руки, отнес в соседнюю комнату и уложил в постель. Я слышал, как он убаюкивает ее. Две минуты… Я жалею, что пришел. Жалею обо всем, с начала до конца.
Он вернулся в синем атласном халате; странно было видеть его в этом облачении.
— Наверное, Вьолен чуть не разодрала вас в клочья.
— Она… У нее депрессия? Он горько усмехнулся.
— Депрессия? Да, она совершенно ненормальная, вы ведь это хотели сказать. До его возвращения мне еще кое-как удавалось поддерживать ее в сносной форме, хотя бывали и срывы, но с тех пор как он нас разыскивает, ей стало очень худо. Она его просто издали чует — даром что безумна, но не глупа.
— Кто это «он»?
— Тот, кто вас нанял.
— А вам он кто?
— Разве он не сказал? Это наш отец. Хотя вернее было бы назвать его просто самцом-производителем.
— Но мне сказали, что ваш отец умер.
— Как бы не так! Заметьте, я с радостью исправил бы это недоразумение, но к этой старой сволочи невозможно подобраться. Главное препятствие — я никогда его не видел, не знаю, как он выглядит. А кстати, это было бы интересно… вы можете мне его описать?
Я усиленно старался сохранять бесстрастный вид, чувствуя, что он хочет войти в переговоры со своим врагом или его посредником. Будь его сестра транспортабельной, он наверняка повел бы другую игру. Начиная со среды, я мог похвастаться лишь одной заслугой — тем, что не дал себя заморочить предположениями и гипотезами, которые помешали бы мне идти напролом, и в результате очутился здесь, с тайным убеждением, что уже вечером это дело перестанет меня волновать. Только бы продержаться до вечера, что бы пи случилось!
— Я должен скоро увидеться с ним. И я уверен, что он вовсе не желает вам зла. Почему вы от него бегаете?
— А вам-то что до этого?
— Мне — ничего, ваши семейные истории меня не интересуют. Но только ваш папочка держит в заложниках одного моего друга, который мне очень дорог.
Молчание. Он долго смотрит в потолок.
— Я так и знал, что вы не профи, как те кретины, которых он пустил по нашему следу. Ох, эти ищейки!.. Какое же я получил удовольствие… Их было издали видно, они светились, будто фосфором обмазанные. Знаете, есть такие светлячки — мерцающие, неопасные, но ужасно надоедливые. А вот у вас дело пошло быстро. Он почуял в вас классического халявщика, который лучше всех знает самый короткий путь от стола до помойки. О, мой папочка — тонкий психолог! И это даже не его заслуга, а просто его ремесло.
Внезапно он разразился хохотом, который так же резко оборвал, глянув в сторону спальни Вьолен. И продолжал, понизив голос:
— Мне известно о нем лишь то, что рассказывали родные. Особенно кормилица, которая занималась нами до того, как нас отправили в пансион. Я почти не помню свою мать, нам не разрешали часто видеться с ней. Да и она, нужно сказать, к этому особенно не стремилась.
— Вы не могли бы рассказать с самого начала?.. Потому что за последние несколько дней я узнал столько, что у меня башка лопается, боюсь все спутать. Мы, халявщики, славимся скорее упорством, чем интеллектом.
Он выдерживает паузу, вздыхает.
— Вам какую версию угодно — кровавую, типа «сумасшедший врач против кровожадных вампиров»? Или в жанре семейной драмы, с детскими психическими травмами и прочей ерундой?
— Я же сказал — с самого начала.
— А это самое трудное. Иди знай, где оно — это начало!
Внезапно он отходит к своей постели, перекладывает подушки и, улегшись, некоторое время молча глядит в пустоту.
— Ладно, доктор… Устраивайтесь в кресле, пускай процедура идет по всем правилам. Вам хочется сеанса занимательного психоанализа — вы его получите.
Подыгрывая ему, я сажусь рядом, но вне поля его зрения, и скрещиваю пальцы.
— Итак, жила-была, лет тридцать назад, большая буржуазная семья, которая обитала в роскошном особняке в Буживале. Семья Реньо. И все было бы хорошо в этом замечательном доме, если бы молодая девушка, единственная дочь хозяев, не страдала тяжелой болезнью. Ей двадцать два года, перед ней блестящее будущее, завидный брак с юношей из их круга. Но девушка восстает, у нее другие планы, она часто сбегает из дома, при этом она учится и даже, назло семье, участвует в разных демонстрациях. В общем, делает все, что положено делать приличной девице из буржуазной семьи в таких случаях. Тщетно родители внушают ей, что это бунтарство имеет нездоровые корни, тщетно пытаются вернуть на путь истинный. Они решают ее лечить. Дело происходит в I960 году.
Я чувствую, что он импровизирует, но говорит правду. Украдкой бросаю взгляд на часы; он тут же замечает это, уж не знаю как.
— Не волнуйтесь, доктор, я, может, и скверный рассказчик, но не стану злоупотреблять вашим временем… тем более что мы уже подошли к важному событию — появлению Прекрасного Принца. Ибо принц действительно прекрасен, его зовут Робер Бомон, он недурен собой, ему под сорок, он окончил Школу фрейдизма, работает психиатром в больнице и держит кабинет психоанализа, где принимает горстку частных пациентов. Более того, молодой Бомон написал блестящее исследование, горячо одобренное его коллегами, и собирается его опубликовать. Вот оно-то сейчас и валяется рядом с вашей левой ногой.
На сей раз я не могу скрыть изумления.
— Вы хотите сказать, что эту штуку написал ваш отец?
— Он самый. Взгляните на имя автора.
— Погодите… минутку!.. Выходит, что старик, который втянул меня в это дерьмо, который закатывает фантастические приемы, который окружил себя телохранителями, который держит в заложниках моего друга, выходит, этот тип — психиатр?!
— Помолчите, доктор, и слушайте дальше, мне так приятно выговориться. Так вот, его спрашивают, не займется ли он юной принцессой двадцати двух лет, у которой чересчур буйный нрав. И она посещает его кабинет в течение многих месяцев. Именно тогда…
Пауза. И чем дольше он ее держит, тем яснее продолжение. Я пытаюсь помочь ему:
— И тогда… произошла эта история? Как бывает в сказках?
— Но это не любовная история, доктор. Я отказываюсь в это верить. И даже… даже если бы он ее любил, он не имел никакого права… Это же общеизвестно, не правда ли?
Ему хочется продолжать игру, но голос его теперь звучит неуверенно, он ищет способ обойти щекотливый момент.
— Короче говоря, она понимает, что беременна. И впадает в депрессию. Родители обо всем узнают, они в панике, но не делают ничего, чтобы замять скандал, напротив, у них есть связи, их родственник-депутат хорошо знает министра здравоохранения. Папаша Реньо преследует лишь одну цель — разрушить карьеру наглеца-врача, и он своего добивается, Бомона с позором выгоняют из больницы. Никто больше не хочет публиковать его книгу. Всеобщий бойкот, загубленная репутация. Моя мать — и та возненавидела его. У Робера Бомона не осталось никаких перспектив на работу во Франции, и он бежит в Соединенные Штаты. Никто так и не узнал, что с ним сталось за все эти годы. По моему мнению, он продолжал в том же духе — делал своим пациенткам полусумасшедших детей… а впрочем, не знаю, это всего лишь мои домыслы… Но мне нравится думать именно так. Во всяком случае, он никогда не пытался встретиться с нами. До недавних пор.
Я снова гляжу на часы. Этьен может явиться сюда и все испортить, а я не осмеливаюсь прервать Джордана, он ведет свое повествование с таким воодушевлением, и, кажется, я первый человек, который удостоился его откровенности.
— Моя мать попыталась избавиться от беременности, не обращаясь к посторонней помощи. И это скверно кончилось.
— А именно?
— Мы родились. Притом вдвоем. Близнецы. Вероятно, именно тогда она видела нас вблизи первый и последний раз. Дальше в дело вступают Реньо. Они нанимают домашнюю кормилицу. Единственный образ матери, который мне запомнился, — сухощавая женщина, постоянно возбужденная и непрерывно курившая; она смеялась и плакала одновременно — затворница в родительском доме. Из которого всегда мечтала сбежать. И однажды она покончила с собой. Нам было по шесть лет.
Он пытается выдержать невозмутимый тон циника, который на все смотрит с высокомерным безразличием. И, надо сказать, все это ничуть не похоже на классическую исповедь пьяницы, бессвязно повествующего о драме своей жизни.
— Ну как, доктор, впечатляет?
— И тогда вас отослали в пансион.
— Да, с нами не было никакого сладу; мы, парочка гадких утят, вызывали одну только жалость, и нас запихнули в шикарный пансион для чокнутых отпрысков из богатых семей. Реньо навещали нас все реже и реже. И у Вьолен остался один я.
— Продолжение мне известно.
— А вот и нет! Отдельные штрихи — может быть, но в то время никто даже отдаленно не подозревал, какую жизнь мы вели. Когда Вьолен не видела меня, она буквально теряла сознание. Считалось, что это один из признаков той неразрывной связи, какая существует между близнецами, но это неправда, просто всех устраивало такое объяснение. На самом деле это был некий симбиоз, своеобразный способ защиты для тех, чье существование отрицалось другими с самого начала. Но физически мы с Вьолен отличались друг от друга. Она была слабенькой, хрупкой, ее мучили ночные кошмары. Я охранял ее, пока она спала. Был сторожем ее снов во время наших тайных ночных свиданий. И, знаете, несмотря на все это — на наши несчастья, на срывы и приступы бешенства, — мне кажется, именно я не дал ей впасть в полное безумие. Защитил своей любовью. Может быть.
Без сомнения.
И это, конечно, стоило нескольких укусов на нескольких шеях, чьи владельцы были не так уж и беспорочны. Что ж, они могли бы натворить и чего-либо похлеще.
— А вы?
— Что я? Мне пришлось выпутываться самому, до всего доходить самому, не прибегая к помощи сестры. Пришлось крепко помнить, кто я и откуда, стараться выжить, чтобы когда-нибудь взять реванш — правда, я еще не знал, какой именно. Но однажды, в один из наших редких приездов в дом Реньо — мне было тогда шестнадцать лет, — я нашел эту рукопись среди хлама у них на чердаке.
— Единственное наследство от вашего отца.
— Браво, доктор! Я буквально впился в нее, пытаясь разобраться, что к чему, но я не был готов к такому чтению, и для начала мне пришлось одолеть массу других научных трудов. Я не мог думать ни о чем постороннем, я знал, что должен расшифровать этот недоступный мне текст, погрузиться в него с головой, чтобы дойти до истоков. Я почти сразу отбросил психиатрические теории и остановился на образе вампира, который просто зачаровал меня. И я решил добраться до самой сути того, что мой отец считал элементарной отправной точкой для своих построений, эдакой беллетристикой, источником фантастических легенд, дешевой символикой и почти шутовством. Но я пошел до конца, я учуял в этом некую силу, способную помочь мне выжить. Теперь я знал: мы с Вьолен вовсе и не рождались на свет, и самое лучшее — принимать жизнь, как эти загадочные создания, блуждающие по ночам среди живых. Вам известно, что люди из племени банту отрубают ноги своим мертвецам, чтобы те не возвращались к ним? Уже тогда мы слишком сильно походили на мертвецов. Это произошло само собой, нам не оставили выбора.
— Значит, вот когда вы начали играть в Носферату.
— Едва нам исполнилось восемнадцать лет, как нас выставили за дверь. Реньо выплачивали нам что-то вроде ренты, вполне щедрой; мы до сих пор получаем деньги каждое двенадцатое число, и все довольны таким раскладом. Больше мы с ними практически не виделись. Мы начали самостоятельную жизнь. По ночам. В этом пункте, несмотря на то что вы врач, а я больной, несмотря на то что вы живы, а я мертвец, несмотря на все прочие различия, мы с вами, смею надеяться, вполне сходимся. Ночь…
Всего одно слово. Единственная no man's landnote 37, где мы можем встретиться.
— … это половина жизни, ее изнанка, место, где мы имеем право на существование. Ночь — это мир без детей. И без стариков. Ночь — это мир без любви. И без любовных страданий. Она позволяла мне забыться и увлечь за собой Вьолен, увлечь надолго, вплоть до сегодняшнего дня. Десять лет. Десять лет без прошлого, без единого воспоминания; мы только идем сквозь ночь, мы не расстаемся со своими фантомами, ибо мы сами фантомы; мы дети мрака, мы живем по ту сторону, а все остальное испаряется с первым светом зари. Вампиры — они это понимают.
Может быть, и так Но я еще до этого не дошел и, клянусь, никогда не зайду так далеко. Мне выпал другой жребий. Мои демоны не настолько беспощадны.
— Наша жизнь круто изменилась, когда он вернулся. Мы узнали сразу две вещи: он жив, и он здесь. Кормилица сообщила нам, что он был у нее и разыскивает нас. Но для чего? Чтобы искупить свою вину?
Снова пауза.
— Я дико испугался. В тот день я понял, что если Вьолен увидит его сейчас, после стольких лет…
Мне стало страшно: то хрупкое равновесие, которое я до сих пор кое-как поддерживал, грозило рассыпаться в прах, если она встретит Дьявола во плоти. Со времени своего последнего пребывания в лечебнице она чувствовала себя лучше.
Чувствовала себя лучше… Интересно, что он подразумевал под этим…
— Нам удалось сорвать планы тех идиотов, которых он пустил по нашему следу. В конце концов это была наша территория. А он свалился неведомо откуда, не зная правил игры. Когда Вьолен рассказала, что меня разыскивали в «Модерне», я понял: он обратился к настоящей ночной крысе.
Услышав, как он обозвал меня крысой, я взглянул на часы и решительно оборвал его.
— Вот что, давайте-ка заключим договор. Меньше чем через три часа я увижу вашего отца. За это время вы надежно спрячете Вьолен, а я подыщу нейтральное место и организую вам встречу. Ведь вы же не собираетесь бегать от него до самой его смерти?
— Никогда! Никогда, вы меня слышите?
Да слышу я, слышу. И снова наступила тишина. Пауза. Пауза для вздоха, для беглой мысли. О моем друге. О старике. О двух больных детях, не желающих, чтобы их преследовали.
И вдруг я услышал другой звук, на сей раз вполне реальный. Дверная ручка тихонько опускалась сама собой. Подавив испуг, я сказал:
— Это Этьен, мой приятель, он ждал на улице…
Джордан стрелой ринулся к двери. Он едва успел коснуться ее и тут же отступил, инстинктивно подняв руки.
Замер.
Сделал шаг назад.
— … Джордан!
В его лоб медленно уткнулось дуло пистолета.
За ним последовала рука, сжимавшая оружие.
И внезапно в комнате возникли два силуэта. Один, готовый размозжить Джордану голову, знаком приказал нам молчать. Второй закрыл дверь и быстро, держа пистолет наготове, оглядел комнату. Все это заняло меньше трех секунд. Джордан вздернулся было, когда тот, второй, открыл дверь спальни Вьолен, но тут же получил жестокий удар ребром ладони по лицу и рухнул наземь. Однако безумец не сдался и попробовал встать; следующий удар, ногой, отбросил его к стене, и он даже не успел застонать от боли — противник подмял его под себя, обеими руками зажал рот и удерживал до тех пор, пока Джордан не перестал отбиваться.
Я смотрел на все это, остолбенев от ужаса.
Два силуэта.
Стюарт и Рикки…
Сначала мне показалось, что я брежу, что у меня просто крыша поехала.
Надо прийти в себя. Закрыть глаза и прийти в себя.
Такое иногда случается, когда долгое время не спишь. Ночь размывает границы реальности. Ты теряешь ощущение времени, твои внутренние часы разлаживаются, ты внезапно отвечаешь на вопрос, заданный кем-то накануне, цепляешься за остатки вчерашнего, спасаясь от лавины сегодняшнего, грезишь в настоящем и просыпаешься в бесконечном дежа вю.
Рикки. Стюарт. Они резко бросили мне несколько слов, которые я не сразу разобрал.
— Эй, Тони, где его сестра?
— Она… она там… — всхлипывая, прошептал Джордан. — Я умоляю вас…
И он заплакал, вцепившись в ногу Стюарта, который отшвырнул его ударом колена. Рикки убрал пистолет, заглянул в спальню и, убедившись, что Вьолен на месте, тихонько прикрыл дверь; все это время Стюарт держал нас на мушке. Джордан смотрел на меня безумными глазами, его губы перекосила гримаса ненависти.
— А ведь я вам почти поверил.
— Заткнись, ты… you monster, shut upnote 38!
Рикки орет как бешеный, чувствуется, что криком он хочет выплеснуть эмоции, что ему от этого легче и плевать, разбудит он кого-нибудь или нет.
Monster! Monster!
— So, you're the fucking son?
— Так ты сын или нет? — переводит Рикки.
Джордан испуганно кивает. Американцы сходятся вплотную, пристально глядят друг другу в глаза, зловеще усмехаются и, испустив тот же странный протяжный свист, напоминающий отдаленный ветер, медленно ударяют ладонью о ладонь.
Какой-то безумный ритуал. Или танец. Я ничего не понимаю, но мне страшно.
— Where's the book?
— Какая книга? — спрашиваю я.
— Нам нужна книга, Тони.
Он подошел ко мне, и я инстинктивно прикрыл лицо. Но он лишь потрепал меня по голове, как верную собаку.
— We love you, Тони. Ты лучший! Good jobnote 39!
В это время Стюарт схватил Джордана за волосы, приложил пистолет с глушителем плашмя к его уху и хладнокровно спустил курок. Джордан взвыл, схватился обеими руками за голову — похоже, у него лопнули барабанные перепонки, — и скорчился на полу. Пуля застряла в матрасе.
Из своего угла я услышал только звук, похожий на щелканье хлыста.
Рикки потрепал меня по щеке.
— Ты отлично сработал, Тони. Good guynote 40. А теперь гони книгу.
Ничего не понимая, я указал на рукопись, валявшуюся на полу. Он кинулся к ней, лихорадочно перелистал. Потом яростно вырвал чуть ли не половину страниц и швырнул мне прямо в лицо.
— Piece of shit! Это еще что за дерьмо!
Ударом каблука он вдребезги разбивает низенький журнальный столик у моих ног. Бросается на меня, всовывает пальцы мне в рот — я не в силах оттолкнуть его, не успеваю укусить, — и ствол пистолета уже засунут мне в горло. Стюарт кричит: «Брось его! »; секунда — и пистолет вынут. Я судорожно кашляю, надрывая легкие, слезы брызжут из глаз.
— Извини, Тони, we love you. Ты нам еще понадобишься, Тони…
С этими словами он проделал точно такой же маневр с Джорданом, засунув ему пистолет в горло.
Я думал, что он разнесет ему голову, но он выстрелил вхолостую. И расхохотался. Смехом облегчения. Жутко довольный собой.
— You got some job, Tony… Ты еще поработаешь на нас, Тони…
И снова прицелился в меня.
В меня.
* * *
Меня всего трясло, я спустился в холл и увидел там лишь обычную суету постояльцев вокруг столиков, накрытых для завтрака. И раздраженного дневного портье, который еле успевал обслуживать набежавших невыспавшихся туристов, удивленных его мрачной физиономией. Мои часы показывали 8.30.
Вестибюль пуст. Слезы выступают у меня на глазах, когда мне не удается поднять руки и толкнуть стеклянную входную дверь — нет сил. Я налегаю на нее плечом, потом всем телом — бесполезно, она не поддается ни на миллиметр. Мои толчки ни к чему не приводят. Я с трудом сдерживаю новый прилив слез и наконец каким-то чудом, едва коснувшись стекла, выбираюсь из отеля.
Улица. Солнце…
Этьен, наверное, давно уехал.
Или же ему приказали уехать. Прогнали, когда он собрался предупредить меня об опасности.
Но нет, его «Datsun» стоит на месте, прямо у меня под носом — как мне кажется, даже слишком близко, хотя на самом деле машина ни на йоту не сдвинулась с места. Когда я хлопаю дверцей, Этьен медленно поднимает голову. Внезапно я чувствую жгучее желание убежать отсюда и выплакаться всласть; нервы совсем ни к черту. Я прикрываю глаза ладонью, чтобы найти спасение во мраке и скрыть свою ярость. И свой страх. Мне бы сейчас маску… Он молча ждет, когда я очухаюсь.
— Ты видел, как они входили? Молчание. Ему явно не по себе. Я жду.
— Отвечай, Этьен. Ты видел, как они входили? — Да.
Я изо всех сил прижал ладони к лицу, чтобы сдержаться и не вцепиться ему в горло. Мне страстно хотелось излить в этом укусе все отвращение, всю ярость, что скопились в моем сердце.
— И ты… ты даже не шелохнулся. Струхнул… Или ничего не понял и оттого…
Из-под моих ладоней вырвалось рыдание.
— Ты мне не поверишь, Этьен… Но я кончаю с этим, слышишь, кончаю… Пускай Бертран сдохнет… Пускай все они сдохнут…
Я так сильно надавил на глазные яблоки, что передо мной в темноте заплясали разноцветные звездочки, и я испугался, что ослепну, если рискну сейчас взглянуть на дневной свет и на улицу.
— Когда я увидел, как они входят в комнату, я решил… решил, что старик меня сдублировал… послал эту пару кретинов следить за мной, пока я не приведу их к его детишкам… я решил, что теперь они сами всем займутся… они ведь настоящие профи… возьмут на себя доставку… Но я еще раз облажался… я облажался с самого начала, ты слышишь, Этьен?
— Да.
Внезапно я отдаю себе отчет, что в машине орет радио — так оглушительно, что барабанные перепонки лопаются. Музыка включена на полную катушку, а я только сейчас это заметил. Через открытые окна на улицу вырывались раскаты рока.
— Выключи его, мать твою!.. Слышишь, что я говорю? Эти двое американцев убрали Жерара; им плевать на Джордана и на меня, им нужен старик, они выслеживают его с самой Америки, слышишь? Они явились оттуда, это слишком далеко для нас…
— Наверное, они выжали адрес из китайца…
Я выпрямился, открыл глаза и подождал, пока передо мной рассеется туман.
— … Жан-Марк?
Этьен смотрит прямо перед собой, его руки судорожно вцепились в куртку.
— Думаю, они серьезно его обработали, нашего толстяка, если уж он проговорился, где мы…
Из его губ вырывается легкий смешок.
— Ты только представь… Человек, который ни разу в жизни не дал никому в морду… скулит и выкладывает все, что знает… уткнувшись носом в унитаз… в сортире «Тысячи одной»…
У меня все похолодело внутри, когда он выговорил это. Застывший взгляд, хриплый, постепенно слабеющий голос. И этот странный, отрешенный тон.
Он еле слышно вздохнул, его разжавшиеся руки безвольно упали вниз.
И тут я увидел его живот, залитый кровью, которая медленно стекала к ногам.
— До сих пор ты слышал только, как стреляют пробки от шампанского, верно, Антуан?..
Я положил руку ему на плечо. Распускать нюни было некогда, я понял, что нужно срочно что-то делать.
И еще меня охватило странное спокойствие.
— Сиди смирно, не двигайся, сейчас я сбегаю в отель, и через две минуты за тобой приедет «скорая»…
— Нет, не надо. Останься…
Он кашлянул, из его горла вырвался хрип, и я отвел глаза, чтобы не видеть, как отреагирует на это его рана.
— Только не выключай музыку, ладно?.. Сделай погромче… Это как анестезия.
Я снова уткнулся лицом в ладони.
— Будешь уходить, прихвати ключи от моей берлоги. Возьмешь там, что понравится.
— Молчи, тебе нельзя говорить. Через три минуты «скорая» будет здесь, я не собираюсь сидеть тут и любоваться на тебя, ясно?
— Пошарь в стенном шкафу… там бумаги… письма… может, найдешь среди них…
Сам не зная отчего, я понял, что он делает мне подарок.
Он попытался усмехнуться. Я тоже. Рок безжалостно долбил по мозгам.
Нужно срочно придумать что-нибудь… такое, что пробудило бы в нем волю к жизни. Но я не решался бросить его и бежать за помощью в отель. Боялся, что не успею. Что он устанет ждать моего возвращения.
И я засмеялся, хмелея от горя и уже ничего не соображая. Истерическим смехом, который перешел в рыдания. У меня перехватило горло. Подступила тошнота. Я приоткрыл дверцу, чтобы проблеваться.
— Слушай, Антуан… Доставь мне удовольствие… Вытерев лицо, я подсобрался и стал слушать. А что мне еще оставалось…
— Сядь за руль… Поедем… Надо убраться отсюда… Покажи мне город…
Да. Конечно. Взять и отвезти его в больницу, самому. Если хватит сил. Должно хватить.
— Куда ты хочешь ехать?
— Не знаю… придумай сам… местечко покрасивее… где людно…
— Сегодня же воскресенье.
— Где людно…
— Ну ты и даешь, где я тебе возьму людное место — в воскресенье-то! У церкви после службы? В супермаркете? Возле пирамиды Лувра? Или, может, в барах с тотализатором… с пастисом на террасе и кучами рваных квитанций на полу?.. Подскажи, Этьен!
И я схватился за живот — в точности, как он. Мне стало так же больно, я судорожно стиснул руки.
— Ты смеешься надо мной! Ну же, напрягись немножко, я не знаю, куда ты хочешь… Где у нас тут людные места…
Если уж на то пошло, сейчас для него самое подходящее — это больница, там-то уж жизнь кипит круглые сутки.
Я помог ему перебраться на пассажирское сиденье, а сам сел за руль, не слишком представляя, куда ехать. И не слишком понимая, кого из нас двоих слушать.
* * *
Этьен покинул меня спустя три улицы — довольно-таки безобразные, безликие, обычные парижские улицы. По чистой случайности мы ехали несколько секунд мимо рынка Ришара Ленуара; надеюсь, он еще успел увидеть битком набитые продуктовые сумки, людей в теплой одежде, продавцов овощей, во весь голос нахваливающих свои помидоры. Этого ему должно было хватить. Я-то планировал провезти его по Большим бульварам, попросту, без затей; у меня вообще плоховато с воображением. Когда он уронил голову и обмяк, в машине тут же запахло смертью, ее жуткий запах нежданно заполонил все пространство, и мне пришлось поскорее убраться оттуда. Мои штаны пропитались кровью, залившей сиденье. Затормозив возле закрытого железными жалюзями писчебумажного магазина, я вышел и хлопнул дверцей, не взглянув на поникший труп. Мне пришлось внушить себе, что это уже не Этьен, что мне не обязательно уважать его кончину, закрывать ему глаза, прощаться и все такое. Я только оставил включенной музыку. И нечего требовать от меня большего.
В конце концов он сам настоял на том, чтобы ехать со мной. И всю последнюю неделю он здорово развлекался. Еще бы, такое увлекательное занятие — охота на вампиров. Взбодрит любого. Я его не заставлял, он сам…
Блевать уже нечем. И плакать — тоже, все слезы кончились. Я просто бродил по улицам. Долго, очень долго.
С девяти часов до полудня.
Воскресный день — скверное время для халявщиков. А что я делал в прошлое воскресенье? Ах да, у нас были ключи от квартиры приятеля, уехавшего на уикэнд; мы накормили его кота, отсмотрели на видаке чуть ли не все серии «Рокки» — почти восемь часов кряду! — затем Бертран приготовил «тортеллини», после чего мы вышли в сквер напротив и поиграли в фрисби. Вечером нам было куда пойти: в «Бушоне», около Центрального рынка, давали небольшой фортепьянный концерт плюс сангрию; Гро-Жако снабдил нас входными билетами. Но мы поленились переться туда и остались дома, перед видаком. Этьен умер.
* * *
Старик нетерпеливо поджидал меня, он был крайне возбужден. Я дал знак двум его гориллам очистить машину, и они мгновенно подчинились, не ожидая даже приказа шефа. Я спросил, где Бертран — из принципа. Исключительно из принципа. Потому что в данный момент Бертран представлял собой наименее интересную тему для разговора. Так, некое смутное понятие, и все. Просто имя, не более того.
— Он не захотел приехать.
Я пожал плечами и велел ему отъезжать, не заботясь о парочке кретинов, которые приглядывали за нами, сидя на парапете фонтана площади Шатле. Они было кинулись следом, но старик жестом успокоил их, и скоро машина влилась в плотный поток автомобилей на бульваре Себастополь.
— Два раза по сорок восемь часов на ваших двоих детишек — я считаю, что еще хорошо уложился. Сегодня утром с ними еще все было в порядке, они спали. Они ненавидят вас; я пытался сказать вашему сыну, что с виду вы вовсе не злодей, но он убежден, что Вьолен снова впадет в безумие, если увидит своего папочку после стольких лет разлуки, и тут уж я пас: во-первых, не желаю копаться в вашем грязном семейном белье, а во-вторых, все эти сложности — психические травмы, эдиповы комплексы, образы отца, члена, и прочее, и прочее — мне не по зубам, это ваша работа, а не моя.
Я получил затрещину в тот миг, когда из любопытства нагнулся к бардачку; моя голова стукнулась о лобовое стекло. Затрещина, даром что от старческой руки, была весьма ощутимой. Дождавшись, когда он сбавит скорость, я набрал в легкие побольше воздуха и осыпал его сморщенную физиономию градом ударов; к концу этой кулачной расправы я почувствовал огромное удовольствие, у меня даже стало легче на душе. Сзади яростно сигналили машины, потом они стали нас объезжать; водители, изрыгавшие проклятия, замолкали при виде его лица с окровавленным носом и подбитыми глазами.
— Это несерьезно, Робер; неужели ты думаешь, что детишки признают тебя — с такой-то рожей? Сегодня вечером тебе надо бы выглядеть поприличнее.
— Я не бросал их! — сказал он, утираясь рукавом. Кровь стекала по его бороде, ему не удавалось остановить ее. А я готов был повторить все сначала.
— Езжайте по улице Риволи и остановитесь возле «Макдональдса».
Увидев вывеску, он затормозил.
— Давайте деньги.
— … Сколько?
— Все что есть.
В конечном счете сумма набралась весьма приличная. Я вышел из фаст-фуда с картонным стаканчиком кофе. Мерзким на вкус, но мне безумно хотелось глотнуть чего-нибудь горяченького, притом не откладывая. Он завел машину, и мы поехали в сторону площади Согласия.
— Вам наверняка известно, что за вами охотятся с самых Штатов, — просто потрясающая история!.. И стоит вам приехать на очередной континент, как там начинаются трагедии. Недаром говорят, что все психиатры слегка того… но вы… вы побили все рекорды.
— Что вы имеете в виду?
— Спокойно, не торопитесь, до десяти вечера у нас еще вагон времени. Вас ищут американцы, но это вы уже знаете. Они хитры, прекрасно информированы, вооружены, терпеливы и вообще большие забавники — они поимели и меня, и моих дружков. Настоящие артисты, просто асы!
— Как же они вас нашли?
— Видимо, они уже несколько недель ищут случая прижать вас к стенке. Они знали, что вы устраивали прием на улице Круа-Нивер. Видели, как ваши люди пропустили нас с Бертраном. Подождали, когда мы выйдем, дождались только меня одного и проследили до моей штаб-квартиры — ночного заведения около Пигаль. А потом устроили там настоящий спектакль — разыграли клиентов-пьянчуг, вошли в курс дела, освоились как следует и стали меня пасти — что бы я ни делал, ходили за мной по пятам и даже в один прекрасный вечер завалили охранника, который зазнался не по чину, угрожая мне. Так вот, сегодня утром они сбросили маски: вышибли информацию из моего приятеля-сумиста и взяли в заложники ваших детишек. В общем, они спецы, эти ребята; не знаю, чем уж вы им так насолили, не знаю, легавые они или гангстеры, но работают они грамотно. На сегодняшний вечер забита стрелка — стандартный обмен, старый на малых, детишки на отца. Кажется, они твердо настроились вас убрать. На вашем месте я бы туда не ходил. Свидание грозит быть коротким.
Пауза. Он молчит, обдумывая мои слова. Все, что я говорю, правда, и к тому же я ничего не утаил. Выложил ему все. Как хочешь, так и понимай. В данную минуту Этьен уже не слышит свой рок, его лишили любимой музыки, вот что его убило, и вскрытие ничего не даст, они установят смерть от пули, дураки безмозглые.
— Я знаю, кто их послал. Я был слишком надежно защищен, они не могли меня достать. Чтобы добраться до меня, им понадобились Джордан и Вьолен.
— Ах да, чуть не забыл, им нужна вдобавок еще одна штука, они называют это «The book». Но вы можете не говорить мне, что это такое, я уж как-нибудь переживу.
— Это мои мемуары.
— Мемуары?.. Ага, мемуары… — Я с минуту помолчал, давая уложиться этому словцу у себя в голове.
— Они и их получат… Я был к этому готов. Меня предупредили, еще там.
— Ну, мне плевать, поступайте, как хотите. Мое дело передать.
Я чувствовал, что сейчас он опять расхнычется; я был готов избить его, лишь бы он перестал думать о своих проблемах, о своей жизни, о своих детях, о своем смертном приговоре, лишь бы уразумел наконец главное: что этот старый дурень Этьен лишился своей музыки. И что мне понадобится еще куча бабок, чтобы оплатить билет Жан-Марку. Я ждал, когда он перестанет всхлипывать и задышит нормально.
Хотя и делал вид, что его мемуары мне до лампочки, но все же не смог удержаться и спросил, намеренно небрежно:
— Что же в них такого замечательного, в ваших мемуарах?
И только задав свой вопрос, я понял, чего ожидал.
Эффект был потрясающий: у него просветлело лицо, он с идиотски счастливым видом схватил и потряс мою руку.
— Вы быстро читаете? Я не посмел вам предложить…
— Успокойтесь. И лучше сами вкратце изложите мне содержание.
— Это невозможно. Они не укладываются в резюме, и отдельные фрагменты тоже никто не сможет отобрать, особенно я. Но мне совершенно необходимо, чтобы вы это прочитали. Очень нужно, вы понимаете?..
— Нет.
— Я писал их специально для моих детей. Даже не зная, существуют ли они, как выглядят и чем живут. Не подозревая даже, что их двое. Они должны, должны услышать от вас, что там написано. Неужели вы мне откажете?
— Ну так суньте им копию сегодня вечером, украдкой между двумя выстрелами.
— Антуан, вы должны прочесть это, ведь никто не знает, что может случиться… Вы не откажете, Антуан?
Нет. Я сказал «нет». Он улыбнулся мне, счастливый донельзя. И повез меня туда, где хранились его знаменитые мемуары. Я не протестовал.
Знал бы он, до чего мне безразлично все, что может случиться с ним самим и с его драгоценными отпрысками. Если я и согласился, то лишь из-за какого-то смутного предчувствия, что в этой рукописи заключено все. Все. И начало, и конец. Там, в этих мемуарах, были страдание и боль, Париж и Нью-Йорк, безумие и цинизм, пистолетные выстрелы и укусы, темница Бертрана и смерть Этьена. Все.
* * *
Но я обнаружил и нечто большее. Страница 6:
«.. и эти истекшие тридцать шесть лет не имеют никакого значения, если взглянуть на них с высоты сегодняшнего дня; я даже не очень уверен, что они сыграли какую-то роль в моем становлении, у них была лишь одна заслуга: они помогли мне найти дорогу к ней. И вряд ли у меня была альтернатива; боюсь даже думать о том, что мы могли встретиться иначе — она и я. С первого же дня — я знаю, я помню это! — мне захотелось, чтобы она рассказала о себе, но только не здесь — у меня в кабинете, а в любом другом месте — в кафе внизу, на ярмарочном гулянье, в сквере, где угодно, только не в этом кресле, еще не остывшем от предыдущего пациента. Мой кабинет на улице Реомюра вдруг предстал передомной в своем истинном обличье — старомодным, чопорным, безнадежно унылым, явсегда мечтал о таком. Но было слишком поздно что-либо менять; я принял ее здесь, и мне пришлось усадить ее в этой тишине. И в это кресло. Вот она — моя первая ошибка».
Ничего общего с бесстрастным слогом преуспевающего практика-врача. Напротив — одни эмоции, бурные, неудержимые. Ни единого слова, относящегося к его теории, одно лишь желание отринуть свою профессию, обвинить ее в случившемся. Человек говорит о себе предельно искренне, иногда сожалея о заблуждениях, но не о поисках истины. О своих исследованиях он рассказывает ниже, всего в нескольких словах.
«..Признаюсь, идея показалась мне забавной, скорее провокационной, нежели перспективной; я веселился как сумасшедший. Я абсолютно ничего или почти ничего не знал о вампиризме, но мне вполне хватило традиционных представлений о нем, отраженных в фильмах серии Б. Приятель-хирург, с которым мы делили ординаторскую (как же его звали — Мишель? или Матьё?), одолжил мне свою пишущую машинку и читал мои опусы, умирая со смеху. Кроме того, он изощрялся во всевозможных выдумках, создавая „подходящую атмосферу“: совал мне под подушку челюсти из анатомички, ставил в холодильник бутылки с плазмой, прибивал распятие на дверь, таскал из морга трупы с израненными шеями и укладывал в мою постель; я уж не говорю о том, что он являлся ко мне по ночам в виде призрака, вымазав себе физиономию белилами, а глаза и рот кроваво-красной помадой. В общем, обстановочка в ординаторской была веселее некуда; я еще долго вспоминал о ней с ностальгией».
Мемуары состояли из двух частей; первая занимала меньше ста страниц и завершалась его бегством в Соединенные Штаты. Она была почти целиком посвящена его встрече с мадемуазель Р. Каждая строчка буквально дышала ею, его любовью к ней. Страница за страницей — признания, сомнения. А потом вдруг предательство, внезапный разрыв. Ее жгучая ненависть к нему. Он описывает, как она сломлена и разбита, как становится узницей в родительском доме. Он страдает, но кольцо уже сжимается вокруг него. Он отвержен, опозорен. Бегство из страны. И последние строки:
«Если бы я мог начать все сначала?.. Меня неотступно мучит этот вопрос. Вот для чего нужны мемуары — чтобы задавать себе вопросы. Нет, я знаю, что ничего уже не исправишь, что все бесполезно: я загубил чужую жизнь, а быть может, и две, и остатка моей собственной жизни не хватит, чтобы искупить этот грех. Я знаю только одно: я любил эту женщину. Я ее действительно любил».
Странное оправдание — чересчур лаконичное, а главное, запоздалое. Угрызения совести задним числом — такие недорого стоят. Вряд ли эти строчки смягчат враждебность Джордана и убедят его в том, что он — дитя любви. Но я решил не останавливаться на этих сомнениях, оставив их автору. Мне хотелось скорее приступить ко второй части.
Чистый лист посвящен пересечению Атлантики. Тон мемуаров внезапно меняется, от них уже не веет веселой непосредственностью студенческих лет, ее сменила едкая ирония, пропитавшая каждое слово воспоминаний. Более того, в них напрочь отсутствует та искренняя нежность, которой отмечены редкие, но лучшие места первой части рукописи.
«Я рассчитывал обосноваться в Нью-Йорке и найти себе здесь укрытие; я выбрал этот город от недостатка воображения или, может быть, в силу приятных воспоминаний, которые сохранил о нем со времен конгресса по психоанализу в 1961 году. Чудесное житье в „Уолдорф Астории“, с бэйджем участника конгресса на отвороте пиджака… Там я перечитал страницы, на которых Фрейд повествовал о своем печальном путешествии в Большое Яблокоnote 41. Я наверняка мог восстановить прежние связи, которые очень бы мне пригодились, но, увы, я стал парией. Деньги мои быстро кончились, и я узнал нужду и тяжкий труд. Так я перебивался почти год, пока не получилgreencard, благодаря которой мог покончить с нелегальной работой подручного и мойщика посуды в дешевых забегаловках. Я уехал в Сан-Франциско, это была ссылка в ссылке. Меня привлекли рассказы о Калифорнии, о ее новой культуре, порождавшей множество идеологических течений, о бурной интеллектуальной жизни, об университетах. И я признаюсь, что сегодня, двадцать лет спустя, когда я пишу эти строки…
Признаюсь, что это была блестящая идея. А если бы я остался в Нью-Йорке… Как знать? Наверное, мне не пришлось бы так развлекаться. Во всяком случае, до 1981 года».
Он пишет о том, как открыл для себя те фантастические края — сначала пустыню, затем легендарную Калифорнию прошлых, прекрасных лет, Калифорнию с ее солнцем, серфингом, кампусами, университетами. В один из них его берут на должность преподавателя-ассистента. Он знакомится с Т. Л. — отцом ЛСД, и подробно, с несвойственным ему благодушием, описывает вечеринки и опыты, в которых участвует вместе с целой компанией других одержимых. Читая этот пассаж, я почувствовал, что именно здесь его пресловутые мемуары перетекают в новое русло. Исповедь забыта напрочь; ее сменили бравада, эффектные описания «горячего» периода, на грани анекдотов и вуайеризма. Которые дают понять читателю: и я там был. В 1966 году он получает американское гражданство благодаря фиктивному браку, о котором упоминает мельком, в двух строках. Это всего лишь эпизод, очередная ступень к успеху, но за ним следует встреча с Дж. Д. , которого он почтительно называет своим учителем и который предлагает ему работать на пару в кабинете психоанализа. Он не питает никаких иллюзий по поводу своего вновь обретенного призвания.
«У меня было такое чувство, словно я умею делать только это, и ничего больше. А ведь этим можно заниматься повсюду в мире, и особенно здесь, в Калифорнии. Я сбежал из Франции, ничегоне взяв с собой в дорогу, кроме одного — моей прежней профессии. Точно вор-карманник. Если бы я не обосновался здесь, в Беверли Хиллз, я занимался бы своим ремеслом в любом другом месте — в Неваде, в Канаде, еще где-нибудь. Ко мне вновь вернулись профессиональные навыки. К 1968 году я уже оброс целой кучей богатеньких клиентов из избранных кругов, как настоящий шарлатан, в которого я превратился, или же я и был таким всю свою жизнь. Мне так и не удалось ответить на этот вопрос.Money.Money. Доллары! Были ли деньги единственной моей целью, когда я смотрел, как эти изысканные дамы из Беверли Хиллз, умирающие от скуки, покидают мой кабинет и садятся в свои «понтиа-ки»? Вероятно, все это было уже не так важно, худшее уже свершилось, оно осталось далеко, на другом континенте, в Европе, во Франции, в тихом парижском предместье. А все остальное..»
Он снова и снова возвращается к своему проступку, к своему тяжкому проступку. К своему преступлению — так он называет его в мемуарах. Им, несомненно, движет желание до конца раскрыть душу, но оно заводит его так далеко, что уже непонятно, раскаивается он или оправдывается.
«В этой стране проблема сексуальных контактов между врачами и пациентами достигла апогея. Многие мои знаменитые предшественники, такие как Юнг или Ранк, столкнулись с ней задолго до меня. Я изучил статистику Американской психиатрической ассоциации; согласно ее данным, 7% психиатров-мужчин признались, что имели „связи“ со своимипациентками; среди психиатров-женщин в этом признались 3% от общего числа. Далее: 65% практикующих врачей сообщили, что им приходилось иметь дело как минимум с одним пациентам, который состоял в отношениях подобного рода со своим предыдущим психоаналитиком. Более ста из этих последних были привлечены к уголовной ответственности. Здесь, в Америке, моя любовная история считалась бы преступлением перед законом. Такие вещи караются тюремным заключением. Узнав это, я безумно испугался, как бы не открылось мое прошлое».
Далее он пускается в долгие, нудные рассуждения о своем неистовом карьеризме, он особо настаивает на этом пункте; чувствуется, что ему приятно обличать себя в корыстолюбии, всесторонне анализировать его. Словно он жил теперь одним цинизмом, наказывал себя, мстил своей профессии. Он детально повествует о том, как обустраивал свое новое существование и завязывал нужные знакомства; с шокирующей иронией рассказывает, как отбирал себе пациентов, выводя их под вполне прозрачными инициалами и не упуская случая назвать самых знаменитых полным именем, наградив при этом каким-нибудь убийственным эпитетом. Вскоре рассказ становится в высшей степени непристойным, и я наконец понимаю, что держу в руках толстенный скандальный бестселлер с описанием всего спектра светских мерзостей. Кабинет процветает, и вот уже на его диване лежит знаменитая актриса, которую он обозначил как Ф. Д. Она рассказывает о докторе своим друзьям, клиентура становится все более изысканной; он с гордостью пишет, что к нему заходят так же часто, как в свой гараж. Два года спустя он становится психоаналитиком чуть ли не всех обитателей Беверли Хиллз. Его часто зовут в гости самые знаменитые личности, еще бы — его искренность и обаяние, его прелестный французский акцепт (sic!), а главное, тот факт, что ему известно столько тайн, — все это делает его vip-персоной, которую стремятся залучить к себе в дом.
«Однажды вечером я получил карточку с приглашением ни много ни мало, как от знаменитогоX.X; он звал меня на вечеринку в своюWonderlandnote 42 с потрясающими красавицами, рок-звездами и всем, что ни есть модного на Западном побережье. Верный своему имиджу, он принял меня в пижаме, показал дом, представил своим гостям, после чего уединился со мной у себя в кабинете и задал странный вопрос: «Скажите, доктор, можно ли назвать нормальной мысль, которая меня преследует: что в каждой женщине дремлет кролик?»
Затем бегло, всего в нескольких малоинтересных анекдотах, описываются семидесятые годы; он расширяет поле своей деятельности, становится видным бизнесменом. И лишь в 1981 году на пепелище его судьбы вновь разгорается огонь. К нему обратился человек, который назвал себя «секретарем» и потребовал от него строжайшего соблюдения тайны. Он хотел, чтобы врач встретился с его «боссом». В течение всего этого разговора он так и не назвал своего хозяина по имени. Бомон заинтригован; после серии телефонных переговоров встреча наконец назначена, и за ним присылают личный самолет, чтобы отвезти его в Сиэтл. «Босс» оказывается богатейшим бизнесменом с неограниченными возможностями; он живет в «башне из слоновой кости», откуда и управляет своей промышленной империей. Бомон иронически подшучивает над этой историей.
«Интересно, почему именно я? Конечно, благодаря моей замечательной репутации. Меня встретили словами: „Для Лучшего нам нужен лучший“. „Босс“ ждал меня на своей вилле, а вернее сказать, в роскошном дворце, похожем на летнюю резиденцию китайского императора; нетрудно было вообразить, что здесь частенько собираются сильные мира сего. Тогда я еще не знал, что „босс“ И ЕСТЬ один из них. После традиционного обыска меня представили еще не старому человеку — довольно робкому и безликому, охраняемому невероятно тщательно: телохранители следовали за ним по пятам, куда бы он ни шел. Помнится, один из них непременно желал пройти вместе с нами в кабинет, чтобы присутствовать при нашем первом разговоре… »
Означенный «босс» переживает настоящую пытку: накаленная атмосфера, «дела» и вынужденное уединение повергли его в состояние жестокой депрессии, он нуждается во врачебной помощи. С первых же сеансов Бомона захватывает тайна этого мрачного властителя, этой «железной маски». Тайна, которая не замедлила раскрыться.
Врач ловко умалчивает обо всем, что может разоблачить его нового клиента. Намеренно скупые описания, туманные, часто незаконченные фразы. Поначалу он говорит о нем лишь как об одном из своих многочисленных пациентов, подавленном грузом тяжких обязанностей; читателю представляется некий высокопоставленный чиновник, измученный работой и переживающий стресс. Но очень скоро становится ясно, что этот клиент не чета другим, что под его железобетонным панцирем творится чудовищная драма.
Ибо промышленная деятельность — всего лишь фасад, за которым скрывается другая, куда более страшная деятельность. «Босс» — наследник. Наследник гигантской разветвленной империи, которая контролирует все виды организованной преступности в Калифорнии. Наркотики, проституцию, азартные игры и рэкет.
Я на минуту прервал чтение. Тон мемуаров снова изменился, это опять говорил всеми отвергнутый, покинутый человек. Я даже пожалел о прежнем веселом летописце голливудских скандалов и оргий. Теперь Бомон уже не иронизирует и не развлекается. Он знает, что это новое обязательство с его стороны навеки закроет ему путь назад, в прежнюю жизнь.
Наследник родился не на улице, ему не пришлось с детства карабкаться вверх по социальной лестнице и подкреплять свои намерения пистолетной пальбой. Старшие не готовили его к роли «первого номера» на подведомственной территории. И теперь все это хозяйство разом свалилось ему на голову. Бомон и «босс» — ровесники.
«Чувствовалось, что он разрывается между законом молчания и желанием облегчить душу, между своим сверхъестественным могуществом и хрупкой уязвимостью. Это была настоящая пытка, он задыхался в железных тисках и не мог скрыть свои муки от других трех или четырех „шишек“ организации. Мне он предоставил выбор: я был волен уйти, если захочу. Я испугался: мне слишком хорошо были известны их законы, но он дал мне слово чести, что меня никто и никогда не побеспокоит.
Я провел месяц в тяжких размышлениях, мучаясь этим неразрешимым парадоксом, колеблясь в выборе между человеком, молившим о помощи, и всемогущим гангстером. Были и другие дополнительные обстоятельства, которые делали мой выбор еще более сложным. Я поневоле был зачарован этой личностью и авантюрой, на которую мы шли оба, он и я. Меня соблазняла возможность стать единственным свидетелем деятельности этой фантастической инфраструктуры, оказаться в средоточии одного из самых отвратительных порождений человеческой натуры, выявить, если удастся, некоторые движущие мотивы… Месяц мучительных колебаний».
И он соглашается. В течение четырех лет он будет почти ежедневно навещать «босса», и эти встречи отодвинут на второй план всю его прежнюю деятельность. Между этими двумя возникает тесная связь — разумеется, для обоих это прежде всего тяжкая работа, но, одновременно, она захватывает их, они уходят в нее с головой, пациент решил идти до конца, он выкладывает все свои проблемы, начиная с раннего детства и до взрослого возраста, стремясь очиститься от перенесенных ужасов. И все это время Бомон фиксирует все, что слышит от своего больного; как истый профессионал, он хочет сохранить эти материалы, смутно надеясь в будущем сделать из них что-нибудь путное.
Но вот внезапно, в 1985 году, наступает конец. Шок. Вернувшись с конгресса в Вашингтоне, Бомон находит свою квартиру разгромленной. В панике он пытается связаться с «боссом», но ему не дают с ним поговорить. Бомон укрывается в каком-то отеле Лос-Анджелеса и три дня спустя узнает из газет о смерти своего знатного пациента. Бомон понимает, что в организации произошел переворот. И еще понимает, что смерть «босса» повлечет за собой его собственную гибель.
«Одна ночь. Десять лет загублены в одну-единственную ночь. А я уже почти привык ко всему этому… Мой кабинет в Лос-Анджелесе тоже разгромили и обыскали, найдя там все мои сверхконфиденциальные записи, касавшиеся не только бывшего „босса“, но и его присных, тех, кто способствовал его падению. Я собрал все свои деньги, сколько смог, и уже через двадцать четыре часа был в Мехико. Снова нужно было начинать с нуля. Никто, и звать никак. А ведь мне уже стукнуло пятьдесят. Но, главное, я был живо».
Он летит в Азию и в течение многих месяцев скрывается в одном из отелей Куала-Лумпура, выдавая себя за писателя и практически не покидая гостиничного номера. Страх гонит его из города в город, он нигде не засиживается подолгу, путешествуя по юго-востоку Азии. Он описывает свое вынужденное безделье, в конце концов привыкает к нему и становится эдаким разочарованным созерцателем, которого пугает лишь одно: перспектива оказаться когда-нибудь на Западе. Он знает, что осужден на скитания до самой смерти: организация не оставит его в покое. Три года он живет в бунгало на острове Самуи, на пляжах юга Таиланда. Его единственный собеседник — атташе французского посольства, который проводит здесь свои отпуска. Эта зародившаяся дружба описана в мемуарах довольно подробно: она выглядит вполне искренней, но Бомон не скрывает, что намерен извлечь из нее и пользу — он все еще надеется когда-нибудь вернуться во Францию. Без конца откладывая это решение. Вплоть до 1988 года, когда решает написать свои мемуары.
«Вначале я пытался просто вспоминать. Напрячь память, описать забытые лица, встретиться с призраками, что мучили меня всю жизнь и мучают до сих пор. Но чем дальше, тем яснее я понимал, что пишу эти страницы для тех, кого оставил на родине, чтобы сказать им наконец правду. И если они будут по-прежнему ненавидеть меня, пусть по крайней мере знают, за что».
* * *
— Который час? — Скоро шесть.
Почти весь день он провел на тенистой террасе кафе на Елисейских полях, дожидаясь, когда я, завалившись на заднее сиденье его машины, дочитаю рукопись. Дважды официант подносил мне прохладительные напитки; отвлекаясь от чтения, я видел, как Бомон клеит пластыри на израненное лицо и, одновременно, исподтишка следит за мной, словно опасаясь моей бурной реакции. Но я не доставил ему такого удовольствия. Спустя какое-то время он взял у меня назад часть денег, чтобы заплатить официанту.
Я подыскивал слова — это было нелегко после всех тех, которые я только что проглотил. Но то, что я мог сказать, все равно не выразило бы моих чувств. Он отъехал, обогнул Триумфальную арку. Я по-прежнему сидел сзади. Он молча ждал, когда я открою рот.
— У нее есть заглавие, у этой штуки?
— Пока нет. Вообще-то мне хотелось бы назвать ее «Зеркало без амальгамы».
— Лучше уж «Зеркало для бойни». Там не хватает последней главы — вашего возвращения.
Нет, он предпочел бы обойтись без нее.
— Я решился наконец вернуться во Францию, чтобы увидеть тех, кого оставил здесь. Это было неодолимо. И еще одно — я не расставался с мыслью опубликовать свои мемуары.
— Опубликовать это? Вы шутите?
— А что мне терять? Эта рукопись — мой голос, голос, который мой сын, быть может, услышит когда-нибудь, ибо я писал для него. И в то же время мне безумно хотелось отомстить тем подонкам, которые обрекли меня на паранойю до конца дней. Я думал, что книга послужит мне гарантией безопасности.
— Поклянитесь, что вы при этом не думали о деньгах.
— Ну отчего же, я и об этом думал. Такое могло потянуть на миллионы долларов. Но эти деньги предназначались тем, кого я оставил во Франции. Это было последнее, что я мог бы им завещать. Однако о публикации не могло быть и речи: ни один издатель не отважился бы на это.
И он безнадежно пожал плечами.
— Короче говоря, я вернулся во Францию благодаря моему таиландскому приятелю, который занялся абсолютно всем: предоставил мне здесь свой собственный дом, даже предложил помочь отыскать моих близких, но тут я отказался. Это было мое и только мое дело. Приехав, я тотчас же отправился к Реньо; там-то я и узнал, что у меня двое детей, и мне стало за них страшно.
— Страшно?
— За шесть лет американцы вполне могли разузнать обо мне все, вплоть до жизни во Франции. И если бы они, на мое несчастье, разыскали Джордана раньше, чем я…
Пауза.
— Продолжение вам известно — как видите, я боялся не зря.
— Вы наняли частных сыщиков и, увидев, что это не помогло, надумали устраивать приемы — только для того, чтобы заманить туда Джордана и Вьолен. Это была ваша последняя надежда, не так ли?
— Да, и мой расчет оказался верен, не так ли, Антуан? Если бы не та вечеринка, я никогда не встретил бы вас…
Меня обуял дикий смех, когда я представил себе все случившееся: хитросплетенная паутина и безобидный мотылек-халявщик, который в нее угодил, переполох среди гангстеров, тайны воровского мира, гонки преследования по всему земному шару в течение десятилетий, куча мертвецов. А в конце всей этой сумасшедшей цепи событий — легкомысленный халявщик, любитель дармового шампанского.
— Я дорого заплатил за ту вашу вечеринку. Слишком уж она оказалась трудоемкой для такого бездельника, как я. Если бы Бертран не настоял, я бы давно послал все к чертям. Этот идиот Бертран…
— Я знаю.
За один этот день я наверстал упущенные годы. Еще сегодня, в семь утра, я был молод.
* * *
Когда американцы давали мне инструкции, я был не в том состоянии, чтобы обсуждать их. Они выбрали для встречи уголок бульвара между площадями Бастилии и Республики, в десять вечера. Их машина уже на месте, наша подъезжает. Бомон нервничает, обливается потом; я предвидел это и потому сам сел за руль. По пути сюда я пытался отвлечь его, разговорить, успокоить, а заодно успокоиться сам и хотя бы приглушить мерзкое чувство отвращения, которое не отпускает меня с самого утра.
— Сегодня я видел, как умирал человек.
Он меня не слышит. Выкатив глаза, он ищет взглядом своих детей на заднем сиденье встречных машин. Сейчас он увидит их — в первый раз. Эта мысль сводит его с ума. Я пытаюсь представить себе слова, которые он скажет, всего несколько коротких фраз, не больше, — ведь те не дадут ему произносить речи. «Плоть от плоти моей, сын мой, дочь моя, я не тот, каким вы меня представляли, я гораздо хуже, но я люблю вас, люблю до безумия, хотя жизнь сделала из вас полумертвецов, а из меня последнюю сволочь».
— Эй, Бомон, очнитесь! Видите вон того парня с волнистой шевелюрой и физиономией грустного клоуна? А рядом девицу с распухшим от слез лицом — даже заподозрить трудно, какая она красивая. Вот они, ваши детишки.
Но он ничего не слышит, только бестолково машет руками; его лицо перекосил нервный тик, рот оскален в бессмысленной усмешке. Наверное, и я выглядел не лучше в то знаменательное утро, когда валялся в ногах у Бертрана, умоляя отпустить меня на волю.
Стюарт знаком велит мне парковаться на другой стороне улицы.
— Ну, теперь ваша очередь, Бомон. Они не выпустят ваших детей из машины, уговор такой: вы подсядете к ним, на заднее сиденье, и только тогда им разрешат выйти. И кончено дело. Сымпровизируйте что-нибудь, попробуйте обнять их, сказать пару слов — ведь это ваша первая и последняя встреча.
Он дрожит. Он не видит и не слышит меня, он словно во сне и рвется наружу; я удерживаю его за рукав. Он решил сдаться, сдаться безоговорочно, раз и навсегда. В надежде обнять тех, кого наконец встретил.
И лишь в тот миг, когда он вышел из машины, я вдруг вспомнил, что мы упустили одну мелочь, сущий пустяк.
— Бомон, вы забыли свое обещание! Вы не уйдете, пока не скажете мне, где Бертран. Точный адрес… Он смотрит на меня как безумный, как пьяный, он вырывает руку, но я не отпускаю его, он готов убить меня, ведь я задерживаю его встречу с прошлым, которое ждет его там, в машине, и с будущим, которое ему уготовили и которое продлится не более минуты. Или всего несколько секунд. А я для него уже нуль, ничто, надоедливый паразит.
Но я его так просто не отпущу, я вцепился ему в рукав, тоже вне себя от бешенства.
— Скажи мне, где ты его спрятал, дерьмо собачье! У нас же был уговор! Из-за этого погиб Этьен, сволочь ты последняя…
Он рванулся так, что я вскрикнул, выдернул руку и бросился через улицу, прямо между машинами, которые заглушили гудками мои крики. Господи боже!..
Я выскочил следом за ним: нет, так не пойдет, я слишком дорого заплатил, я выбью из него этот адрес, мерзавец, какой мерзавец!.. Автомобильный поток преграждает мне путь, да вы что, спятили все, дайте пройти, я ничего больше не боюсь, и уж тем более вас, я заплатил сполна, я постарел, а вы хотите раздавить меня как никчемного паразита, я больше не паразит!.. Гляжу поверх несущихся машин: Бомон о чем-то говорит с теми, внутри, но никто не выходит, тогда он наклоняется и протягивает в окошко свою рукопись, я различаю морду Стюарта, но мне плевать, меня тошнит от этого спектакля, кровь бросается в голову, в глазах красный туман, я выкрикиваю имя Бертрана, передо мной тормозит машина, шофер осыпает меня проклятиями. Я перебегаю улицу. Стюарт уже включил мотор, старик сидит сзади, я вцепляюсь в ручку запертой дверцы; сейчас вся эта подлая банда уйдет у меня из-под носа, а я останусь тут, ну нет, не выйдет, я преграждаю им путь и, истошно вопя, колочу по бамперу. Рикки высовывается из машины.
— Get out you fucker! I'm gonna kill younote 43!
— Адрес! Ради бога, адрес!
Я выкрикиваю эти слова, готовый вдребезги разнести их машину, на бульваре никого — один только я со своей яростью. Стюарт медленно трогается; еще миг, и я окажусь под колесами, раздается рев мотора, я бросаюсь на капот, приникнув лицом и руками к лобовому стеклу, и вижу то, что делается внутри; на меня обращены изумленные, вытаращенные глаза всех, кроме Бомона, который пожирает взглядом своих детей.
— Адрес, говори адрес, гад! Где он?
Я поперхнулся, увидев, что Рикки достает пистолет. Вьолен забилась в истерике, и Стюарт успокоил ее ударом кулака. Я застыл на миг, не в силах оторвать руки от капота.
Рикки помедлил, не решаясь стрелять сквозь лобовое стекло, опустил боковое стекло и прицелился в меня.
— As you like, Tonynote 44…
Я собрался было скатиться вниз, но тут я увидел… Руку Джордана.
Рука схватила Рикки за волосы и резко рванула назад. Стюарт выхватил пистолет, но было поздно: в то же мгновение Джордан ощерился, как дикий зверь, и вонзил зубы в горло Рикки, тот выронил оружие на тротуар.
Я дико вскрикнул, упершись лбом в стекло и с ужасом глядя внутрь.
Вьолен, сидевшая позади Стюарта, не дала ему времени прицелиться в Джордана; она вцепилась ему ногтями в глаза, и Стюарт вслепую разрядил пистолет назад. Из горла Вьолен брызнул фонтан крови, Джордан поднял голову; в его окровавленных зубах торчали клочья мяса.
Бомон с воплем ужаса обхватил ладонями лицо дочери. Джордан не успел поймать угасший взгляд сестры: Стюарт начал колотить его по голове рукояткой пистолета, все сильнее и сильнее, пока не разбил череп. Волосы Джордана обагрились кровью, он рухнул лицом вниз между передними сиденьями.
Голова Рикки медленно упала на приборную доску.
Стюарт выскочил из машины и, обогнув ее, подобрал упавший пистолет Рикки. Бомон стонал, обнимая своих мертвых детей, и не слышал, как открылась дверца. Стюарт трижды выстрелил в упор; тело Бомона дернулось и застыло; он остался сидеть с широко открытыми глазами. Стюарт приставил оружие к виску старика и следующим выстрелом разнес ему голову. Потом еще раз спустил курок.
Наступила пауза.
Теперь в живых остался только я.
По-прежнему припавший к лобовому стеклу.
Соскальзывая на землю, я успел заметить направленное на меня дуло пистолета; пуля обожгла мне левое бедро. Стюарт выкрикнул мое имя. Пока я отползал от машины, он успел выстрелить в меня еще несколько раз, но вхолостую — видно, кончились патроны. Грязно ругаясь, он швырнул оружие в машину и завел мотор; я из последних сил скатился в водосток, а оттуда заполз под скамью, где и свернулся комочком. Стюарт выбросил наружу три бездыханных тела, хлопнул дверцей и направил машину в мою сторону.
Моя простреленная, недвижная нога была уже почти под колесом. Взвыв от боли, я схватил ее обеими руками и кое-как втащил под скамью, по которой в тот же миг проскрежетало крыло автомобиля.
Туман застил мне глаза, но я смутно различил за стеклом поднятую, прощально махнувшую мне руку.
И воцарилась тишина. Я до хруста сжал зубы, стараясь не потерять сознание. И пополз.
Вокруг меня маячили какие-то фигуры.
А я все полз в ту сторону, где лежали три трупа, полз, забыв о боли, забыв обо всем на свете, кроме Бомона, там, в нескольких метрах от меня.
Полз, цепляясь за булыжники мостовой, одержимый все той же навязчивой мыслью, все тем же вопросом.
Вокруг тормозили машины, люди стояли, не осмеливаясь дотронуться до меня, я едва видел их сквозь туман. Но мне на все было плевать. Я засмеялся сумасшедшим смехом, когда очутился нос к носу с Бомоном и мои пальцы скользнули по его сплошь залитому кровью телу. Но это меня не обескуражило, в тот миг я истово верил, что человек, получивший пять пуль, способен выжить.
Я с трудом сел и, схватив его за отвороты пиджака, начал трясти.
7
— Эй, Бомон…
Его рука мягко свалилась вниз, и мне почудилось, что он еще дышит. Это при том, что его лицо превратилось в кровавую кашу. А череп был разнесен вдребезги.
— Эй, Бомон… Ты дашь мне этот адрес, псих ненормальный? Ты расколешься или нет? Говори, куда ты девал моего дружка?
Я даже повысил голос, убежденный, что это приведет его в чувство.
— Ну скажи хоть слово, мерзавец! Хоть одно… Я поднял глаза на окружавших меня людей.
Вдали завыла полицейская сирена.
— Ты дашь мне адрес, твою мать?!
По эту сторону прохода не хватает двух кресел. Девушка в сари поднесла нам леденцы; я счел это знаком гостеприимства, но оказалось, что они просто помогают от воздушной болезни. В иллюминаторе видно море. А может, океан, кто его знает.
Самолет набит до отказа. Слева мне достался сосед, который ворчит по любому поводу и без повода; он регулярно летает этим рейсом и теперь с удовольствием обрушивает свой опыт на такого неофита, как я: часовые пояса, метеосводки, географические пункты, над которыми мы пролетаем, воспоминания о промежуточных посадках, все это сыплется на меня градом; в довершение он любезно сообщает — видимо, желая нагнать на меня страху, — что мы пошли на серьезный риск, сев в эту развалюху «Bengladesh Airline».
Должен признать, я немало удивился, когда служащая турагентства назвала мне данную компанию. Я, честно говоря, думал, что такой страны уже не существует. Нельзя сказать, чтобы мне очень уж хотелось приключений. Будь я хоть малость богаче, выбрал бы что-нибудь поприличнее.
Но, увы, я вновь обеднел с того самого вечера, когда погиб старик Бомон. За пять ночей, что предшествовали этому событию, я не успел свыкнуться со своим финансовым благополучием и быстро вернулся к привычкам голодранца, выбору в духе Корнеляnote 45 и рассуждениям типа «мескаль-или-сэндвич». А потом, когда мне отказали в пособии по безработице, прости-прощай, корнелиевский выбор, прощай, мескаль, и здравствуйте, сэндвичи! И так вот уже почти год. Эта беда свалилась на меня как снег на голову. Мне даже пришлось поработать. Целых два месяца. Аниматором в телефонной службе «Минитель роз». Чтобы оплатить этот билет в оба конца.
Похоже, я угодил в самый сезон муссонов. Париж сегодня утром был серым и пасмурным — вы представляете, это двенадцатого-то июля!
— Что случилось?
— Прибываем в Афины.
— Это надолго?
— На какие-нибудь полчаса, все зависит от наличия свободных посадочных полос. Одну мы уже упустили.
На мне джинсы и кроссовки Этьена. Самый подходящий костюм для путешествий, так я подумал. Турист среднего класса, среднего достатка, готовый открыть для себя новый континент, пройти его от края до края. Как будто мне хотелось снашивать подметки где-нибудь, кроме правого берега Сены! Мне уже сейчас не хватало Парижа. При взлете я попытался определить, где мы находимся, и ни черта не понял. Я даже не был уверен, Париж ли это.
Против всяких ожиданий, Этьен сдержал свое обещание: он ответил postmortem на все мои вопросы. Целых два года, в течение наших с ним ночных похождений, я мучился, перебирая мотивы, которые могли заставить пятидесятилетнего мужика впасть в отрочество. Но, порывшись в его чемодане с памятными вещами, спрятанном в убогой квартирке, я понял причину: Этьен никогда не был респектабельным господином, каким я его воображал. Чемодан вмещал всю его жизнь, воплощенную в разрозненных документах, беспорядочно сваленных в кучу с полным пренебрежением к хронологии.
Фотография, сделанная в «Гольф-Друо»: взбитый, напомаженный кок — первая «взрослая» прическа, сделанная в шестнадцать лет. Другой снимок — в нелепом облегающем костюмчике, на мотоцикле, с кудлатой девицей за спиной. Старая папка с уголовным делом, по которому ему впаяли два года условно. В платяном шкафу — полная коллекция «клевых» молодежных тряпок, все, на что западали модники былых времен, — косуха «Perfecto», бутсы на платформе, брюки-клеш, даже майки с молнией, какие носили панки. Письмо старшего брата, с упреками в том, что после одного сорвавшегося «дельца» его слишком часто видят в компании легавых. На следующей фотографии у него длинные волосы, борода и индийский шарф на шее. Толстая конторская книга, где в безупречном порядке записаны все денежные расчеты за последние двадцать лет. Каждый месяц — страница, на которой значатся имена всех полицейских инспекторов, с которыми он контактировал, места и часы встреч с ними, полученные от них суммы. Последнее письмо старшего брата, от 1977 года: он больше не желает общаться с Этьеном, раз тот «ссучился». Снимок, на котором мы фигурируем втроем — он, я и Бертран — на ужине во время какого-то празднества в Булонском лесу.
Этьен навсегда застрял в шестнадцатилетнем возрасте. Он никогда не был ни рантье, ни путешественником, ни авантюристом, ни сыщиком, ни убийцей, ни гангстером. Простой осведомитель. Осведомитель-профессионал. Единственной его работой было сидение в барах и клубах, с тем чтобы информировать легавых обо всем там происходящем, в частности о наркотиках. Он осваивал это ремесло долгие годы, вероятно, поневоле. Для этого достаточно было нескольких срывов в молодости, неистового желания принять участие в празднике жизни, смеси гордыни и редкостной лени. С тех пор он существовал на скромные полицейские подачки благодаря своему знанию ночи и психов-полуночников всех видов.
Этьен подхватил болезнь гораздо раньше всех нас.
— А эта курица с шафраном вполне ничего.
— Никакая это не курица. И никакой не шафран.
Я отдаю соседу свой фруктовый салат и закуриваю «Lucky Strike», купленные в duty-free. Убогий вид салона развлекает меня. Я подумал, что странная оранжево-розовая обивка вокруг иллюминаторов похожа на бумажные обои, и машинально ковырнул ее ногтем. Это и оказались бумажные обои.
Теперь я понимал, откуда у Этьена блокнот с сотнями адресов, талант давать взятки и лихорадочный интерес к поискам вампира в Париже. Это напомнило мне отрывок из мемуаров Бомона, где он описывает свое желание вновь окунуться в бизнес спустя долгие годы, несмотря на гору трупов, оставшихся на этом пути, несмотря на тот факт, что все давно изменилось. И я подумал: интересно, как я поведу себя, если через двадцать лет случайно окажусь у дверей, за которыми проходит какая-нибудь презентация или прием? Удастся ли мне подавить в себе застарелый рефлекс халявщика или я не смогу ему противиться?
Я, всегда так нетерпеливо ожидавший прихода ночи, впервые не угадал ее наступления. Наш дряхлый самолет вдруг врезался в темноту, и мне даже понравилось это странное ощущение физического проникновения в ночь, между двумя снами, подкрепленное уверенностью, что через минуту снова выглянет солнце.
— Это промежуточная посадка в Дубае, но посмотреть вы ничего не успеете.
— Мы выйдем?
— Ненадолго. Оставьте здесь вашу куртку, хватит и майки.
Не успел я спуститься по трапу, как на меня навалилась адская, совершенно неописуемая жара; сперва я решил, что ее гонит в нашу сторону работающий двигатель. Следом за другими пассажирами я кинулся к автобусу с кондиционером, по стеклам которого стекали капли конденсата. Пекло и холод, каких я больше никогда не встречу. В транзитном зале температура была более сносной; я уселся рядом с витриной местных промыслов, пытаясь представить себе несчастных туземцев, обреченных всю жизнь переносить такой климат. Мне пришли на память совсем еще недавние образы: поздние прохладные вечера, когда мы укрывались в клубе и инстинктивно тянули руки к танцполу, чтобы согреть их, а миг спустя рюмка ледяной водки, которой освежают взмокший лоб, пальто — вечно подмышкой, чтобы не платить в гардеробе, потом закрытие, улица, дождь, метро, битком набитое с самого утра, и последняя сигарета перед сауной на площади Италии или же три подушки с диван-кровати, на которые укладывает нас гостеприимный приятель, прося только не злоупотреблять радиатором. До чего же странно вспоминать все это, когда задыхаешься от жары посреди пустыни.
Через два часа я возвращаюсь на свое место и пристегиваю ремень.
— Где будет следующая посадка?
— В Дакке. Там уже рассветет.
— Ну, значит, хоть полюбуемся пейзажем.
— И не надейтесь! Я много раз пытался, но так его и не нашел.
Расследования не было. По крайней мере официального. Не было ни убитых, ни дела, ни процесса, никаких отголосков. Абсолютно ничего. Всего лишь несколько тысяч вопросов, на которые я охотно отвечал. Сперва их задавали легавые, они назавтра же явились ко мне в больницу. По-моему, они так ничего и не уразумели в моих показаниях. Когда через пару недель я вышел на волю, меня взяли в оборот другие люди, куда более серьезные, совсем иной закваски, чем скромные участковые инспектора. Эти были из Интерпола и устроили мне что-то вроде допроса нон-стоп, который длился многие дни. Я уж было испугался, что меня снова ждет ужас заключения и все такое. Они проверяли меня на детекторе лжи, требовали говорить начистоту, а мне и не хотелось ничего скрывать — ну, почти ничего, — и я подробнейшим образом разыграл перед ними эти пять дней, временами впадая в пафос, как скверные актеры; я не забыл ни одной, даже самой незначительной детали, описав им и бордовые кроссовки, и дольку чеснока от Диора, и именинный торт Фреда, так что под конец они вежливо попросили меня избавить их от рассказов о качестве птифуров и точном количестве осушенных мною рюмок мескаля. Затем они сравнили мои показания с тем, что сказал Жан-Марк, в ожидании того, что скажет Джордан.
Ибо живой мертвец выжил. Понадобилось много дней, чтобы вывести его из комы, и еще больше месяцев, чтобы он соблаговолил раскрыть рот и заговорить. Мне не разрешили навестить его. Да у меня и самого не хватило бы на это храбрости. Может быть, через много лет, если наши пути вновь сойдутся, я перескажу ему, как смогу, мемуары его отца.
Но гвоздем программы на всех этих допросах был мой рассказ о самом себе, когда я излагал, кто я, чем и как существую. Мне пришлось объяснять свой паразитический образ жизни, свои средства к существованию. Они тщетно старались определить мой статус, приписать меня к какой-либо известной им категории, и я охрип, доказывая им, что я не бандит, не сутенер, не дилер, не бродяга, а просто жалкий халявщик, живущий одним днем, да и то ночью. Слушая меня, эти парни только недоуменно переглядывались.
Тогда я сказал им, что в провинции не продержался бы таким образом и двух суток; это был единственный раз, когда мне удалось вызвать у них ухмылку. Дальше они спросили, читал ли я мемуары старика, и вот тут-то я им соврал первый и единственный раз. Я боялся не зря, я был уверен, что, скажи я правду, они меня живым не выпустят. Я так и не узнал, арестовали ли они Стюарта и как договорились с американскими властями. Но, наблюдая за их вялыми розысками, я убедился, что никто из них не хочет копаться в этой куче дерьма двадцатилетней давности. Скоро я почувствовал, что они сами не знают, как со мной обойтись. И когда мне посоветовали «скрыться с глаз долой», я не стал спорить. Печальный конец Бомона, как следствие его разоблачений, убеждал куда красноречивее, нежели их туманные намеки на пользу молчания. Намек понят. Дело закрыто.
Передо мной ставят зеленоватую формочку с шариками липкого риса, издающими вполне приятный аромат.
— Опять еда, в такое время суток?!
— Здесь кормят каждые четыре часа; это единственное, что они придумали, лишь бы мы не расхаживали по салону.
Жара усыпила меня. Я открывал глаза только в те минуты, когда мой попутчик выбирался в туалет, что он, к сожалению, проделывал регулярно.
Сестра приютила меня на несколько недель, пока не зажила нога и я не начал нормально ходить. Я сидел с ее малышами и устраивал пикники в лесу. О сигаретах я забыл напрочь и не выпил за это время ни капли спиртного. Подлечившись, я занялся тем, что и планировал на остаток лета: мне выдали ключи от семи квартир, которые я, как обычно, охранял до самого сентября. Два месяца спокойного домашнего житья, в обществе ленивых кошек, перед телевизором. Я прочел кучу книг, и мне ни разу не захотелось высунуть нос на улицу после восьми вечера. Я счел, что болеть отступила и что теперь самое время поразмыслить о будущем, пока не наступил учебный год.
Но сперва мне предстояло уладить одно дельце.
* * *
Аэропорт Дакки напомнил мне старый сквот за Монпарнасским вокзалом. Перед зданием торчат два-три ветхих самолетика, куда грузчики в шортах запихивают какие-то грузы, а дальше, до самого горизонта, сухая, выжженная земля, поросшая кустарником. И солнце, которое явно не намерено вас щадить. Совсем наоборот. Я провел восемь часов под вентилятором, сидя на деревянной скамье среди дремлющих пассажиров. Вернувшись в самолет, я увидел, как одна из стюардесс упала в обморок как раз перед взлетом. Поскольку она не спешила прийти в чувство, нам принесла еду ее коллега.
Жан-Марк сейчас в Нью-Йорке, и ему хватит там башлей по крайней мере на полгода: он получил сказочный гонорар за рекламный ролик, где сыграл японского туриста. Сообщил, что на обратном пути заедет во Вьетнам, дабы познакомиться с отцовской ветвью семьи. И он никогда больше не вспоминал о том, как Стюарт и Рикки приставили ему пистолет к виску, вынудив к признаниям. Единственное, что я смог выжать из моего друга-сумиста, была лаконичная фраза, успокоившая меня насчет его репутации: «А все-таки я ни разу не дал им в морду».
Несколько часов дремы и миниатюрных пейзажей внизу, вот и Рангун. С высоты трапа Бирма выглядела вполне живописно: цветастые джунгли, гигантские деревья, пышная влажная растительность.
— Вы не сможете покинуть самолет.
— Жаль!
— Я-то сам мог бы выйти в город, у меня семидневная виза, но сейчас просто времени нет. Если хотите, могу вам порассказать, что и как
— Нет, спасибо.
Во время допросов я непрерывно говорил им о своем друге, неком Бертране Лорансе. Который исчез — исчез буквально, физически. Никто, кроме Бомона, не знал, где он. Или же никто не пожелал мне сообщить о его местонахождении; мне казалось, что всем на это плевать.
А ведь у этого поганца были родные. Время от времени он намекал на свои вандейские корни. Мне не очень-то улыбалось снова играть в сыщика и листать толстые телефонные справочники, обнаруживая там кучи всяческих Лорансов. Тем не менее я занялся розысками, с риском все-таки наткнуться на нужных мне Лорансов и, может быть, услышать в ответ, что его тело нашли в какой-то мрачной дыре. И что он умер от голода. И что это моя вина. Я поискал-поискал и бросил это дело.
Люди в салоне вдруг зашевелились.
— Что случилось?
— Подлетаем.
— Ну вот, видите, а вы волновались.
— Погодите, мы еще не сели.
Пять часов дня. Похоже, скоро начнет темнеть. В зале аэропорта я вижу множество лиц, прилипших к окнам в ожидании выхода пассажиров. Вереница такси. После обычных таможенных процедур мне шлепнули в паспорт месячную визу. Целый месяц…
Снаружи уже почти темно. Мне жарко. Я сажусь в такси и велю доставить себя в столицу, невзирая на совет Блеза: «Лучше поезжайте автобусом, эти парни могут завезти вас бог знает куда».
Странный тип этот Блез. Халявщик, как и я, но жадный до невозможности, ни разу не поделился адресочком. У него были свои каналы, у нас свои, и мы всегда действовали врозь. Помню, однажды вечером, на каком-то коктейле, мы стали расспрашивать друг друга, нет ли чего подходящего на ближайшие часы. Я ответил «нет», и это было вранье. Он тоже ответил «нет», и я знал, что он тоже врет. Через десять минут мы встретились в толпе желающих пройти на праздник рекламистов около Лувра. Я всегда считал, что он меня терпеть не может.
Однако где-то в феврале он начал усиленно разыскивать меня. Говорил, что я ему очень нужен. Мне это показалось странным. Он обзвонил всех и вся и спустя два часа нашел меня. Я сидел в «Тысяче и одной ночи».
— Я вам кое-что скажу, но вы мне наверняка не поверите.
— А вы попробуйте.
— Я только что провел неделю в Бангкоке. В последний вечер я получил приглашение на прием в «Альянс Франсэз». Когда я входил туда, то увидел вашего дружка, он выезжал за ворота в служебной машине.
— Что?!
— Это был он, я же помню его самодовольную физиономию — породистый нос, томный вид.
— Да, это похоже на него, но… Нет, невозможно!
— Не думаю, что я ошибся. Разве что у него есть идеальный двойник в Таиланде. Вот и все, что я хотел вам сказать.
— Ploenjit jitlom?
Шофер явно ни черта не понял. А ведь я затвердил эту фразу еще в самолете. Пытаюсь повторять ее с разными интонациями. Тщетно. Наконец, потеряв терпение, делаю то, что следовало сделать с самого начала, — сую ему под нос адрес гостиницы, написанный по-таиландски изящным почерком Блеза. У него свои привычки: он проводит зиму в Бангкоке, едва разживется «капустой». Или для того, чтобы разжиться ею там, на месте. Он у нас перелетный халявщик.
До центра города двадцать километров. Я спокоен, я даже любуюсь видами предместья, которые еще можно разглядеть в этой темноте. Группы беседующих мужчин в летних рубашках, освещенные фонарями пустые площадки, трехэтажные дома, уличные торговцы супом, гигантская киноафиша, узкие, заросшие густой травой арыки, отведенные от каналов. Я ожидал чего-то другого. Но делать нечего, вот она — местная экзотика.
Даю шоферу богатые чаевые. В двойном размере. Как-то нет ощущения, что это настоящие деньги. Машины идут сплошным потоком, непрерывно обгоняя и подрезая друг дружку; здешнее движение похуже парижского. Едва я выхожу из такси, как меня душит бензиновая вонь. И обволакивает влажная жара. Миную ресторанчик с выставленным меню на английском; внутри видны одни только европейцы. А вот и гостиница. У входа пара крепких охранников в зеленых мундирах, с мачете у пояса. Мне встречались в жизни более любезные ночные стражи, даже когда их будишь. Они немного говорят по-английски, пропускают меня, их сменяет девушка-портье, она предлагает мне номер, и я иду за ней. На третьем этаже слышатся звуки включенных телевизоров, все двери распахнуты, в коридоре стоит пивной автомат. Девушка показывает мне мою комнату, я лучше понимаю ее жесты, чем слова. Она перечисляет услуги для постояльцев: смена белья через день, парикмахер на пятом этаже, портной на втором и так далее. Каждый номер имеет две двери. Она советует оставлять на ночь открытой деревянную, но запирать железную решетчатую. Похоже, именно так все здесь и поступают. Девушка называет стоимость номера, я плачу.
Включаю потолочный вентилятор; уф, наконец-то можно отдышаться под струей прохладного воздуха! В путеводителе я прочел, что оставлять его на ночь включенным не рекомендуется: можно заполучить жестокую простуду, которую лечат только в больнице. Еще я прочел, что нельзя давить местных тараканов, даже если любишь спорт. В ванной на полу я увидел одного — громадного. И пожалел, что не обут в котурны.
Мое окно выходит на один из тех узеньких каналов, что заросли густыми зелеными травами. На улице люди молча едят суп. Вероятно, где-то здесь, вокруг отеля, простирается город, но сейчас он невидим. Завтра я на него взгляну.
Мне удалось чуточку освежиться под скупыми струйками душа, большего и не требовалось. Я подумал, не хлебнуть ли воды оттуда же, но решил, что не стоит. Затем я принарядился. Мой черный костюм. Мой красный вышитый галстук.
Девушка-портье любезно проводила меня до тротуара, кликнула моторикшу, который заменяет здесь такси, и дала ему указанный мной адрес. Еще она сообщила мне расценки и велела не давать вознице ни одного бата сверх положенного.
И только когда он высадил меня перед нужным зданием, мое сердце забилось как сумасшедшее. Посольство Франции. Весь фасад увешан флагами. Вспыхивают огни фейерверка.
План Блеза в принципе выглядел безупречным — 14 июля. Он советовал мне идти в посольство именно в этот вечер и ни в какой другой. На всякий случай я спросил, чем могу отблагодарить его. На всякий случай он тут же дал мне адрес, где можно купить фальшивый «Ролекс»: по его словам, он знал, кому перепродать эти часики в Париже. В этом я и не сомневался.
Меня не спрашивают, откуда я взялся, это и без того видно; парень на входе явно не физиономист, он всего лишь «выкликала» в шикарном фраке, с маленьким незаметным аппаратиком в руке, которым он щелкает, фиксируя количество гостей. Я не называю ему своего имени и прохожу по мостику, ведущему в средоточие празднества. Именно в этот момент, против всякого ожидания, я и почувствовал себя в Азии.
Ничего похожего на тусовки, к которым я привык, особенно на 14 июля, как его празднуют у нас, на площади Бастилии.
Такое впечатление, будто я заблудился во времени. Не вижу на лицах ни тени беспокойства, никакого жадного ожидания и лихорадочного стремления к веселью. Вместо этого учтивые, слегка утомленные улыбки, мягкие жесты, врожденная элегантность, словом, воплощение ностальгического свода правил для тех, кто ощущает себя в своем кругу, среди себе подобных, затерянных на этом заморском островке цивилизации, в тысяче миль от всяких национальных праздников. В толпе гостей неслышно скользят бои. Я стою поодаль, прислонившись к плетеному барьерчику у дорожки, идущей вдоль склона, чуть выше бассейна, вокруг которого столпилось большинство приглашенных. Отсюда я не виден, зато мне хорошо видно все, что творится внизу. Люди танцуют под музыку, подобранную как нельзя лучше; никогда еще я не слышал мелодий и ритмов, так идеально объединяющих поколения и континенты. Ничего общего с безумными ритмами парижских танцполов. А вот шампанское как раз имеет вполне французский вкус. Я пытаюсь расслышать, о чем болтает группа весьма хорошеньких женщин. Чувствуется, что это главный, а может, и единственный в году раут для всех работающих здесь французов. За моей спиной хлопают на ветру великолепные желтые расписные портьеры, я осторожно заглядываю в комнату: шикарно одетая парочка, возбужденная до крайности, ведет бой на компьютере, который завывает и щелкает, как автоматы в кафе. Официант протягивает мне поднос с какими-то сине-бело-красными шариками. Я пробую. Сладковатые, с легким привкусом тмина.
Молодая женщина, стоящая невдалеке, улыбается, глядя, как я жую.
— Вы, видно, недавно приехали.
— Всего десять минут назад. Она вежливо смеется.
— Нет, я имела в виду — в Бангкок.
— Четыре часа назад.
Она снова смеется. Ее тело окутывает сари из великолепной голубой ткани; в противоположность остальным женщинам она не пожелала щеголять в платье от знаменитых кутюрье.
— Какая погода сейчас в Париже?
— А как вы догадались, что я именно оттуда?
— О, тут не может быть никаких сомнений, я так и вижу, как вы выходите из метро.
— На станции «Георг Пятый»?
— Скорее на «Пантен»note 46. Теперь моя очередь рассмеяться.
— Скажите, что это за гигантский купол вон там, слева?
— Это стадион Лумпхини. Советую вам посмотреть там матч тайского бокса, это потрясающее зрелище.
— А где же знаменитый золотой Будда?
— Он слишком далеко, отсюда не видно.
— А плавучий рынок?
— Вы что, начитались дорожных путеводителей? Мне ужасно хотелось спросить, не служит ли ее муж в посольстве, не работает ли она здесь сама и живет ли в Таиланде круглый год. Но я побоялся, что она ответит на все это утвердительно, и предпочел остаться в неведении. В догадках, так сказать.
И вдруг на меня словно дохнуло жаром, но климат и выпивка были тут ни при чем. Горячая волна обожгла мне внутренности и поднялась к лицу.
— Скажите, вон тот молодой человек с газетой подмышкой, он кто?
— Который? Тот, что поставил бокал рядом с деревом? Его зовут Лоране, он секретарь культурного атташе.
— Ах, вот как!
— Вполне симпатичный юноша, правда, чуточку жеманный; он приехал сюда меньше года назад, но, кажется, уже вполне прилично адаптировался.
Белый костюм. Из кармана выглядывает широкий блокнот. Он пожимает протянутые руки, не прерывая беседы с каким-то молодым парнем. Затем, учтиво извинившись, отходит на минутку к пожилому господину, сидящему среди гостей за столом, что-то шепчет ему на ухо, читает запись из блокнота (господин кивает) и возвращается к своему собеседнику, подхватив на ходу бокал с подноса.
Ну до чего же он хорош, мистер Лоуренс! Вспомнив это прозвище, я улыбаюсь. Мистер Лоуренс… Можно ли назвать Бертрана иначе, видя его таким — сияющим, уверенным в себе, в полном блеске секретарских обязанностей?! Нет, только «мистер Лоуренс».
Я подумал о Бомоне. Да, нужно отдать ему должное — он прекрасно провернул это дело. Больше мне никогда не встретить такого гениального умельца манипулировать людьми. Не увидь я Бертрана своими глазами, в жизни не поверил бы.
Аи, да Бомон! Не зная, как заставить плясать под свою дудку Антуана, он заставил размечтаться Бертрана. А Бертран уже сам заставил плясать под свою дудку Антуана.
Отлично задумано.
Я долго стоял и смотрел на него. Мистер Лоуренс…
Наконец-то он на своем месте.
Девушка тронула меня за рукав. Наверное, для того, чтобы я посмотрел и на нее.
— Вы в какой отрасли?
— О, не стоит говорить об этом сегодня вечером. Ибо сегодня вечером вам предстоит вскружить мне голову в Бангкоке by night. Я хочу увидеть его весь, и в блеске, и в нищете, я хочу объять и все королевство Сиамское, и все злачные кварталы, и все восточные ароматы, и все жаркие ночи этой столицы порока.
— Хорошо.
Проснувшись, я не колебался ни секунды: я рванул в аэропорт, чтобы успеть на первый же рейс. Во время двухчасовой остановки в Москве сдружился с японским чиновником, который сидел, нацепив плейер и изнывая от скуки. У него были доллары, и он пригласил меня в буфет, где мы выпили энное количество рюмок водки, закусывая их бутербродами с икрой. Когда мы подлетали ночью к Руасси, я уступил ему место у иллюминатора, чтобы он мог сверху полюбоваться городом с мириадами переливавшихся огней, который ждал нас. Он спросил: это что, Париж?