
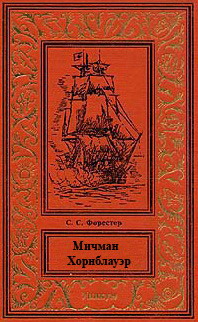
Сесил Форестер
Мичман Хорнблауэр
(Хорнблауэр-1)
РАВНЫЕ ШАНСЫ
Над Ла-Маншем бушевал январский штормовой ветер. Порывами налетал дождь, крупные капли громко стучали о брезентовые куртки дежуривших на палубе офицеров и матросов. Ветер дул так сильно и так долго, что даже в замкнутых водах Спитхеда военный корабль неуклюже кренился, слегка качаясь в неспокойном море, и с резкими толчками стопорился натянутыми якорными канатами. К кораблю приближалась лодка — гребли две дюжие женщины. Лодка бешено плясала на крутых волнах, то и дело зарываясь в них носом, и оставляя за кормой густую пелену брызг. Женщина, сидевшая на носу, хорошо знала свое дело. Бросая быстрые взгляды через плечо, она не только вела лодку по курсу, но и направляла ее носом в самые большие волны, чтобы та не опрокинулась. Лодка медленно двигалась вдоль правого борта «Юстиниана». Когда она подошла к грот-русленю [1], ее окликнул вахтенный мичман.
— Так точно! — во весь голос крикнула загребная. По старинной и странной флотской традиции такой ответ означал, что в лодке находится офицер. Вероятно, это относилось к съежившейся на корме фигуре, более походившей на прикрытую плащом груду тряпья.
Все это наблюдал мистер Мастерс, вахтенный лейтенант; он укрывался с подветренной стороны кнехтов бизань-мачты. По команде вахтенного мичмана лодка подошла к грот-русленю и надолго скрылась из глаз — видимо, офицер никак не мог подняться на борт. Наконец, лодка вновь появилась в поле зрения Мастерса: женщины отвалили от корабля и ставили крошечный люггерный парус, под которым лодка, уже без пассажира, устремилась к Портсмуту, прыгая на волнах, как лошадь через препятствия. Когда она отошла, Мастерс заметил, что по шканцам приближаются двое. Новоприбывшего сопровождал вахтенный мичман; он указал на Мастерса и вернулся к грот-русленю. Мистер Мастерс прослужил на флоте до седых волос, имел счастье получить лейтенантский чин и давно понял, что капитаном не сделается никогда. Не сильно огорчаясь этим, он обратил свой ум на изучение окружающих.
Посему он внимательно разглядывал человека, который шел сейчас к нему. Это был худощавый юноша, почти мальчик, ростом чуть выше среднего; голенастые ноги в больших коротких сапогах, неуклюже выпирающие локти. На нем была плохо подогнанная форма, насквозь мокрая от брызг; из высокого воротника торчала тощая шея, лицо было бледное, скуластое. Белое лицо — редкость на корабле, чьи обитатели быстро загорают до черноты, но у новичка оно было не просто белым; на впалых щеках отчетливо проступал зеленоватый оттенок. Юношу явно укачало в лодке. Черные глаза на бледном лице казались по контрасту дырами в листе бумаги — Мастерс с легким интересом отметил, что, несмотря на морскую болезнь, обладатель их пристально оглядывается вокруг, изучая новую обстановку. В глазах светилось непобедимое любопытство, которое не смогли заглушить ни робость, ни морская болезнь. Мистер Мастерс проницательно заключил, что юноше свойственны осторожность и дальновидность; он изучает новое окружение с тем, чтобы приготовиться к новым испытаниям. Так, наверное, смотрел на львов библейский Даниил.
Темные глаза юноши встретились с глазами Мастерса, он остановился, смущенно поднял руку к полям промокшей шляпы. Потом открыл рот и хотел что-то произнести, но так и застыл в приступе робости, не произнеся ни слова. Наконец он собрался с духом и выдавил из себя заранее заготовленную фразу:
— Прибыл на борт, сэр.
— Ваше имя? — спросил Мастерс, напрасно прождав, что юноша представится сам.
— Г-Горацио Хорнблауэр, сэр. Мичман, — выговорил тот.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр, — также официально ответил Мастерс. — Дэннаж ваш с вами?
Слова такого Хорнблауэр никогда не слышал, но у него хватило сообразительности догадаться, что оно значит.
— Мой рундук, сэр. Он… он у входного порта, — выговорил Хорнблауэр с легким колебанием — он знал, что поднялся на корабль через входной порт и что сундучок надо называть рундуком, но требовалось некоторое усилие, чтобы самому произнести эти слова.
— Я велю отнести его вниз, — сказал Мастерс, — и вам лучше отправиться туда же. Капитан на берегу, а первый лейтенант велел ни при каких обстоятельствах не беспокоить его до восьми склянок, так что я советую вам, мистер Хорнблауэр, как можно скорее снять мокрую одежду.
— Да, сэр, — ответил Хорнблауэр и в тот же момент по лицу Мастерса понял, что употребил неправильное слово. Прежде, чем Мастерс успел сделать ему замечание, он исправился, с трудом веря, что люди произносят такие слова не только на сцене.
— Есть, сэр, — и после секундного раздумья снова поднес руку к полям шляпы.
Мастерс отсалютовал в ответ и обернулся к одному из посыльных, дрожавших под слабым укрытием фальшборта.
— Юнга! Проводите мистера Хорнблауэра вниз в мичманскую каюту.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр последовал за мальчиком вперед к грота-люку. Он и так едва держался на ногах от морской болезни, да еще по дороге несколько раз терял равновесие, когда резкий ветер заставлял «Юстиниана» толчком натягивать якорный канат. Подойдя к люку, юнга скользнул вниз по трапу. Хорнблауэру пришлось уцепиться за поручни и с опаской спускаться сначала в полумрак нижней пушечной палубы, затем в сумрак твиндека. В ноздри ему ударили разнообразные и необычные запахи, в уши хлынули странные незнакомые звуки. У подножия каждого трапа юнга терпеливо ждал, в лице его читалось плохо скрываемое презрение. За последним спуском несколько шагов — Хорнблауэр окончательно потерял всякое представление о направлении и не знал, идут ли они к корме или к носу — и они очутились в темной нише. Сальная свеча, воткнутая в медную пластину на круглом столе, лишь сгущала тени. За столом сидели человек шесть без сюртуков. Юнга исчез, оставив Хорнблауэра стоять, и прошло несколько секунд, прежде чем на него обратил внимание усатый мужчина, сидевший во главе стола.
— Говори, ужасное виденье, — произнес тот. Хорнблауэра затошнило. Сказывалось путешествие в лодке, духота и вонь твиндека. Говорить было трудно, и он не знал, как выразиться.
— Меня зовут Хорнблауэр, — пробормотал он, наконец.
— Здорово же тебе не повезло, — без тени сочувствия произнес другой мужчина.
Тут в ревущем мире за бортом корабля ветер резко сменил направление, слегка накренив «Юстиниана», повернул его и снова резко натянул якорные канаты. Хорнблауэру показалось, что мир перевернулся. Юноша закачался и покрылся потом, хотя весь дрожал от холода.
— Я полагаю, вы явились, — продолжал усатый, — чтобы пробиться в общество наиболее достойных людей. Еще один тупоголовый невежда явился осложнять жизнь тем, кому придется его учить. Посмотрите на него, — говорящий жестом призвал внимание компании, — только посмотрите. Последнее дурное приобретение нашего короля. Сколько вам лет?
— С-семнадцать, — выговорил Хорнблауэр.
— Семнадцать, — с подчеркнутым отвращением повторил усатый, — чтобы стать моряком, вам надо было начать в двенадцать. Знаете разницу между топом и фалом?
Это вызвало у компании смех, характер которого был совершенно ясен смятенному уму Хорнблауэра. Он понял, что его осмеют независимо от того, скажет он «нет» или «да». Он выбрал нейтральный ответ.
— Это первое, что я посмотрю в «Судовождении» Нори, — сказал он.
Тут судно снова накренилось, и Хорнблауэр полетел на стол.
— Джентльмены, — начал он жалобно, думая как же ему выразиться.
— Господи! — воскликнул кто-то за столом. — Да его укачало!
— Укачало в Спитхеде! — с отвращением и злорадством произнес другой.
Но Хорнблауэру было все равно — некоторое время он не сознавал, что происходит. Нервное возбуждение последних дней, возможно, подействовало на него сильнее, чем путешествие в лодке и качка на «Юстиниане». Тем не менее, это означало, что к нему прочно прилипло прозвище «мичмана, которого укачало в Спитхеде». Понятно, прозвище это не скрасило одиночество и тоску первых дней в Ла-Маншском флоте, который стоял тогда на якорях с подветренной стороны острова Уайт, добирая недостающую команду. Пролежав полчаса в гамаке, куда уложил его вестовой, Хорнблауэр пришел в себя и даже смог доложиться первому лейтенанту.
Через несколько дней он уже ориентировался на корабле и не путался под палубами, не разбирая, где нос, а где корма (как это было в первые дни). Он научился различать лица других офицеров и не без труда освоил, где должен находиться по боевому расписанию, во время вахты, когда убирают и когда ставят паруса. Он достаточно разобрался в своей новой жизни, чтобы понять — она могла быть много хуже, скажем, попади он на борт корабля, немедленно выходящего в открытое море. Это его не утешало; ему было тоскливо и одиноко.
Будучи от природы робок, он трудно сходился с людьми, а вдобавок обитатели мичманской каюты оказались намного старше его; пожилые помощники штурмана с торговых судов, мичманы, из-за отсутствия покровительства или по неспособности сдать экзамены, к двадцати-тридцати годам так и не ставшие лейтенантами. Поразвлекавшись вначале на его счет, они вскоре перестали его замечать. Хорнблауэра это устраивало — он замкнулся в своей скорлупе и постарался привлекать как можно меньше внимания.
Ибо невесело было на «Юстиниане» в те мрачные январские дни. Капитан Кин (когда тот поднялся на борт, Хорнблауэр впервые увидел, какой торжественностью окружен капитан линейного корабля) был болен и склонен к меланхолии. У него не было ни славы, позволявшей иным капитанам набрать в команду добровольцев, ни ярких личных качеств, чтобы воодушевить тех угрюмых людей, которых время от времени приводили вербовщики.
Офицеры видели его редко и предпочли бы видеть еще реже. На Хорнблауэра, когда того пригласили в капитанскую каюту для первого разговора, он не произвел впечатления — пожилой человек, больной, с впалыми желтыми щеками, за столом, покрытом бумагами.
— Мистер Хорнблауэр, — произнес он официально. — Я рад случаю приветствовать вас на борту моего судна.
— Да, сэр, — сказал Хорнблауэр. Это больше подходило к ситуации, чем «Есть, сэр», а ничего другого, по-видимому, от младшего мичмана не ожидалось.
— Вам… дайте поглядеть… семнадцать? — капитан Кин поднял листок, на котором излагалась короткая карьера Хорнблауэра.
— Да, сэр.
— 4-е июля, 1776 г., — задумчиво проговорил Кин, читая дату рождения Хорнблауэра. — Пять лет до моего назначения капитаном. К тому времени, как вы родились, я шесть лет плавал лейтенантом.
— Да, сэр, — согласился Хорнблауэр. Добавлять что-нибудь было явно излишне.
— Сын доктора… Надо было выбрать в отцы лорда, если вы хотите делать карьеру.
— Да, сэр.
— Какое вы получили образование?
— Я дошел до греческого класса.
— Так что вы разбираетесь не только в Цицероне,ноив Ксенофонте?
— Да, сэр. Но не очень хорошо, сэр.
— Лучше бы вы разбирались в синусах и косинусах. Лучше бы вы умели угадать порыв ветра, чтобы вовремя убрать брамсели. Абсолютные причастные обороты нам во флоте не нужны.
— Да, сэр, — сказал Хорнблауэр.
Он совсем недавно узнал, что такое брамсель, однако мог бы сообщить капитану о неплохом знании математики. Тем не менее, он промолчал — инстинкт и недавний опыт подсказывали ему не лезть с непрошеной информацией.
— Что ж, выполняйте приказы, изучайте свое дело, и ничего плохого с вами не случится. Вот так.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр, ретируясь. Но капитанские слова тут же начали сбываться прямо противоположным образом. Плохое начало случаться с этого самого дня, хотя Хорнблауэр исполнял приказы и усердно изучал свое дело. Все началось с того, что в мичманской каюте появился старший уорент-офицер Джон Симеон. Хорнблауэр, сидевший вместе со всеми за столом, увидел дюжего красавца лет тридцати, который остановился у входа, совсем как сам Хорнблауэр несколько дней назад, и глядел на собравшихся.
— Привет, — сказал кто-то не слишком сердечно.
— Клевеланд, друг мой смелый, — сказал новоприбывший, — убирайся-ка с этого места. Я собираюсь занять свое законное положение во главе стола.
— Но…
— Убирайся, кому сказано, — рявкнул Симеон. Клевеланд недовольно подвинулся. Симеон сел на его место и обвел пристальным взглядом мичманов, с любопытством уставившихся на него.
— Да, любезные собратья-офицеры, — сказал он. — Я вернулся в лоно семьи. Меня не удивляет, что все загрустили. Могу добавить: вы еще не так загрустите, когда я вами займусь.
— Но ваше назначение?.. — осмелился кто-то спросить.
— Мое назначение? — Симеон наклонился вперед и забарабанил пальцами по столу, вглядываясь в вопрошающие глаза сидевших напротив. — Сейчас я отвечу на этот вопрос, но тот, кто рискнет задать его снова, пожалеет, что родился на свет. Эти тупоголовые капитаны из комиссии отказали мне в назначении. Они сочли, видите ли, что мои математические познания недостаточно глубоки для навигатора. Так что и.о. лейтенанта Симеон снова мичман Симеон, к вашим услугам. Да будет с вами милость Божья.
В последующие дни могли возникнуть серьезные сомнения в Божьей милости, ибо с появлением Симеона в мичманской каюте тихая тоска сменилась подлинными страданиями. Симеон и прежде был изощренным тираном, а теперь, озлобленный и униженный провалом на экзаменах, стал тиранить подчиненных еще изощреннее. Будучи слаб в математике, он был дьявольски силен в искусстве отравлять людям жизнь. Как старший в каюте, он был облечен достаточной властью; злой язык и злая воля обеспечили бы ему эту власть даже при бдительном и твердом первом лейтенанте, а первый лейтенант «Юстиниана» мистер Клэй таким не был. Дважды мичманы бунтовали против произвола Симеона, но тот оба раза подавлял мятеж своими могучими кулаками: Симеон с успехом мог бы выступать на ринге. Каждый раз на Симеоне не оставалось ни ссадины; каждый раз его противник получал нагоняй и лишний наряд на салинг от первого лейтенанта за синяк под глазом или разбитую губу. Мичманы задыхались от бессильного гнева. Даже подлизы и прихлебатели — а они, естественно, нашлись — ненавидели деспота.
Характерно, что больше всего возмущало не вымогательство — не ревизия чужих сундуков с конфискацией в свою пользу чистых рубашек, не присвоение лучших кусков мяса, даже не изъятие вожделенной порции спиртного. Это было понятно и извинительно, дай им власть, они и сами бы так делали. Но Симеон проявлял чудовищный деспотизм, напомнивший Хорнблауэру, с его классическим образованием, о римских императорах-выродках. Симеон заставил Клевеланда сбрить усы, которыми тот неимоверно гордился; он возложил на Хетера обязанность каждые полчаса, днем и ночью, будить Маккензи, так что не высыпались оба. И если Хетер пропускал хоть раз, доносчики тут же сообщали Симеону.
Слабые места Хорнблауэра, как и всех остальных, он обнаружил очень скоро. Симеон понял, что Хорнблауэр робок, и заставлял его декламировать всей мичманской каюте «Элегию на сельском кладбище» Грея. Симеон со значительным видом клал на стол ножны от кортика, а прихлебатели толпой окружали Хорнблауэра. Тот знал, что стоит промедлить, как его разложат на столе и пустят в ход ножны от кортика. Удар плашмя был болезнен, удар острой стороной — мучителен, но страшнее боли было унижение. Вскоре Симеон придумал более изощренную пытку, которую назвал «Процедура допроса». Хорнблауэра медленно и методически расспрашивали о детстве и родительском доме. Отвечать надо было на все вопросы, под угрозой ножен. Хорнблауэр мог вилять и уклоняться от прямого ответа, но рано или поздно настойчивый допрос исторгал из него какое-нибудь простое признанье, повергавшее слушателей в бурное веселье. Знает Бог, в одиноком детстве Хорнблауэра ничего стыдного не было, но юноши, тем более, скрытные, как Хорнблауэр, — странные создания и часто стесняются того, на что другой бы не обратил бы внимания.
Испытание оставляло Хорнблауэра разбитым и больным; человек менее серьезный смог бы выпутаться из ситуации, разыгрывая шута, и даже приобрел бы некоторую популярность. Хорнблауэр в свои семнадцать лет был слишком серьезен, чтобы паясничать. Он принужден был сносить пытку, испытывая отчаяние, ведомое лишь семнадцатилетним. Он никогда не плакал на людях, но по ночам нередко проливал горькие мальчишеские слезы.
Он часто помышлял о смерти; еще чаще о побеге. Потом рассудил, что дезертировать, может быть, страшнее, чем умереть, и снова стал думать о смерти. Он — без друзей, одинокий, как может быть одинок лишь способный мальчик среди взрослых мужчин — начал мечтать о самоубийстве. Чаще и чаще обдумывал он, как бы проще покончить счеты с жизнью.
Будь они в море, всем бы хватило дела и некогда было маяться дурью; даже на рейде энергичный капитан или первый лейтенант нашли бы чем занять команду от греха подальше. Однако на беду Хорнблауэра «Юстиниан» весь январь 1794 года стоял на якоре под командованием больного капитана и бездеятельного первого лейтенанта. Даже редкие периоды активности не шли на пользу Хорнблауэру.
Однажды мистер Боулз, штурман, проводил занятия по навигации для своих помощников и мичманов. На беду капитан проходил мимо и заглянул в решения задачи, предложенной каждому отдельно. Болезнь сделала Кина язвительным, к тому же он не любил Симеона. Бросив быстрый взгляд в записки старшего мичмана, Кин саркастически хмыкнул.
— Возрадуемся же, — сказал он. — Истоки Нила, наконец, обнаружены.
— Простите, сэр, — переспросил Симеон.
— Ваш корабль, — произнес Кин, — насколько можно судить по вашим неграмотным каракулям, мистер Симеон, находится в Центральной Африке. Посмотрим, каких еще terrae incognitae наоткрывали другие отважные первопроходцы.
Все было как в театре — в жизни таких совпадений не бывает. Хорнблауэр точно знал, что будет. Кин брал расчет за расчетом, дошел и до него. Результат Хорнблауэра оказался единственно верным, все остальные прибавили поправку на рефракцию вместо того, чтобы вычесть, или неверно умножили, или, как Симеон, вообще все перепутали.
— Поздравляю, мистер Хорнблауэр, — сказал Кин. — Вы можете гордиться, что единственный преуспели в этой толпе интеллектуальных гигантов. Вы, насколько мне известно, в два раза моложе Симеона. Если вы удвоите ваши достижения к его возрасту, то оставите нас всех далеко позади. Мистер Боулз, я попрошу проследить, чтобы мистер Симеон уделял больше времени занятиям математикой.
Капитан пошел по твиндеку неуверенной походкой смертельно больного человека, а Хорнблауэр сел, опустив глаза, не в силах встретить направленные на него взгляды, и понимая, что они означают. В тот момент он мечтал о смерти — даже молился о ней в эту ночь.
Через два дня Хорнблауэр оказался на берегу, к тому же под началом Симеона. Обоим мичманам поручили сопровождать наземный десант, направленный вместе с такими же группами с других судов для вербовки. Вскоре ожидался Вест-Индский конвой. Большинство матросов будут завербованы немедленно, остальные же, те, что поведут корабли до стоянки, постараются улизнуть и всеми правдами и неправдами укрыться от вербовщиков. В задачи десанта входило перерезать пути отступления, поставить оцепление вдоль всего берега, и всех выловить. Но конвой еще не подавал сигналов, а необходимые приготовления были закончены.
— Жизнь прекрасна, — объявил Симеон. Высказывание для него необычное, но необычной была и сама обстановка. Он сидел в задней комнате таверны «Ягненок», удобно устроившись в одном кресле и положив ноги на другое, у ярко пылающего огня. Рядом стояла кружка пива с джином.
— За Вест-Индский конвой, — сказал Симеон, прикладываясь к пиву, — чтобы ему задержаться подольше.
Симеон был сама сердечность: пиво и тепло камина привели его в хорошее расположение духа; однако он выпил еще не столько, чтобы начать задираться. Хорнблауэр сидел по другую сторону камина, потягивал пиво без джина, разглядывал Симеона и с удивлением отмечал, что впервые с прибытия на «Юстиниан» мучительное страдание отпустило его, сменившись глухой тоской, похожей на стихающую боль от выдернутого зуба.
— Скажи тост, парень, — обратился к нему Симеон.
— За поражение Робеспьера, — робко произнес Хорнблауэр.
Тут дверь отворилась и вошли еще два офицера, один — мичман, другой с лейтенантским эполетом. Это был Чок с «Голиафа», начальник всех береговых вербовочных отрядов. Даже Симеон подвинулся, освобождая старшему по званию место у огня.
— Конвоя все нет, — объявил Чок, потом внимательно поглядел на Хорнблауэра. — Кажется, я не имел удовольствия познакомиться с вами.
— Мистер Хорнблауэр — лейтенант Чок, — представил Симеон. — Мистер Хорнблауэр знаменит как мичман, которого укачало в Спитхеде.
Хорнблауэра чуть не передернуло, когда Симеон налепил на него этот ярлык. Чок из вежливости переменил разговор.
— Эй, слуга! Джентльмены выпьют со мной по стаканчику? Боюсь, ждать нам придется долго. Все ваши люди на местах, мистер Симеон?
— Да, сэр.
Чок не умел сидеть сложа руки. Он прошелся по комнате, посмотрел в окно на дождь, когда принесли выпивку, представил своего мичмана — Колдуэлла. Вынужденное безделье заметно его тяготило.
— Сыграем в карты, чтобы убить время? — предложил он. — Отлично! Эй, слуга! Карты, стол и еще свечей.
Стол подвинули к огню, расставили стулья, принесли карты.
— Во что будем играть? — спросил Чок, обводя мичманов глазами.
Он был единственным лейтенантом среди них, и любое его предложение обладало немалым весом — остальные трое, естественно, молчали, ожидая, пока он выскажет свое мнение.
— Двадцать одно? Игра для идиотов. Лу? Игра для богатых идиотов. Тогда вист? Вот случай продемонстрировать наши скромные способности. Колдуэлл, насколько мне известно, знаком с азами игры. Мистер Симеон?
Симеон, при полном отсутствии математических способностей, очевидно, не мог хорошо играть в вист, но столь же очевидно, не догадывался, что играет плохо.
— Как хотите, сэр, — сказал Симеон. Он любил азарт, а во что играть, ему было безразлично.
— Мистер Хорнблауэр?
— С удовольствием, сэр.
Это была не простая вежливость. Хорнблауэр прошел хорошую школу виста; после смерти матери он играл четвертым со своим отцом, пастором и женой пастора. Игра была его страстью. Он наслаждался точным подсчетом шансов, необходимостью одновременно проявлять смелость и осторожность. Радость, прозвучавшая в его голосе, заставила Чока вновь взглянуть на него. Чок, сам хороший игрок, тут же почувствовал в нем товарища.
— Отлично! — сказал он. — Мы можем сразу снять колоду и определить места партнеров. Какие будут ставки, джентльмены? Шиллинг взятка и гинея роббер, или это многовато? Нет? Договорились.
Некоторое время играли спокойно. Хорнблауэру достался в партнеры Симеон, потом Колдуэлл. Почти сразу же стало ясно, что Симеон игрок никудышный, из тех, кто непременно идет с туза, а при четырех козырях — с бланковой карты. Однако им с Хорнблауэром пришли очень сильные карты, и первый роббер они выиграли. Потом Симеон проиграл в паре с Чоком, им снова выпало играть вместе, и они опять проиграли. Симеон торжествующе смотрел на хорошие карты, вздыхал, получив плохие.
Очевидно, он принадлежал к тем невеждам, которые считают вист светской обязанностью или даже грубым способом перераспределения денег, вроде бросания костей. Никогда он не считал игру ни священным ритуалом, ни интеллектуальным упражнением. По мере того, как он проигрывал все больше и больше, а слуга приносил и приносил джин, лицо его пылало все сильнее и сильнее. Он не умел ни пить, ни проигрывать, так что даже подчеркнуто вежливый Чок не выдержал и выказал некоторое облегчение, когда в следующий раз оказался в паре с Хорнблауэром. Они легко выиграли следующий роббер; еще гинея с несколькими шиллингами перекочевала в тощий кошелек Хорнблауэра. Он один был в выигрыше, а Симеон проиграл больше всех. Хорнблауэр совершенно забылся и воспринимал приглушенную брань Симеона лишь как досадную помеху игре. Внезапно он осознал, что может заплатить за сегодняшний успех будущими мучениями.
Еще раз сняли колоду, Хорнблауэру снова выпало играть с Чоком. Первые две сдачи они выиграли. Затем дважды Колдуэлл и Симеон сыграли почти как следует, к нескрываемому торжеству последнего. В следующую сдачу Хорнблауэр смело прорезал [2] — Симеон с довольной ухмылкой положил своего валета на десятку Хорнблауэра и тут обнаружил, что они с Колдуэллом взяли всего шесть взяток; он с раздражением пересчиталих снова. Хорнблауэр добился чего хотел, а Симеон зашел — как обычно с туза. Хорнблауэр убедился, что сможет перехватить ход. У него были хорошие козыри и длинная трефа. Симеон, что-то бормоча, разглядывал свои карты: невероятно, но он так и не усвоил, что, зайдя с туза, неизбежно вынужден будешь заходить снова и опять-таки думать. Наконец он решился и пошел. Хорнблауэр взял королем и тут же пошел с козырного валета. К его радости валет взял взятку, он пошел снова, и взятку взяла дама Чока. Чок пошел с козырного туза и Симеон с проклятием выложил короля. Чок пошел в трефу. У Хорнблауэра было пять треф, начиная с короля и дамы — разыгрывать должен был Чок, поскольку остальные козыри были у Хорнблауэра. Хорнблауэр взял дамой: туз у Колдуэлла, если не у Чока. Хорнблауэр пошел с мелкой карты, Чок положил валета, а Колдуэлл туза. Вышло восемь треф, а у Хорнблауэра их оставалось еще три, начиная с короля и валета — три верных взятки с козырями для перехвата хода. Колдуэлл пошел с бубновой королевы, Хорнблауэр положил бланковую бубну, Чок взял тузом.
— Остальные мои, — сказал Хорнблауэр, кладя карты.
— Как это? — спросил Симеон, державший короля бубен.
— Пять взяток, — резко ответил Чок. — Мы выиграли.
— А я разве больше не возьму? — не унимался Симеон.
— Я перебиваю козырем бубны или черви и еще беру на три трефы, — объяснил Хорнблауэр. Ему было ясно как дважды два, обычное окончание игры; он не понимал, что плохому игроку, вроде Симеона, трудно запомнить колоду в пятьдесят два листа. Симеон бросил карты.
— Что-то вы слишком много знаете, — сказалон,— Вы знаете карты с рубашки.
Хорнблауэр сглотнул. Он понял, что наступает решительный момент. Еще секунду назад он просто с удовольствием играл в карты. Теперь перед ним вопрос о жизни и смерти. Вихрь мыслей промчался в мозгу Хорнблауэра. Несмотря на теперешний уют, он явственно вообразил отчаянную тоску предстоящей жизни на «Юстиниане». Возникла возможность, так или иначе, покончить с этой тоской. Он вспомнил, что замышлял покончить с собой, и в сознании его забрезжил план действий. Решение выкристаллизовалось.
— Это оскорбление, мистер Симеон, — сказал он и обвел глазами Чока и Колдуэлла, вдруг ставших серьезными. Симеон по-прежнему ничего не понимал. — Я должен потребовать сатисфакции.
— Сатисфакции? — поспешно произнес Чок. — Ну, ну. Мистер Симеон просто погорячился. Я уверен, он объяснится.
— Меня обвинили в шулерстве, — сказал Хорнблауэр. — Тут так легко не объяснишься. Он старался вести себя, как взрослей, более того, как человек, сгорающий от возмущения. На самом деле возмущения он не испытывал, прекрасно понимая в каком смятении рассудка Симеон произнес свои слова. Но возможность представилась, и Хорнблауэр не собирался ее упускать. Теперь оставалось разыгрывать роль человека, которому нанесли смертельное оскорбление.
— Мало ли что можно сказать спьяну. — Чок твердо решил сохранить мир. — Мистер Симеон, конечно, пошутил. Давайте потребуем еще бутылку и выпьем за дружбу.
— С удовольствием, — отвечал Хорнблауэр, подыскивая слова, которые сделали бы дело необратимым, — если мистер Симеон немедленно, в вашем присутствии, джентльмены, попросит у меня извинений и признает, что говорил без оснований и в манере, недостойной джентльмена.
Говоря, он обернулся и с вызовом посмотрел Симеону в глаза, метафорически размахивая красной тряпкой перед быком, чем и вызвал желаемый гнев.
— Извиниться перед тобой, молокосос! — взорвался Симеон. В нем заговорили одновременно уязвленная гордость и опьянение. — Никогда, черт меня подери!
— Вы слышали, джентльмены? — произнес Хорнблауэр.
— Мистер Симеон отказывается извиняться и продолжает меня оскорблять. Мне остается одно — требовать сатисфакции.
Два последующих дня, до прибытия Вест-Индского конвоя, Хорнблауэр и Симеон под началом Чока вели странную жизнь двух дуэлянтов, вынужденных общаться перед поединком. Хорнблауэр тщательно (как делал бы в любом случае) исполнял любые приказы Симеона; тот отдавал их, явно смущаясь. За эти два дня Хорнблауэр отшлифовал свою первоначальную идею. У него было время подумать, пока он обходил доки в сопровождении морского патруля. Он спокойно все взвесил — а отчаявшийся семнадцатилетний мальчик иногда может быть вполне объективен. Это было не сложнее, чем просчитывать шансы при игре в вист. Ничто не может быть хуже жизни на «Юстиниане», даже (это он решил давно) смерть. Здесь ему предоставляется возможность умереть легко, с дополнительным плюсом в виде шанса убить Симеона. Тут мысли Хорнблауэра приняли другой оборот — идея, блеснувшая в мозгу, заставила его остановиться, так что патруль, не успев затормозить, налетел на него сзади.
— Простите, сэр — сказал старшина.
— Ничего, ничего, — отвечал Хорнблауэр, глубоко погруженный в свои мысли. Впервые он высказал свое предложение в беседе с Престоном и Данверсом, помощниками штурмана, которых сразу по возвращении на «Юстиниан» пригласил в секунданты.
— Мы, конечно, согласны, — сказал Престон, с сомнением глядя на зеленого юнца. — Как вы собираетесь драться? Вы оскорбленная сторона и можете выбирать оружие.
— Я думал об этом с тех пор, как он меня оскорбил, — произнес Хорнблауэр, оттягивая время. Не так-то просто выложить подобную идею.
— Вы шпагой владеете? — спросил Данверс.
— Нет, — ответил Хорнблауэр. По правде сказать, он ни разу не держал ее в руках.
— Тогда пистолеты, — сказал Престон.
— Симеон, наверное, хороший стрелок, — предположил Данверс, — Я бы сам перед ним не встал.
— Полегче, — поспешил Престон, — не пугай его.
— Я не боюсь, — ответил Хорнблауэр. — Я сам об этом думал.
— Вы об этом так спокойно говорите? — удивился Данверс.
Хорнблауэр пожал плечами.
— Может быть. Мне все равно. Но я думаю, шансы можно сблизить.
— Как?
— Их можно совсем уравнять, — начал Хорнблауэр, беря быка за рога. — Нам дают два пистолета, один заряжен, другой — нет. Мы с Симеоном выбираем, не зная, какой заряжен. Встаем в ярде друг от друга и по команде стреляем.
— Господи! — воскликнул Данверс.
— По-моему так нельзя, — сказал Престон. — Это значит, что одного точно убьют.
— Для того и дуэль, — возразил Хорнблауэр. — Если условия честные, возражений быть не должно.
— А вы не струсите? — засомневался Данверс.
— Мистер Данверс. — начал Хорнблауэр, но Престон вмешался.
— Хватит нам одной дуэли в нашей команде. Данверс просто хотел сказать, что сам бы на это не решился. Мы обсудим с Клевеландом и Хетером, посмотрим, что они скажут.
Через час предложенные условия дуэли стали известны всему кораблю. На беду Симеона у него не было на судне настоящих друзей. Секунданты Хетер и Клевеланд не собирались отстаивать его интересы и, немного поломавшись для вида, приняли условия. Тиран мичманской каюты расплачивался за свою жестокость. В глазах некоторых офицеров читалось циничное удовольствие; часть офицеров и матросов смотрели на Хорнблауэра и Симеона с тем любопытством, которое у некоторых вызывает смерть — как если бы оба противника были приговорены к повешению. В полдень лейтенант Мастерс послал за Хорнблауэром.
— Капитан поручил мне провести расследование по поводу дуэли, мистер Хорнблауэр, — сказал он. — Мне поручено принять возможные меры к ее предотвращению.
— Да, сэр.
— Зачем настаивать на сатисфакции, мистер Хорнблауэр? Насколько я понимаю, дело в нескольких резких словах, произнесенных за вином и картами.
— Мистер Симеон в присутствии двух офицеров с другого судна обвинил меня в шулерстве.
Это было существенно. Свидетели — не члены корабельной команды. Если бы Хорнблауэр согласился счесть слова Симеона руганью пьяного задиры, на них можно было бы не обращать внимания. Но при той позиции, которую Хорнблауэр занял, дело нельзя было замолчать, и Хорнблауэр это знал.
— Даже в этом случае сатисфакция возможна без дуэли.
— Если мистер Симеон принесет мне извинения в присутствии тех же двух джентльменов, я буду удовлетворен.
Хорнблауэр знал, что Симеон не трус. Он скорее умрет, чем принесет формальные извинения.
— Ясно. Насколько я понимаю, вы настаиваете на довольно необычных условиях дуэли?
— Такие прецеденты были, сэр. Как оскорбленная сторона я имею право выбирать любые честные условия.
— Вы говорите, как сутяжник, мистер Хорнблауэр. — Этого намека было достаточно. Хорнблауэр понял, что слишком много болтает и решил впредь попридержать язык. Он стоял молча и ждал, чтобы Мастерс закончил разговор.
— Итак, вы твердо решили, мистер Хорнблауэр, продолжать это смертоубийственное дело?
— Да, сэр.
— В таком случае капитан велел мне лично присутствовать при дуэли, ввиду необычных условий, на которых вы настаиваете. Должен поставить вас в известность, что попрошу секундантов это устроить.
— Да,сэр.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
Мастерс разглядывал уходящего Хорнблауэра еще внимательнее, чем в первый раз. Он искал следов слабости или колебаний, вообще следов хоть каких-нибудь человеческих чувств — и не находил их. Хорнблауэр принял решение, взвесил все за и против и логически рассудил, что хладнокровно избрав путь действий, глупо поддаваться эмоциям. Условия дуэли, на которых он настаивал, были математически наиболее благоприятны. Если он когда-то мечтал умереть, лишь бы избавиться от тирании Симеона, предпочтительней равный шанс избежать ее, оставшись в живых. Далее, если Симеон лучше него стреляет и владеет шпагой (а так оно, наверняка, и есть), равные шансы опять-таки математически наиболее благоприятны. Нечего жалеть о выбранном пути.
Все хорошо: математические выкладки были безупречны, но Хорнблауэр с удивлением обнаружил, что математика это еще не все. В тот жуткий вечер он несколько раз цепенел, вспоминая, что завтра утром придется поставить жизнь на кон. Один шанс из двух, что его убьют, сознание его прервется, тело остынет, а мир, как ни трудно в это поверить, будет существовать уже без него. Мысль эта повергала Хорнблауэра в дрожь. Времени для размышлений у него было достаточно, ибо дуэльный кодекс, предписывавший противникам избегать друг друга до поединка, принуждал его к уединению, насколько возможно уединиться на переполненной палубе «Юстиниана». Этой ночью он вешал гамак в подавленном состоянии духа, чувствуя необычайную усталость; когда он раздевался в промозглом твиндеке, его знобило. Он завернулся в одеяло, мечтая расслабиться в тепле, и не смог. Задремывая, он тут же просыпался в тревоге, вертелся с бока на бок, слушая, как корабельный колокол отбивает каждые полчаса, и все сильнее стыдился своей трусости. В конце концов, он даже порадовался, что завтра его жизнь зависит от чистой случайности. Будь он вынужден положиться на твердость руки или глаза после такой ночи, можно было бы считать себя мертвецом.
Это рассуждение позволило ему уснуть. Последние два-три часа он проспал и проснулся неожиданно — его тряс Данверс.
— Пять склянок, — сказал тот. — Через час рассвет. Пора, проснись.
Хорнблауэр выскользнул из гамака и стоял в рубашке. В темноте под палубой он с трудом различал собеседника.
— Первый позволил нам взять тендер, — сказал Данверс. — Мастерс, Симеон и вся компания ушли на баркасе. Вот и Престон.
Еще одна фигура замаячила в темноте.
— Адский холод, — сказал Престон. — В такое гадкое утро выходить не хочется. Нельсон, чай где?
Слуга появился с чаем, когда Хорнблауэр натягивал брюки. Хорнблауэра трясло от холода — чашка, которую он взял, застучала о блюдце. Это его взбесило. Но чай был кстати, и он жадно выпил.
— Еще чашку, — сказал он, гордясь, что может думать о чае в такой момент.
Было еще темно, когда они спустились в тендер.
— Отваливай! — крикнул рулевой, и шлюпка отошла от борта корабля. Пронизывающий ветер наполнил повисший люггерный парус; тендер направился к двум огням, горевшим на причале.
— Я заказал в «Георге» наемный экипаж, — сказал Данверс. — Будем надеяться, это он.
Экипаж ждал их. Возница был относительно трезв и, несмотря на ночные возлияния, более-менее управлялся со своей лошадью. Когда они устроились и зарыли ноги в солому, Данверс вытащил фляжку.
— Хлебните, Хорнблауэр, — предложил он. — Сегодня вам твердая рука не понадобится.
— Нет, спасибо, — ответил Хорнблауэр. Его пустой желудок решительно не желал спиртного.
— Они приедут раньше нас, — заметил Престон. — Когда мы подошли к причалу, я видел, что баркас шел назад.
По дуэльному этикету противники должны прибывать на место поединка раздельно; для возвращения понадобится только одна шлюпка.
— И костоправ с ними, — сказал Данверс. — Бог весть, зачем он там сегодня нужен.
Он хохотнул и с запоздалой вежливостью подавил смешок.
— Как вы, Хорнблауэр? — спросил Престон.
— Нормально, — ответил Хорнблауэр, с трудом удержавшись, чтобы не добавить: «нормально, когда не ведутся такие разговоры».
Экипаж поднялся на холм и остановился у лужайки. Другой экипаж стоял в ожидании, его фонарь казался желтым на фоне разгорающейся зари.
— Вот и остальные, — сказал Престон. В неярком свете можно было различить несколько человек — они стояли на промерзшей земле у кустов можжевельника.
Когда они подходили, перед Хорнблауэром мелькнуло лицо стоящего поодаль Симеона. Лицо было бледно, и Хорнблауэр заметил, что Симеон, как и он сам, нервно сглатывает. Мастерс подошел к ним, как обычно с любопытством разглядывая Хорнблауэра.
— Пришло время, — сказал он, — покончить с этой ссорой. Наша страна воюет. Надеюсь, мистер Хорнблауэр, вы согласитесь сохранить жизнь для королевской службы и не настаивать больше на дуэли.
Хорнблауэр взглянул на Симеона. Данверс ответил за него:
— Готов ли мистер Симеон загладить обиду?
— Мистер Симеон готов выразить сожаление о случившемся.
— Это неудовлетворительный ответ, — сказал Данверс. — Он не содержит необходимых извинений, сэр.
— Что скажет ваш принципал? — настаивал Мастерс.
— Принципал не должен говорить в таких обстоятельствах, — сказал Данверс, оглядываясь на Хорнблауэра. Тот кивнул. Все это было неизбежно, как поездка в повозке палача, и столь же мучительно. Возврата быть не может — Хорнблауэр ни минуты не думал, что Симеон извинится, а без этого дело надо было доводить до кровавого конца. Один шанс из двух, что через пять минут его не будет в живых.
— Итак, вы настаиваете, джентльмены, — сказал Мастерс. — Я вынужден буду сообщить об этом в своем рапорте.
— Мы настаиваем, — сказал Престон.
— Тогда остается лишь перейти к этому прискорбному делу. Я поручил пистолеты доктору Хепплвиту.
Он повернулся и повел их к другой группе — Симеону, Хетеру, Клевеланду и доктору Хепплвиту. Доктор держал пистолеты за дуло, по одному в каждой руке. Он был толстый, с красным лицом запойного пьяницы. Даже сейчас он улыбался пьяной улыбкой и слегка покачивался.
— Молодые дуралеи не передумали? — спросил он. Все должным образом проигнорировали столь неуместное здесь и сейчас замечание.
— Итак, — сказал Мастерс, — вот пистолеты. Оба, как видите, затравлены порохом, но один заряжен, другой не заряжен, в соответствии с условиями. Вот у меня гинея, которую я предлагаю бросить для определения порядка выбора оружия. Теперь, джентльмены, определит ли монета непосредственно, кому из ваших принципалов достанется какой пистолет? Скажем, если выпадет решка, мистеру Симеону вот этот? Или кто угадает монету, будет выбирать оружие? Я хочу исключить всякую возможность подтасовки.
Хетер, Клевеланд, Данверс и Престон обменялись неуверенными взглядами.
— Пусть кто угадает, выберет, — сказал, наконец, Престон.
— Хорошо, джентльмены. Говорите, мистер Хорнблауэр.
— Решка, — сказал Хорнблауэр, когда монета блеснула в воздухе.
Мастерс поймал ее и прижал ладонью.
— Решка, — сказал он, поднимая ладонь и предъявляя монету сгрудившимся секундантам. — Выбирайте, пожалуйста.
Хепплвит протянул Хорнблауэру два пистолета, в одном жизнь, в другом смерть. Какой выбрать? Лишь чистая случайность могла ему помочь. Хорнблауэр с усилием протянул руку.
— Я возьму этот, — сказал он. На ощупь оружие было совсем холодное.
— Я выполнил все, что от меня требовалось, — произнес Мастерс. — Теперь приступайте вы, джентльмены.
— Возьмите этот, Симеон, — сказал Хепплвит. — А вы осторожней со своим, мистер Хорнблауэр. Вы опасны для общества.
Он все еще улыбался, явно радуясь, что кто-то другой подвергается смертельной опасности, а он сам ничуть. Симеон взял протянутый пистолет и встретился с Хорнблауэром глазами. В них не было никакого выражения.
— Дистанцию отмерять не надо, — говорил Данверс. — Место тоже безразлично. Здесь достаточно ровно.
— Очень хорошо, — сказал Хетер. — Станьте здесь, мистер Симеон.
Престон подозвал Хорнблауэра — тот только что отошел в сторону: Трудно было притворяться бодрым и спокойным. Престон взял его за плечо и поставил перед Симеоном, почти вплотную — достаточно близко, чтоб почувствовать запах спиртного.
— Последний раз, джентльмены, — сказал Мастерс громко, — призываю вас помириться.
Никто не ответил, и в мертвой тишине Хорнблауэру казалось, что всем слышен бешеный стук его сердца. Тишину прервало восклицание Хетера:
— Мы не договорились, кто подаст команду!Кто это сделает?
— Давайте попросим мистера Мастерса, — сказал Данверс.
Хорнблауэр не смотрел вокруг. Он глядел прямо на серое небо над правым ухом Симеона — смотреть тому в лицо он не мог, и не знал, куда глядит Симеон. Конец знакомого ему мира близился — возможно, скоро он получит пулю в сердце.
— Я скомандую, если вы не против, джентльмены, — услышал он голос Мастерса.
Серое небо ничего не выражало — он глядит на мир в последний раз, а кажется, что глаза у него завязаны. Мастерс снова заговорил.
— Я скажу раз, два, три, — объявил он, — с такими вот промежутками. С последним словом вы можете стрелять, джентльмены. Готовы?
— Да, — раздался голос Симеона у самого уха Хорнблауэра.
— Да, — произнес Хорнблауэр. Он слышал свой собственный голос как бы со стороны.
— Раз, — сказал Мастерс. Хорнблауэр почувствовал у ребер дуло и поднял свой пистолет.
В эту секунду он решил не убивать Симеона и продолжал поднимать пистолет, стараясь направить его Симеону в плечо. Хватит и легкой раны.
— Два, — сказал Мастерс. — Три. Стреляйте! Хорнблауэр нажал курок. Послышался щелчок, и из затвора пистолета поднялось облачко дыма. Порох взорвался и все — пистолет был не заряжен. Он знал, что сейчас умрет. Через долю секунды раздался щелчок, и облачко дыма поднялось из пистолета Симеона на уровне его сердца. Они стояли, оцепенев, не понимая, что произошло.
— Осечка, клянусь Богом! — сказал Данверс. Секунданты столпились вокруг них.
— Дайте мне пистолеты, — сказал Мастерс, вынимая оружие из ослабевших рук. — Заряженный еще может выстрелить.
— Который был заряжен? — спросил Хетер, сгорая от любопытства.
— Вот этого лучше не знать, — ответил Мастерс, быстро перекладывая пистолеты из руки в руку.
— Как насчет второго выстрела? — спросил Данверс. Мастерс поглядел на него прямо и непреклонно.
— Второго выстрела не будет, — сказал он. — Честь удовлетворена. Оба джентльмена прекрасно выдержали испытание. Никто теперь не осудит мистера Симеона, если тот выразит сожаление о случившемся, и никто не осудит мистера Хорнблауэра, если он примет это заявление.
Хепплвит расхохотался.
— Видели бы вы свои лица! — гремел он, хлопая себя по ляжке. — Важные, как коровьи морды!
— Мистер Хепплвит, — сказал Мастерс, — вы ведете себя недостойно. Джентльмены, экипажа ждут нас, тендер у причала. Я думаю, к завтраку мы все, включая мистера Хепплвита, будем в лучшей форме.
На этом все могло бы закончиться. Бурное обсуждение необычной дуэли в эскадре со временем стихло, однако имя Хорнблауэра знали теперь все, и не как «мичмана, которого укачало в Спитхеде», но как человека, хладнокровно выбравшего равные шансы. Но на «Юстиниане» говорили другое.
— Мистер Хорнблауэр просит разрешения поговорить с вами, — сказал первый лейтенант мистер Клэй, рапортуя как-то утром капитану.
— Пришлите его, как уйдете, — сказал Кин и вздохнул. Через десять минут стук в дверь возвестил о приходе крайне рассерженного молодого человека.
— Сэр! — начал Хорнблауэр.
— Я догадываюсь, что вы хотите сказать, — промолвил Кин.
— Когда я дрался с Симеоном, пистолеты были не заряжены!
— Верно, Хепплвит проболтался, — сказал Кин.
— Насколько я понимаю, сэр, это было по вашему приказу.
— Вы совершенно правы. Я отдал такой приказ мистеру Мастерсу.
— Вы допустили непростительную бесцеремонность, сэр! — сказал Хорнблауэр, то есть хотел сказать, но по-детски запнулся на длинных словах.
— Может быть и так, — спокойно отозвался Кин, по обыкновению перекладывая на столе бумаги.
Спокойствие ответа ошарашило Хорнблауэра. Он пролопотал несколько бессвязных слов.
— Я спас жизнь для королевской службы, — продолжал Кин, подождав, пока он смолкнет, — молодую жизнь. Никто не пострадал. С другой стороны, вы с Симеоном доказали свою смелость. Вы теперь знаете, что можете стоять под огнем, знают об этом и другие.
— Вы затронули мою честь, сэр, — начал Хорнблауэр приготовленную заранее речь. — Есть лишь одно средство смыть оскорбление.
— Успокойтесь, пожалуйста, мистер Хорнблауэр. — Кин с гримасой боли откинулся в кресле, приготовившись говорить. — Я должен напомнить вам об одном полезном флотском правиле: младший офицер не может вызвать на дуэль старшего. Причины понятны — иначе слишком легко было бы продвигаться по службе. Вызов младшего старшему — преступление, подлежащее трибуналу.
— Ox, — слабо сказал Хорнблауэр.
— Теперь один полезный совет, — продолжал Кин. — Вы дрались на дуэли и с честью выдержали испытание. Это хорошо. Никогда не деритесь снова — это еще лучше. Некоторые дуэлянты, как ни странно, входят во вкус, словно попробовавшие крови тигры. Они никогда не бывают хорошими офицерами и никогда не пользуются любовью команды.
Вот когда Хорнблауэр понял, что большая часть того возбуждения, с которым он вошел в капитанскую каюту, относилась к предвкушению вызова. Это могла быть отчаянная жажда опасности — и всеобщего внимания. Кин ждал ответа, но отвечать было нечего.
— Я понял, сэр, — сказал Хорнблауэр.
Кин снова пошевелился в кресле.
— Я хотел поговорить с вами еще об одном деле, мистер Хорнблауэр. У капитана Пелью на «Неустанном» есть мичманская вакансия. Капитан Пелью любит играть в вист, а хорошего четвертого партнера на судне нет. Мы с ним согласились положительно рассмотреть вашу просьбу о переводе, если вы такую просьбу подадите. Я не сомневаюсь, что честолюбивый молодой офицер ухватится за возможность служить на фрегате.
— На фрегате! — воскликнул Хорнблауэр. Все знали о славе и удачливости Пелью. Продвижение по службе, известность, призовые деньги — на все это мог рассчитывать офицер под командованием Пелью. Конкурс на «Неустанный» должен быть огромный, такая возможность представляется раз в жизни. Хорнблауэр готов был радостно согласиться, но его остановили другие соображения.
— Вы очень добры, сэр, — сказал он. — Не знаю, как вас благодарить. Но вы приняли меня мичманом, и я, конечно, должен остаться с вами.
Истощенное лицо обреченного человека осветилось улыбкой.
— Не многие сказали бы так, — произнес Кин, — Но я буду настаивать, чтобы вы приняли предложение. Я не проживу столько, чтобы по достоинству оценить вашу верность. Это судно не место для вас — это судно с бесполезным капитаном — не перебивайте меня — измотанным первым лейтенантом, старыми мичманами. Вам надо быть там, где есть возможность продвигаться вперед. Я забочусь о благе службы, мистер Хорнблауэр, советуя вам принять приглашение капитана Пелью, а мне так будет спокойнее.
— Есть, сэр, — ответил Хорнблауэр.
ГРУЗ РИСА
Волк проник в овечье стадо. Неспокойные серые воды Бискайского залива, сколько хватало глаз, были усеяны белыми пятнышками кораблей. Несмотря на сильный бриз, все суда несли до опасного много парусов. Все они, кроме одного, пытались уйти от погони, исключением был Его Величества фрегат «Неустанный» под командованием сэра Эдварда Пелью. В Атлантике, за сотни миль отсюда, разыгрывалась великая битва [3]. Линейные корабли решали спор: Англии или Франции владычествовать морями. Здесь, в заливе, французский конвой подвергся нападению хищника. Судно, которое тот настигал, становилось его жертвой.
Он неожиданно появился с подветренной стороны, сразу перерезав пути к отступлению. Теперь неповоротливые торговые суда вынуждены были лавировать против ветра. Все они везли провизию, столь необходимую революционной Франции, чью экономику совершенно разрушили политические катаклизмы; никому не хотелось попасть в английскую тюрьму. Фрегат настигал корабль за кораблем — один-два выстрела, и новенький трехцветный флаг, трепеща на ветру, слетал с гафеля. Поспешно спускалась шлюпка с призовой командой, чтобы отвести захваченное судно в английский порт, а фрегат бросался за новой жертвой.
На шканцах «Неустанного» капитан Пелью кипел злостью из-за каждой вынужденной задержки. Корабли конвоя, подняв все паруса, разбегались в разные стороны, и часть их, если упустить время, могла скрыться. Пелью не ждал обратно свои шлюпки: после сдачи судна он просто посылал офицера с вооруженным отрядом, а как только призовая команда отваливала, снова расправлял грот-марсель и бросался за следующей жертвой.
Бриг, который они сейчас преследовали, не торопился сдаваться. Не раз гремела длинная девятифунтовая носовая пушка [4] «Неустанного»: в неспокойном море трудно точно прицелиться в спешащий, надеясь на чудо, бриг.
— Отлично, — сказал Пелью. — Он сам напрашивается. Ну так получай.
Наводчики погонных орудий сменили цель и стреляли теперь по самому кораблю, а не по его курсу.
— Да не в корпус же, черт побери, — заорал Пелью. (Один снаряд поразил бриг в опасной близости от ватерлинии) — По мачтам!
Следующий выстрел случайно или благодаря хорошему расчету был куда удачнее. Борги фор-марса-рея разлетелись, зарифленный парус полетел вниз, рей накренился, корабль привелся к ветру. «Неустанный» лег в дрейф рядом с ним, готовый дать бортовой залп. При этой угрозе флаг пополз вниз.
— Что за бриг? — крикнул Пелью в рупор.
— «Мари Галант» из Бордо, — переводил офицер рядом с Пелью ответ французского капитана. — Двадцать четыре дня как из Нового Орлеана с грузом риса.
— Рис! — сказал Пелью. — Вернемся домой, я его продам за кругленькую сумму. Водоизмещение тонн двести. Команда не больше двенадцати. Понадобится четыре человека призовой команды и мичман.
Он огляделся, как бы ища вдохновения перед следующим приказом.
— Мистер Хорнблауэр!
— Здесь, сэр!
— Возьмите четверых из команды тендера и высаживайтесь на бриг. Мистер Соме даст вам наши координаты. Отведите судно в любой английский порт, какой сможете, там доложите о себе и ждите указаний.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр находился на боевом посту у правой шканцевой карронады — потому, наверное, и привлек внимание Пелью. На боку у него был кортик, за поясом — пистолет. Думать надо было быстро, так как Пелью заметно нервничал. Корабль подготовлен к бою, значит его рундук служит частью операционного стола, оттуда ничего не достать — придется отправляться как есть. Тендер лавировал возле кормы «Неустанного». Хорнблауэр подбежал к борту и окликнул его, стараясь чтобы голос звучал как можно взрослее. По команде лейтенанта тендер повернулся носом к фрегату.
— Вот ваши широта и долгота, мистер Хорнблауэр, — сказал штурман мистер Соме, протягивая листок бумаги.
— Спасибо. — Хорнблауэр сунул листок в карман. Он неуклюже перелез на бизань-руслень и поглядел вниз на тендер. Сильно качало, оба корабля одновременно почти зарывались носом в море. Просвет между ними был ужасающе велик. Бородатый матрос на носу тендера с трудом зацепился за бизань-руслень длинным багром. Хорнблауэр секунду колебался — он хорошо знал свою неловкость. Вся книжная премудрость бесполезна, когда надо прыгать с корабля в шлюпку. Но прыгать было надо: сзади кипел от нетерпения Пелью, команда шлюпки, да и всего корабля смотрела на Хорнблауэра. Лучше прыгнуть и убиться, лучше прыгнуть и сделать из себя посмешище, но нельзя задерживать судно. Ждать — хуже всего, прыгнуть — какая-то надежда. Быть может по команде Пелью рулевой «Неустанного» дал носу корабля немного приподняться над водой. Диагональная волна прошла под кормой «Неустанного», так что нос тендера поднялся как раз в тот момент, когда корма корабля немного опустилась. Хорнблауэр собрался с духом и прыгнул. Ноги его коснулись планширя. Он на секунду задержался, качаясь, но тут бородатый матрос ухватил его за сюртук, так что вместо того, чтобы полететь назад, он упал вперед. Даже крепкая матросская рука не смогла его удержать. Он полетел вверх ногами на гребцов второй банки, врезался в них, чуть не потерял сознание от удара о мощные плечи и с трудом встал.
— Извините, — пробормотал он матросам, смягчившим его падение.
— Ничего, сэр, — сказал ближайший — настоящий морской волк, татуированный и с косичкой. — Вы совсем легонький.
Командующий тендером лейтенант смотрел на него с кормы.
— Я попрошу вас направиться к бригу, сэр, — сказал Хорнблауэр. Лейтенант скомандовал тендеру развернуться. Хорнблауэр тем временем пробирался на корму.
К приятному изумлению он не встретил ухмылок или плохо скрываемой насмешки. Высаживаться на маленькую шлюпку с большого фрегата непросто даже в спокойном море — возможно, каждый из команды хоть раз да летал головой вперед, а не в традициях флота (как понимали эти традиции на «Неустанном») смеяться над теми, кто старается по мере сил.
— Вы принимаете бриг? — спросил лейтенант.
— Да, сэр. Капитан велел мне взять четырех ваших матросов.
— Тогда вам лучше взять марсовых, — произнес лейтенант, оглядывая такелаж брига. Фор-марса-рей опасно накренился, а кливер-фал ослаб настолько, что парус громко хлопал на ветру. — Вы знаете, кого взять, или мне для вас выбрать?
— Буду премного обязан, сэр.
Лейтенант выкрикнул четыре имени, четыре человека откликнулись.
— Не давайте им спиртного, и все будет в порядке, — сказал лейтенант. — Следите за французской командой. Если провороните, не успеете глазом моргнуть, как они захватят судно, и вы окажетесь во французской тюрьме.
— Есть, сэр, — сказал Хорнблауэр.
Тендер качался рядом с бригом, вода пенилась между двумя судами. Татуированный моряк быстро поторговался с соседом по банке и сунул в карман пачку табаку — подобно Хорнблауэру, матросы оставляли свои пожитки на корабле. Он прыгнул на грот-руслень, за ним другой. Они остановились и поджидали, пока Хорнблауэр проберется по качающейся шлюпке. Он задержался на передней банке, осторожно балансируя. Грот-руслень брига был куда ниже бизань-русленя «Неустанного», но в этот раз надо было прыгать вверх. Один из матросов поддержал Хорнблауэра под руку.
— Подождите, сэр, — сказал он. — Приготовьтесь. Теперь прыгайте, сэр.
Хорнблауэр, подобравшись как лягушка, бросил свое тело на грот-руслень, ухватился руками за ванты, но ноги скользнули, бриг накренился, и он очутился по пояс в воде, выпуская из рук ванты. Тут поджидавшие его матросы ухватили его под мышки и втащили на борт. Два другие матроса последовали за ним. Хорнблауэр повел свою команду по палубе.
Первый же человек, которого он увидел, сидел на крышке люка, запрокинув голову и припав губами к бутылке, чье донышко указывало вертикально вверх. Вокруг люка сгрудилось еще несколько человек, бутылок тоже было несколько: одна переходила из рук в руки. Когда Хорнблауэр подходил, корабль накренился, и пустая бутылка прокатилась мимо его ног в шпигат. Еще один француз, с развевающимися белесыми волосами, встал для приветствия, постоял немного, собираясь с духом, словно тщился сообщить что-то чрезвычайно важное и никак не находил нужных слов.
— Годдэм инглиш, — выдавал он наконец и, удовольствовавшись сказанным, плюхнулся на крышку люка, потом повалился плашмя и пристроился спать, уронив голову на руки.
— Они неплохо провели время, сэр, клянусь Богом, — произнес матрос рядом с Хорнблауэром.
— Нам бы так, — сказал другой.
Рядом с крышкой люка стоял ящик, на четверть заполненный тщательно запечатанными бутылками. Матрос вынул одну и принялся с любопытством разглядывать. Хорнблауэру не надо было вспоминать предупреждение лейтенанта — за короткое пребывание в вербовочном отряде он сам имел возможность наблюдать склонность британских моряков к пьянству. Если позволить, через час его отряд будет пьянее французов. Хорнблауэру представилась жуткая картина: он с покалеченным судном и пьяной командой дрейфует в Бискайском заливе.
— Ну-ка поставь, — сказал он. От волнения его семнадцатилетний голос дал петуха, как у четырнадцатилетнего, и матрос заколебался, держа бутылку в руках.
— Поставь ее, слышал? — произнес Хорнблауэр в отчаянии. Это его первое независимое командование: необычные условия и возбуждение подстегнули его живой темперамент, в то же время рассудок подсказывал, что если не послушаются сейчас, не будут слушаться и дальше. Пистолет был у него за поясом, и он положил руку на рукоять. Сомнительно, чтобы он его вытащил и выстрелил (даже если бы порох не намок, как горько подумал он, вспоминая об этом позже), но матрос, с сожалением взглянув на бутылку, поставил ее на место. Инцидент исчерпан, надо действовать дальше.
— Отведите их на бак, — приказал он, — и заприте в носовой каюте.
— Есть, сэр.
Почти все французы могли идти, их погнали перед собой, но четырех пришлось тащить за шиворот.
— Вставать, мусыо, — сказал один из матросов. — Сюда ходить.
Он, очевидно, полагал, что так иностранцам будет понятнее, Приветствовавший их француз проснулся, и, поняв, что его тащат на бак, вырвался и повернулся к Хорнблауэру.
— Я есть офицер, — он указал на себя. — Я с ними не ходить.
— Уберите его! — сказал Хорнблауэр. Не хватало ему только спорить о пустяках.
Он подтащил ящик к борту корабля и выбросил бутылки в море. Видимо, это было какое-то особое вино, и французы решили его выпить, чтоб не досталось англичанам. Хорнблауэру это было безразлично: британский моряк может напиться как казенным ромом, так и марочным кларетом. Он закончил раньше, чем последний француз скрылся в носовой каюте; осталось еще время оглядеться. Он осматривал разрушения, причиненные выстрелом, но свист ветра и непрерывное хлопанье кливера мешали думать спокойно. Все паруса повисли, бриг подпрыгивал, наклоняясь кормой, пока оставленный без присмотра руль не разворачивал его, тогда он терял ветер и резко останавливался, как заартачившаяся лошадь. Математический ум Хорнблауэра приобрел уже немалый опыт по балансу косых парусов на хорошо управляемом судне. Здесь равновесие было нарушено, и Хорнблауэр принялся за задачу о приложении сил к плоской поверхности.
Тут вернулись его матросы. Одно, по крайней мере, было ясно: опасно нависший фор-марса-рей может в любой момент оторваться и натворить бед. Корабль надо правильно положить в дрейф, и Хорнблауэр уже догадывался, как это сделать. Он сформулировал команду как раз вовремя, чтобы никто не заметил его колебаний.
— Брасопить задние реи к левому борту, — скомандовал он. — К брасам, ребята.
Матросы послушались, Хорнблауэр бросился к рулю. Он несколько раз стоял у руля, осваивая морскую науку под руководством Пелью, но уверенности в себе так и не приобрел. Рукояти показались рукам совсем чужими — он на пробу робко повернул штурвал. Но все оказалось просто. С развернутыми задними реями бриг сразу пошел лучше, рукояти штурвала подсказывали чутким пальцам, корабль вновь стал логичной конструкцией. Мозг Хорнблауэра завершил решение задачи о действии руля одновременно с чувствами, решившими ее эмпирически. В этих условиях руль можно спокойно принайтовить. Он опустил стропку на рукоять и отошел от руля. «Мари Галант» шла гладко.
Итак, моряки не усомнились в его компетентности, но, разглядывая перепутанный клубок на стеньге, Хорнблауэр не имел ни малейшего представления, что с ним делать. Однако его подчиненные — опытные моряки, возможно, они десятки раз исправляли подобные повреждения. Первое (и единственное), что надо сделать, это довериться их опыту.
— Кто из вас самый бывалый моряк? — он старался говорить короче, чтобы не дрожал голос.
— Мэтьюз, сэр, — сказал кто-то наконец, указывая большим пальцем на татуированного матроса с косичкой, того самого, на которого Хорнблауэр свалился в тендере.
— Очень хорошо. Я назначаю вас старшиной, Мэтьюз. Приступайте сейчас же и уберите это безобразие на носу.
Момент был для Хорнблауэра критический, но Мэтьюз спокойно козырнул.
— Есть, сэр, — сказал он, как будто, так и надо.
— Сначала займитесь кливером, пока он совсем не измочалился, — сказал Хорнблауэр, заметно осмелев.
— Есть, сэр.
— Ну давайте.
Матросы отправились на нос, а Хорнблауэр на корму. Он вынул подзорную трубу из стропки на полуюте и оглядел горизонт. Видны были несколько кораблей. Ближайшие, которые он мог разглядеть, были призами. Они под всеми парусами, какие могли нести, спешили в Англию. Дальше по ветру видны были марсели «Неустанного», преследующего остатки конвоя. Медленных и неповоротливых он уже настиг, и каждая следующая добыча отнимала все больше времени. Скоро бриг останется один в открытом море, в трех сотнях миль от Англии. Три сотни миль — два дня пути при попутном ветре. Но что если ветер переменится?
Он положил трубу. Матросы трудились на корме, а он спустился вниз и осмотрел офицерские каюты: две одноместные (видимо, для капитана и помощника), двухместная для боцмана и кока (или плотника). Он нашел кладовую над ахтерпиком, опознав ее по разнообразным припасам; дверь моталась из стороны в сторону, связка ключей торчала в замке. Теряя все, французский капитан вынес ящик вина и не потрудился даже закрыть дверь. Хорнблауэр запер замок и опустил ключи в карман. На него внезапно нахлынуло одиночество — неизбежное одиночество командира. Он поднялся на палубу. При виде его Мэтьюз заспешил на корму и козырнул.
— Простите, сэр, но нам понадобятся гардели, чтобы снова подвесить этот рей.
— Очень хорошо.
— У нас рук не хватает, сэр. Можно мне нескольких мусью взять?
— Если вы с ними управитесь. И если кто-нибудь из них достаточно трезв.
— Небось управлюсь, сэр. Что с трезвыми, что с пьяными.
— Очень хорошо. Приступайте.
В этот-то момент Хорнблауэр с горьким отвращением к себе вспомнил, что порох в его пистолете наверняка отсырел. Какой позор хвататься за пистолет, не перезаряженный после кульбита в маленькой лодке! Пока Мэтьюз шел на нос, Хорнблауэр опрометью бросился вниз. В капитанской каюте он видел ящик с пистолетами, фляжку с порохом и мешочек пуль. Он зарядил оба пистолета, а в свой заново насыпал пороху на полку, как раз к тому времени, когда из носовой каюты, подталкивая французов, появились матросы. Хорнблауэр расположился на полуюте, широко расставил ноги, сложил руки за спиной и попытался принять уверенный и независимый вид. После часа тяжелой работы гардели приняли вес рея и паруса. Рей был подвешен, парус поставлен.
Когда работа приближалась к концу, Хорнблауэр очнулся и вспомнил, что сейчас надо будет указывать курс. Он снова бросился вниз, достал карты, измерители и параллельные линейки. Из кармана он извлек мятый клочок бумаги с координатами, который так небрежно сунул в карман в преддверии более неотложной задачи — перебраться с «Неустанного» в тендер. Хорнблауэр с огорчением подумал, как непочтительно обошелся тогда с этим клочком бумаги. Он начал осознавать, что хотя флотская жизнь и представляется переходом из крайности в крайность, на самом деле она — одна сплошная крайность, так что, даже разбираясь с одной чрезвычайной ситуацией, нужно продумывать, как поступить в следующей. Он склонился над картой, рассчитывая местоположение и прокладывая курс. Ему стало неуютно при мысли о том, что это не упражнение под ободряющим руководством мистера Сомса, а вопрос его жизни и репутации. Он проверил выкладки, выбрал курс и записал его на бумажке, чтобы не забыть.
Так что когда фор-марса-рей подвесили на место, пленных загнали в носовую каюту и Мэтьюз вопросительно посмотрел на Хорнблауэра, ожидая дальнейших приказаний, тот был готов их отдать.
— Мы пойдем на фордевинд, — сказал он. — Мэтьюз, поставьте кого-нибудь к рулю.
Сам он стал к брасам. Ветер был умеренный, и Хорнблауэр чувствовал, что под этими парусами его люди смогут вести корабль.
— Какой курс, сэр? — спросил рулевой, и Хорнблауэр полез в карман за листком бумаги.
— Норд-ост-тень-норд, — прочелон.
— Есть норд-ост-тень-норд, сэр, — отвечал рулевой, и «Мари Галант» устремилась к Англии.
Спускалась ночь, и по всему горизонту не было видно ни одного корабля. Хорнблауэр знал, что они сразу за горизонтом, но мысль эта не скрашивала его одиночества. Столько надо делать, столько помнить, и вся ответственность ложиться на его неокрепшие плечи. Пленных надо задраить в носовой каюте, поставить вахту, даже простая задача найти кремень и огниво, чтобы зажечь нактоузный фонарь, требовала внимания. Поставить на носу впередсмотрящего — пусть заодно присматривает за пленными; другой матрос у руля. Двое пусть поспят, сколько смогут — ставить и убирать любой парус придется авралом. Скудный ужин — вода из бачка и сухари из кладовой. Постоянно следить за погодой. Хорнблауэр в темноте мерил шагами палубу.
А вы почему не спите, сэр? — спросил рулевой.
— Я лягу позже, Хантер, — отвечал Хорнблауэр, стараясь не подать виду, что это просто не пришло ему в голову.
Он понимал, что совет разумный и попытался ему последовать. Спустившись вниз, он бросился на капитанскую койку, но заснуть, конечно, не смог. Когда он услышал, как впередсмотрящий орет в люк, чтобы двое других матросов (они спали в соседней каюте) сменили первых на вахте, то не удержался, встал и вышел на палубу посмотреть, все ли в порядке. Убедившись, что на Мэтьюза можно положиться, Хорнблауэр заставил себя спуститься вниз, но не успел лечь, как новая мысль бросила его в дрожь. Он вскочил на ноги, все его самодовольство улетучилось, сменившись крайней озабоченностью. Он бросился на палубу и направился к Мэтьюзу, сидевшему на корточках у недгедсов.
— Ничего не сделано, чтобы проверить, не набирает ли корабль воды, — он быстро подбирал слова, чтобы не обвинить Мэтьюза, и, одновременно, в целях поддержания дисциплины, не брать вину на себя.
— Верно, сэр, — отвечал Мэтьюз.
— Один из выстрелов «Неустанного» попал в бриг, продолжал Хорнблауэр. — Насколько он повредил судно?
— Точно не знаю, сэр, — отвечал Мэтьюз. — Я был тогда на тендере.
— Надо будет посмотреть, как только рассветет, — сказал Хорнблауэр. — А сейчас хорошо бы замерить уровень воды в льяле.
Сказано было смело. В течение краткого обучения на «Неустанном» Хорнблауэр узнал обо всем понемногу, поработав по очереди с начальником каждого подразделения. Однажды он вместе с плотником замерял высоту воды в льяле — вопрос, сможет ли он найти его на чужом корабле и прозондировать.
— Есть, сэр, — без колебаний отвечал Мэтьюз и зашагал к кормовой помпе. — Вам понадобится свет, сэр. Я сейчас принесу.
Он принес фонарь и осветил лотлинь, висевший возле помпы, так что Хорнблауэр сразу его признал. Сняв лотлинь, Хорнблауэр вставил тяжелый трехфутовый стержень в отверстие льяла и вовремя вспомнил вынуть его и убедиться, что он сухой. Потом он спустил линь, вытравливая понемногу, пока стержень ни стукнул глухо о днище корабля. Он вытащил линь, Мэтьюз приподнял фонарь. Хорнблауэр с замиранием сердца поднес к свету стержень.
— Ни капли, сэр, — сказал Мэтьюз, — сухой, как вчерашняя кружка.
Хорнблауэр был приятно удивлен. Всякий корабль немного да течет — даже на «Неустанном» помпы работали ежедневно. Он не знал, следует ли считать эту сухость явлением удивительным или из ряда вон выходящим. Ему хотелось выглядеть многозначительным и непроницаемым.
— Гм, — само пришло нужное слово. — Очень хорошо, Мэтьюз. Сверните линь обратно.
Мысль, что «Мари Галант» не набирает воды, помогла бы ему заснуть, если бы ветер резко не переменился и не усилился сразу же по его возвращении в каюту. Неприятные новости принес Мэтьюз, спустившийся вниз и забарабанивший в дверь.
— Мы не сможем держать этот курс, сэр, — заключил он свой рассказ. — И ветер становится порывистым.
— Очень хорошо, сейчас поднимусь. Зовите всех наверх, — сказал Хорнблауэр с резкостью, которую можно было бы объяснить внезапным пробуждением, если бы она не была попыткой скрыть внутреннее волнение.
С такой маленькой командой Хорнблауэр не решался и в малой мере позволить погоде застать себя врасплох. Он вскоре убедился, что все надо делать загодя. Ему пришлось встать к рулю, пока четыре матроса взяли марсели в рифы и все надежно принайтовили. Это заняло полночи, и к концу работы стало окончательно ясно, что ветер дует с севера и «Мари Галант» не может больше идти на норд-норд-ост. Хорнблауэр оставил руль и спустился к картам. Те лишь подтвердили его пессимистические расчеты: этим галсом они не пройдут Уэссан на ветре. При такой нехватке матросов он не мог идти вперед в надежде, что ветер переменится: все, что он читал и слышал, предупреждало об опасности подветренного берега. Оставалось поворачивать. С тяжелым сердцем он вернулся на палубу.
— Поворот через фордевинд! — Он старался подражать голосу мистера Болтона, третьего лейтенанта на «Неустанном».
Они благополучно повернули бриг и пошли правым галсом, держась круто к ветру. Теперь они без сомнения удалялись от опасных берегов Франции, но при этом уходили и от родных берегов. Никакой надежды за два дня добраться до Англии. Никакой надежды Хорнблауэру поспать этой ночью.
За год до поступления на флот Хорнблауэр брал уроки у нищего французского эмигранта: французский язык, музыка, танцы.
Вскоре несчастный эмигрант обнаружил у своего питомца полное отсутствие слуха и полную неспособность к танцам. Чтобы оправдать свою плату, он решил сосредоточиться на языке. Большая часть пройденного накрепко осела в цепкой памяти Хорнблауэра. Он никогда не думал, что это ему когда-нибудь пригодится, однако, оказалось совсем наоборот. На заре французский капитан потребовал разговора. Он немного говорил по-английски, но Хорнблауэр (стоило ему преодолеть робость и выдавить несколько неуверенных слов) к приятному изумлению обнаружил, что по-французски они могут объясняться лучше.
Капитан жадно попил из бачка. Он был, естественно, не брит и после двенадцати часов в задраенной носовой каюте, куда его втолкнули мертвецки пьяным, выглядел плачевно.
— Мои люди голодны, — сказал капитан.
Мои тоже, — отвечал Хорнблауэр. — Я тоже.
Говоря по-французски, трудно не жестикулировать. Он указал рукой на своих матросов, потом постучал себя в грудь.
— У меня есть кок, — сказал капитан.
Потребовалось время, чтобы обговорить условия перемирия. Французам разрешается выйти на палубу, кок на всех приготовит обед, на то время, что эти послабления допущены, французы обязуются не принимать попыток к захвату корабля.
— Хорошо, — сказал, наконец, капитан, и как только Хорнблауэр отдал необходимые приказания и французов выпустили, оживленно принялся обсуждать с коком предстоящий обед. Вскоре над камбузом поднялся веселый дымок.
Лишь тогда капитан взглянул на серое небо, на зарифленные марсели, посмотрел на нактоуз и компас.
— Встречный ветер для курса на Англию, — заметилон.
—Да, — кратко отвечал Хорнблауэр. Он не хотел, чтобы француз догадался об его отчаянии и трепете.
Капитан внимательно прислушался к движениям судна у них под ногами.
— Что-то она тяжело идет, вам не кажется? — спросил он.
— Возможно, — отвечал Хорнблауэр. «Мари Галант» была ему незнакома, как, впрочем, и любой другой корабль, поэтому он не имел своего мнения, но и невежества обнаруживать не хотел.
— Она не течет? — спросил капитан.
— Воды нет, — отвечал Хорнблауэр.
— А! — сказал капитан. — Но в льяле воды и не будет. Мы же рис везем, вы должны помнить.
— Да, — сказал Хорнблауэр.
В тот момент, когда до него дошел смысл сказанного, он с трудом мог сохранить невозмутимый вид. Рис впитывает каждую каплю воды, проникшую в корабль, так что обнаружить течь, замеряя уровень воды в льяле, невозможно — но каждая капля уменьшает плавучесть корабля.
— Один выстрел с вашего проклятого фрегата попал нам в корпус, — сказал капитан. — Вы, конечно, осмотрели повреждение?
— Конечно, — смело соврал Хорнблауэр. Однако, как только ему удалось поговорить с Мэтьюзом, тот сразу нахмурился.
— Куда попало ядро, сэр? — спросил он.
— Куда-то с левой стороны, ближе к носу. — Они с Мэтьюзом свесили головы через борт.
— Ничего не видать, сэр, — сказал Мэтьюз, — спустите меня за борт на булине, может, я что увижу, сэр.
Хорнблауэр готов был уже согласиться, но передумал.
— Я сам спущусь за борт, — сказал он.
Ему некогда было разбираться, что его к этому побудило. Отчасти он хотел видеть собственными глазами, отчасти — твердо усвоил, что нельзя отдавать приказ, который не готов выполнить сам; но главное, он хотел наказать себя за преступное упущение. Мэтьюз и Карсон обвязали его булинем и спустили за борт. Хорнблауэр повис рядом с бортом над пенящимся морем. Корабль накренился, и море поднялось навстречу — он в момент промок до нитки. Когда корабль наклонялся, Хорнблауэр отшатывался от борта и тут же с размаху врезался в него. Матросы, державшие линь, медленно двигались к корме, давая ему возможность внимательно осмотреть весь борт над ватерлинией. Пробоины нигде не было. Об этом Хорнблауэр и сообщил Мэтьюзу, втащившему его на палубу.
— Видать она под ватерлинией, сэр. — Мэтьюз сказал вслух то, о чем Хорнблауэр думал. — Вы уверены, что ядро попало, сэр?
— Да, уверен, — резко отвечал Хорнблауэр. Волнение, недостаток сна и чувство вины до предела напрягли его нервы: он мог или говорить резко, или разрыдаться. Но он уже знал, что делать дальше — он решился еще тогда, когда они втаскивали его на борт.
— Мы положим ее в дрейф на другой галс и попробуем снова, — сказал он.
На другом галсе судно накренится на другую сторону и пробоина, если она есть, будет не так глубоко под водой. Хорнблауэр стоял, ожидая, пока корабль развернется; с него ручьями текла вода. Ветер был холодный и резкий, но он дрожал не от холода, а от волнения. Крен корабля помог ему крепче уцепиться за борт. Матросы вытравливали веревку, пока ноги его не заскребли о наросшие на борт ракушки. Так они пошли к корме, волоча его вдоль борта. Сразу за фок-мачтой он обнаружил, что искал.
— Стой! — закричал он, пытаясь не выдать охватившее его отчаяние. — Ниже! Еще два фута.
Теперь он был по плечи в воде, и при наклоне корабля волны на секунду сомкнулись над его головой, как мгновенная смерть. Здесь, на два фута ниже ватерлинии (даже при этом галсе) она и была — рваная уродливая дыра, почти квадратная, шириной в фут. Хорнблауэру послышалось даже, что бушующее море с бульканьем втягивается в нее, но это могла быть и фантазия.
Он закричал, чтобы поднимали. Мэтьюз с нетерпением ждал, что он расскажет.
— Два фута под ватерлинией? — переспросил Мэтьюз.
— Она шла круто к ветру и накренилась вправо, когда мы в нее попали. Все равно она, видать, как раз тогда и задрала нос. Вдобавок теперь она осела еще глубже.
Это было главное. Чтобы они ни делали, как бы ни накреняли судно, пробоина останется под водой. А на другом галсе она будет еще глубже, давление воды — еще больше, на теперешнем же галсе они идут к Франции. А чем больше они наберут воды, тем глубже осядет бриг, тем сильнее будет давление воды. Надо как-то заделать течь. Как это делается, Хорнблауэру подсказало изучение книг по мореходству.
— Нужно подвести под пробоину пластырь, — объявил он. — Зовите французов.
Чтобы сделать пластырь, из паруса, пропуская через него огромное количество полураспущенных веревок, изготовляют что-то вроде очень толстого ворсистого ковра. После этого парус опускают под днище корабля и подводят к пробоине. Ворсистая масса плотно втягивается в дыру, задерживая воду.
Французы не очень торопились помогать. Корабль был теперь не их, плыли они в английскую тюрьму, и даже смертельная опасность не могла их расшевелить. Потребовалось время, чтобы достать запасной брамсель (Хорнблауэр чувствовал: чем плотнее парусина, тем лучше) и заставить французов нарезать, расплести и размочалить веревки. Французский капитан стоя наблюдал, как они трудятся, сидяна корточках.
— Пять лет я провел на плавучей тюрьме в Портсмуте, — сказал он. — Это было во время прошлой войны.
Хорнблауэр мог бы и посочувствовать, но был озабочен другим, да к тому же промерз до костей. Он не только намеревался вновь препроводить капитана в английскую тюрьму — но, в этот самый момент, замышлял спуститься в капитанскую каюту и присвоить кое-что из его теплой одежды.
Внизу Хорнблауэру показалось, что звуки — скрипы и стоны — стали громче. Судно шло легко, почти дрейфовало, однако переборки трещали и скрипели, как в шторм. Он отбросил эту мысль, сочтя ее плодом перевозбужденного воображения, однако к тому времени как он вытерся, немного согрелся и облачился в лучший капитанский костюм, сомнений уже быть не могло: корабль стонал, как тяжелобольной.
Он поднялся на палубу посмотреть, как идет работа. Не прошло и нескольких секунд, как один из французов, потянувшись за новой веревкой, остановился и уставился на палубу. Он прикоснулся к палубному пазу, посмотрел вверх, поймал взгляд Хорнблауэра и подозвал его. Хорнблауэр не притворялся, будто понимает слова — жест был достаточно красноречив. Паз немного разошелся, и из него выпирала смола. Хорнблауэр наблюдал странное явление, нечего не понимая — паз разошелся на протяжении не более двух футов, остальная палуба казалось достаточно прочной. Нет! Теперь, когда его внимание обратили, он увидел, что еще кое-где смола черными полосками выпирает между досок. Ни его маленький опыт, ни его обширное чтение объяснить этого не могли. Но французский капитан тоже во все глаза смотрел на палубу.
— Господи! — сказал он. — Рис! Рис! Французского слова «рис» Хорнблауэр не знал, но капитан топнул ногой по палубе и указал вниз.
— Груз! — объяснил он. — Груз увеличивается в объеме. Мэтьюз стоял рядом с ними, и, не зная ни слова по-французски, сразу все понял.
— Я верно расслышал, что бриг полон риса, сэр? — спросил он.
— Да.
— Тогда это он. В него попала вода, вот он и пухнет.
Так оно и было. Рис, впитывая воду, способен увеличить объем в два и даже в три раза. Груз разбухал и раздвигал корабельные швы. Хорнблауэр вспомнил неестественные скрипы и стоны. Это было ужасно — он оглянулся на зловещее море в поисках вдохновения и поддержки, и не нашел ни того ни другого. Несколько секунд прошло прежде, чем он смог говорить, сохраняя достоинство, приличествующее флотскому офицеру в минуту опасности,
— Чем скорее мы подведем парус под пробоину, тем лучше, — сказал Хорнблауэр. Трудно было ждать, что голос его прозвучит вполне естественно, — Поторопите этих французов.
Он повернулся и зашагал по палубе, чтобы успокоиться и дать мыслям придти в порядок, но француз следовал за ним по пятам, говорливый, как советчики Иова.
— Я говорил, мне кажется, что судно идет тяжело, — произнес он. — Оно глубже осело.
— Идите к черту, — сказал Хорнблауэр по-английски, он не смог придумать французского эквивалента.
Тут же он почувствовал под ногами сильный толчок, словно по палубе снизу ударили молотом. Корабль разваливался на куски.
— Поторопитесь с парусом, — заорал он на работающих, и тут же рассердился на себя — его тон явно выдавал недостойное волнение.
Наконец было прошито пять квадратных футов паруса. Через кренгельсы пропустили веревки и парус потащили на нос, чтобы опустить под бриг и подвести к пробоине. Хорнблауэр снял одежду, не из заботы о чужой собственности, а чтобы сохранить ее сухой.
— Я спущусь и посмотрю на месте, — сказал он. — Мэтьюз, приготовьте булинь.
Голому и мокрому Хорнблауэру казалось, будто ветер пронизывает его насквозь, борт корабля, о который он ударялся при качке, сдирал с него кожу, волны, проходящие под кораблем, били его с неистовым безразличием. Но он проследил, чтобы прошитый парус подошел куда нужно, и с глубоким удовлетворением наблюдал, как ворсистая масса стала на место, засосалась в пробоину и глубоко втянулась. Он мог не сомневаться, что течь запечатана крепко. Он крикнул. Матросы вытащили его наверх и теперь ждали дальнейших приказов. Он стоял голый, одурев от холода, усталости и недосыпа, и заставлял себя принять следующее решение.
— Положите ее на правый галс, — сказал он, наконец. Если бриг затонет, неважно, произойдет это в ста или в двухстах милях от Франции; если нет, он хотел находиться подальше от подветренного берега и неприятеля. Правда, при этом пробоина будет глубже под водой, а значит и давление выше, но все равно это лучше. Французский капитан, видя приготовления к повороту судна, шумно запротестовал. При таком ветре другим галсом они легко доберутся до Бордо. Хорнблауэр, дескать, рискует их жизнями. В затуманенном мозгу Хорнблауэра, помимо его воли, созревал перевод чего-то, что он хотел сказать раньше. Теперь он смог это высказать.
— Allez au diable, — произнес он, натягивая плотную шерстяную рубашку француза.
Когда он просунул голову в воротник, капитан продолжал возмущаться, да так громко, что у Хорнблауэра возникли новые опасения. Он отправил Мэтьюза к пленным французам, проверить, нет ли у них оружия. При обыске не обнаружилось ничего, кроме матросских ножей, но Хорнблауэр из предосторожности велел конфисковать и их. Одевшись, он занялся своими тремя пистолетами, перезарядил их и заново заправил порохом. С тремя пистолетами за поясом вид у него был пиратский, словно он еще не вышел из возраста подобных игр. Однако Хорнблауэр чувствовал, что может придти время, когда французы попытаются восстать, а три пистолета — не так уж много против двенадцати отчаявшихся людей, у которых под руками куча тяжелых предметов, вроде кофель-нагелей и тому подобного.
Мэтьюз ждал его с озабоченным видом.
— Сэр, — сказал он, — прошу прощения, но она мне не нравится. Она оседает и открывается, я точно уверен. Вы уж простите, сэр, что я так говорю.
Внизу Хорнблауэр слышал, что доски корабля все так же трещат и жалуются — швы на палубе расходились все шире. Напрашивалось простое объяснение: рис, разбухая, раздвинул корабельные швы под водой, так что пластырь устранил лишь малую течь. Вода продолжает поступать, груз пухнет, корабль раскрывается, как облетающий цветок. Корабли строятся, чтобы выдерживать удары извне, ничто в их конструкции не рассчитано на сопротивление внутреннему давлению. Швы будут расходится все шире и шире, а вода проникать все дальше и дальше в груз.
— Смотрите сюда, сэр, — неожиданно сказал Мэтьюз. В ярком дневном свете маленькая серая тень заскользила вдоль шпигата, потом еще и еще. Крысы! Что-то страшное творилось внизу, раз они вылезли средь бела дня, бросив уютные гнезда в обильной пище — грузе. Давление, наверное, огромное. Хорнблауэр почувствовал новый толчок под ногами — еще что-то разошлось. У него оставалась еще одна карта, последнее, что он мог придумать.
— Я выброшу за борт груз, — сказал Хорнблауэр. Никогда в жизни не произносил он таких слов, только читал. — Приведите пленных и приступайте.
Задраенный люк заметно выгнулся наружу, клинья вышибло, одна планка с треском отлетела и стала торчком.
Когда французы подняли крышку,из люка полезло что-то коричневое: это внутреннее давление выдавало мешок с рисом.
— Цепляйте тали и тащите наверх, — сказал Хорнблауэр.
Мешок за мешком поднимался из трюма, иные рвались, обрушивая на палубу водопад риса, но это было неважно. Другие матросы тащили мешки к левому борту и сбрасывали в вечно голодное море. После трех первых мешков стало труднее: груз спрессовался так крепко, что. каждый мешок требовал неимоверных усилий. Двоим пришлось спуститься, чтобы освобождать мешки с помощью рычага и поправлять канаты. Два француза, на которых указал Хорнблауэр, было заколебались — мешки могли быть не все плотно прижаты друг к другу, а трюм качающегося корабля, в котором груз может обрушиться и похоронить заживо, место весьма опасное — но Хорнблауэру было сейчас не до чьих-то страхов. Он только нахмурил брови, и они поспешно спустились в люк. Час за часом шла титаническая работа, матросы за талями обливались потом и изнемогали от усталости, тем не менее, они должны были время от времени сменять тех, кто внизу. Мешки спрессовались слоями, вжались в днище и в палубу сверху, так что, разобрав мешки непосредственно под люком, пришлось растаскивать каждый слой в отдельности. Когда под люком расчистили небольшое пространство и забрались глубже в трюм, то сделали неизбежное открытие: нижние ярусы мешков намокли, их содержимое разбухло, и мешки лопнули. Нижняя половина трюма была забита мокрым рисом, извлечь который можно было лишь совковыми лопатами и подъемниками. Пока еще целые мешки верхних ярусов дальше от люка были плотно прижаты к палубе: для того чтобы выворотить их и подтащить к люку требовались неимоверный усилия.
Хорнблауэр глубоко погрузился в эту проблему, но его отвлек, тронув за локоть, Мэтьюз.
— Не пойдет так, сэр, — сказал Мэтьюз, — она глубже в воде и быстро оседает.
Хорнблауэр подошел к борту корабля и поглядел вниз. Сомнений быть не могло. Он сам спускался за борт и прекрасно помнил расстояние до ватерлинии, еще более точную отметку давал подведенный под корабельное днище прошитый парус. Бриг осел на целых шесть дюймов — это после того, как они выбросили за борт не менее пятидесяти тонн риса. Бриг течет, как корзина: вода, проникая в разошедшиеся швы, жадно впитывается рисом.
Хорнблауэр почувствовал боль в левой руке и, посмотрев вниз, обнаружил, что сам того не замечая, до боли сжал перила. Он отпустил руку и поглядел вокруг, на садящееся солнце и мерно вздымающееся море. Он не хотел сдаваться, не хотел признавать поражение. Французский капитан подошел к нему.
— Это сумасшествие, — сказал он. — Безумие. Мои люди падают от усталости.
Хорнблауэр видел, как над люком Хантер линьком понукает французов — линек так и мелькал. Эти французы много не наработают. Тут «Мари Галант» тяжело поднялась на волне и перевалилась на другой бок. Даже Хорнблауэр при всей своей неопытности видел неповоротливость и зловещую медлительность ее движений. Бригу не долго оставаться на плаву, а сделать надо так много.
— Я начну приготовления к тому, чтобы покинуть судно. Говоря это, он выставил вперед подбородок: пусть ни французы, ни матросы не догадываются о его отчаянии.
— Есть, сэр, — сказал Мэтьюз.
Шлюпка на «Мари Галант» была закреплена на ростр-блоках позади грот-мачты. По команде Мэтьюза матросы бросили поднимать груз и поспешно принялись укладывать в лодку пищу и воду.
— Прошу прощения, сэр, — произнес Хантер рядом с Хорнблауэром, — но вам надо найти себе теплую одежду, сэр. Я как-то провел десять дней в открытой лодке, сэр.
— Спасибо, Хантер, — сказал Хорнблауэр.
Позаботиться надо было о многом. Навигационные приборы, карты, компас — а сможет ли он пользоваться секстантом в качающейся шлюпке?
Элементарная предусмотрительность требовала, чтобы они взяли столько пищи и воды, сколько выдержит шлюпка, но — Хорнблауэр с опаской озирал несчастное суденышко — семнадцать человек все равно перегрузят ее. Тут придется положиться на капитана и на Мэтьюза.
Моряки стали к талям, сняли шлюпку с ростр-блоков и спустили на воду с подветренного борта. «Мари Галант» зарылась носом в волну, не желая на нее взбираться: зеленая волна накатилась на нос и побежала по палубе к корме, пока корабль не наклонился лениво, и она не стекла в шпигаты. На счету была каждая минута — душераздирающий треск снизу говорил, что груз по-прежнему разбухает и давит на переборки. Среди французов началась паника, они с громкими криками бросились в шлюпку. Французский капитан взглянул на Хорнблауэра и последовал за ними; два британских моряка уже были внизу, удерживая лодку.
— Вперед, — сказал Хорнблауэр ожидавшим его Мэтьюзу и Карсону. Он — капитан, его долг — последним оставлять корабль.
Бриг погрузился уже так глубоко, что не составило никакого труда шагнуть в лодку с палубы; британские моряки сидели на корме и подвинулись, освобождая Хорнблауэру место.
— Берите руль, Мэтьюз, — сказал Хорнблауэр. Он сомневался, что сможет управлять перегруженной лодкой. — Отваливай!
Лодка и бриг разошлись; «Мари Галант» с принайтовленным рулем встала носом по ветру и на секунду замерла. Потом резко накренилась, едва не черпнув воду шпигатом правого борта. Следующая волна прокатилась по палубе, заливая открытый люк. Потом судно выпрямилось — палуба почти вровень с морем — и ровно-ровно погрузилось под воду. Волны сомкнулись над ним, медленно исчезли мачты. Еще несколько мгновений паруса виднелись сквозь зеленую воду.
— Затонула, — сказал Мэтьюз.
Хорнблауэр смотрел, как тонет его первое судно. Ему доверили «Мари Галант», поручили отвести ее в порт, а он не справился, не справился со своим первым самостоятельным заданием. Он пристально смотрел на заходящее солнце, надеясь, что никто не заметит его слез.
РАСПЛАТА ЗА ОШИБКУ
Встающее над неспокойными водами Бискайского залива солнце осветило маленькую шлюпку на его бескрайних просторах. Шлюпка была набита битком: на носу сгрудилась команда затонувшего брига «Мари Галант», в середине сидели капитан и его помощник, на корме — мичман Горацио Хорнблауэр и четверо английских моряков, составлявшие некогда призовую команду брига. Хорнблауэр мучился морской болезнью — его нежный желудок кое-как привык к движениям «Неустанного», но не вынес фокусов маленькой, резво плясавшей на волнах шлюпки. Кроме того, он замерз и бесконечно устал после второй бессонной ночи — его рвало до самого утра — и в подавленном состоянии, вызванном морской болезнью, он снова и снова возвращался к гибели «Мари Галант». Если б только он раньше догадался заделать пробоину! Любые оправдания он отметал с порога. Да, матросов было так мало, а дел так много: стеречь французскую команду, устранять повреждение такелажа, прокладывать курс. Да, то что «Мари Галант» везла рис, способный впитывать влагу, сбило его с толку, когда он вспомнил-таки замерить высоту воды в льяле. Да, все так, но факт остается фактом: он потерял судно, свое первое судно. В собственных глазах он оправдаться не мог.
Французы проснулись на заре и теперь болтали, как стая сорок, Мэтьюз и Карсон рядом с Хорнблауэром зашевелились, разминая затекшие ноги.
— Завтрак, сэр? — спросил Мэтьюз.
Все это напоминало игры, в которые одинокий мальчик Горацио Хорнблауэр играл в детстве. Он садился в пустое свиное корыто и воображал себя потерпевшим кораблекрушение. Тогда он делил раздобытый на кухне кусок хлеба или какую-нибудь другую еду на двенадцать частей и тщательно их пересчитывал. Каждой порции должно было хватить на день. Но из-за здорового мальчишеского аппетита эти дни получались очень короткими, минут по пять каждый — достаточно было постоять в корыте, посмотреть из-под руки, не идет ли помощь, потом, не обнаружив ее, сесть обратно, посетовать на тяжелую жизнь потерпевшего кораблекрушение, и решить, что прошла еще одна ночь и пора съесть кусочек быстро тающего запаса. Так и сейчас под наблюдением Хорнблауэра французский капитан и его помощник раздали всем по жесткому сухарю, потом каждому по очереди налили кружку воды из небольшого бочонка под банкой. Но, сидя в свином корыте, маленький Хорнблауэр, несмотря на живое воображение, даже не подозревал ни о мучительной морской болезни, ни о холоде, ни о тесноте. Не знал он, как больно без движения сидеть тощим задом на жестких досках кормовой банки; никогда в своей детской самоуверенности не думал, как тяжело лежит бремя ответственности на плечах старшего морского офицера в возрасте семнадцати лет.
Хорнблауэр стряхнул с себя воспоминания недавнего детства, чтобы заняться более насущными проблемами. Серое небо, насколько мог судить его неопытный глаз, не предвещало перемены погоды. Он послюнявил палец и поднял его, глядя на компас, чтобы определить направление ветра.
— Ветер отходит чуток позападнее, сэр, — сказал Мэтьюз, повторявший его движения.
— Именно, — согласился Хорнблауэр, поспешно вспоминая недавние уроки обращения с компасом. Курс, чтобы пройти Уэссан на ветре был норд-ост-тень-норд, это он помнил. Как бы круто они ни положили шлюпку, круче чем восемь румбов к ветру она не пойдет. Всю ночь они дрейфовали на плавучем якоре, потому что слишком северный ветер не позволял ему взять курс на Англию. Восемь румбов от норд-ост-тень-норд будет норд-вест-тень-вест, а сейчас ветер был даже чуть западнее. В крутой бейдевинд они пройдут Уэссан на ветре, даже с некоторым запасом на случай непредвиденных обстоятельств, держась подальше от подветренного берега, как и подсказывали Хорнблауэру книги по навигации и собственный здравый смысл.
— Мы поставим парус, Мэтьюз, — сказал Хорнблауэр, Рука его по-прежнему сжимала сухарь, который отказывался принимать непокорный желудок.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр окликнул французов, сгрудившихся на носу. Им и без его ломанного французского было ясно, что надо поднимать плавучий якорь. Но это оказалось не так просто сделать в перегруженной шлюпке, где не было и фута свободного места. Мачта была уже установлена и люггерный парус готов к подъему. Два француза, осторожно балансируя, выбрали фал, и парус поднялся на мачту.
— Хантер, берите шкот, — скомандовал Хорнблауэр. — Мэтьюз, берите руль. Положите ее в крутой бейдевинд на левый галс.
— Есть в крутой бейдевинд на левый галс, сэр.
Французский капитан со своего места на середине судна внимательно наблюдал за происходящим. Он не понял последнего, решающего приказа, но смысл его дошел до него достаточно быстро, когда шлюпка развернулась и установилась на левом галсе, направляясь в сторону Англии. Он вскочил, громко протестуя.
— Ветер дует в сторону Бордо, — произнес он, размахивая руками. — Мы добрались бы туда завтра же. Почему мы идем на север?
— Мы идем в Англию, — сказал Хорнблауэр.
— Но… но это займет неделю! Неделю, если ветер останется попутным. Шлюпка… она слишком перегружена. Мы не выдержим шторма. Это безумие.
Хорнблауэр знал, что капитан скажет, уже когда тот вскочил, и потому не трудился вникать в его доводы. Он слишком устал и слишком страдал от морской болезни, чтобы вступать в споры на чужом языке. Он попросту не обращал на капитана внимания. Ни за что на свете он не повернет шлюпку к Франции. Его морская карьера только началась, и пускай она подпорчена уже гибелью «Мари Галант», Хорнблауэр не собирался долгие Годы гнить во французской тюрьме.
— Сэр! — сказал капитан. Сидевший рядом помощник присоединился к его протестам, потом они обернулись к команде и объяснили, что происходит. Матросы сердито зашевелились.
— Сэр! — начал капитан снова. — Я настаиваю, чтобы вы взяли курс на Бордо.
Он двинулся было в сторону Хорнблауэра, кто-то из французов начал вытаскивать отпорный крюк — оружие достаточно опасное. Хорнблауэр вынул из-за пояса пистолет и направил на капитана. Тот, увидев дуло в четырех футах от своей груди, отпрянул назад. Хорнблауэр левой рукой вытащил второй пистолет.
— Возьмите, Мэтьюз, — сказал он.
— Есть, сэр, — послушно отвечал Мэтьюз, затем, выдержав почтительную паузу, добавил: — Прошу прощения, сэр, может быть вам стоит взвести курок?
— Да, — отвечал Хорнблауэр в отчаянии от своей забывчивости. Он со щелчком взвел курок. Угрожающий звук заставил капитана еще острее ощутить опасность: в качающейся шлюпке взведенный и заряженный пистолет смотрел ему в живот. Он в отчаянии замахал руками.
— Пожалуйста, — взмолился он, — направьте пистолет в другую сторону.
Эй, ты, отставить, — громко закричал Мэтьюз: французский моряк пытался незаметно отдать фал.
— Стреляйте в каждого, кто покажется вам опасным, Мэтьюз, — сказал Хорнблауэр.
Он так стремился принудить их к повиновению, так отчаянно хотел сохранить свободу, что лицо его исказил звериный оскал. Никто, глядя на него, не усомнился бы в его решимости. Он не остановится ни перед чем. Третий пистолет оставался у Хорнблауэра за поясом, и французы понимали, что при попытке мятежа не меньше четверти их погибнет прежде, чем удастся одолеть англичан, и капитан знал, что погибнет первым. Выразительно размахивая руками — он не мог отвести глаз от пистолета — капитан велел своим людям прекратить сопротивление. Ропот стих, и француз стал молить.
— Пять лет я провел в английской тюрьме во время прошлой войны, — говорил он. — Давайте договоримся. Поплывем во Францию. Когда мы доберемся до берега — где вы захотите, сэр — мы высадимся, а вы сможете продолжать путь. Или высадимся все вместе, а я употреблю все мое влияние, чтобы вас и ваших людей отправили в Англию по картелю, без обмена или выкупа. Я клянусь в этом.
— Нет, — сказал Хорнблауэр.
До Англии проще добраться отсюда, чем от Бискайского побережья Франции, что же до остального, Хорнблауэр достаточно слышал о новом французском правительстве, вынесенном революцией на вершину власти, чтобы не сомневаться: они не отпустят пленных по ходатайству капитана торгового судна. А опытных моряков во Франции мало, его задача — не дать этим двенадцати вернуться.
— Нет, — сказал он снова, в ответ на очередные уговоры капитана.
— Может, двинуть ему в челюсть, сэр? — спросил Хантер.
— Нет, — снова сказал Хорнблауэр, но французский капитан видел жест и догадался о его смысле. Он смолк и угрюмо опустил голову, но тут же поднял ее при виде взведенного пистолета, по-прежнему лежавшего у Хорнблауэра на колене и нацеленного капитану в живот. Во сне палец может нажать на спуск.
— Сэр, — сказал он, — умоляю вас, уберите пистолет. Это опасно.
Взгляд Хорнблауэра был холоден и безучастен.
— Уберите, прошу вас. Я не буду мешать вам командовать шлюпкой. Я обещаю.
— Вы клянетесь?
— Да, клянусь.
— А они?
Капитан с жаркими объяснениями повернулся к своей команде. Те нехотя согласились.
— Они тоже клянутся.
— Очень хорошо.
Хорнблауэр начал убирать пистолет за пояс и едва вспомнил поставить его на предохранитель, как раз во время, чтобы не прострелить себе живот. Все погрузились в апатию. Шлюпка ритмично вздымалась и опускалась, это было куда приятнее, чем резкие толчки на плавучем якоре. Желудок Хорнблауэра постепенно успокоился. Юноша две ночи не спал. Голова его клонилась на грудь, потом он постепенно привалился к Хантеру и мирно уснул, а шлюпка, подгоняемая свежим ветром, держала прямой курс на Англию.
Проснулся он в конце дня, когда одеревеневший от усталости Мэтьюз вынужден был уступить руль Карсону. После этого они по очереди несли вахту, один со шкотом, другой у руля, в то время как двое других пытались немного отдохнуть. Хорнблауэр нес свою вахту у шкота, руль он не брал, особенно, ночью — он знал, что у него не хватит сноровки управлять шлюпкой, руководствуясь лишь ощущением ветра на щеке и руля в руках.
Только после завтрака на следующий день — уже почти полдень — они заметили парус. Первым увидел его один из французов, его возбужденный крик поднял всех остальных. Три прямых паруса возникли на горизонте с наветренной стороны и начали быстро приближаться, так что каждый раз когда шлюпка поднималась на волне, было видно все больше парусов.
Что о нем думаете, Мэтьюз? — спросил Хорнблауэр. Вся лодка гудела от оживленного французского говора.
—Точно не скажу, сэр, но чтой-то оно мне не нравится, — с сомнением произнес Мэтьюз. — При таком бризе у него должны бы стоять брамсели, да и нижние прямые паруса тоже, а их нет. Да и форма его кливера мне не нравится, сэр. Как бы он не оказался французом, сэр.
Мирное судно, конечно, должно нести все возможные паруса. Это судно их не несло. Значит, оно преследует какие-то воинственные цели. Однако и в этом случае больше шансов, что оно английское, чем французское, даже здесь, в Бискайском заливе. Хорнблауэр пристально вглядывался в него: небольшое суденышко, хотя и с полным парусным вооружением, с гладкой верхней палубой, на вид быстроходное. Теперь временами был виден и корпус с одним рядом пушечных портов.
— Как пить дать, француз, сэр, — сказал Хантер. — Капер, наверное.
— Приготовиться к повороту через фордевинд, — сказал Хорнблауэр.
Они развернулись и взяли курс прямо от корабля. Но на войне, как в джунглях, бежать — значит спровоцировать погоню и нападение. На корабле поставили нижние прямые паруса и брамсели, судно устремилось за шлюпкой, обошло ее на полкабельтова и легло в дрейф, отрезав им путь к отступлению. Возле леера столпились любопытные — большая команда для такого маленького судна.
Шлюпку окрикнули, и слова были французскими. Английские моряки разразились проклятиями, французский капитан радостно вскочил и отвечал, а французская команда подвела шлюпку к судну.
Красивый молодой человек в лиловом сюртуке с галуном приветствовал Хорнблауэра, когда тот ступил на борт.
— Добро пожаловать, сударь, на борт «Пики», — сказал он по-французски. — Я — Нэвиль, капитан этого капера. А вы?
Его Британского Величества фрегата «Неустанный» мичман Хорнблауэр, — был ответ.
—Мне кажется, вы не в духе, — сказал Нэвиль. — Умоляю вас, не принимайте так близко к сердцу превратности войны. Вы можете располагаться на этом судне, до прибытия в порт, со всеми возможными удобствами. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Вот, к слову, эти пистолеты за поясом. Они, наверное, вам изрядно мешают. Позвольте мне избавить вас от лишней тяжести.
С этими словами он аккуратно извлек пистолеты у Хорнблауэра из-за пояса, еще раз пристально оглядел его и продолжал:
— Вот этот кортик, сударь. Будьте так любезны, одолжите его мне. Уверяю вас, при расставании я его верну. И пока вы здесь, на борту, боюсь, как бы обладание оружием, которое осторожность советует счесть смертельным, не толкнуло вас в юношеской горячности на какое-нибудь безрассудство. Тысяча благодарностей. Теперь, если позволите, я покажу приготовленное для вас помещение.
Отвесив церемонный поклон, он повел Хорнблауэра вниз. Под двумя палубами, вероятно, фута на два ниже ватерлинии, располагался большой пустой твиндек, полутемный и едва проветриваемый люками.
— Наша невольничья палуба, — небрежно пояснил Нэвиль.
— Невольничья? — переспросил Хорнблауэр.
— Да. Здесь во время плаванья находились рабы.
Хорнблауэру все сразу стало ясно. Невольничье судно можно легко и быстро превратить в каперское. Оно несет достаточно пушек, чтобы отразить любую атаку во время рейдов по африканским рекам, оно быстроходнее обычного торгового судна, и потому, что не нуждается в большом трюме, и потому, что скорость крайне желательна при перевозке такого скоропортящегося груза, как рабы. Оно построено так, чтобы вмещать большую команду, а также много провизии и воды, необходимых для долгого плавания в поисках призов.
— Из-за последних событий, о которых вы, сударь, вероятно, наслышаны, наш рынок в Сан-Доминго для нас закрыт, [5] — продолжал Нэвиль, — и для того, чтобы «Пика» продолжала оправдывать вложенные в нее средства, мне пришлось сделать из нее капер. Более того, ввиду деятельности Комитета Общественного Спасения, Париж сейчас куда более нездоровое место, чем даже западное побережье Африки и я решил сам возглавить свое судно. Не говоря уже о том, что для того, чтобы вложенные в каперское дело средства приносили доход, требуются некоторые решительность и твердость.
Лицо Нэвиля на мгновенье приобрело выражение мрачной решимости, но тут же смягчилось, изобразив все ту же ничего не значащую любезность.
— Дверь в той переборке, — сказал Нэвиль, — ведет в помещение, отведенное мной для пленных офицеров. Здесь, как видите, ваша койка. Прошу вас располагаться как дома. Если корабль вступит в бой — надеюсь, это будет случаться часто — эти люки наверху будут задраены. В остальное время можете перемещаться на судне по своему усмотрению. Все же считаю нужным добавить, что любая безрассудная попытка со стороны пленных помешать работе или благосостоянию этого судна вызовет глубокое неудовольствие команды. Они, понимаете ли, служат за долю в прибыли, рискуя при этом жизнью и свободой. Поэтому не удивлюсь, если всякого, кто неосторожно подвергнет опасности их свободу и дивиденды, попросту выкинут за борт.
Хорнблауэр заставил себя ответить — нельзя было показать, что от расчетливой жестокости последних слов он едва не потерял дар речи.
— Я понял, — произнес он.
— Замечательно. Могу ли я еще чем-нибудь быть полезен?
Хорнблауэр обвел взглядом пустое помещение, освещенное тусклым светом качающейся масляной лампы — здесь ему предстояло томиться в одиночном заключении.
— Могу я попросить что-нибудь почитать? — спросил он. Нэвиль на минуту задумался.
— Боюсь, тут есть только специальная литература, — сказал он. — Я могу дать вам «Принципы навигации» Гранжана, «Руководство по мореплаванию» Лебрена и еще что-нибудь в том же роде, если вы полагаете, что сможете разобрать тот французский, на котором они написаны.
— Я попытаюсь, — сказал Хорнблауэр.
Наверное, было к лучшему, что он получил такую трудную пищу для ума. Усилие, требовавшееся для того, чтобы одновременно читать по-французски и осваивать морское дело, занимало его мысли в те кошмарные дни, когда «Пика» рыскала по морю в поисках добычи. Большую часть времени французы попросту не замечали Хорнблауэра — ему пришлось добиваться встречи с Нэвилем, чтобы заявить протест по поводу использования четырех британских моряков на тяжелой работе у помпы. Из спора, если это вообще можно было назвать спором, он вышел проигравшим: Нэвиль, холодно отказался говорить с ним на эту тему. Хорнблауэр вернулся к себе с горящими щеками и красными ушами; как всегда после моральной встряски, сознание своей вины вернулось к нему с новой силой.
Если бы он раньше заделал эту пробоину! Более сообразительный офицер, говорил он себе, так бы и поступил. Он потерял корабль, драгоценный приз «Неустанного», и оправдания ему нет. Иногда Хорнблауэр заставлял себя взгляну на дело спокойно. Профессионально он, возможно — да почти наверняка — не будет наказан за свое упущение. Мичмана с призовой командой из четырех матросов на борту двухсоттонного брига, подвергшегося артиллерийскому обстрелу фрегата, не будут серьезно винить за то, что этот бриг с ним затонул. Но в то же время Хорнблауэр знал, что виноват, пусть даже отчасти. Если это невежество — нет оправданий невежеству. Если он за другими многочисленными заботами не вспомнил о пробоине, это некомпетентность, и нет оправданья некомпетентности. Он все думал и думал об этом, погружаясь в пучину отчаяния и презрения к себе, и некому было его утешить. Хуже всего был день его рождения, день, когда ему исполнилось целых восемнадцать лет. Восемнадцать лет, и он бесславный пленник в руках французского капера! Его самоуважение упало до самой низкой отметки.
«Пика» разыскивала добычу у входа в Ла-Манш, и трудно найти более яркое свидетельство необъятности морских просторов, чем то, что даже здесь, на пересечении самых оживленных морских путей, они день за днем не встречали ни единого паруса. «Пика» двигалась по сторонам треугольника, сначала на северо-запад, потом на юг, потом под малыми парусами на северо-восток. На каждом салинге стояло по впередсмотрящему, но они не видели ничего, кроме колышущегося водного простора. Так продолжалось до того утра, когда пронзительный крик с фор-брам-стеньги-салинга привлек внимание всех находившихся на палубе, в том числе и Хорнблауэра, одиноко стоявшего на шкафуте. Нэвиль у штурвала крикнул впередсмотрящему, и Хорнблауэр, благодаря своим недавним штудиям, смог перевести ответ. С наветренной стороны появился парус; через минуту впередсмотрящий сообщил, что судно изменило курс и движется к ним.
Это кое-что означало. В военное время купеческое судно предпочитает держаться подальше от незнакомцев, особенно, если оно находится с наветренной стороны, то есть в большей безопасности. Капитан, решивший оставить столь выгодную позицию, либо готов драться, либо страдает поистине смертельным любопытством. Отчаянная надежда овладела Хорнблауэром: военное судно — благодаря морскому господству Англии — гораздо скорее окажется английским, чем французским. А как раз в этих местах курсирует «Неустанный», его корабль, специально, чтобы, с одной стороны, выслеживать французских каперов, а с другой — не пропускать французские суда, пытающиеся прорвать блокаду. В сотнях миль отсюда Хорнблауэра с призовой командой высадили на борт «Мари Галант». Тысяча против одного, отчаянно убеждал себя Хорнблауэр, что увиденный корабль — не «Неустанный». Однако — не сдавалась надежда — то, что судно изменило курс, уменьшает это соотношение до десяти к одному. Меньше чем до десяти к одному.
Он поглядел на Нэвиля, пытаясь проникнуть в его мысли. «Пика» быстроходна и маневренна, путь к отступлению по ветру свободен. То, что судно повернуло к ним, подозрительно, однако известны случаи, когда суда Вест-Индской компании — самые богатые призы — пользуясь своим сходством с линейными кораблями, проявляли смелость и отпугивали опасного врага. Для человека, мечтающего заполучить приз, искушение было большое. По приказу Нэвиля подняли все паруса, готовясь к бегству или нападению, и «Пика» в крутой бейдевинд двинулась к незнакомому судну. Прошло совсем немного времени и, когда «Пика» поднялась на волне, Хорнблауэр с палубы различил далеко на горизонте маленькое белое пятнышко, не больше рисового зерна. К нему подбежал Мэтьюз, покрасневший и разгоряченный.
— Это старина «Неустанный», сэр, — сказал он. — Ей-богу! — Он вскочил на леер, уцепившись за ванты и стал пристально вглядываться из-под руки.
— Да! Он самый, сэр! Они ставят бом-брамсели. Мы будем на борту к вечернему грогу!
Тут же подбежал французский старшина и за штаны стащил Мэтьюза с его наблюдательного пункта, потом пинками и ударами отправил обратно на бак. Через минуту Нэвиль уже командовал повернуть корабль через фордевинд и брать курс прямо от «Неустанного». Потом он подозвал к себе Хорнблауэра.
— Ваш бывший корабль, если я не ошибаюсь?
— Да.
— Какова его максимальная скорость? — Хорнблауэр поглядел Нэвилю в глаза.
— Не разыгрывайте благородство, — произнес Нэвиль, улыбаясь тонкими губами. — Несомненно, я могу вынудить вас сообщить мне все, что пожелаю. Я знаю способы. Но, к счастью для вас, мне это не понадобится. Ни один корабль на свете — а тем более неуклюжий фрегат Его Британского Величества — не догонит «Пику», идущую с попутным ветром. Вы в этом скоро убедитесь.
Он зашагал к гакаборту, встал и принялся внимательно глядеть в подзорную трубу. Так же внимательно всматривался Хорнблауэр невооруженным глазом.
— Видите? — спросил Нэвиль, протягивая трубу. Хорнблауэр взял ее, не столько чтобы подтвердить свои наблюдения, сколько желая поближе взглянуть на родной корабль. Он тосковал по дому, отчаянно тосковал по «Неустанному». Нельзя было отрицать, однако, что тот быстро отставал. Его брамсели уже исчезли из виду, оставались только бом-брамсели.
— Через два часа мы оторвемся окончательно, — сказал Нэвиль, отбирая трубу и с резким стуком ее складывая.
Он оставил Хорнблауэра, в тоске стоявшего у гакаборта и гневно обрушился на рулевого — тот вел корабль недостаточно ровно. Хорнблауэр услышал ругательства, не вслушиваясь в них, ветер дул ему в лицо, раздувая волосы, внизу пенился след корабля. Так Адам мог смотреть на райские врата. Хорнблауэр вспомнил темную духоту мичманской каюты, запахи и потрескивание, холодные ночи, пробуждение по команде «Свистать всех наверх», хлеб с жучками и деревянную говядину; он жаждал их с безнадежной тоской неосуществимого желания. Свобода исчезала за горизонтом. Однако не эти личные чувства побудили его действовать. Быть может, они обострили его ум, но подвигло его чувство долга.
Невольничья палуба была пуста, как обычно, все матросы находились на местах. За переборкой стояла его койка, на ней — книги, сверху раскачивалась масляная лампа. Ничто не вдохновляло его. В следующей переборке располагалась еще одна запертая дверь. Она вела во что-то вроде боцманской кладовой, дважды Хорнблауэр видел ее открытой, когда из нее выносили краску и что-то еще в том же роде. Краска! Это навело его на мысль: он перевел взгляд с запертой двери на масляную лампу, потом обратно, шагнул вперед, вынимая из кармана складной нож, но тут же отступил назад, ругая себя. Дверь не была обшита, но состояла из двух прочных древесных плит и двух толстых поперечных брусьев. Замочная скважина тоже ничего не давала. Уйдет много часов, пока он одолеет эту дверь перочинным ножом, а на счету каждая минута.
Сердце его лихорадочно билось, но еще лихорадочней работал мозг. Хорнблауэр снова огляделся. Дотянулся до лампы и качнул ее — почти полная. Какую-то секунду он медлил, собираясь с духом, потом быстро принялся за дело. Безжалостной рукой он вырвал страницы из «Principes de navigation» Гранжана, скомкал их, получившиеся комочки сложил у двери. Сбросив сюртук, стянул через голову синюю шерстяную фуфайку, длинными сильными пальцами разорвал ее вдоль и стал выдергивать нитки, пытаясь распустить. Вытащив несколько ниток, он решил не терять больше времени, бросил фуфайку на бумагу и снова огляделся вокруг. Матрац на койке! Господи, он же набит соломой! Разрезав ножом материю, Хорнблауэр принялся охапками вытаскивать содержимое. Солома слежалась в плотный ком, но он растряс ее так, что получилась куча почти по грудь. Это даст такой огонь, какой ему надо. Хорнблауэр остановился, заставляя себя мыслить ясно и логично — именно горячность и непродуманность погубили «Мари Галант», а теперь он тратил время на эту фуфайку. Хорнблауэр продумал всю последовательность действий. Из страницы «Manuel de Matelotage» он сделал длинный бумажный жгут и зажег от лампы. Потом вылил жир — лампа была горячая и жир совсем расплавился — на комки бумаги, на палубу, на основание двери. Прикосновение жгута воспламенило бумажный комок, огонь быстро побежал дальше. Дело было сделано бесповоротно. Он бросил солому на пламя, потом в неожиданном приступе безумной силы вырвал койку из креплений, сломав ее при этом, и швырнул обломки на солому. Огонь уже бежал по ней. Хорнблауэр кинул лампу на кучу, схватил сюртук и выскочил из каюты. Он хотел было, закрыть дверь, но передумал — чем больше воздуха, тем лучше. Нырнув в сюртук, он взбежал по трапу.
На палубе Хорнблауэр сунул дрожащие руки в карманы и заставил себя с безразличным видом прислониться к лееру. От возбуждения он почувствовал слабость. Время шло, возбуждение не спадало. Важна каждая минута до того, как пламя обнаружат. Французский офицер с торжествующим смехом что-то говорил, указывая за гакаборт — очевидно, о том, что «Неустанный» остался позади. Хорнблауэр печально улыбнулся в ответ, потом подумал, что улыбка тут неуместна, и попытался изобразить мрачную гримасу. Дул свежий ветер, так что «Пика» едва могла нести все паруса незарифлеными. Хорнблауэр ощущал его дыхание на своих горящих щеках. Все на палубе оказались необычайно заняты: Нэвиль наблюдал за рулевым, время от времени поглядывая наверх, убедиться, все ли паруса работают в полную силу; матросы стояли у пушек, двое вместе со старшиной бросали лаг. Господи, долго ли еще он протянет?
Вот оно! Комингс кормового люка как-то исказился, заколебался в дрожащем воздухе. Через него идет горячая струя. А это не намек ли на дым? Точно! В этот момент поднялась тревога. Громкий крик, топот ног, резкий свист, барабанный бой, пронзительный крик: «Au feu! Au feu!»
Четыре аристотелевы стихии, — проносилось в смятенном рассудке Хорнблауэра, — земля, воздух, вода и огонь — извечные враги моряка. Но ни подветренный берег, ни шторм, ни волна не так опасны, как пожар на деревянном судне. Старое дерево, покрытое толстым слоем краски, загорается легко и горит быстро. Паруса и просмоленный такелаж вспыхивают, как фейерверк. А в трюме многие тонны пороха ждут первой возможности разорвать моряков в куски. Хорнблауэр смотрел, как пожарные отряды один за другим включаются в работу, помпы втащили на палубу, подсоединили шланги. Кто-то пробежал на корму с сообщением для Нэвиля, очевидно, доложить о месте возникновения пожара. Нэвиль выслушал сообщение, и, прежде чем выкрикнуть приказания посыльному, бросил быстрый взгляд на прислонившегося к лееру Хорнблауэра. Из люка уже валил густой дым: по приказу Нэвиля кормовые матросы бросились в отверстие сквозь дымовую завесу. Дыма становилось все больше и больше, подхваченный ветром, он клубами плыл в сторону носа — видимо, дым валил и из корабельных бортов по ватерлинии.
Нэвиль зашагал к Хорнблауэру с искаженным от злобы лицом, но крик рулевого остановил его. Рулевой, не выпуская из рук штурвала, ногой указывал на световой люк каюты. Под ним мелькали языки пламени. Пока они смотрели, стекло вывалилось, и в отверстие полыхнуло пламя. Склад краски, — вычислял Хорнблауэр (он был теперь спокоен и позже, вспоминая, сам удивлялся этому спокойствию) должно быть прямо под каютой и полыхает изо всех сил. Нэвиль посмотрел вокруг, на море и небо, и в бешенстве ухватился за голову. Первый раз в жизни Хорнблауэр видел, как человек буквально рвет на себе волосы. Но Нэвиль овладел собой. По его приказу принесли еще одну переносную помпу четверо матросов стали к рукояткам, и — кланк-кланк кланк-кланк — стук помпы слился с ревом огня. Тонка струя воды полилась в световой люк. Другие матросы выстроились в цепочку и принялись черпать воду из моря и передавать ведрами — толку от этого было еще меньше, чем от помпы. Снизу раздался глухой рокот взрыва. У Хорнблауэра перехватило дыхание — он ждал, что корабль разорвет на куски. Но больше взрывов не последовало: то ли треснула пушка, то ли рванул бочонок с водой. Тут цепочка матросов, передававших воду, неожиданно разорвалась: под ногами одного из них палубный паз разверзся широкой алой ухмылкой из которой тут же вырвалось пламя. Кто-то из офицеров схватил Нэвиля за руку и горячо с ним спорил. Хорнблауэр видел, как Нэвиль в отчаянии сдался. Матросы засуетились, убирая фор-марсель и фок, другие бросились к грота-брасам. Штурвал повернулся, и «Пика» стала против ветра.
Перемена была разительная, хотя поначалу больше кажущаяся, чем подлинная: поскольку ветер дул теперь в другую сторону, рев огня был не так слышен на баке. Тем не менее выигрыш был заметный: огонь, вспыхнувший у кормы, теперь относился ветром не вперед, а, напротив, на уже полусгоревшую древесину. Несмотря на это, вся кормовая часть пылала; рулевой вынужден был бросить штурвал, пламя охватило косую бизань и полностью уничтожило ее — только что тут был парус, а в следующую секунду лишь обгорелые клочья свисали с гафеля. Но теперь, против ветра, остальные паруса были вне опасности, а торопливо поставленный бизань-трисель удерживал судно в положении кормой вперед. Вот тут Хорнблауэр, глядя вперед, снова увидел «Неустанный». Он мчался к ним на всех парусах; когда «Пика» поднималась, Хорнблауэр видел белый бурун под его бушпритом. Капитуляция была неизбежна — «Пика», при ее размерах, не устояла бы под натиском такой батареи пушек, не будь она даже повреждена огнем. В кабельтове с наветренной стороны «Неустанный» лег в дрейф, шлюпки с него спустили еще до окончания маневра. Пелью видел дым, понял, из-за чего «Пика» легла в дрейф, и успел подготовиться. Оба баркаса несли на носу, там, где иногда устанавливались карронады, по помпе. Они зашли «Пике» в корму и без лишних разговоров принялись поливать ее струями воды. Команды двух гичек сразу бросились на корму и включились в схватку с огнем, но Болтон, третий лейтенант, остановился на секунду, заметив Хорнблауэра.
— Господи! — воскликнул он. — Вы-то как тут очутились?
Ответа он дожидаться не стал. Осмотревшись в поисках капитана, он зашагал к Нэвилю, чтобы принять капитуляцию, глянул наверх, убедился, что там все в порядке, и принялся за тушение пожара. Пламя удалось одолеть, главным образом потому, что сгорело почти все, что могло гореть.
«Пика» выгорела на несколько футов от гакаборта до самой воды, так что с палубы «Неустанного» являла собой странное зрелище. Однако сейчас она вне опасности, при благоприятных условиях ее можно будет с некоторым трудом довести до Англии, починить и снова спустить на воду.
Главное, однако, не то, что ее можно спасти, главное, что она больше не причинит вреда британской торговле. Об этом говорил Хорнблауэру сэр Эдвард Пелью, когда мичман поднялся на борт «Неустанного» и доложился капитану. Пелью велел, чтобы Хорнблауэр начал с того момента, когда высадился с призовой командой на борт «Мари Галант». Как Хорнблауэр и предполагал — возможно, этого-то он и боялся — Пелью спокойно отнесся к потере брига. Перед сдачей бриг был поврежден артиллерийским обстрелом, и никто теперь не узнает, каков был размер ущерба. Пелью не стал на этом задерживаться. Хорнблауэр пытался спасти судно, но из-за малочисленности команды не преуспел — в тот момент никак нельзя было выделить ему большей команды. Пелью не счел Хорнблауэра виновным. Опять-таки, главное — Франция не получила груз «Мари Галант»; то, что Англия могла бы им воспользоваться — дело десятое. Точно то же самое, что в случае с «Пикой».
— Как вовремя она загорелась, — заметил Пелью, глядя на лежащую в дрейфе «Пику» — вокруг нее суетились шлюпки, но над кормой поднимались лишь тонкие струйки дыма. — Она уходила от нас, мы бы через час потеряли ее из виду. У вас есть какие-нибудь предположения, как это могло случиться, мистер Хорнблауэр?
Хорнблауэр, естественно, ждал этого вопроса и был к нему готов. Сейчас надо было отвечать честно и скромно получить заслуженную похвалу, упоминание в «Вестнике», может быть даже — назначение исполняющим обязанности лейтенанта. Но Пелью не знал всех подробностей гибели брига, а если бы и знал, мог неправильно их оценить.
— Нет, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Я думаю, это было случайное самовозгорание в рундуке с краской. Других объяснений я не нахожу.
Он один знал о своей преступной халатности, один мог определить меру наказания, и выбрал эту. Только так мог он восстановиться в собственных глазах. Произнесенные слова принесли ему огромное облегчение и ни капли сожаления.
— Все равно это была большая удача, — задумчиво произнес Пелью.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ БЫЛО ПЛОХО
На этот раз волк рыскал вокруг овчарни. Его Величества фрегат «Неустанный» загнал французский корвет «Папийон» в устье Жиронды, и теперь искал возможность напасть на него. «Папийон» стоял на якоре под прикрытием береговых батарей. Капитан Пелью смело повел фрегат в мелкие воды, и подошел настолько близко, что батареи открыли предупредительный огонь. Пелью долго и внимательно разглядывал корвет в подзорную трубу. Потом он сложил трубу, повернулся на каблуках и приказал отвести «Неустанный» от опасного подветренного берега — за пределы видимости. Этим маневром он надеялся усыпить бдительность французов. Ибо не собирался оставлять их в покое. Если удастся захватить или потопить корвет, французы не просто лишатся судна, способного причинить вред британской торговле: им придется усилить береговую охрану в этом месте, ослабив ее в другом. Война состоит из яростных ударов и контрударов, и даже сорокапушечный фрегат, если направить его умелой рукой, может нанести чувствительный удар.
Мичман Хорнблауэр прохаживался по подветренной стороне шканцев (это скромное место он занимал в качестве младшего вахтенного офицера), когда к нему приблизился мичман Кеннеди. Кеннеди широким жестом снял шляпу и склонился в церемонном поклоне, которому некогда обучил его учитель танцев — левая нога вперед, шляпа касается правого колена. Хорнблауэр включился в игру, прижал шляпу к животу и трижды быстро согнулся пополам. Благодаря врожденной неловкости, он мог без особых усилий пародировать торжественную важность.
— Досточтимейший и достохвальнейший сеньор, — начал Кеннеди, — я несу вам приветствия капитана сэра Эдварда Пелью и нижайшую просьбу вышеупомянутого капитана к Вашему Степенству присутствовать у него за обедом в восемь склянок послеполуденной вахты.
— Мое почтение сэру Эдварду, — при упоминании этого имени Хорнблауэр глубоко поклонился, — и передайте ему, что я снизойду до краткого визита.
— Я уверен, что капитан будет бесконечно польщен, — сказал Кеннеди, — и передам ему свои поздравления вместе с вашим великодушным согласием.
Обе шляпы еще более изысканно качнулись в воздухе, но тут молодые люди заметили, что с наветренной стороны на них смотрит вахтенный офицер мистер Болтон. Поспешно нахлобучив шляпы; они приняли вид, более приличествующий офицерам, получившим патент от короля Георга.
— Что капитан задумал? — спросил Хорнблауэр. Кеннеди приложил палец к носу.
— Если б я знал, я заслуживал бы пары эполетов, сказал он. — Что-то затевается. Я полагаю, мы скоро узнаем что. До тех пор нам, мелким пташкам, надлежит резвиться, не подозревая о своей участи. Ну что ж, смотри, чтоб корабль не опрокинулся.
Однако за обедом в большой каюте «Неустанного» не было заметно никаких признаков того, что что-то замышляется. Пелью во главе стола изображал любезного хозяина. Старшие офицеры — два лейтенанта, Эклз и Чадд, и штурман Соме, свободно беседовали на различные темы. Хорнблауэр и другой младший офицер, Мэлори, мичман с двухлетним стажем, молчали, как и полагается мичманам. Это, кстати, позволяло им не отвлекаться от еды, значительно превосходившей все, что подавалось в мичманской каюте.
— Ваше здоровье, мистер Хорнблауэр, — сказал Пелью, поднимая бокал.
Хорнблауэр попытался изящно поклониться. Он осторожно отхлебнул вино: пьянел он легко, а пьяным быть не любил.
Стол освободили, и офицеры некоторое время ждали, что же сделает Пелью.
— Ну, мистер Соме, — сказал капитан, — давайте посмотрим карту.
Это была карта устья Жиронды с отметками глубин; кто-то карандашом нанес на нее положение береговых батарей.
— «Папилон», — сэр Эдвард не затруднял себя французским произношением, — находится здесь. Мистер Соме отметил его положение.
Пелью указал на карандашный крестик глубоко в устье реки.
— Вы, джентльмены, отправитесь на шлюпках и вытащите его оттуда.
Так вот оно что! Операция по захвату вражеского судна.
— Командовать будет мистер Эклз. Я попрошу его изложить свой план.
Седой первый лейтенант с удивительно юными голубыми глазами оглядел собравшихся за столом.
— Я возьму баркас, — сказал он. — Мистер Соме — тендер. Мистер Чадд и мистер Мэлори будут командовать первой и второй гичками, мистер Хорнблауэр — яликом. На всех шлюпках, кроме той, которой командует мистер Хорнблауэр, будет по второму младшему офицеру. Для ялика с командой в семь человек это и не нужно. На баркасе и на тендере будет от тридцати до сорока человек на каждом, на гичках по двадцать: набиралось довольно много народу — почти половина команды.
— Это военный корабль, — объяснил Эклз, угадав их мысли. — Не торговый. По десять пушек с каждого борта, и большая команда.
Ближе к двум сотням, чем к сотне — серьезный противник для ста двадцати британских моряков.
— Но мы нападем на них ночью и захватим врасплох, — сказал Эклз, снова читая их мысли.
— Внезапность, — вставил Пелью, — более чем половина успеха, как вы знаете, джентльмены. Извините, что перебил вас, мистер Эклз.
— Сейчас, — продолжал Эклз, — мы вне пределов видимости. Мы снова подойдем к берегу. Поскольку мы ни разу не появлялись в этой части берега, лягушатники думают, что мы ушли совсем. Завтра после захода мы подойдем возможно ближе к берегу. Самый высокий прилив завтра в 4.50, рассвет в 5.30. Атака начнется в 4.30, так что подвахтенные успеют поспать. Баркас подойдет с правой раковины, тендер — с левой, гичка мистера Мэлори — с левой скулы, гичка мистера Чадда — с правой. Мистер Чадд должен будет перерубить якорный канат, как только завладеет баком, а команды других шлюпок по крайней мере достигнут юта.
Эклз оглядел командиров трех больших шлюпок. Все трое кивнули, Эклз продолжал.
— Мистер Хорнблауэр в ялике подождет, пока атакующие закрепятся на палубе. Тогда он высадится на грот-руслень, с правого или с левого борта, как сочтет нужным, и тут же поднимется по грот-вантам, не обращая внимания на то, что происходит на палубе. Он должен отдать грот-марсель и быть готовым по команде выбрать шкоты. Я сам, или мистер Сомс в случае моей гибели либо смертельного ранения, пошлем двух матросов к рулю. Течение вынесет нас из устья, а «Неустанный» будет поджидать сразу за пределами досягаемости береговых батарей.
— Есть замечания, джентльмены? — спросил Пелью. Тут-то Хорнблауэру и следовало заговорить — не раньше и не позже. Слушая Эклза, он ощутил липкий тоскливый страх. Марсовый из него был никудышный, и он это знал. Он боялся высоты и очень не любил лазать по реям. Он знал, что не обладает ни обезьяньей ловкостью, ни сноровкой опытного моряка. Хорнблауэр не чувствовал себя уверенно в темноте даже на реях «Неустанного», и мысль о необходимости взбираться на мачту совершенно незнакомого судна повергала его в ужас. Он чувствовал себя абсолютно непригодным к исполнению возложенной на него задачи, и должен был немедленно сообщить о своей непригодности. Но он упустил момент — слишком уж спокойно остальные офицеры приняли план. Хорнблауэр взглянул на их уверенные лица. Никто не обращал внимания, и ему страшно не захотелось выделяться. Он сглотнул, он даже открыл рот, но никто по-прежнему на него не смотрел, и возражения замерли у него на губах.
— Очень хорошо, джентльмены, — сказал Пелью. — Я думаю, мистер Эклз, вам лучше перейти к подробностям.
Теперь было поздно. Эклз, разложив карту, показывал курс среди мелей и илистых отмелей Жиронды, пространно разъяснял положение береговых батарей и зависимость между Кордуанским маяком и расстоянием, на которое «Неустанный» сможет подойти при свете дня. Хорнблауэр слушал, пытаясь сосредоточиться вопреки своим страхам. Эклз закончил, и Пелью отпустил офицеров, сказав напоследок:
— Теперь, джентльмены, вы знаете свои обязанности и можете приступать к подготовке. Солнце садится, а дел у вас много. Назначить команду шлюпок, проследить, чтоб все были вооружены, чтоб шлюпки были снабжены всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств. Каждому объяснить, что от него потребуется.
Хорнблауэру пришлось к тому же попрактиковаться в подъеме на грот-ванты и продвижении вдоль грот-марса-рея. Он проделал это дважды, заставляя себя совершить трудный подъем по путенс-вантам, которые отходят от грот-мачты вверх, так что несколько футов приходится взбираться спиной вниз, цепляясь руками и ногами за выбленки. Все это давалось ему с большим трудом, двигался он медленно и неуклюже. Встав на ножной перт, Хорнблауэр двинулся к ноку рея. Перт крепился к нокам рея и висел в четырех футах ниже него. Чтобы отдать удерживающие парус сезни, надо было, держась за рей, поставить ноги на перт и переступать по нему, сжимая рей под мышками. Хорнблауэр проделал этот путь дважды, перебарывая тошноту, которая то и дело накатывала при мысли о стофутовой пропасти под ногами. Наконец, нервно сглатывая, он перехватил руки на брас и заставил себя соскользнуть на палубу — это будет самый удобный путь, когда придет время выбирать шкоты на марселе. Спуск был долгий и опасный.
Хорнблауэр вспомнил, как, впервые увидев матросов на мачте, подумал, что подобный трюк в цирке вызвал бы у публики восторженные ахи и охи. Он спустился вниз, совершенно не удовлетворенный собой. Его преследовала навязчивая картина: когда приходит время повторить этот трюк на «Папийоне» он не удерживается, срывается и вниз головой падает на палубу — несколько кошмарных секунд в воздухе и, наконец, громкий удар. А ведь успех всей операции зависит от него (как, впрочем, и от всех остальных): если вовремя не отдать марсель, корвет не наберет скорости, необходимой для управления рулем, сядет на одну из бесчисленных мелей в устье реки и будет с позором захвачен французами, половина команды «Неустанного» попадет в плен или будет перебита.
На шкафуте выстроилась для осмотра команда ялика. Хорнблауэр проверил, чтоб все весла были как следует обмотаны, у каждого матроса был с собой пистолет и абордажная сабля, убедился, что все пистолеты на предохранителе и преждевременный выстрел не выдаст нападающих. Он распределил, кому из матросов что делать при отдаче марселя и подчеркнул, что гибель кого-то из них может внести в намеченный план непредвиденные изменения.
— Я первый поднимусь по вантам, — сказал Хорнблауэр.
Без этого было никак нельзя. Он должен идти первым — этого от него ждали. Более того, скажи он по-другому, это вызвало бы разговоры — и осуждение.
— Джексон, — продолжал Хорнблауэр, обращаясь к рулевому, — вы покинете лодку последним и примите командование в случае моей гибели.
— Есть, сэр.
Поэтическое слово «гибель» обычно употреблялось вместо прозаического «смерть», и, только произнеся его, Хорнблауэр осознал его ужасный смысл.
— Все ясно? — отрывисто спросил он. От напряжения голос его прозвучал резко.
Все кивнули, за исключением одного матроса.
— Прошу прощения, сэр, — сказал Хэйлс, молодой человек, сидевший загребным. — Я что-то плоховато себя чувствую.
Хэйлс был смуглый, хрупко сложенный юноша. Говоря, он выразительно приложил руку ко лбу.
— Не тебе одному плохо, — припечатал Хорнблауэр. Остальные хохотнули. Мысль о высадке на незнакомый корвет в самом логове врага, да еще под дулами береговых батарей вполне может вызвать отвращение у человека робкого. Наверняка большая часть назначенных в вылазку матросов испытывала что-то в этом роде.
— Я не то хотел сказать, сэр, — обиженно сказал Хэйлс. — Совсем не то.
Но Хорнблауэр и все остальные уже не обращали на него внимания.
— Придержи язык, ты, — рявкнул Джексон.
Человек, который, узнав об опасном поручении, объявляет себя больным, не заслуживает ничего, кроме нареканий. Хорнблауэр почувствовал жалость, смешанную с презрением. Сам он был слишком труслив даже для того, чтоб отговориться — слишком боялся, что о нем скажут другие.
— Вольно, — сказал Хорнблауэр. — Когда вы понадобитесь, я за вами пошлю.
Оставалось ждать несколько часов, пока «Неустанный» проберется поближе к берегу. Лот кидали постоянно, и Пелью лично руководил продвижением судна. Хорнблауэр, несмотря на волнение и страх, восхищался, с каким удивительным умением Пелью темной ночью вел большой корабль через эти коварные воды. Процесс этот так приковал внимание Хорнблауэра, что прекратилась даже мучившая его мелкая дрожь: Хорнблауэр был из тех, кто не перестанет наблюдать и учиться даже на смертном одре. К тому времени, как «Неустанный» достиг той точки в устье реки, где предстояло спускать шлюпки, Хорнблауэр немало узнал о практическом применении принципов прибрежной навигации и не меньше об организации операции по захвату судна; кроме того, путем самоанализа он узнал очень много о психологии людей, готовящихся к вылазке.
Когда пришла пора спускать шлюпку на чернильно-черную воду, Хорнблауэр уже полностью овладел собой. Он сохранял невозмутимый вид, и голос, которым он приказал отваливать, прозвучал тихо и твердо. Хорнблауэр взялся за румпель. Ощущение твердого деревянного бруса в руках успокаивало: он давно привык сидеть на кормовой банке, положив руку на румпель. Матросы медленно взмахнули. веслами.
Ялик неспешно двинулся за темными силуэтами четырех больших шлюпок: времени в запасе было достаточно. Прилив вынесет их в устье. Хорошо, что не надо торопиться, ведь с одной стороны от них батареи Сен-Ди, с другой — крепость Блайэ; сорок больших пушек полностью простреливают устье, и ни одна из пяти шлюпок, а уж тем более ялик, не выдержат и одного выстрела.
Хорнблауэр внимательно следил за идущим впереди тендером. Вся ответственность за то, чтоб провести шлюпки по коварному речному руслу, лежала на Сомсе; Хорнблауэру оставалось лишь следовать за ним — до тех пор, пока не придет время отдавать грот-марсель. Хорнблауэр снова задрожал.
Хэйлс, тот матрос, который плохо себя чувствовал, сидел загребным. Хорнблауэр видел, как впереди ритмично движется его силуэт. Не обращая внимания на Хэйлса, он пристально вглядывался в идущий впереди тендер, как вдруг неожиданная заминка вернула его внимание в шлюпку. Загребной пропустил гребок и сбил с ритма всех шестерых гребцов. Послышался тихий стук падающего предмета.
— Думай, что делаешь, Хэйлс, черт тебя побери, — прошептал Джексон, рулевой.
Вместо ответа Хэйлс издал крик, к счастью, негромкий, и упал на ноги Джексону и Хорнблауэру, брыкаясь и дергаясь.
— Вот сволочь, — сказал Джексон. — У него припадок.
Судороги продолжались. Из темноты послышался укоризненный шепот:
— Мистер Хорнблауэр, — Эклз пытался вложить в шепот все свое раздражение. — Вы что, не можете заставить своих людей помолчать?
Чтобы сказать это, Эклз подвел баркас к самому борту ялика. Крайняя необходимость соблюдать тишину особенно подчеркивалась отсутствием обычных ругательств. Хорнблауэр мог вообразить язвительный выговор, ожидающий его завтра прилюдно на шканцах. Он открыл было рот, чтобы объясниться, но вовремя сообразил, что участники ночной вылазки не оправдываются под пушками крепости Блайэ.
— Есть, сэр, — прошептал он, и баркас вернулся в хвост флотилии, ведомой тендером.
— Возьмите его весло, Джексон, — зашептал он рулевому. Встав, он своими руками оттащил брыкающееся тело с прохода, освобождая Джексону путь.
— Полейте его водичкой, сэр, — хрипло посоветовал Джексон. — Вот и черпак рядом.
Морская вода — универсальное лекарство моряка, его панацея. Учитывая, как часто матросы не только ходят в мокрых бушлатах, но и спят в мокрых постелях, они должны бы вообще никогда не болеть. Но Хорнблауэр не стал трогать эпилептика. Тот уже почти не дергался, и Хорнблауэр решил не греметь черпаком. Жизнь более чем сотни людей зависит сейчас от тишины. Они вошли уже в устье и были ни расстоянии пушечного выстрела от береговых батарей — а первый же выстрел поднимет на ноги команду «Папийона», и та будет готова встать к фальшборту и отбить атаку, готова расстрелять шлюпки пушечными ядрами, засыпать их градом картечи.
Шлюпки тихо скользили по воде. Сомс на тендере задавал медленный темп: лишь изредка требовалось несколько гребков, чтоб поддержать скорость, необходимую для управления шлюпками. Соме мастерски знал свое дело: он выбрал темный проток между глинистыми отмелями, непроходимый для больших судов. Для измерения глубины у него был двадцатифутовый шест — измерять им быстрее, чем лотом, и гораздо тише. Минуты бежали быстро, но ночь была еще совсем темна. Напрягая глаза, Хорнблауэр так и не мог уверенно различить плоские берега реки. Нужно было обладать исключительным зрением, чтоб различить с берега маленькие шлюпки, несомые приливом.
Хэйлс у ног Хорнблауэра зашевелился. Шаря в темноте руками, он наткнулся на лодыжку Хорнблауэра и теперь с интересом ее ощупывал. Потом он что-то задумчиво произнес, слова перешли в стон.
— Молчать! — прошептал Хорнблауэр, пытаясь, подобно древнему святому, превратить свое тело в язык, дабы не издав ни одного громкого звука, внушить Хэйлсу необходимость соблюдать тишину. Хэйлс положил локоть Хорнблауэру на колено и с трудом сел, затем так же с трудом встал, покачиваясь на полусогнутых ногах и опираясь на Хорнблауэра.
— Сядь, черт возьми! — прошептал Хорнблауэр, трясясь от гнева и отчаяния.
— Где Мэри? — спросил Хэйлс, как ни в чем не бывало.
— Молчать!
— Мэри! — сказал Хэйлс, навалившись на Хорнблауэра. — Мэри!
Каждое следующее слово было громче предыдущего. Хорнблауэр нутром чуял, что скоро Хэйлс начнет говорить в полный голос или даже закричит. Он вспомнил, как когда-то давно его отец-доктор говорил ему, что пациент после эпилептического припадка не отвечает за себя и нередко бывает опасен для окружающих.
— Мэри! — снова позвал Хэйлс.
Успех операции и жизнь сотни людей висели на волоске. Надо было утихомирить Хэйлса, причем немедленно. Хорнблауэр подумал, не стукнуть ли его рукояткой пистолета,нопод рукой было более подходящее оружие. Он снял трехфутовый дубовый брус румпеля и размахнулся имсо всейвызванной отчаянием злостью.
Румпель обрушился Хэйлсу на голову, и тот, не закончив, начатое слово, рухнул на дно шлюпки. Команда шлюпки молчала, только Джексон тихо вздохнул — одобряюще или осуждающе Хорнблауэр так и не узнал, да его это и не волновало. Он исполнил свой долг, в этом он был уверен. Он прибил беспомощного идиота, скорее всего убил его, но не поставил под угрозу внезапность, от которой зависел успех операции. Он надел румпель на место и молча вернулся к своему делу — держаться в кильватере тендера.
Далеко впереди — в темноте было невозможно оценить расстояние — над поверхностью воды виднелся как бы сгусток черноты. Это мог быть корвет. Еще раз десять тихо взмахнули весла, и Хорнблауэр уже не сомневался. Сомс проявил чудеса лоцманского искусства, выведя шлюпки точно к намеченной цели. Тендер и баркас отошли в сторону от двух гичек: шлюпки расходились, готовясь одновременно начать атаку.
— Суши весла! — прошептал Хорнблауэр, и команда ялика перестала грести.
Теперь Хорнблауэр должен был дожидаться, пока атакующие закрепятся на палубе. Его руки судорожно сжимали румпель: возбуждение от расправы с Хэйлсом на время вышибло из его головы все мысли о необходимости взбираться в темноте по незнакомому такелажу. Теперь эти мысли вернулись с новой силой. Хорнблауэр боялся.
Корвет он видел, но шлюпки исчезли из поля зрения. Корвет покачивался на якорях, его мачты слабо виднелись на фоне ночного неба — и сюда ему придется лезть! Казалось, они вздымаются на неимоверную высоту. Хорнблауэр увидел, как вблизи корвета плеснула вода — шлюпки подходили быстро и кто-то неосторожно взмахнул веслом. В тот же момент с палубы послышался окрик, потом другой, в ответ со шлюпок раздался многоголосый рев, пронзительный и долгий. Кричали не просто так: оглушительный рев ошеломит спящего врага, а команда каждой шлюпки будет знать, где находятся остальные. Британские моряки орали, как сумасшедшие. На палубе корвета сверкнула вспышка, и послышался грохот — первый выстрел; вскоре по всей палубе уже палили пистолеты и гремели ружья.
— Вперед! — сказал Хорнблауэр. Приказ дался ему так тяжело, словно его вырвали на дыбе.
Ялик двинулся вперед. Хорнблауэр пытался одновременно овладеть своими чувствами и понять, что происходит на палубе. Причин выбирать тот или иной борт не было, левый борт был ближе, так что он подвел шлюпку к грот-русленю левого борта. Ему было так любопытно, что же происходит на палубе, что он едва не забыл приказать, чтоб убрали весла. Он положил румпель к ветру, шлюпка развернулась, и баковый матрос зацепился за корвет багром. С палубы наверху слышался звук, в точности такой же, как если бы лудильщик чинил кастрюлю — Хорнблауэр услышал этот странный звук, еще стоя на корме. Он проверил, на месте ли сабля и пистолет, и прыгнул на руслень. Отчаянным прыжком он допрыгнул до него и подтянулся. Руки его ухватились за ванты, ноги нащупали выбленки: он начал подниматься. В тот момент, когда его голова оказалась над фальшбортом, пистолетная вспышка на мгновение осветила сцену, и идущая на палубе борьба предстала в виде застывшей картины. Впереди и внизу британский матрос рубился с французом на абордажных саблях, и Хорнблауэр с изумлением понял, что звук, напомнивший ему о починке чайника, был звуком ударов сабли о саблю, тем самым, воспетым поэтами, бряцанием стали о сталь. Так романтично.
Пока он все это думал, он успел высоко взобраться по вантам. Почувствовав локтем путенс-ванты, он перебрался на них и повис спиной вниз, смертельной хваткой цепляясь за выбленки. Это продолжалось лишь две-три отчаянных секунды, потом он подтянулся и начал последний этап подъема. Вот и марса-рей. Хорнблауэр повис на нем, ища ногами перт. Боже милостивый! Ножного перта не было — его ноги болтались в воздухе, не находя опоры. Хорнблауэр висел в сотне футов над палубой и дергал ногами, словно младенец, которого отец держит на вытянутых руках. Ножного перта нет — возможно, французы убрали его именно на такой случай. Ножного перта нет, значит, до фока рея ему не добраться. И все-таки сезни надо отдать и парус распустить — от этого зависит успех операции. Хорнблауэр несколько раз видел, как отчаянные матросы бегают по рею, подобно канатоходцам. Это — единственный способ добраться до нока.
На мгновение у него перехватило дыхание — слабая плоть воспротивилась мысли о том, чтоб идти по рею над черной бездной. Это — страх, страх, лишающий мужчину мужества, обращающий внутренности его в воду, делающий бумажными ноги. Но деятельный мозг Хорнблауэра продолжал лихорадочно работать. Ему хватило решимости разделаться с бедным Хэйлсом. Ему хватило смелости, когда дело не касалось его самого: он недрогнувшей рукой прибил несчастного эпилептика. Вот, значит, на какую смелость он способен! Простым, вульгарным, физическим мужеством он не обладает. Это трусость, об этом люди шепчутся между собой. Мысль эту он вынести не мог — она была ужасней даже мысли о ночном падении на палубу. Набрав в грудь воздуха, он закинул колено на рей, подтянулся и встал. Под ногами он почувствовал круглое, обтянутое парусиной дерево и шестым чувством понял, что задерживаться здесь нельзя
— За мной, ребята! — закричал он и побежал по рею.
До нока было футов двадцать, и он покрыл их в несколько отчаянных прыжков. Совершенно не чувствуя страха, он присел, ухватился руками за рей и повис на нем всем телом, ощупью ища сезни. Рей подрагивал — значит Олдройд, которому назначено было идти за ним, пробежал следом — ему надо было пройти на шесть футов меньше. Можно не сомневаться, что остальная команда ялика тоже на рее, и что Клу повел свою половину матросов на правый нок. Это было ясно по тому, как быстро упал парус. Брас был сразу за Хорнблауэром. Опьяненный успехом, не думая больше об опасности, он ухватился за брас обеими руками и спрыгнул с рея. Обхватив ногами трос, он заскользил вниз.
Дурак! Неужели он никогда не научиться думать? Неужели он никогда не запомнит, что нельзя ни на секунду терять бдительность? Он заскользил так быстро, что тут же стер тросом ладони. Попытавшись крепче сжать руки, чтоб замедлить скорость, Хорнблауэр испытал такую боль, что вынужден был вновь ослабить хватку и скользить вниз, оставляя на тросе кожу. Ноги его коснулись палубы. Оглянувшись кругом, он моментально забыл про боль.
Брезжила серая заря. Звуки битвы стихли. Все было хорошо продумано: сто человек внезапно врываются на борт корвета, сметают якорную вахту и, пока не успели выскочить подвахтенные, одним махом захватывают корабль. С бака послышался громогласный крик Чадда:
— Канат перерублен, сэр! — С кормы закричал Эклз:
— Мистер Хорнблауэр!
— Сэр! — крикнул Хорнблауэр.
— Фалы разобрать!
Матросы бросились на подмогу — не только команда ялика, но и все предприимчивые и смелые моряки. Фалы, шкоты, брасы: парус, поставленный наивыгоднейшим образом, набрал в себя легкий южный ветер, «Папийон» развернулся, готовый плыть с начинающимся отливом. Заря быстро разгоралась, над головой висел легкий туман.
Над правой раковиной пронесся ужасающий рев, затем мглистый воздух разорвали дикие, неестественно громкие крики. Мимо Хорнблауэра пронеслось пушечное ядро — первое в его жизни.
— Мистер Чадд! Поставить передние паруса! Отдать фор-марсель! Поднимитесь кто-нибудь наверх, поставьте крюйсель!
С левого борта послышался новый залп. На берегу поняли, что произошло, и теперь Блайэ палила по ним с одного борта, Сен-Ди — с другого. Но корвет, подхваченный ветром и отливом, двигался быстро, и попасть в него при слабом утреннем освещении было не просто. Все было сделано минута в минуту: малейшее промедление оказалось бы роковым. Лишь одно ядро из следующего залпа пронеслось над ними. Когда оно пролетело, сверху раздался громкий хлопок.
— Мистер Мэлори, прикажите сплеснить фокштаг!
— Есть, сэр!
Было уже достаточно светло и можно было разглядеть, что творится на палубе: Хорнблауэр видел, как Эклз возле полуюта направляет движение корвета, а Сомс у штурвала ведет его вдоль русла. Морские пехотинцы в красных мундирах, с примкнутыми штыками, охраняли люки. Четверо или, пятеро матросов лежали на палубе, безразличные ко всему. Убитые: Хорнблауэр посмотрел на них с юношеской беспечностью. Здесь же сидел раненый: он стонал, согнувшись над раздробленным бедром. На него Хорнблауэр безразлично глядеть не мог. Он обрадовался, хотя бы ради себя, когда в этот самый момент один из матросов попросил и тут же получил у Мэлори разрешение отойти от своего поста и заняться товарищем.
— Приготовиться к повороту оверштаг, — крикнул Эклз с полуюта; корвет достиг выступа мели посреди входа в фарватер и собирался повернуть, чтоб выйти в открытое море.
Матросы бросились к брасам, и Хорнблауэр поспешил к ним. Но первое же прикосновение к жесткому тросу вызвало у него такую боль, что он чуть не вскрикнул. Руки его походили на два куска свежеразделанного сырого мяса, из них лилась кровь. Теперь, когда он вспомнил о них, они невыносимо саднили. Шкоты передних парусов были выбраны, и корвет послушно развернулся.
— «Неустанный», старина! — крикнул кто-то. «Неустанный» был отчетливо виден, он лежал в дрейфе вне досягаемости береговых батарей, поджидая свой приз. Кто-то крикнул «ура!», остальные подхватили; ядро последнего залпа Сен-Ди на излете плюхнулось в воду рядом с корветом. Хорнблауэр судорожно вытаскивал из кармана носовой платок, чтоб перевязать руки.
— Разрешите вам помочь, сэр, — попросил Джексон. Осмотрев голое мясо, он покачал головой.
— Очень уж вы, сэр, неосторожны. Надо было спускаться, перехватывая руки, — сказал он, когда Хорнблауэр объяснил, как заработал травму. — Очень, очень это было неосторожно, сэр, уж не серчайте, что я так говорю. Все вы, молодые джентльмены, такие. Все летите куда-то, сломя голову.
Хорнблауэр поднял глаза, посмотрел на фор-марса-рей и вспомнил, как бежал в темноте по этой тонкой жердочке к ноку. Вспомнив об этом, он вздрогнул, хотя под ногами у него была прочная палуба.
— Простите, сэр. Не хотел сделать вам больно, — сказал Джексон, завязывая узел. — Вот, сэр, что мог, я сделал.
— Спасибо, Джексон, — отвечал Хорнблауэр.
— Мы должны будем доложить о пропаже ялика, — сказал Джексон.
— О пропаже ялика?
— Он должен бы буксироваться у борта, а его там нет. Понимаете, сэр, мы в нем никого не оставили. Уэлс, он должен был остаться, вы помните, сэр. Но я послал его на ванты вперед себя, сэр, Хэйлс то идти не мог, а народу было маловато. Верно ялик и оторвался, когда судно разворачивалось.
— Так что с Хэйлсом?
— Он был в шлюпке, сэр.
Хорнблауэр оглянулся на устье Жиронды. Где-то там плывет по течению ялик, а в нем лежит Хэйлс, может мертвый, может живой. В любом случае, французы его, скорее всего, найдут. При мысли о Хэйлсе холодная волна сожаления притушила в душе Хорнблауэра горячее чувство триумфа. Если бы не Хэйлс, он бы никогда не заставил себя пробежать по рею (по крайней мере, так он думал). К этому времени он был бы конченым человеком, а не лучился от сознания хорошо выполненного долга. Джексон увидел его вытянувшееся лицо.
— Не принимайте так близко к сердцу, сэр, — сказал он. — Они не будут ругать вас за потерю ялика, наш капитан и мистер Эклз, они не такие.
— Я не про ялик думал, — ответил Хорнблауэр. — Я про Хэйлса.
— А, про него? — сказал Джексон. — Что о нем горевать, сэр. Никогда бы ему не стать хорошим моряком, ни в жисть.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ БОГА
В Бискайский залив пришла зима. После осеннего равноденствия штормовые ветры стали усиливаться, многократно увеличив трудности и опасности для британского флота, сторожившего берега Франции. Потрепанные штормами суда вынуждены были сносить западные ветра и холода, когда брызги замерзают на такелаже и трюмы текут, как корзины; штормовые западные ветра, когда суда должны лавировать от подветренного берега, и, постоянно рискуя, держаться на безопасном расстоянии от него, сохраняя при этом такую позицию, с которой можно будет атаковать любое французское судно, посмевшее высунуть нос из гавани. Мы сказали, потрепанные штормами суда. Но этими судами управляли потрепанные штормами люди, вынужденные неделю за неделей и месяц за месяцем сносить постоянный холод и постоянную сырость, соленую пищу, бесконечный изматывающий труд, скуку блокадного флота. Даже на фрегатах, этих когтях и зубах эскадры, скука была невыносимая: люки задраены, из палубных пазов вода капает на подвахтенных, ночи долгие, а дни короткие, никогда не удается выспаться, а дел все-таки недостаточно. Даже на «Неустанном» в воздухе висело беспокойство, и даже простой мичман Хорнблауэр не мог не чувствовать его, оглядывая свое подразделение перед еженедельным капитанским смотром.
— Что с вашим лицом, Стилс? — спросил, он.
— Чирьи, сэр. Совсем замучили. На щеках и губах Стилса были приклеены несколько кусков пластыря.
— Вы что-нибудь с ними делаете?
— Помощник лекаря, сэр, он мне пластырь дал, говорит скоро пройдет, сэр.
— Очень хорошо.
Ему кажется, или у матросов, соседей Стилса, лица какие-то напряженные? Такие, словно они смеются про себя? Словно прячут улыбки? Хорнблауэр не желал, чтобы над ним смеялись — это плохо для дисциплины, еще хуже, если у матросов между собой какой-то секрет, неизвестный офицерам. Он еще раз внимательно оглядел выстроенных в ряд матросов. Стилс стоял, как деревянный, его смуглое лицо ничего не выражало; черные кудри тщательно зачесаны за уши, все безукоризненно. Но Хорнблауэр чувствовал, что их разговор чем-то развеселил дивизион, и это ему не нравилось. После смотра он отловил в кают-компании врача, мистера Лоу.
— Чирьи? — переспросил Лоу. — Ясное дело, у матросов чирьи. Солонина с горохом девять месяцев подряд — и вы хотите, чтоб чирьев не было? Чирьи… нарывы… фурункулы — все язвы египетские.
— И на лице?
— И на лице тоже. Где еще они бывают, скоро узнаете сами.
— Ими занимается ваш помощник? — настаивал Хорнблауэр.
— Конечно.
— Что это за человек?
— Мугридж?
— Это его фамилия?
— Хороший лекарский помощник. Попросите его приготовить вам слабительное и сами убедитесь. Именно это я бы вам и прописал, а то вы что-то сильно не в духе, молодой человек.
Мистер Лоу прикончил стакан рому и забарабанил по столу, требуя вестового. Хорнблауэр понял, что ему еще повезло застать Лоу относительно трезвым, а то он и этого бы из него не вытянул. Хорнблауэр повернулся и отправился на бизань-марс, чтобы в тишине обдумать свои проблемы. Это был его новый боевой пост: если люди не расставлены по местам, здесь можно было ненадолго обрести благословенное одиночество, которое так трудно найти на людном судне. Завернувшись в бушлат, Хорнблауэр сел на доски бизань-марса; над его головой крюйс-стеньга описывала в сером небе беспорядочные круги, рядом с ним стень-ванты пели под порывистым ветром свою протяжную песнь, внизу текла корабельная жизнь. «Неустанный», кренясь с боку на бок, шел на север под зарифленными парусами. В восемь склянок он повернет на юг, неся свой бесперебойный дозор. До этого времени Хорнблауэр свободен: он может поразмышлять о чирьях на лице Стилса и о скрытых усмешках прочих матросов дивизиона.
На деревянном ограждении марса появились две руки, за ними голова. Хорнблауэр с раздражением посмотрел на человека, нарушившего ход его мыслей. То был Финч, матрос из его дивизиона, щуплый мужичок с редкими волосами, водянистыми голубыми глазами и идиотской улыбкой. Именно такая улыбка осветила его лицо, когда, после первого разочарования — он не ожидал, что марс окажется занят — он узнал Хорнблауэра.
— Простите, сэр, — сказал Финч, — я не знал, чтовы здесь.
Финч висел в неудобной позе, спиной вниз, не решаясь перелезть с путенс-вант и рискуя упасть при очередном крене корабля.
— Залезайте, если хотите, — сказал Хорнблауэр, проклиная свое мягкосердечие. Строгий офицер велел бы Финчу убираться, откуда пришел, и не мозолить глаза.
— Спасибо, сэр. Большое спасибо, — сказал Финч, перекидывая ногу через ограждение. Он подождал, пока корабль накренится, и перевалился на марс.
Здесь Финч присел, чтоб из-под крюйселя взглянуть на грота-марс, потом обернулся к Хорнблауэру и обезоруживающе улыбнулся, словно пойманный на шалости ребенок. Хорнблауэр знал, что Финч немного не в себе (поголовная вербовка выгребла во флот всех кого попало, в том числе и слабоумных), хотя моряком он был опытным, мог убирать паруса, брать рифы и стоять у штурвала. Улыбка его выдавала.
— Здесь лучше, чем внизу, сэр, — извиняющимся тоном сказал Финч.
— Вы правы, — ответил Хорнблауэр с полным безразличием, желая отбить охоту продолжать разговор.
Он отвернулся, чтобы не обращать на Финча внимания, устроился поудобнее и попытался под мерное качание марса-погрузиться в то полусонное состояние, в котором может неожиданно созреть решение. Но это было непросто. Финч метался, как белка в колесе, глядя то с одного, то с другого места, и постоянно прерывая ход мыслей Хорнблауэра, тратя зазря его бесценные полчаса свободы.
— Какого дьявола, Финч?! — рявкнул наконец Хорнблауэр, окончательно потеряв терпение.
— Дьявол, сэр? — переспросил Финч. — Это не дьявол, дьявол не тут, сэр, прошу прощения.
Он снова таинственно улыбнулся, словно нашкодивший ребенок. Какие тайны скрыты в глубине этих странных голубых глаз? Финч снова взглянул под крюйсель: сейчас он был похож на младенца, играющего в «ку-ку».
— Вот он! — сказал Финч. — Я его видел. Бог опятьнагрота-марсе, сэр.
— Бог?
— Да, да, сэр. Иногда Он на грота-марсе. Чаще всего там. Я Его сейчас видел, борода Его развевается по ветру. Его только отсюда и видно, сэр.
Что можно сказать человеку, у котороготакие галлюцинации? Хорнблауэр тщетно ломал голову над ответом. Финч, казалось, забыл об его присутствии и снова играл в «ку-ку» у края крюйселя.
— Вот Он! — сказал Финч себе, — Вот Он снова! Бог на грота-марсе, а дьявол в канатном ящике.
— Весьма подходяще, — цинично подумал Хорнблауэр, но вслух этого не сказал. Он и не думал высмеивать фантазии — Финча.
— Дьявол в канатном ящике во время собачьих вахт, — сказал Финч, ни к кому не обращаясь, — Бог же вечно пребывает на грота-марсе.
— Странное расписание, — заметил про себя Хорнблауэр..
Внизу на палубе начали бить восемь склянок, в тот же момент боцманы засвистели в дудки и послышался голос боцмана Уолдрона:
— Подвахтенным на выход! Все наверх разворачивать судно! Все наверх! Все наверх! Эй, старшина корабельной полиции, запишите, кто последний появится из люка! Все наверх!
И без того краткий отдых, нарушенный навязчивым присутствием Финча, окончился. Хорнблауэр перелез через ограждение и уцепился за путенс-ванты: не мог же он спускаться через удобную собачью дыру, тем более на глазах у первого лейтенанта, который мог бы пристыдить за столь недостойного моряка поведение. Финч подождал, пока Хорнблауэр слезет с марса, но, даже начав позже, легко перегнал его по дороге на палубу. Опытный моряк, Финч бегал по вантам, как обезьяна. Тут все мысли о странных фантазиях Финча вылетели у Хорнблауэра из головы — надо было разворачивать судно.
Однако позднее Хорнблауэр несколько раз мысленно возвращался к странным словам Финча. Нет сомнений, что Финч твердо верил в то, что говорил. Об этом свидетельствовали и его слова, и выражение его лица. Он говорил о бороде Бога— какая жалость, что он не потрудился подробнее описать дьявола в канатном ящике. Рога, вилы и раздвоенные копыта? И почему только во время собачьей вахты? Странно, что он придерживается строгого расписания. Хорнблауэр затаил дыхание: его внезапно осенило, что у всего этого может быть вполне рациональная подоплека. Быть может, дьявол в канатном ящике во время собачьих вахт — образное выражение, означающее, что там творятся дьявольские дела. Хорнблауэру предстояло решить, что требует от него долг, и что — практические соображения. Можно доложить о своих подозрениях Эклзу, первому лейтенанту; но, поведя на флоте год, Хорнблауэр легко мог вообразить, что ожидает младшего мичмана, рискнувшего побеспокоить первого лейтенанта своими необоснованными подозрениями. Лучше сначала посмотреть самому. Неизвестно, однако, что найдет — если найдет; и как с этим разбираться — опять-таки, если будет с чем разбираться. Хуже того, он не был уверен, что сумеет с этим разобраться, как подобает офицеру. Он может выставить себя дураком. Он может повести себя неправильно, навлечь на себя позор, поставить под угрозу дисциплину на судне, ослабить ту тонкую ниточку, которая связывает офицеров и матросов, дисциплину, которая заставляет три сотни людей по слову своего капитана безропотно сносить неописуемые тяготы и, не задумываясь, рисковать жизнью. Когда восемь склянок сообщили об окончании послеполуденной и начале первой собачьей вахты, Хорнблауэр с трепетом спустился вниз, зажег от фонаря свечу и направился к канатному ящике.
Внизу было темно, душно и плохо пахло, корабль качался на волнах, и Хорнблауэр то и дело спотыкался о разные неожиданные препятствия. Впереди виднелся слабый огонек и слышались голоса. Хорнблауэр задохнулся от страха: быть может, готовится бунт. Он загородил рукой окошко фонаря и тихо двинулся вперед. Два фонаря висели на низких палубных бимсах, под ними сгрудились человек десять, даже больше — до Хорнблауэра доносился шум их голосов, но слов было не разобрать. Тут шум перешел в рев, кто-то в центре круга встал почти в полный рост, насколько позволял ему палубный бимс. Он без всякой видимой причины мотал головой из стороны в сторону. Лицо его было скрыто от Хорнблауэра. Тут Хорнблауэр вздрогнул, увидев, что руки человека связаны за спиной. Сидевшие снова взревели, словно болельщики на скачках; человек со связанными руками повернулся и оказался к Хорнблауэру лицом. Это был Стилс, тот самый, который страдал от чирьев, Хорнблауэр сразу его узнал. Но не это сильнее всего поразило Хорнблауэра. На лице Стилса висело что-то жуткое. Его-то Стилс и пытался стряхнуть, мотая головой. Это была крыса. Желудок Хорнблауэра перевернулся от ужаса и отвращения.
Сильно рванув головой, Стилс сбросил с лица крысу, затем неожиданно плюхнулся на колени, и, с завязанными руками, попытался схватить крысу зубами.
— Время! — крикнул кто-то голосом боцмана Патриджа.
Этот голос так часто будил Хорнблауэра, что он не мог его не узнать.
— Пять дохлых, — сказал другойголос. —Ктоугадал, платите.
Хорнблауэр шагнул вперед. Часть каната была сложена в бухту, образуя крысиный загон, в нем на коленях стоял Стиле, вокруг него были живые и мертвые крысы. Возле загона, лицом к нему, сидел Патридж с песочными часами, которыми замеряют время при бросании лота.
— Шесть дохлых, — запротестовал кто-то. — Эта дохлая.
— Нет, не дохлая.
— У нее спина сломана. Она дохлая.
— Она не дохлая, — сказал Патридж. В этот момент споривший поглядел вверх и увидел Хорнблауэра. Слова замерли у него на губах. Все остальные последовали за его взглядом и тоже замерли; Хорнблауэр выступил вперед. Он по-прежнему не знал, что ему делать; он не мог побороть тошноту, вызванную кошмарным зрелищем. Превозмогая страх, он в то же время быстро соображал, что делать, и решил нажать на дисциплину.
— Кто тут старший? — спросил Хорнблауэр. Он оглядел собравшихся: унтер-офицеры, уорент-офицеры второго разряда, боцманы, помощники плотника. Мугридж, помощник лекаря — это многое объясняет. Но и его положение было не простым. Авторитет мичмана с небольшим стажем зависит главным образом от его личных качеств. Он и сам всего лишь уорент-офицер; в конце-концов какой-то мичман не так уж важен в корабельном хозяйстве, и его легко заменить — не то что, скажем, сидевшего здесь Уолберна, купора, знавшего все об изготовлении и хранении бочек с водой.
— Кто тут старший? — повторил Хорнблауэр и вновь не получил прямого ответа.
— Мы не на вахте, — сказал кто-то из сидевших сзади. Хорнблауэр уже овладел собой; возмущение еще кипело в нем, но внешне он казался спокойным.
— Да, вы не на вахте, — холодно сказалон. — Вы играете в азартные игры.
Мугридж бросился защищаться.
— Какие азартные игры, мистер Хорнблауэр? — сказал он. Это очень серьезное обвинение. У нас просто джентльменское состязание. Вы не можете вменя… вменить нам в вину азартные игры.
Мугридж — пьяница, это ясно: скорее всего, он следует примеру своего начальника. В лазарете всегда полно бренди. Хорнблауэр задрожал от ярости; он с трудом сдерживался. Однако гнев помог ему обрести вдохновение.
— Мистер Мугридж, — произнес он ледяным голосом, — советую вам говорить поменьше. Против вас можно выдвинуть и другие обвинения, мистер Мугридж. Служащий порученных сил Его Величества может быть обвинен по статье о приведении себя в негодность для службы, мистер Мугридж. Есть также статьи о пособничестве и подстрекательстве, которые могут коснуться вас. На вашем месте я заглянул бы в Свод Законов Военного Времени, мистер Мугридж. За это преступление положено пороть кошками на всех кораблях эскадры подряд.
Чтоб придать силы своим словам, Хорнблауэр указал на Стилса. По его искусанному лицу текла кровь. Хорнблауэр отмел аргументы своих противников, выбрав ту же линию, что и они; они пытались защищаться в рамках закона, и он в рамках закона разбил их на голову. Взяв верх, он мог теперь дать волю своему возмущению.
— Я мог бы обвинить каждого из вас, — заревел он, — Вы пошли бы под трибунал… лишились чинов… отведали бы кошек… Все до единого… Клянусь богом, Патридж, еще один такой взгляд, и я это сделаю. Поговори я с мистером Эклзом, вы через пять минут оказались бы в кандалах. Я больше не потерплю этих гнусных игр. Выпустите крыс, вы, Олдройд, и вы, Льюис. Стиле, залепите себе лицо пластырем. Вы, Патридж, прикажите людям смотать канат в бухту, как положено, прежде чем мистер Уолдрон его увидит. Я буду впредь за вами присматривать. Если услышу хоть слово о вашем дурном поведении, вы тут же окажитесь на решетчатом люке. [6] Я так сказал, и, клянусь Богом, я это исполню!
Хорнблауэр сам дивился и своему красноречию, и своей выдержке. Он не знал, что окажется на такой высоте. Он мысленно формулировал заключительный залп, но подходящая фраза пришла ему в голову, когда он уже направлялся к выходу. Он повернулся назад и выпалил:
— После этого я желаю, чтобы во время собачьих вахт вы забавлялись на палубе, а не жались в канатном ящике, словно какие-нибудь французишки.
Такая речь пристала бы важному старому капитану, а не младшему мичману, но она позволила ему удалиться достойно. Позади возбужденно гудели голоса. Хорнблауэр поднялся на палубу, в безрадостную серость преждевременной ночи, и, чтобы согреться, решил пройтись по палубе. «Неустанный» упрямо боролся с ревущим западным ветром, из-под носа его фонтаном летели брызги, швы текли, переборки стонали. Кончался день, похожий на предыдущий. Сколько таких еще впереди?
Однако прошло несколько дней, и однообразие корабельной жизни было нарушено. Сумеречным утром хриплый крик впередсмотрящего заставил всех обратить взоры к наветренной стороне. На горизонте виднелось едва заметное пятнышко — корабль. Вахтенные бросились к брасам, и «Неустанный» лег в самый крутой бейдевинд. Капитан Пелью появился на палубе в бушлате поверх ночной рубашки и направил подзорную трубу на незнакомый корабль, десять подзорных труб уже смотрели туда же. Хорнблауэр, глядя в трубу, предназначенную для младшего вахтенного офицера, увидел, как серый прямоугольник разделился на три, а эти три стали суживаться, затем вновь увеличились и слились в один.
— Повернулся оверштаг, — сказал Пелью. — Команде класть судно на другой галс!
«Неустанный» лег на другой галс. Вахтенные матросы побежали по вантам отдавать рифы на марселях, а офицеры на палубе внимательно разглядывали натянутые паруса, просчитывая вероятность того, что бушующий штормовой ветер порвет полотно или сломает мачту. «Неустанный» накренился так, что на качающейся палубе стало трудно устоять; все, кому в данный момент нечего было делать, уцепились за леер с наветренной стороны и принялись глазеть на незнакомый корабль.
— Фок— и грот-мачты почти одинаковой высоты, — сказал Хорнблауэру лейтенант Болтон, не отнимая от глаза подзорную трубу. — Марсели белые, как пальчики у миледи. Ясное дело, мусью.
Паруса британских судов потемнели от долгой службы в любую погоду; когда французский корабль высовывал нос из гавани, пытаясь прорвать блокаду, его безупречно белые паруса выдавали его лучше всяких особенностей постройки.
— Мы его нагоняем, — сказал Хорнблауэр. Его глаза болели от долгого глядения в подзорную трубу, еще сильнее ныла державшая трубу рука, но, взволнованный погоней, он не давал им отдыха.
— Не так быстро, как хотелось бы, — вздохнул Болтон.
— К грота-брасам! — закричал в этот момент Пелью. Это было чрезвычайно важно: развернуть паруса так, чтобы держать как можно круче к ветру; сотня ярдов, выигранных у ветра, стоят мили в расстоянии между судами. Пелью посмотрел вверх на паруса, назад, на быстро исчезающую кильватерную струю, вбок на французское судно, прикинул силу ветра, оценил давление на паруса, используя свой богатый жизненный опыт, чтоб уменьшить расстояние между судами. Следующий приказ Пелью был выдвинуть пушки с наветренной стороны: это несколько уравновесило крен.
— Теперь мы его нагоняем, — сказал Болтон со сдерживаемым оптимизмом.
— Свистать всех по местам! — крикнул Пелью. Корабль ждал этой команды. Оркестр морской пехоты ударил в барабаны, по всему кораблю прокатился грохот, тут же засвистели дудки — это боцманматы подхватили приказ. Матросы дисциплинированно побежали к боевым постам. Хорнблауэр, спешивший к бизань-вантам наветренной стороны, на бегу увидел несколько ухмыляющихся лиц; скорая битва и даже смертельная опасность были лучше, чем бесконечная тоска блокады.
На бизань-марсе он оглядел своих матросов. Они расчехлили замки своих ружей и проверяли затравку; убедившись в их готовности, Хорнблауэр занялся фальконетом. Сняв с казенной части брезентовый чехол и вынув из дула пробку, он снял удерживающие фальконет найтовы и убедился, что вертлюг свободно движется в пазу, а цапфы — в вилке. Щелчок вытяжного шнура убедил его в том, что замок хорошо дает искру и нет необходимости менять кремень. Финч забрался на марс, неся перекинутый через плечо брезентовый пояс с зарядами. Мешочки с ружейными пулями гирляндами висели на ограждении. Финч забил патрон в короткое дуло, Хорнблауэр держал наготове мешочек с пулями, чтобы забить следом. Потом он взял фитиль и аккуратно начал вводить его в запальное отверстие, пока острый конец фитиля не проткнул саржевую оболочку патрона. Фитиль и кремневый замок на марсе незаменимы: здесь нельзя использовать огнепроводный шнур, слишком уж велика опасность, что загорятся паруса и такелаж. Однако и Фальконет, и кремневые ружья на марсе очень важны из тактических соображений. Когда корабли сойдутся рей к рею, люди Хорнблауэра смогут огнем очистить шканцы врага, его мозг.
— Финч, прекратите немедленно! — раздраженно крикнул Хорнблауэр: обернувшись, он увидел, что тот уставился на грота-марс. В этот напряженный момент фантазии Финча его разозлили.
— Прошу прощения, сэр, — произнес Финч, возвращать к своим обязанностям.
Через несколько секунд Хорнблауэр услышал, как Финч шепотом разговаривает сам с собой:
— Там мистер Брэйсгедл, — шептал Финч, — и Олдрс там, и все остальные. Но и Он тоже там.
— К повороту! — донеслось с палубы. Добрый старый «Неустанный» развернулся, застонали поворачиваемые брасами реи. Французы смело попытались обстрелять идущего на него врага продольным огнем, быстрый маневр Пелью их упредил. Теперь суда параллельными курсами шли в бакштаг на расстоянии пушечного выстрела.
— Гляньте-ка на него, — крикнул Дуглас, один из марсовых стрелков. — По двадцать пушек с каждого борта. Неплохо выглядит, а?
Стоявший рядом с Дугласом Хорнблауэр смотрел на палубу французского судна: пушки выдвинуты, возле них суетится орудийная прислуга, офицеры в белых бриджах, синих сюртуках, прохаживаются туда-сюда, брызги летят из-под носа идущего по ветру судна.
— Еще лучше будет выглядеть, когда мы приведем его в Плимут, — отозвался матрос по другую сторону от Хорнблауэра.
«Неустанный» был немного быстроходней — он подходил все ближе к врагу, не давая французу уйти вперед. Хорнблауэра потрясла тишина на обоих судах: он уже привык, что французы обычно начинают стрелять издалека, попусту тратя первый, особенно тщательно подготовленный залп.
— Когда он стрелять начнет? — спросил Дуглас, как бы подхватывая мысль Хорнблауэра.
— В свое время, — пискнул Финч.
Полоска пенной воды между судами все уменьшалась. Хорнблауэр развернул фальконет и посмотрел в прицел. Он мог хорошо прицелиться во вражеские шканцы, но для ружейных пуль расстояние еще велико. В любом случае он не решался стрелять без приказа Пелью.
— Вот нам по кому стрелять! — сказал Дуглас, указывая на бизань-марс французов.
Похоже, что там стояли солдаты, судя по синим мундирам и портупеям: французы часто разбавляли свои малочисленные команды солдатами, в британском же флоте морские пехотинцы никогда не лазали по вантам. Увидев жест Дугласа, французские солдаты принялись грозить кулаками, а молодой офицер вытащил шпагу и запальчиво взмахнул ею над головой. Если суда так и будут идти параллельно, Хорнблауэр сможет стрелять по бизань-марсу французов, если предпочтет прекратить огонь оттуда, а не прочесывать шканцы. Хорнблауэр с интересом вглядывался в людей, которых должен будет убивать. Он так увлекся, что грохот канонады застал его врасплох; прежде чем он взглянул вниз, французские ядра успели просвистеть мимо, и через мгновение «Неустанный» содрогнулся, все пушки выстрелили одновременно. Ветер отнес дым вперед, так что до бизань-марса он не поднялся. Хорнблауэр увидел, что на палубе «Неустанного» лежат убитые; убитые падали на палубе француза. Однако он видел — для ружей расстояние все еще велико.
— Они по нам стреляют, — сказал Херберт.
— Пусть их, — ответил Хорнблауэр.
С качающегося марса на таком расстоянии, да еще из ружья, невозможно попасть в цель. Это было настолько ясно, что Хорнблауэр видел это, несмотря на возбуждение, и в голосе его твердо прозвучала уверенность. Удивительно, как два тихих слова сразу успокоили людей. Внизу беспрестанно гремели пушки, корабли быстро сближались.
— Огонь! — крикнул Хорнблауэр. — Финч!
Он посмотрел вдоль короткого фальконета. В узкую щель, прорезанную на дуле, видны были штурвал французского судна, двое рулевых за штурвалом и двое офицеров позади них. Хорнблауэр дернул вытяжной шнур. Через десятую долю секунды фальконет громыхнул. Прежде, чем его окутало дымом, Хорнблауэр почувствовал, как над головой пролетел выброшенный из запального отверстия фитиль. Финч уже прочищал фальконет.
У ружейных пуль слишком большой разлет: лишь один из рулевых упал, а кто-то другой уже бежал сменить его. В этот момент весь марс бешено закачался; Хорнблауэр почувствовал это, но ничего не понял. Все произошло одновременно. Доски под его ногами затряслись, видимо, ядро угодило в бизань-мачту. Финч загонял в орудие патрон. Что-то угодило в казенную часть фальконета — это была пуля с французского бизань-марса. Хорнблауэр старался не терять голову. Он взял еще один заостренный фитиль. Втыкать его надо было настойчиво, но мягко: если фитиль сломается в запальном отверстии, с ним будет много возни. Когда Хорнблауэр направлял фальконет вниз, пуля ударила в ограждение рядом с ним, но он не обратил внимания. Кажется, марс раскачивается сильнее, чем обычно? Неважно. Хорнблауэр тщательно прицелился во вражеские шканцы и дернул вытяжной шнур. Он увидел, как люди падают замертво. Он даже видел, как закрутились рукоятки брошенного штурвала. Тут оба корабля с треском столкнулись бортами и мир обратился в хаос, по сравнению с которым все происходившее ранее могло оказаться детской игрой.
Мачта падала. Марс описал в воздухе головокружительную дугу, так что лишь счастливо уцепившись за фальконет Хорнблауэр не полетел, как пущенный из пращи камень. Все завертелось. Ванты с одной стороны были порваны, и два ядра угодили в шпор мачты, она зашаталась и накренилась. Натяжение бизань-штагов отклонило ее вперед, оставшиеся ванты — к правому борту; когда порвался стень-фордун ветер завладел крюйселем. Мачта с треском наклонилась вперед: стеньга зацепилась за грота-рей и все повисло, готовое в любую минуту разлететься на составные части. Пятка мачты задержалась на палубе, мачта и стеньга еще держались вместе, скрепленные стень-эзельгофтом и салингом, хотя совершенно не понятно, как стеньга не вывернула стень-эзельгофт. Пока нижний конец мачты оставался на палубе, а стеньга цеплялась за грота-рей, у Хорнблауэра и Финча оставались шансы выжить, но движение судна, новый выстрел французов или разрыв слишком туго натянутых тросов могут лишить их и этого шанса. Мачта может скатиться с рея, стеньга может сломаться, пятка мачты может соскользнуть с палубы — спасаться надо немедленно, пока ничего этого не произошло. Грот-стеньга и все, что на ней, было поломано и раскачивалось одним спутанным клубком: паруса, рангоут и тросы. Крюйсель оторвался. Хорнблауэр посмотрел на Финча: Финч держался за фальконет. Больше никого на круто наклоненном марсе не было. Правые ванты крюйс-стеньги еще держались, они, как и сама стеньга, лежали на грота-рее, тугие, как струны, и грота-рей натягивал их, как перемычка у скрипки. Но эти ванты — единственный путь к спасению, опасный путь от гибельного марса к относительной безопасности грота-рея. Мачта заскользила к ноку рея. Даже если грота-рей выдержит, бизань-мачта все равно скоро скатиться в море. Кругом стоял невыразимый грохот: мачты ломались, тросы лопались, пушки не смолкали, снизу доносились вопли и стоны. Марс снова содрогнулся. Две вантины лопнули от натяжения, и хлопок, с которым они разорвались, был отчетливо слышен несмотря на грохот. Мачта дернулась, раскачивая марс, фальконет и двух несчастных, вцепившихся в него. Застывшие голубые глаза Финча двигались вместе с мачтой. Позднее Хорнблауэр понял, что мачта падала не больше нескольких секунд, но тогда ему казалось, что у него есть несколько долгих минут на размышления. Как и Финч, он шарил глазами, ища спасения.
— Грота-рей! — крикнул он. Лицо Финча осветилось идиотской улыбкой. Он инстинктивно цеплялся за фальконет, но не боялся, и не стремился спастись на грота-рее.
— Финч, дурак! — заорал Хорнблауэр.
Он самым невероятным образом зацепился коленом за фальконет, чтоб высвободить руку и показать, куда прыгать, но Финч и не думал двигаться.
— Прыгай, черт тебя возьми! — орал Хорнблауэр. — На ванты… на рей… Прыгай! финч только улыбался.
— Прыгай и добирайся до грота-марса! О, Господи!.. — В этот самый момент его осенило. — На грота-марс! Там Бог, Финч! Прыгай к Богу, быстро!
Эти слова проникли в затуманенный мозг Финча. Он кивнул с совершенно отрешенным видом отпустил фальконет и прыгнул, как лягушка. Упав на ванты крюйс-стеньги, он начал карабкаться по ним. Мачта сдвинулась еще, так что когда Хорнблауэр прыгнул, лететь надо было еще дальше. Он уцепился руками за крайнюю вантину, подтянулся, раскачиваясь, едва не выпустил рук, но тут встречное движение мачты пришло ему на помощь. Обезумев от паники, он полез по вантам. Вот наконец и спасительный грота-рей. Хорнблауэр был в безопасности на грота-рее как раз тогда, когда крен корабля столкнул, наконец, с рея балансирующую на нем крюйс-стеньгу. Она оторвалась от бизань-мачты, и все вместе полетело за борт. Хорнблауэр прополз по рею вслед за Финчем, и на грота-марсе был восторженно встречен мичманом Брэйсгедлом. Брэйсгедл не был богом, но Хорнблауэр, перелезая через поручни марса, подумал, что не скажи он про Бога на грота-марсе, Финч ни за что бы не прыгнул.
— Мы думали, ты погиб, — сказал Брэйсгедл, помогая ему залезть и похлопывая его по спине. — Мичман Хорнблауэр, наш летающий ангел.
Финч тоже был на марсе и улыбался своей идиотской улыбкой в окружении марсовой команды. Все были лихорадочно веселы. Хорнблауэр неожиданно вспомнил, что только что был самый разгар битвы; сейчас же пушки смолкли, даже криков почти не было слышно. Он проковылял к краю марса — удивительно, как трудно было идти — и осмотрелся. К нему подошел Брэйсгедл. С высоты Хорнблауэр различил на палубе француза множество фигурок. Эти в клетчатых рубашках — наверняка британские моряки. А это Эклз, первый лейтенант «Неустанного», стоит с рупором на шканцах.
— Что произошло? — изумленно спросил Хорнблауэр Брэйсгедла.
— Что произошло?! — Брэйсгедл несколько секунд таращился на него, пока понял. — Мы взяли его на абордаж. Эклз и его команда перепрыгнули на палубу француза как только мы свалились бортами. Ты что, не видел?
— Нет, не видел, — сказал Хорнблауэр и заставил себя пошутить. — Другие дела потребовали в этот момент моего внимания.
Он вспомнил, как раскачивался бизань-марс, и ему стало худо. Но он не хотел, чтоб Брэйсгедл это заметил.
— Я должен спуститься на палубу и доложиться, — сказал он.
Хорнблауэр медленно и мучительно спускался по грот-вантам, руки и ноги его не слушались. Даже на палубе он так и не почувствовал себя в безопасности. Болтон на шканцах руководил разборкой обломков бизань-мачты. При виде Хорнблауэра он вздрогнул от изумления.
— Я-то думал, вы у Дэви Джонса [7] за бортом, — сказал он и глянул наверх. — Вы успели добраться до грота-рея?
— Да, сэр.
— Замечательно. Думаю, Хорнблауэр, вам суждено быть повешенным. — Болтон обернулся к матросам. — Стоп! Клайнс, спускайся! Легче, легче, не то упустите!
Он некоторое время наблюдал за работой матросов, прежде чем снова обратился к Хорнблауэру.
— Месяца два с матросами не будет никаких хлопот. — сказал он. — С этой починкой они так уработаются, с ног будут падать. Часть придется отправить в призовую команду, я не говорю уж, сколько погибло. Не скоро им захочется чего-то новенького. Полагаю, что и вам, Хорнблауэр.
— Да, сэр, — отвечал Хорнблауэр.
РАКИ И ЛЯГУШАТНИКИ
— Идут, — сказал мичман Кеннеди.
Немузыкальное ухо Хорнблауэра уловило звуки военного оркестра. Вскоре, сияя багрянцем, золотом и белизной, из-за угла выступила голова колонны. Яркие лучи солнца играли на медных трубах; дальше плескалось на древке полковое знамя, гордо несомое знаменосцем в сопровождении караула. За знаменем ехали двое верховых офицеров, за ними длинной красной змеей извивался полубатальон, примкнутые штыки вспыхивали на солнце. Сзади бежали все плимутские ребятишки, до сих пор не наскучившие воинскими церемониями. Стоявшие на набережной моряки разглядывали солдат с любопытством, к которому примешивалась жалость и что-то вроде презрения. Постоянная муштра, тяжелое обмундирование железная дисциплина — весь солдатский быт составлял поразительный контраст с более разнообразными условиями жизни моряка. Моряки наблюдали, как смолкли звуки фанфар и один из офицеров пришпорил лошадь, чтобы переместиться в голову колонны. По его приказы солдаты повернулись к причалу, пять сотен каблуков стукнули, как один. Грузный старший сержант с блестящей лентой на груди и тростью, чья посеребренная рукоятка отливала на солнце, прошелся, равняя и без того безупречный строй. По третьему приказу все приклады уперлись в землю.
— Штыки — отомкнуть! — рявкнул верховой офицер. Это были первые слова, которые Хорнблауэр понял.
Он буквально с вытаращенными глазами наблюдал последовавшие за этим церемонии. Флигельманы вышли на три шага вперед, точно марионетки на одной веревочке, обернулись к шеренге и начали задавать ритм: отсоединить штыки, зачехлить их, вернуть ружья на место. Флигельманы вернулись в шеренгу, насколько мог видеть Хорнблауэр, секунда в секунду, но старший сержант остался недоволен. По его приказу флигельманы снова вышли вперед и вернулись в строй.
— Хотел бы я видеть, как они полезли бы на ванты в штормовую ночь, — задумчиво произнес Кеннеди. — Как вы думаете, они могут завязать ноковый бензель на грот-марселе?
— Одно слово раки! — сказал мичман Брэйсгедл. Все пять рот стояли в шеренгу, разделенные сержантами с алебардами; от алебарды до алебарды солдаты располагались точно по росту, самые высокие с флангов, самые низкие — в центре каждой роты. Ни один палец, ни одна бровь не шевелились. У каждого солдата на затылке — тугая пудренная косичка.
Верховой офицер рысью проехал вдоль шеренги, туда, где ждали флотские офицеры. Лейтенант Болтон, назначенный руководить ими, выступил вперед, держа руку под козырек.
— Мои люди готовы к погрузке, — сказал армейский офицер. — Багаж последует незамедлительно.
— Есть, майор, — сказал Болтон. Армейское обращение странно прозвучало в его устах.
— Предпочтительно, чтоб вы обращались ко мне «милорд», — сказал майор.
— Есть, сэр… милорд, — отвечал выбитый из колеи Болтон.
Его сиятельство граф Эдрингтонский, командующий 43-м пехотным полубатальоном, был крепко скроенный молодой человек чуть старше двадцати лет. Он был одет в безукоризненно подогнанный мундир, обладал великолепной выправкой и восседал на превосходном скакуне, однако для своего ответственного поста казался несколько юн. Практика покупки офицерских патентов позволяла, совсем молодым людям занимать высокие посты, и армию эта система, видимо устраивала.
— Французские вспомогательные части получили приказ явиться сюда же, — продолжал лорд Эдрингтон. — Надеюсь, вы распорядились подготовить все к их погрузке?
— Да, милорд.
— Насколько я понял, ни один из этих бродяг не говорит по-английски. У вас есть офицер, который мог бы переводить?
— Да, милорд. Мистер Хорнблауэр!
— Сэр!
— Вы будете присутствовать при погрузке французских частей.
— Есть, сэр.
Опять послышались звуки военного оркестра. Немузыкальное ухо Хорнблауэра различило, что он играет чуть повыше, чем оркестр британской пехоты. Под эту музыку на боковой дороге появились французы, и Хорнблауэр поспешил им навстречу. Вот она, Королевская, Христианская и Католическая армия — по крайней мере, ее часть — батальон, собранный французскими дворянами-эмигрантами для борьбы с революцией. Во главе колонны плыл белый стяг с золотыми лилиями, за ним ехали несколько верховых офицеров. Хорнблауэр отдал честь. Один из офицеров вернул приветствие.
— Маркиз де Пюзож, бригадный генерал на службе Его Христианейшего величества Людовика XVII, — представился он по-французски. На нем была белоснежная форма и голубая лента через плечо. Спотыкаясь на французских словах, Хорнблауэр представился гардемарином Его Британского Величества Военно-Морского Флота, прикомандированным для погрузки французских войск.
— Очень хорошо, — сказал де Пюзож. — Мы готовы. Хорнблауэр оглядел ряды французов. Те стояли, кому как вздумается, и глазели по сторонам. Одеты они были хорошо, в синие мундиры, выданные, как решил он про себя, британским правительством, но портупеи уже запачкались, пуговицы облезли, оружие потускнело. Однако сражаться они, без сомнения, будут.
— Вот транспортные суда, предназначенные для ваших людей, сэр, — показал Хорнблауэр. — «София» возьмет триста, а «Дамбертон» — вот он — двести пятьдесят. Лихтеры, чтоб перевести людей, у причала.
— Приказывайте, господин де Монкутан, — обратился де Пюзож к одному из офицеров.
Поскрипывая, выползли вперед наемные повозки, груженые ранцами, и колонна рассыпалась: все бросились разбирать свои пожитки. Потребовалось некоторое время, чтоб построить людей заново, уже с ранцами, и тут же возникла новая проблема: нужно было выделить несколько человек для погрузки полкового, багажа. Те, кому выпала эта задача, с явной неохотой отдали ранцы товарищам, видимо, не надеясь получить обратно их содержимое. Хорнблауэр продолжал давать разъяснения.
— Лошадей следует отправить на «Софию», — говорил он, — Там подготовлено шесть стойл. Полковой багаж…
Он замер на полуслове, заметив на одной из повозок некий странный механизм.
— Скажите, пожалуйста, что это такое? — спросил он, не сумев побороть любопытство.
— Это, сударь, — сказал де Пюзож, — гильотина.
— Гильотина? — Хорнблауэр был немало наслышан об этом инструменте. Революционеры поставили его в Париже, и не давали ему простаивать. На гильотине был казнен сам французский король, Людовик XVI. Хорнблауэр не ожидал увидеть ее в обозе контрреволюционной армии.
— Да, — сказал де Пюзож, — мы везем ее во Францию. Я отплачу бунтовщикам их же монетой.
К счастью, Хорнблауэру не пришлось отвечать, поскольку громовой голос Болтона прервал их беседу.
— Какого черта вы там возитесь, мистер Хорнблауэр? Вы что, хотите, чтоб мы пропустили отлив? Весьма типично для военной службы, что за плохую организацию французов влетело Хорнблауэру — он уже к этому привык, и знал, что лучше не лезть с объяснениями и молча выслушать нарекания. Он вновь занялся погрузкой французов. Наконец бесконечно усталый мичман, держа в руках исписанные ведомости, доложил Болтону о том, что французы,их лошади и багаж благополучно погружены, и, вместо благодарности, получил приказ собирать пожитки и перебираться с ними на «Софию», где по-прежнему требовались услуги переводчика. Конвой быстро вышел из Плимутского залива, обошел Чляйстон и двинулся дальше: Его Величества судно «Неустанный» под брейд-вымпелом, два канонерских брига и четыре транспортных судна. Не Бог весть какая сила, чтоб опрокинуть французскую республику. Всего-навсего одиннадцать сотен пехотинцев; 43-й полу батальон и небольшой батальон французов (если можно их так назвать, учитывая, что половина из них авантюристы всех национальностей). Хотя Хорнблауэр и не решался судить о французах, лежавших рядами в темном и вонючем твиндеке и страдавших от морской болезни, он дивился, как можно ожидать чего-нибудь серьезного от столь малочисленной армии. Из своего богатого исторического чтения он знал, сколько небольших набегов совершалось на берега Франции, и в скольких войнах, и, хотя один оппозиционный государственный деятель сказал, что это «все равно, что разбивать окно гинеями», склонен был в принципе их одобрять, как один из способов ослабить силы врага — до той поры, пока сам не оказался участником такой вылазки. Так что он испытал облегчение, узнав от де Пюзожа, что это лишь часть их армии, причем меньшая часть. Де Пюзож, бледноватый от морской болезни, которую, впрочем, мужественно превозмогал, разложил в каюте на столе карты и объяснил план.
— Христианская армия, — говорил де Пюзож, — высадится здесь, у Киброна. Они отплыли из Портсмута (как же трудно произносить эти английские названия) за день до того, как мы отплыли из Плимута. Их пять тысяч под командованием барона де Шаретта. Они пойдут на Ван и на Рен.
— А что должен делать ваш полк? — спросил Хорнблауэр. Де Пюзож снова ткнул пальцем в карту.
— Вот город Мюзийак, — сказал он. — Двадцать лиг от Киброна. Здесь небольшая дорога с юга пересекает реку Марэ. Речка эта маленькая, но оберега у нее болотистые и дорога идет не только по мосту, но и по длинной дамбе. Бунтовщики стоят южнее, и, чтобы двинуться на север, должны пройти через Мюзийак. Здесь будем мы. Взорвем мост и будем охранять переправу. Мы задержим бунтовщиков, а за это время де Шаретт поднимет всю Бретань. Вскоре у него будет двадцать тысяч солдат, бунтовщики перейдут на нашу сторону, мы войдем в Париж и восстановим на троне Его Христианнейшее Величество.
Вот значит, какой план. Энтузиазм француза передался Хорнблауэру. Конечно, здесь, где дорога проходит в десяти милях от берега, и здесь, в широком устье Видены, нетрудно будет высадить небольшой десант и захватить Мюзийак. Такую дамбу, которую описал де Пюзож, нетрудно будет охранять день-два даже от превосходящих сил противника. Это обеспечит де Шаретту все необходимые условия.
— Мой друг господин де Монкутан, — продолжал де Пюзож, — сеньор Мюзийака. Население встретит его с радостью.
— В большинстве своем, — глаза де Монкутана сузились. — Кое-кто и огорчится. Я же с радостью жду этой встречи.
В западной Франции, в Вандее и Бретани, долго были беспорядки. Народ, руководимый дворянством, не раз с оружием в руках восставал против парижского правительства. Но каждый раз мятеж подавляли; роялисты, которых они сейчас везли во Францию, составляли остатки мятежных сил: последний бросок костей, бросок ва-банк. В таком свете план не казался таким уж надежным.
Было серое утро, серыми были и небо и скалы, когда конвой обогнул Бель-Иль и подошел устью Видены. Далеко к северу, в Кибронском заливе, виднелись белые марсели корабля. Хорнблауэр, стоявший на палубе «Софии», видел, как он обменивается сигналами с «Неустанным», докладывая о своем прибытии. То, что, используя особенности береговой линии, они могли нанести удар одновременно с двух точек, разделенных сорока милями суши, но хорошо одновременно видимых с моря, свидетельствовало о гибкости и подвижности военного флота. Хорнблауэр прочесал подзорной трубой вражеский берег, перечел приказ для капитана «Софии» и вновь принялся глядеть на берег. Он различал узкое устье Марэ и глинистую полоску, на которую предстояло высаживаться войскам. Непрерывно бросая лот, «София» пробиралась к назначенной стоянке, неуютно переваливаясь с боку на бок: эти воды хоть и защищены от ветра, представляют собой такой сумасшедший клубок противоположных течений, что в сравнении с ним самое бурное море покажется спокойным. Наконец якорный канат загромыхал через клюз, и «София» закачалась под действием течения. Ее команда уже спускала шлюпки.
— Франция, милая, прекрасная Франция! — сказал рядом с Хорнблауэром де Пюзож. С «Неустанного» донесся крик:
— Мистер Хорнблауэр!
— Сэр! — отозвался Хорнблауэр в капитанский рупор.
— Вы отправляетесь на берег с французами и остаетесь там до дальнейших распоряжений.
— Есть, сэр.
Вот, значит, как ему предстоит впервые в жизни вступить на чужую землю. Люди де Пюзожа выбирались на палубу; спустить их в ожидающие у борта шлюпки оказалось делом долгим и утомительным. Хорнблауэр размышлял про себя, что творится сейчас на берегу — без сомнения, гонцы скачут на север и на юг с вестями о высадке десанта. Вскоре революционные генералы построят своих солдат и спешно поведут их к этому месту — хорошо, что важный стратегический пункт, который им предстоит захватить, расположен менее чем в десяти милях от берега. Он вернулся к своим делам: как только солдаты окажутся на берегу, надо будет проследить за перевозкой багажа и боеприпасов, а также несчастных лошадей, стоявших в импровизированных стойлах перед грот-мачтой. Первые шлюпки отвалили от судна; Хорнблауэр видел, как солдаты, увязая в мокрой глине, выбираются на берег, французы слева, британские пехотинцы в красных мундирах — справа. На берегу виднелось несколько рыбачьих лачуг; передовые отряды двинулись к ним. По крайней мере, высадка прошла без единого выстрела. Хорнблауэр отправился на берег вместе с боеприпасами, и нашел там Болтона.
— Отнесите ящики с боеприпасами выше верхних приливных отметок, — сказал Болтон, — Мы не сможем отправить их вперед, пока раки не раздобудут несколько повозок. Для пушек тоже понадобятся лошади.
В это время отряд Болтона вручную стаскивал на берег две шестифунтовые пушки на походных лафетах. К ним приставят моряков и повезут на лошадях — лошадей раздобудет десант. По старой традиции британских моряков бросают на берег, когда того требует военная необходимость. Де Пюзож и его офицеры с нетерпением ждали своих скакунов и, как только лошадей свели со шлюпок на берег, тут же вскочили в седла.
Де Монкутан и остальные поскакали вперед, чтобы возглавить пехоту, а де Пюзож задержался, чтоб обменяться несколькими словами с лордом Эдрингтоном. Британская пехота уже построилась в развернутый строй; дальше на берегу виднелись отдельные красные пятнышки — британские пикеты. Хорнблауэр не слышал разговора, но видел как Болтон включился в него. Наконец Болтон подозвал и его самого.
— Вы отправитесь с лягушатниками, Хорнблауэр, — сказал Болтон.
— Я дам вам лошадь, — добавил Эдрингтон. — Берите вот эту — чалую. Я хочу, чтобы с ними был кто-то, на кого я могу положиться. Держите ухо востро и, как только они соберутся выкинуть какой-нибудь фортель, сразу сообщайте мне. Кто их знает, что им в голову взбредет.
— Вот и последний багаж выгрузили, — сказал Болтон. — Я пошлю его вам, как только получу повозки. А это что за черт?
— Это передвижная гильотина, сэр, — объяснил Хорнблауэр. — Часть французского багажа.
Все трое повернулись и посмотрели на де Пюзожа, который, не понимая ни слова, нетерпеливо слушал разговор. Однако сейчас он догадался, о чем они говорят.
— Ее надо отправить в Мюзийак в первую очередь, — сказал он Хорнблауэру. — Будьте так добры, скажите этим джентльменам.
Хорнблауэр перевел.
— Сначала я отправлю пушки и боеприпасы, — сказал Болтон. — Но я прослежу, что бы он скоро ее получил. Ну, отправляйтесь.
Хорнблауэр с опаской приблизился к чалой лошади. Последний раз он ездил на лошади в детстве, в деревне. Он вставил ногу в стремя, взобрался в седло и, когда лошадь тронулась, нервно уцепился за поводья. С лошади земля казалась так же далеко, как с грот-марса. Де Пюзож пришпорил скакуна и помчался вперед, чалая последовала за ним, унося на спине отчаянно цепляющегося Хорнблауэра, забрызганного грязью из-под копыт лошади де Пюзожа.
От рыбачьей деревушки вела проселочная дорога, поросшая по обочине травой, и де Пюзож быстро поскакал по ней, за ним, болтаясь в седле, Хорнблауэр. Через три или четыре мили они догнали арьергард французской пехоты, быстро марширующей по грязи. Де Пюзож перешел на шаг. Когда колонна поднялась на холм, они увидели далеко впереди белое знамя. Сбоку от дороги расстилались каменистые поля, слева виднелся серый каменный домик. Солдат в синем мундире вел запряженную в телегу лошадь, двое или трое других удерживали разъяренную крестьянку. Так участники вылазки раздобывали необходимый транспорт. На другом поле солдат штыком подгонял корову — зачем, Хорнблауэр себе вообразить не мог. Дважды он слышал ружейные выстрелы, на которые никто не обращал внимания. Дальше они встретили солдат, ведущих к берегу двух тощих лошадей, проходящие мимо товарищи широко ухмылялись и осыпали их шутками. Но чуть подальше Хорнблауэр увидел брошенный на поле плуг и серую кучку тряпья возле него. Это был убитый.
Справа от них тянулась заболоченная речная долина, и Хорнблауэр скоро увидел далеко впереди мост и дамбу, те самые, которые им надо было захватить. Дорога, по которой они шли, спускалась вниз. Пройдя между нескольких серых домишек, они вышли на большую дорогу, вдоль которой раскинулся город. Здесь стояла серая каменная церковь, гостиница и почтовая станция, уже окруженная солдатами. Дорога расширялась и была обсажена деревьями. Хорнблауэр решил, что это городская площадь. Из окон изредка кто-то выглядывал, но на улицах горожан не было, только две женщины поспешно запирали свои лавки. Де Пюзож остановил лошадь и принялся отдавать распоряжения. Из почтовой станции уже вывели лошадей, и гонцы сновали туда-сюда с какими-то неотложными поручениями. Повинуясь приказу де Пюзожа, один из офицеров собрал своих солдат (ему пришлось долго увещевать их, размахивая руками) и повел к мосту. Другой отряд двинулся по дороге в противоположном направлении, охранять город на случай непредвиденной атаки с той стороны. Толпа солдат расселась на корточках прямо на площади и жадно набросилась на хлеб, который вынесли из лавки, взломав предварительно дверь. Двух или трех горожан приволокли к де Пюзожу и по его приказу поспешно потащили в городскую тюрьму. Город Мюзийак был взят.
Де Пюзож, видимо, в этом не сомневался. Взглянув на Хорнблауэра, он развернул лошадь и рысью поскакал к дамбе. Город кончился, дальше начиналось болото, на пустыре между ними передовой отряд уже разложил костер. Солдаты сидели вокруг огня и жарили на штыках куски говядины, рядом лежал коровий остов с остатками мяса. Дальше, там, где дамба переходила в мост, грелся на солнышке часовой. Ружье он прислонил к парапету у себя за спиной. Все казалось тихим и мирным. Де Пюзож въехал на мост, Хорнблауэр за ним. Они посмотрели на другой берег, врага нигде не было видно. Когда они вернулись, их ждал военный в красном мундире — лорд Эдрингтон.
— Я решил посмотреть лично, — сказал он. — Позиция выглядит достаточно сильной. Как только вы поставите здесь пушки, вы сможете удерживать мост, пока не взорвете его. Но здесь есть брод, переходимый в низкую воду, в полумиле по течению. Там встану я сам. Если мы не удержим брод, они смогут обойти нас с тыла и отрезать от берега. Переведите этому джентльмену — как его там — что я сказал.
Хорнблауэр как мог перевел и продолжал переводить, пока два командира, указывая пальцами в разные стороны, решали, что кому делать.
— Договорились, — сказал, наконец, Эдрингтон. — Не забудьте, мистер Хорнблауэр, что я должен быть в курсе всех изменений.
Он кивнул им, повернул лошадь и поскакал прочь. Со стороны Мюзийака появилась повозка, за ней с грохотом катились две шестифунтовые пушки. Каждую с трудом тащили по две лошади, ведомые под уздцы моряками. На передке повозки сидел мичман Брэйсгедл. Он широкой улыбкой приветствовал Хорнблауэра.
— От шканцев до ассенизационной повозки один шаг, — сказал он, — как от мичмана до артиллерийского капитана. Он внимательно посмотрел на дамбу.
— Поставьте пушки здесь, тогда они будут простреливать всю дамбу, — предложил Хорнблауэр.
— Точно, — сказал Брэйсгедл.
По его приказу пушки скатили с дороги и поставили вдоль дамбы, выгрузили из ассенизационной повозки боеприпасы, расстелили на земле брезент, на него положили картузы с порохом и накрыли другим брезентом. Ядра и мешки с картечью сложили рядом с пушками. Возбужденные новой обстановкой, матросы работали в охотку.
— С кем не поведешься от бедности, — сказал Брэйсгедл, — чем не займешься на войне? Вы когда-нибудь взрывали мосты?
— Никогда, — ответил Хорнблауэр.
— Вот и я. Что ж, давайте попробуем. Позвольте предложить вам место в моем экипаже.
Хорнблауэр забрался в повозку рядом с Брэйсгедлом, и два моряка повели лошадей по дамбе к мосту. Здесь оба мичмана слезли и посмотрели на мутную воду — был отлив, и река текла очень быстро. Свесив головы через парапет, они осмотрели крепкое каменное основание моста.
— Нужно взорвать замковый камень свода, — сказал Брэйсгедл. Это — азбука взрывного дела, но Хорнблауэр с Брэйсгедлом, раз за разом осматривая мост, не нашли, чтоб это было очень легко сделать. Взрывная волна идет вверх, кроме того, порох должен взрываться в закрытом пространстве, а как им запихнуть порох под мост?
— Может, попробуем возле быка? — неуверенно предложил Хорнблауэр.
— Надо посмотреть, — сказал Брэйсгедл и повернулся к одномуиз матросов. — Ханнай, Дайтугрос.
Мичманы привязали трос к парапету и, осторожно упираясь ногами в скользкие камни, спустились к основанию быка. Река плескалась у самых их ног.
— Наверное, это подойдет, — сказал Брэйсгедл, сгибаясь вдвое, чтоб заглянуть под арку.
Время бежало быстро. Пришлось снять часть солдат с охраны моста, найти кирки, ломы, или что-нибудь взамен, и вывернуть несколько каменных блоков в основании арки. Сверху осторожно спустили два бочонка с порохом и запихнули в образовавшиеся пустоты, в каждую опустили огнепроводный шнур, а затем заложили бочонки камнями и землей. Когда они закончили работу, под аркой было почти темно. Солдаты с трудом взобрались вверх по веревке, а Хорнблауэр с Брэйсгедлом снова поглядели друг на друга.
— Я подожгу запал, — сказал Брэйсгедл. — Отправляйтесь наверх, сэр.
Спорить было не о чем: взорвать мост поручено Брэйсгедлу. Хорнблауэр полез вверх по веревке, Брэйсгедл вынул из кармана огниво. Поднявшись на мост, Хорнблауэр отослал повозку и стал ждать. Прошло две или три минуты, и появился Брэйсгедл. Он быстро-быстро вскарабкался по веревке и перевалился через парапет.
— Бежим! — только и сказал он.
Они помчались по мосту и, задыхаясь, спрятались за береговым устоем дамбы. Послышался глухой взрыв, земля под ногами вздрогнула, поднялось облако дыма.
— Пойдем посмотрим, — сказал Брэйсгедл. Они вернулись к мосту, который был весь окутан дымом и пылью.
— Только частично… — начал Брэйсгедл, когда они подошли к мосту и дым рассеялся.
В этот момент второй взрыв заставил их пошатнуться. Громадный валун ударил о парапет рядом с ними, взорвался, как бомба, и осыпалих градом осколков. Арка с грохотом рухнула в воду.
— Видимо, взорвался второй бочонок, — сказал Брэйсгедл, вытирая лицо. — Надо было помнить, что все запалы разной длины. Подойди мы чуть ближе, две многообещающие карьеры могли бы преждевременно оборваться.
— В любом случае, мост взорван, — сказал Хорнблауэр.
— Хорошо, что хорошо кончается, — заключил Брэйсгедл.
Семьдесят фунтов пороха сделали свое дело. Мост был разрезан надвое, посредине зияла рваная дыра шириной в несколько футов, за ней, свидетельствуя о крепости кладки, нависал кусок пролета от другого быка. Посмотрев вниз, они увидели, что река почти запружена камнями.
— Сегодня ночью якорная вахтане понадобится, — сказал Брэйсгедл.
Хорнблауэр посмотрел туда, где была привязана чалая. Он чувствовал искушение вернуться в Мюзийак пешком, ведя лошадь в поводу, но удержал стыд. Он с усилием взобрался в седло и поехал по дороге; небо окрасилось багрянцем, близился закат.
Хорнблауэр въехал на главную улицу города. Обогнув угол, он оказался на площади. То, что он здесь увидел, заставило его неосознанно натянуть поводья и остановить лошадь. На площади толпились солдаты и горожане. В центре площади вздымалась в небо прямоугольная рама с блестящим лезвием. Лезвие с грохотом упало и несколько человек, стоявших у основание прямоугольника, оттащили что-то в сторону и бросили в кучу. Передвижная гильотина работала.
Хорнблауэра затошнило — это похуже кошек. Он собирался проехать вперед, когда его внимание привлек странный звук. Кто-то пел, громко и чисто. Из-за дома вышла небольшая процессия. Впереди шагал высокий курчавый мужчина в белой рубашке и темных брюках. По обе стороны шли солдаты. Он и пел; мелодия ничего не говорила Хорнблауэру, но слова он слышал отчетливо — это была французская революционная песня, чьи отголоски дошли даже до другого берега Ла-Манша.
— Священна к родине любовь [8], — пел человек в белой рубашке, и, когда горожане услышали, что он поет, они зашумели, попадали на колени, склонили головы и сложили руки на груди.
Палачи вновь поднимали лезвие, и человек в белой рубашке следил за ним взглядом, не переставая петь. Голос его не дрожал. Лезвие поднялось на самый верх и пение наконец оборвалось: палачи набросились на человека в белой рубашке и потащили его к гильотине. С лязгом упало лезвие. По площади прокатилось эхо.
По-видимому, это была последняя казнь, потому что солдаты начали разгонять горожан по домам, и Хорнблауэр направил лошадь в быстро редеющую толпу. Он едва не вылетел из седла, когда лошадь, фыркая, шарахнулась в сторону — она учуяла ужасную кучу, лежавшую рядом с гильотиной. На площадь выходил дом с балконом, и на нем Хорнблауэр увидел де Пюзожа в белом мундире, в сопровождении других офицеров. У дверей стояли часовые. Одному из них, входя, Хорнблауэр оставил лошадь. Де Пюзож только что спустился вниз.
— Добрый вечер, сударь, — де Пюзож был безукоризненно вежлив. — Я рад, что вы добрались до нашей ставки. Надеюсь, затруднений не было. Мы собираемся поужинать и были бы рады, если бы вы составили нам компанию. Вы ведь на лошади? Господин да Виллэ распорядится, чтоб о ней позаботились.
Это было просто невероятно. Не верилось, что этот лощеный господин только что приказал устроить кровавую бойню. Не верилось, что эти элегантные юноши, с которыми он сидит за одним столом, рискуют своими жизнями, чтоб свергнуть жестокую, но крепкую молодую республику. Еще меньше верилось, что он сам, мичман Горацио Хорнблауэр, забирающийся на ночь в четырехспальную кровать, подвергается смертельной опасности.
На улице рыдали женщины, оплакивая увозимые солдатами обезглавленные тела, и Хорнблауэр думал, что не сможет заснуть. Однако молодость и усталость взяли свое, и он проспал почти всю ночь, хотя и проснулся с ощущением, что его мучили кошмары. В темноте все казалось ему незнакомым, и прошло несколько секунд, пока он понял, где находится. Он лежал в кровати, а не в подвесной койке, в которой провел последние триста ночей; кровать стояла непоколебимо, как скала, вместо того, чтоб раскачиваться из стороны в сторону. Под балдахином было душно, но то не была знакомая духота мичманской каюты, в которой застоявшийся запах человеческого тела мешался с запахом застоялой воды. Хорнблауэр был на берегу, в доме, в кровати, все кругом было тихо, неестественно тихо для человека, привыкшего к скрипу идущего по морю корабля.
Конечно, он в доме, в городе Мюзийак, в Бретани. Он спит в ставке бригадного генерала маркиза де Пюзожа, командующего французскими частями, входящими в экспедиционный корпус, который вторгся в революционную Францию, чтоб сразиться за своего короля с многократно превосходящими силами противника. Хорнблауэр почувствовал, как убыстрился его пульс, как липкий, противный страх накатывает на него, и снова вспомнил, что он во Франции, в десяти милях от «Неустанного», и лишь кучка французов — половина из них наемники всех мастей — охраняет его от плена и смерти. Он пожалел, что знает французский, — если б не это, его бы сейчас здесь не было, а при удачном стечении обстоятельств он стоял бы с британским 43-м полубатальоном в полумиле отсюда.
Мысль о британских частях заставила Хорнблауэра подняться с постели. Он должен поддерживать с ними связь, а пока он спал, ситуация могла измениться. Он отодвинул балдахин и с трудом встал; после вчерашней верховой езды все мускулы невыносимо болели. В темноте он проковылял к окну, нащупал щеколду и отворил ставни. Над пустыми улицами светил месяц. Свесившись вниз, Хорнблауэр увидел треуголку часового и сверкающий в лунном свете штык. Отойдя от окна, он нашел мундир и башмаки, оделся, нацепил абордажную саблю и как можно тише, спустился вниз. В холле на столе горела свеча, рядом с ней, положив голову на руки, дремал французский сержант. Спал он чутко, и когда Хорнблауэр остановился в дверях, сразу поднял голову. На полу громко храпели остальные караульные. Они лежали вповалку, словно свиньи в хлеву, прислонив ружья к стене.
Хорнблауэр кивнул сержанту, открыл входную дверь и вышел на улицу. Легкие его благодарно расширились, вбирая свежий ночной, вернее уже утренний воздух. Небо на востоке чуть-чуть посветлело. Часовой заметил британского офицера и нехотя подтянулся. На площади по-прежнему высилась в лунном свете мрачная рама гильотины, возле нее чернели пятна крови. Интересно, кто были жертвы вчерашней казни, те кого роялисты так спешно схватили и убили? Наверное, какие-нибудь мелкие республиканские чиновники: мэр, начальник таможни и так далее, если не просто те, на кого роялисты затаили злобу еще с революционных времен. Мир этот жесток и беспощаден, Хорнблауэр был в нем несчастен, подавлен и одинок.
Его размышления прервал караульный сержант и несколько солдат; они сменили часового у дверей и пошли вокруг дома, чтоб сменить остальных. Потом из-за дома на противоположной стороне улицы вышли четыре барабанщика и сержант. Они построились в ряд, подняли палочки до уровня глаз, затем, по команде сержанта, враз обрушили их на барабаны и двинулись по улице, выбивая бодрый ритм. На углу они остановились, барабаны загремели протяжно и зловеще, потом барабанщики двинулись дальше, выбивая прежний ритм. Они звали по местам расквартированных на постой солдат. Хорнблауэр, лишенный музыкального слуха, но тонко чувствующий ритм, подумал, что это хорошая музыка, настоящая музыка. Он вернулся в ставку взбодрившимся. Вошел караульный сержант и часовые, которых тот сменил с постов, на улице начали появляться первые солдаты, к штабу со стуком подскакал верховой гонец. День начался.
Бледный молодой человек прочитал записку, которую привез гонец, и вежливо протянул ее Хорнблауэру. Тому пришлось поломать над ней голову — он не привык читать по-французски написанное от руки — но, наконец, смысл ее дошел до него. Из записки следовало, что события приняли новый оборот. Экспедиционный корпус, высадившийся вчера в Киброне, двинулся этим утром на Ван и на Рен, а вспомогательному корпусу, к которому был прикомандирован Хорнблауэр, надлежало оставаться в Мюзийаке, охраняя фланг. Появился маркиз де Пюзож в безукоризненно белом мундире с голубой лентой, ни слова не говоря, прочитал записку, обернулся к Хорнблауэру и вежливо пригласил его позавтракать.
Они вошли в большую кухню, где по стенам висели начищенные медные кастрюли. Молчаливая женщина принесла им кофе и хлеб. Вполне вероятно, что она была патриоткой и ярой контрреволюционеркой, но по ней этого было не заметно. Возможно, на ее чувства повлияло то обстоятельство, что вся эта орда захватила ее дом, ела ее хлеб и спала в ее постелях, не платя ни копейки. Возможно, кой-какие реквизированные лошади и повозки тоже принадлежали ей; возможно, кто-то из погибших вчера на гильотине был ее другом. Но она принесла кофе, и собравшиеся на кухне офицеры, гремя шпорами, принялись завтракать. Хорнблауэр взял чашку и кусок хлеба — четыре месяца он не видел другого хлеба, кроме корабельных сухарей — и отхлебнул глоток. Он не понял, понравился ли ему напиток; прежде ему всего два или три раза приходилось пробовать кофе. Он снова поднял чашку к губам, но отхлебнуть не успел: раздавшийся вдали пушечный выстрел заставил его опустить чашку и замереть. Снова пушечный выстрел, потом еще и еще: палили шестифунтовки мичмана Брэйсгедла у дамбы.
В кухне поднялись шум и суматоха. Кто-то опрокинул свой кофе и по столу побежал черный ручеек. Кто-то ухитрился зацепиться шпорой о шпору и упал на соседа. Все говорили одновременно. Хорнблауэр был возбужден не меньше других, ему хотелось немедленно бежать на улицу, посмотреть, что происходит, но он вспомнил дисциплинированную тишину на идущем в бой «Неустанном». Он не такой, как эти французы. Чтоб доказать это, он поднес чашку к губам и спокойно отхлебнул. Большинство офицеров уже выскочили из кухни, требуя своих лошадей. Понадобится время, чтобы их заседлать. Хорнблауэр посмотрел на де Пюзожа, выходящего из комнаты, и допил кофе; кофе был немножко слишком горячий, но он чувствовал, что это хороший жест. Оставался еще хлеб, и он без малейшего желания заставил себя откусить и прожевать. Впереди тяжелый день, неизвестно, когда следующий раз удастся поесть. Хорнблауэр сунул хлеб в карман.
Во двор привели оседланных лошадей; заразившись общим волнением, они рвались вперед под громкие проклятия офицеров. Де Пюзож вскочил в седло и поскакал вперед, остальные за ним. Во дворе остался один солдат, державший под уздцы чалую лошадь Хорнблауэра. Это было к лучшему: Хорнблауэр знал, что не удержится в седле и минуты, если его лошади придет в голову рвануться вперед или встать на дыбы. Он медленно подошел к чалой, которую грум к этому времени немного успокоил, и медленно-медленно забрался в седло. Сдерживая поводьями взволнованное животное, он неторопливо поехал по улице к мосту, следуя вслед за ускакавшими офицерами. Лучше ехать потише и доехать наверняка, чем пустить лошадь в галоп и вылететь из седла. Пушки по-прежнему гремели: видны были клубы дыма над шестифунтовками мичмана Брэйсгедла. Слева в ясном небе вставало солнце.
Ситуация у моста казалась достаточно ясной. Там, где арка была взорвана, с обеих сторон перестреливались кучки солдат, а в дальнем конце дамбы, с той стороны Марэ, поднималось облако дыма, там располагалась вражеская батарея. Она била редко и с большого расстояния. Сам Брэйсгедл с абордажной саблей стоял между пушек, вокруг которых суетились его моряки. Заметив Хорнблауэра, он беспечно помахал ему рукой.
Английские пушки громыхнули. Чалая встрепенулась, отвлекая внимание Хорнблауэра. Когда он смог взглянуть, колонны уже не было. Вдруг парапет дамбы рядом с ним разлетелся в куски; что-то с силой ударило в мостовую у самых конских копыт и пролетело мимо. Никогда еще ядро не проносилось так близко от Хорнблауэра. Пытаясь совладать с лошадью, он потерял стремя и, как только немного с ней справился, счел разумным спешиться и отвести ее к пушкам. Брэйсгедл приветствовал его широкой ухмылкой.
— Здесь они не пройдут, — сказал он. — По крайней мере, если лягушатники не подведут, а они вроде настроены серьезно. Дыра простреливается картечью, так что противнику не удастся перекинуть через нее мост. Не понимаю, зачем они тратят порох.
—Я думаю, они проверяют наши силы, — произнес Хорнблауэр с видом крупного знатока.
Позволь он себе на минуту расслабиться, его бы тут же затрясло от возбуждения. Он подумал, не выглядит ли он неестественно чопорно, но это лучше, чем обнаружить волнение. Было какое то странное удовольствие в том, чтобы стоять под ревущими пушечными ядрами, изображая закаленного в боях ветерана. Брэйсгедл, казалось, полностью владел собой, он был весел и улыбался. Хорнблауэр внимательно посмотрел на него, гадая, не наигранное ли это, как у него самого, но так и не понял.
— Вот они опять, — сказал Брэйсгедл. — Опять небольшая вылазка.
Несколько человек врассыпную бежали по дамбе к мосту. На расстоянии ружейного выстрела они упали на землю и открыли огонь; среди них уже были убитые, и стрелки укрывались за мертвыми телами. По эту сторону дыры солдаты отстреливались.
— У них нет никаких шансов, — сказал Брэйсгедл. — Посмотрите сюда.
По дороге шла главная колонна роялистов, вызванная из города. В этот момент пущенное с другого берега ядро ударило в голову колонны — Хорнблауэр увидел, как падают убитые. Колонна дрогнула. Подскакал де Пузож и принялся выкрикивать команды — колонна оставила на дороге убитых и раненых, свернула и укрылась на болотистом поле за дамбой.
Теперь, когда собрались все силы роялистов, у революционеров не осталось почти никаких шансов захватить мост.
— Мне стоит доложить об этом ракам, — сказал Хорнблауэр.
— На заре в той стороне стреляли, — заметил Брэйсгедл. Узенькая дорожка, окруженная сочной зеленью, вилась среди заболоченной долины в направлении брода, у которого стоял 43-й полубатальон. Прежде чем взобраться в седло, Хорнблауэр под уздцы вывел лошадь на эту дорожку — он решил, что это самый простой способ объяснить ей, куда надо ехать. Вскоре он увидел впереди на берегу красные пятнышки — вдоль реки были расставлены пикеты, на тот маловероятный случай, что это противник попытается перейти через болотистое русло и атаковать британцев с фланга. Потом Хорнблауэр увидел домик у брода; все поле перед ним было красным от солдатских мундиров. Здесь располагалась основная часть полубатальона. В одном месте болото суживалось я небольшой пригорок подходил к воде; здесь стояла кучка солдат в красных мундирах, рядом с ними — лорд Эдрингтон на коне. Хорнблауэр подъехал и доложил обстановку, вздрагивая каждый раз, как лошадь под ним перебирала копытами.
— Ни одной серьезной атаки, так вы сказали? — спросил Эдрингтон.
— При мне не было ни одной, сэр.
— Вот как? — Эдрингтон посмотрел на другой берег реки. — И здесь тоже самое. Ни одной серьезной попытки захватить брод. Почему они показываются время от времени но не нападают?
— Я думал, они напрасно жгут порох, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Они не дураки, — фыркнул Эдрингтон, вновь внимательно всматриваясь в противоположный берег. — По крайней мере, не будет вреда, если мы примем, что они не дураки.
Он повернул лошадь и легким галопом поскакал к основной части своего отряда. Здесь Эдрингтон отдал приказ капитану, который при его появлении вскочил на ноги и вытянулся. Капитан в свою очередь прокричал приказ, его солдаты встали и построились в ровную неподвижную шеренгу. Еще два приказа, и они повернули направо и зашагали в ногу, держа ружья в точности под одним углом. Эдрингтон наблюдал за ними.
— Прикрытие с фланга не помешает, — сказал он. С этого берега послышалась канонада, и они обернулись к реке: по дальней стороне вдоль болота быстро шла пехотная колонна.
—Та же колонна возвращается, сэр, — сказал ротный командир. — Или другая точно такая же.
— Маршируют взад-вперед и изредка палят, — сказал Эдрингтон. — Мистер Хорнблауэр, поставили эмигранты дозор со стороны Киброна?
— Со стороны Киброна? — Хорнблауэр был захвачен врасплох.
— Черт, вы что, слов не понимаете? Есть там дозор или нет?
— Не знаю, — вынужден был сознаться Хорнблауэр. В Киброне стояло шеститысячное эмигрантское войско, и держать с этой стороны дозор казалось совершенно излишним.
— Тогда передайте мои приветствия генералу французских эмигрантов и скажите, что я советую ему поставить на дороге сильный отряд, если он до сих пор этого не сделал.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр повернул лошадь на дорогу, идущую к мосту. Солнце палило над опустевшими лугами. Изредка гремела канонада, но в синем небе над головой пел жаворонок. Въезжая на последний склон, за которым дорога спускалась к мосту, Хорнблауэр услышал пальбу; ему почудились крики и стоны. То, что он увидел, въехав на гребень, заставило его натянуть поводья и остановить лошадь. Все поле было полно беглецами в белых мундирах с синими портупеями — они в панике бежали в его сторону. Среди беглецов мелькали скачущие галопом всадники, их обнаженные сабли вспыхивали на солнце. Дальше слева скакала целая кавалерийская колонна, а еще дальше, со стороны ведущей к морю дороги, сверкал строй штыков. Он быстро приближался.
В эти несколько кошмарных секунд Хорнблауэр осознал истину: революционеры прорвались между Киброном и Музийяком и, отвлекая эмигрантов маневрами с той стороны реки, захватили их врасплох неожиданной атакой с фланга. Одному небу известно, что произошло в Киброне, сейчас некогда было об этом гадать. Хорнблауэр с трудом заставил лошадь повернуться и ударил ее в бок каблуками, торопя в сторону британцев. Его мотало и бросало в седле, и он отчаянно цеплялся, страшась, что вылетит из седла и попадет в плен.
Он подскакал, британцы обернулись на стук подков. Эдрингтон держал свою лошадь под уздцы.
— Французы! — хрипло выкрикнул Хорнблауэр, указывая назад. — Они идут!
— Ничего другого я и не ожидал, — сказал Эдрингтон. Прежде чем сунуть ногу в стремя, он выкрикнул приказ. К тому времени, когда он был в седле, весь 43-й батальон построился в шеренгу. Адъютант Эдрингтона скакал к берегу, чтобы отозвать стоявших там солдат.
— Французы, я полагаю, наступают крупными силами: конница, пехота, пушки? — спросил Эдрингтон.
— Пехоту и кавалерию я видел, сэр, — выговорил Хорнблауэр, пытаясь успокоиться и вспомнить. — Пушек не видел.
— А эмигранты бегут, как зайцы?
— Да, сэр.
— Вот и они.
За холмиком появились несколько синих мундиров. Французы бежали, спотыкаясь от усталости.
— Я полагаю, нам следует прикрыть их отступление, хотя они и не стоят того, чтобы их спасать, — сказал Эдрингтон. — Смотрите!
Отряд, который он отправил охранять фланг, стоялнавершине небольшого холма. Солдаты построились в каре, красное на зеленом фоне. Отряд всадников подскакал к холму и закружился вокруг него водоворотом.
— Хорошо, что я их там поставил, — спокойно заметил Эдрингтон. — А вот и рота Мэйна.
Вернулся отряд, стоявший у брода. Слышались отрывистые приказы. Две роты повернулись кругом. Старший сержант, держа в руках саблю и оправленную серебром трость, Ровнял строй, словно на плацу.
— Я облагаю, вам следует остаться со мной, мистер Хорнблауэр, — сказал Эдрингтон.
Он направил лошадь между двух колонн, Хорнблауэр тупо следовал за ним. Еще один приказ, и полубатальоу медленно двинулся через долину, сержанты отсчитывали шаг, старший сержант следил за дистанцией. Повсюду, выбиваясь из сил, бежали солдаты-эмигранты. Вот один из них задыхаясь, рухнул на землю. Потом справа за холмом возникла цепочка плюмажей, цепочка сабель — кавалерийский полк рысью скакал вперед. Хорнблауэр увидел, как сабли взметнулись вверх, увидел, как лошади перешли в галоп услышал крики атакующих. Солдаты в красных мундирах не двигались; затем раздался приказ и полубатальон неспешным шагом перестроился в каре. Верховые офицеры оказались в середине. Атакующие всадники были не более чем в сотне ярдов. Один из офицеров начал низким голосом отдавать приказы — он произносил их нараспев, словно распоряжался некой торжественной церемонией. По первому приказу солдаты сняли с плеч ружья, по второму все враз щелкнули открываемыми полками. По третьему приказу все солдаты подняли ружья и прицелились.
— Слишком высоко! — сказал старший сержант. — Ниже, эй, седьмой номер.
Атакующие были уже в тридцати ярдах. Хорнблауэр видел передовых всадников в развевающихся за плечами плащах. Каждый держал наперевес обнаженную саблю.
— Пли! — скомандовал низкий голос.
Раздался грохот — все ружья выстрелили одновременно. Каре окуталось облаком дыма. Там, куда смотрел Хорнблауэр, несколько десятков людей и лошадей лежали на земле, некоторые в предсмертных судорогах, некоторые без движения.
Кавалерийский полк разбился о каре, словно волна о скалу, и, не причинив вреда, пронесся вдоль его флангов., — Неплохо, — сказал Эдрингтон.
Снова зазвучал низкий речитатив; словно марионетки на одной веревочке, стрелявшие только что солдаты перезаряжали ружья. Все враз скусили патроны, все враз забили снаряд, все враз, одинаково наклонив головы, выплюнули пули в ружейные стволы. Эдрингтон внимательно смотрел, как кавалерия беспорядочной толпой собирается в долине.
— 43-й вперед марш! — приказал он.
Тихо и торжественно каре разделилось на две колонны и продолжило прерванный путь. Отряд, охранявший фланг, присоединился к ним, оставив на холме убитых лошадей и людей. Кто-то крикнул «ура!».
— Молчать в строю! — заорал старший сержант. — Сержант, узнайте, кто кричал.
Но Хорнблауэр заметил, как тщательно старший сержант следит за дистанцией между колоннами; оно должно было быть в точности таким, чтоб рота, перестроившись, образовала каре.
— Вот они опять, — сказал Эдрингтон.
Кавалерия построилась для новой атаки, но каре уже ждало ее. Лошади устали, а люди порастеряли свой пыл. На английских солдат двигалась не прежняя сплошная стена всадников, а отдельные кучки, которые бросались то туда, то сюда, и отскакивали в сторону, натолкнувшись на ряд штыков. Атака была слишком слаба, чтоб устоять перед беглым огнем; по команде сержанта солдаты время от времени обстреливали наиболее назойливые отряды. Хорнблауэр видел, как один человек (судя по золотому шитью на мундире — офицер) натянул поводья перед строем штыков и вытащил пистолет. Прежде чем он успел выстрелить, разом грянули полдюжины ружей; лицо офицера превратилось в жуткую кровавую маску, он вместе с лошадью рухнул на землю. Потом кавалерия разом повернулась, как скворцы на поле, и колонна могла продолжать свой путь.
— Никакой дисциплины у этих французов, что с той стороны, что с этой, — сказал Эдрингтон.
Колонна двигалась к морю, к спасительным кораблям, но Хорнблауэру казалось, что она еле ползет. Солдаты с томительной тщательностью печатали шаг, а рядом и впереди бурным потоком неслись эмигранты, торопясь укрыться в безопасности. Оглядываясь, Хорнблауэр видел наступающие колонны — революционная пехота нагоняла.
— Только позвольте людям бежать, и вы ничего другого от них уже не добьетесь, — сказал Эдрингтон, проследив взгляд мичмана.
Крики и стрельба с фланга привлекли их внимание. По полю рысью неслась запряженная в повозку кляча. Повозка подпрыгивала на кочках, кто-то в моряцкой одежде держал поводья, другие моряки отстреливались от нападающих всадников. Это был Брейсгедл на своей ассенизационной повозке —он потерял пушки, зато спас людей. Когда повозка приблизилась к колоннам, преследователи отстали; Брейсгедл заметил Хорнблауэра и возбужденно ему замахал.
— Боадицея и ее колесница! [9] — завопил он.
— Вы очень обяжете меня, сэр! — гаркнул Эдринггон — если отправитесь вперед и подготовите все к нашей погрузке.
— Есть, сэр!
Тощая лошаденка рысью побежала вперед, таща за собой подпрыгивающую повозку, ухмыляющиеся моряки цеплялись за борта. Сбоку волной накатила пехота; безумная размахивающая руками, бегущая толпа пыталась перерезать 43-му путь. Эдринггон взглядом окинул поле.
— 43-й! В развернутый строй! — крикнул он. Словно хорошо смазанная машина, полубатальон выстроился в ряд на пути бегущей толпы; каждый солдат вставал на свое место, словно кирпич в кладку.
— 43-й вперед марш!
Медленно и неумолимо красная цепочка двинулась вперед. Толпа бежала к ней, офицеры размахивали шпагами, зовя людей за собой.
— Заряжай!
Ружья разом опустились вниз, щелкнули зарядные полки.
— Цельсь!
Ружья поднялись вверх, толпа заколебалась. Кто-то пытался отступить в толпу и укрыться за телами товарищей.
— Пли!
Грохот выстрелов. Хорнблауэр, глядя с лошади поверх голов, видел, как рухнули подкошенные выстрелами передовые французы. Красная цепочка двигалась вперед; после каждого шага раздавался приказ, и солдаты перезаряжали, как автоматы. Пятьсот ртов выплевывали пятьсот пуль, пятьсот правых рук враз поднимали пятьсот шомполов. Когда солдаты вскидывали ружья, чтобы прицелиться, красная цепочка оказывалась среди убитых и раненых; при наступлении толпа отпрянула назад, и теперь под угрозой огня отступала дальше. Залп был дан, наступление продолжалось. Новый залп, новое наступление. Толпа рассыпалась, кто-то обратился в бегство. Теперь все повернулись спинами к стрелкам и бросились бежать. Склоны холма были черны от бегущих людей, как тогда, когда бежали эмигранты.
— Стой!
Наступление прекратилось; цепочка перестроилась в сдвоенную колонну и продолжала отступление.
— Весьма удовлетворительно, — заметил Эдринггон. Лошадь Хорнблауэра осторожно переступала через убитых и раненых, а сам он так старался усидеть в седле, так растерялся, что не сразу заметил, что они поднялись на последний склон и перед ними блещет залив. Здесь качались на якоре корабли и — о благословенное зрелище! — шлюпки гребли к берегу. Как раз вовремя — самые отчаянные из революционных пехотинцев уже настигали колонны, обстреливая их издалека. То один, то другой солдат падал убитым.
— Сомкнись! — командовал сержант, и колонны твердо шли вперед, оставляя за собой убитых и раненых.
Лошадь под адъютантом вдруг фыркнула, прянула в сторону и упала на колени, затем, брыкаясь, стала заваливаться на бок. Веснушчатый адъютант успел высвободить ноги из стремян и отскочить в сторону: еще немного, и лошадь придавила бы его.
— Вы ранены, Стэнли? — спросил Эдринггон.
— Нет, милорд. Все в порядке, — ответил адъютант, отряхивая красный мундир.
— Вам недолго придется идти пешком, — сказал Эдринггон. — Нет надобности высылать солдат вперед, чтобы отогнать этот сброд. Встанем здесь.
Он посмотрел на рыбачьи хижины, на бегущих в панике эмигрантов, на революционную пехоту, наступающую по полям. Времени на размышления не оставалось. Солдаты в красных мундирах вбежали в дома, и вскоре уже высовывали из окон ружья. К счастью, рыбацкая деревушка охраняла подход к морю с одной стороны, с другой же был крутой и неприступный склон, на вершине которого уже закрепились солдаты в красных мундирах. В промежутке между этими точками две роты выстроились в развернутый строй, едва укрытый за небольшим береговым валом.
Эмигранты уже грузились в качающиеся на слабых волнах шлюпках. Хорнблауэр услышал пистолетный выстрел и догадался, что кто-то из офицеров использовал последний довод, способный сдержать обезумевших от страха людей, не дать всем сразу набиться в шлюпки и потопить их. Артиллерийская батарея закрепилась на расстоянии ружейного выстрела и обстреливала британские позиции, за ней собралась революционная пехота. Пушечные ядра пролетали прямо над головой.
— Пусть себе стреляют, — сказал Эдринггон, — Чем дольше, тем лучше.
Артиллерия не могла причинить большого вреда британцам, скрытым за береговым валом, и командир революционеров понял, что зря теряет драгоценное время. Со стороны противника зловеще зарокотали барабаны, и колонны двинулись вперед. Так близко они были, что Хорнблауэр видел лица передовых офицеров. Они размахивали шляпами и шпагами.
— 43-й, заряжай! — скомандовал Эдрингтон. Щелкнули полки. — Семь шагов вперед, марш!
Раз…два…три…семь мучительных шагов, и строй на гребне вала.
— Целься! Пли!
Перед таким огнем ничто не могло устоять. Французская колонна замедлилась и смешалась. Новый залп, за ним еще один. Колонна побежала.
— Превосходно! — сказал Эдрингтон.
Громыхнула батарея — двое солдат в красных мундирах попадали, как куклы. Они лежали страшной кровавой массой у самых ног чалой лошади.
— Сомкнись! — скомандовал сержант, и по солдату с каждой стороны шагнуло на освободившееся место.
— 43-й, семь шагов назад, марш!
Строй укрылся за валом, словно красных марионеток вовремя дернули за ниточку. Впоследствии Хорнблауэр не мог вспомнить, дважды или трижды накатывали на них революционеры, отбрасываемые каждый раз дисциплинированным ружейным огнем. Но солнце уже садилось в океан, когда он обернулся и увидел, что берег пуст, а к ним бредет мичман Брэйсгедл, чтоб доложить о ходе погрузки.
— Я могу отпустить одну роту, — сказал Эдрингтон;
Слушая Брэйсгедла, он не спускал глаз с противника. — Как только они погрузятся, приготовьте все шлюпки и ждите.
Одна рота ушла строем; еще одна атака была отбита. После первых неудач французы уже не налетали с прежним пылом. Теперь батарея сосредоточила свой огонь на расположенном с фланга возвышении и осыпала ядрами стоявших там солдат. Французский батальон двинулся, чтоб атаковать с той стороны.
— Это даст нам время, — сказал Эдрингтон. — Капитан Гриффин, можете уводить людей. Знаменосцам с караулом остаться здесь.
Солдаты строем двинулись к берегу. На их месте по-прежнему развевалось знамя, видимое французам из-за вала. Рота, занявшая домишки, выскочила наружу, построилась и зашагала к берегу. Эдрингтон подъехал к основанию склона. Он наблюдал, как французы готовятся к атаке, а пехота грузится в шлюпки.
— Ну, гренадеры! — закричал он вдруг. — Бегите! Знаменосцы!
Рота побежала вниз к морю по крутому склону, сползая и спотыкаясь. У кого-то от неосторожного обращения выстрелило ружье. Последний солдат сбежал со склона как раз
тогда, когда знаменосцы со своей бесценной ношей начали забираться в шлюпку. Французы, дико вопя, бросились на оставленную британцами позицию.
— За мной, сэр, — сказал Эдрингтон, поворачивая лошадь к морю.
Как только лошадь заплескала по мелководью, Хорнблауэр выпал из седла. Он отпустил поводья и побрел к баркасу сначала по грудь, потом по плечи в воде. На носу баркаса стояла четырехфунтовая пушка, а рядом с ней Брэйсгедл. Он втащил Хорнблауэра в шлюпку. Хорнблауэр оглянулся и увидел занятное зрелище: Эдрингтон добрался до шлюпки, не выпуская из рук поводьев. Французы уже заполнили берег. Эдрингтон взял ружье из рук ближайшего солдата, приставил дуло к лошадиной голове и выстрелил. Лошадь в предсмертной судороге упала на мелководье; лишь чалая Хорнблауэра досталась в добычу революционерам.
— Табань! — приказал Брэйсгедл, и шлюпка начала поворачивать прочь от берега.
Хорнблауэр лежал на рыме шлюпки, не в силах шевельнуть пальцем. Берег, заполненный кричащими и жестикулирующими французами, алел в свете заката.
— Минуточку, — сказал Брэйсгедл, потянулся к вытяжному шнуру и аккуратно его выдернул.
Пушка громыхнула у самого Хорнблауэрова уха. На берегу падали убитые.
— Это картечь, — сказал Брэйсгедл. — Восемьдесят четыре пули. Левая, суши весла! Правая, весла на воду.
Лодка повернула от берега и заскользила к гостеприимным кораблям. Хорнблауэр смотрел на темнеющий французский берег. Все позади; попытка его страны силой подавить революцию окончилась кровавым поражением. Парижские газеты захлебнутся от восторга, лондонский «Вестник» посвятит инциденту несколько сухих строчек. Хорнблауэр провидел, что через какой-нибудь год мир едва будет помнить об этом событии. Через двадцать лет его забудут окончательно. Но те обезглавленные тела в Мюзийяке, разорванные в клочья красномундирные солдаты, французы, застигнутые картечью из четырехфунтовой пушки — все они мертвы, как если бы в этот день повернулась мировая история. А сам он так бесконечно устал. В кармане у него по-прежнему лежал кусок хлеба, который он положил туда сегодня утром, и про который забыл.
ИСПАНСКИЕ ГАЛЕРЫ
В то время, когда Испания заключила с Францией мир, старый добрый «Неустанный» стоял на якоре в Кадисском заливе. Хорнблауэру случилось быть вахтенным мичманом и именно он обратил внимание лейтенанта Чадда на то, что к ним приближается восьмивесельный пинас с красно-желтым испанским флагом на корме. Чадд в подзорную трубу различил золото эполетов и треуголку. Он тут же приказал фалрепным и караулу морских пехотинцев выстроиться для отдания традиционных почестей капитану союзного флота. Поспешно вызванный Пелью ожидал гостя на шкафуте; там и произошел весь последующий разговор. Испанец с низким поклоном протянул англичанину пакет с печатями.
— Мистер Хорнблауэр, — сказал Пелью, держа в руках нераспечатанное письмо. — Поговорите с ним по-французски. Пригласите его спуститься вниз на стаканчик вина.
Испанец, вновь поклонившись, отверг угощение и, опять кланяясь, попросил Пелью немедленно прочесть письмо. Пелью сломал печать и прочел содержимое, с трудом продираясь сквозь французские фразы: он немного читал по-французски, хотя говорить не мог совсем. Он протянул письмо Хорнблауэру.
— Это значит, что даго заключили мир, так ведь? — Хорнблауэр с трудом прочел двенадцать строк, содержащих приветствия, которые Его Превосходительство герцог Бельчитский (гранд первого класса и еще восемнадцать титулов, из них последний — главнокомандующий Андалузии) адресовал любезнейшему капитану сэру Эдварду Пелью, кавалеру ордена Бани. Второй абзац был коротким и содержал уведомление о заключенном мире. Третий абзац, такой же длинный, как и первый, состоял из церемонного прощания, почти слово в слово повторявшего приветствие.
— Это все, сэр, — сказал Хорнблауэр. Но у испанского капитана вдобавок к письменному сообщению было еще и устное.
— Пожалуйста, скажите своему капитану, — он говорил по-французски с испанским акцентом, — что, будучи теперь нейтральной державой, Испания должна осуществлять свои права. Вы простояли здесь на якоре двадцать четыре часа. Если по истечении шести часов с этого момента, — Испанец вынул из кармана золотые часы и посмотрел на них, — вы будете в пределах досягаемости батареи Пунталес, она получит приказ открыть по вам огонь.
Хорнблауэру оставалось только перевести этот безжалостный ультиматум, даже не пытаясь его смягчить. Пелью выслушал, и его загорелое лицо побелело от гнева.
— Скажите ему…— начал он и тут же овладел собой. — Черт меня подери, если я дам ему понять, что он меня разозлил.
Пелью прижал шляпу к животу и поклонился, в меру своих сил изображая испанскую вежливость. Потом он обернулся к Хорнблауэру.
— Скажите ему, что я с радостью выслушал его сообщение. Скажите ему, что я сожалею об обстоятельствах, разлучающих меня с ним, и что я надеюсь навсегда сохранить его личную дружбу, каковы бы ни были отношения между нашими странами. Скажите ему… вы сами не хуже меня можете все это сказать, верно, Хорнблауэр? Надо проводить его за борт с почестями. Фалрепные! Боцманматы! Барабанщики!
Хорнблауэр, как мог, источал любезности, капитаны после каждых двух фраз обменивались поклонами, испанец с каждым поклоном отступал на шаг, а Пелью, не желая уступать в вежливости, следовал за ним. Барабанщики выбивали дробь, пехотинцы держали ружья на караул, а дудки свистели, пока голова испанца не опустилась до уровня главной палубы. Пелью тут же выпрямился, нахлобучил шляпу и повернулся к первому лейтенанту.
— Мистер Эклз, я хочу, чтоб корабль был готов к отплытию через час.
И он, стуча каблуками, сбежал вниз, чтоб в одиночестве вернуть утерянное самообладание.
Матросы на реях отдавали парус, готовясь выбирать шкоты; скрип шпиля подтверждал, что другие матросы выбирают якорный канат. Хорнблауэр, стоя на правом переходном мостике с плотником мистером Уэлсом, глядел на белые домики одного из красивейших городов Европы.
— Я дважды был здесь на берегу, — сказал Уэлс, — Вино у них хорошее, если вы вообще пьете эту гадость. Но вот коньяк их даже не пробуйте, мистер Хорнблауэр. Яд, чистый яд. Ого! Я вижу нас собираются провожать.
Два длинных острых носа выскользнули из внутреннего залива и теперь смотрели в сторону «Неустанного». Хорнблауэр, проследив взгляд Уэлса, не смог сдержать удивленного возгласа. Это были галеры — по бокам у каждой мерно вздымались и опускались весла, и, поворачиваясь плашмя, вспыхивали в солнечном свете. Сотня весел взмывали, как одно — это было очень красиво; Хорнблауэр вспомнил, что школьником переводил строчку из латинского стихотворения и очень удивился тогда, узнав, что «белые крылья» римских военных судов это их весла. Теперь сравнение стало понятным — даже летящие чайки, чьи движения Хорнблауэр всегда считал безупречно-прекрасными, не могли сравниться с галерами. У них была низкая осадка и непропорционально большая длина. На низких наклонных мачтах не было паруса, ни даже латинского рея. Носа их блестели позолотой, под ними пенилась вода; галеры шли прямо против слабого бриза золотые с красным испанские знамена отдувало ветром к корме. Вверх — вперед — вниз в неизменном ритме двигались весла, не отклоняясь друг от друга ни на один дюйм. На носу каждой галеры, указывая точно вперед, стояло по большой пушке.
— Двадцатичетырехфунтовки, — сказал Уэлс. — Если они настигнут вас в штиль, то разнесут в куски. Подойдут с кормы, где вы не сможете навести на них пушку, и будут поливать продольным огнем, пока вы не сдадитесь. А там спаси вас Бог — лучше турецкая тюрьма, чем испанская.
Кильватерный строем, словно прочерченным по линейке, строго сохраняя дистанцию, словно отмеренную рулеткой, галеры прошли вдоль левого борта «Неустанного». Команда фрегата под барабанный бой и свист дудок вытянулась по стойке «смирно», дабы засвидетельствовать почтение проплывающему мимо флагу. Офицеры галер вернули приветствия.
— Мне что-то не нравится, — процедил сквозь зубы Уэлс, — салютовать им, словно они фрегат.
Поравнявшись с бушпритом «Неустанного», первая галера двинула весла правого борта в обратную сторону и, несмотря на большую длину и малую ширину, повернулась, как волчок, встав поперек носа фрегата. Легкий ветерок дул прямо со стороны галеры; Хорнблауэр почувствовал сильную вонь, и не он один: все матросы на палубе криками выражали свое отвращение.
— Они все так воняют, — объяснил Уэлс. — Пятьдесят весел, на каждом по четыре гребца. Получается двести галерных рабов. Все прикованы к своим скамьям. Если вы попадаете на судно рабом, вас сразу приковывают к скамье и уже не отковывают, пока не приспеет время выбросить вас за борт. Иногда, когда матросы не заняты, они выгребают дерьмо, но это случается нечасто: во-первых их мало, а во-вторых, они даго.
Хорнблауэр всегда хотел все знать точно.
— Сколько их, мистер Уэлс?
— Человек тридцать. Достаточно, чтоб при необходимости управиться с парусами. Или чтоб встать к пушкам: прежде, чем идти в бой, они убирают паруса и реи, как сейчас, мистер Хорнблауэр, — обычным менторским тоном произнес Уэлс. Слово «мистер» прозвучало у него с легким ударением, неизбежным в устах шестидесятилетнего уорент-офицера, потерявшего надежду на дальнейшее продвижение, когда тот обращается к восемнадцатилетнему уорент-офицеру (формально равному ему по чину), который может в один прекрасный день сделаться адмиралом. — Так что вы сами понимаете. При команде в тридцать человек они не могут держать без привязи две сотни рабов.
Галеры снова развернулись, и теперь шли с правого борта «Неустанного». Движение весел замедлилось, и Хорнблауэр успел внимательно разглядеть оба корабля: низкий полубак я высокий полуют соединялись длинным переходным мостиком, по которому расхаживал человек с бичом. Гребцов заслонял фальшборт, отверстия для весел, насколько мог разобрать Хорнблауэр, были заделаны обернутыми вкруг весельных вальков кусками кожи. На полуюте два человека стояли у румпеля; здесь же находились несколько офицеров, золотые галуны мундиров блестели на солнце. Если исключить золотые галуны и двадцатичетырехфунтовые погонные орудия, суда, на которые смотрел Хорнблауэр, были в точности такие же, как те, на которых сражались древние. Полибий и Фукидид писали почти о таких же галерах. Если на то пошло, всего лишь двести с небольшим лет назад галеры сражались в великой битве при Лепанто. Но в тех битвах участвовало по несколько сотен галер с каждой стороны.
— Сколько их сейчас на ходу? — спросил Хорнблауэр.
— Да с десяток наверно, точно я не знаю. Обычно они стоят в Картахене, за Проливом.
Уэлс имел в виду «за Гибралтарским проливом», то есть в Средиземном море.
— Для Атлантики они хиловаты, — заметил Хорнблауэр. Нетрудно было заключить, почему сохранились эти несколько судов: главной причиной был, конечно, консерватизм испанцев. Кроме того на галеры ссылали преступников. В конечном счете они могли пригодиться в безветрие — торговое судно, заштилевшее в Гибралтарском проливе, должно было стать легкой добычей для галер из Картахены или Кадиса. Наконец галеры могли буксировать суда в гавань и из гавани при неблагоприятном ветре.
— Мистер Хорнблауэр! — крикнул Эклз. — Передайте капитану мое почтение и скажите, что мы готовы к отплытию. Хорнблауэр стремглав бросился вниз.
— Передайте мистеру Эклзу мои приветствия, — сказал Пелью, отрывая взгляд от своих бумаг, — и скажите, что я немедленно поднимусь на палубу.
Южного бриза едва хватало на то, чтоб «Неустанный» прошел на ветре окончание мыса. Со взятым на кат якорем и обрасоплеными реями корабль украдкой двинулся в сторону моря; в царившей на палубе дисциплинированной тишине ясно слышалось журчание воды под водорезом — мелодичный звук, в своей невинности ничего не говорящий об опасностях того жестокого мира, в который вступало судно. Под марселями «Неустанный» делал не больше трех узлов. Сзади вновь появились галеры — весла их двигались быстро-быстро, словно галеры похвалялись своей независимостью от стихий. Блеснув позолотой, они обогнали «Неустанный», и его команда вновь ощутила их отвратительный запах.
— Они бы весьма меня обязали, если б держались с подветренной стороны, — процедил Пелью, наблюдая за ними в подзорную трубу. — Впрочем, насколько я понимаю, в испанскую вежливость это не входит. Мистер Катлер!
— Сэр! — отозвался артиллерист.
— Начинайте салют.
— Есть, сэр.
Передняя карронада подветренного борта прогремела первое приветствие, ей отвечал форт Пунталес. Грохот салюта прокатился над живописным заливом; со всей учтивостью две страны говорили между собой.
— Я полагаю, что когда мы следующий раз услышим эти пушки, они будут стрелять боевыми, — сказал Пелью, глядя на Пунталес и развевающийся над ним испанский флаг.
И впрямь, военная удача отвернулась от Англии. Страна за страной выходила из борьбы с Францией; кого принуждала к этому сила оружия, кого — дипломатия молодой и сильной республики. Всякому думающему человеку было ясно, что после первого шага — от войны к нейтралитету, второй шаг — от нейтралитета до войны с противоположной стороной — будет куда легче. Хорнблауэр представлял себе, как вскорости вся Европа объединится против Англии, и той придется сражаться за свое существование с воспрянувшей Францией и злобой всего остального мира.
— Пожалуйста, поставьте паруса, мистер Эклз, — сказал Пелью.
Двести пар тренированных ног побежали по вантам, двести пар тренированных рук отдали паруса, и «Неустанный» пошел вдвое быстрее, слегка покачиваясь под легким бризом. А вот и настоящая атлантическая качка. Вот она подхватила галеры. «Неустанный» к этому времени оставил их за кормой, и Хорнблауэр, обернувшись, видел, как первая галера зарылась носом в длинный вал, так что бак ее скрылся облаке брызг. Для такого хрупкого судна это было слишком — с одной стороны весла двинулись назад, с другой — вперед. Заканчивая поворот, галеры на мгновение круто накренились в подошве волны, и вот они уже спешат назад, в тихие воды Кадисского залива. На «Неустанном» кто-то засвистел, весь корабль подхватил. Шквал оскорбительных выкриков, свиста и гогота провожал галеры, матросы словно сорвались с узды. Пелью на шканцах захлебывался от гнева, унтер-офицеры носились по палубе, тщетно ища зачинщиков. Так зловеще прощались они с Испанией.
И впрямь зловеще. Вскорости капитан Пелью сообщил, что Испания окончательно переметнулась на другую сторону: как только благополучно вернулся конвой с сокровищами, она объявила Англии войну — революционная республика заручилась поддержкой самой замшелой монархии в Европе. Силы Британии были истощены до предела — нужно следить еще за тысячей миль побережья, блокировать еще один флот, обороняться от целой орды каперов; а гаваней, где можно укрыться, набрать воды и скудного провианта для поддержания сил изнуренных тяжелых трудом моряков, становилось все меньше. В эти дни пришлось заводить дружбу с полудикими государствами и сносить наглость деев и султанов, чтоб северная Африка снабжала тощими бычками и ячменем британские гарнизоны в Средиземном море, окруженные с суши вражескими войсками, и корабли, их единственную связь с миром. Не привыкшие к честно заработанному богатству Оран, Тетуан, Алжир купались в неожиданно хлынувшим к ним рекой британском золоте.
В тот день в Гибралтарском заливе стоял мертвый штиль. Море было подобно серебряному щиту, а небо — сапфировой чаше. Положение «Неустанного» было крайне неприятно, но не из-за ослепительно солнца, размягчавшего смолу в палубных пазах. В Средиземном море из Атлантики всегда идет слабое течение, и преобладающие ветры дуют в ту же сторону. В такой штиль судно запросто может отнести течением через пролив, за Гибралтар. Чтоб добраться потом до Гибралтарского залива, лавируя против ветра, ему понадобятся дни и даже недели. Так что Пелью не зря беспокоился о своем конвое судов с зерном из Орана. Гибралтару нужна провизия — Испания уже выслала армию для его осады. Пелью никак нельзя было проскочить мимо цели. Его приказ пришлось доводить до конвоя флажками и даже пушечными выстрелами: ни одного из торговых капитанов с их вечно недоукомплектованными командами не привлекала та работа, которую задумал Пелью. «Неустанный», точно так же как и конвой, спустил шлюпки, и те взяли на буксир беспомощные суда. Труд был бесконечный, изматывающий. Матросы раз за разом налегали на весла, тросы натягивались от сверхчеловеческого напряжения, корабли неуклюже переваливались с боку на бок. Этим способом суда делали менее мили в час, и то лишь доводя команду шлюпок до полного изнеможения. Однако это позволяло оттянуть время, до того как гибралтарское течение снесет их в подветренную сторону, и увеличивало шансы дождаться желанного зюйда — все что им было надо, это два часа южного ветра, чтоб обойти мол.
На баркасе и тендере «Неустанного» матросы настолько отупели от адской работы, что не слышали, как на судне взволнованно зашумели. Они налегали на весла под безжалостным небом, ожидая окончания двухчасового срока страданий. Очнуться их заставил голос самого капитана.
— Мистер Болтон! Мистер Чадд! Отдайте буксир, пожалуйста. Немедленно возвращайтесь на борт и вооружите своих людей. Приближаются наши Кадисские друзья.
Вернувшись с бака на шканцы, Пелью в подзорную трубу оглядел подернутый дымкой горизонт и своими глазами убедился в том, о чем уже доложили с салинга.
— Они идут прямо на нас, — сказал он. Со стороны Кадиса приближались две галеры; видимо, верховой гонец из наблюдательного пункта в Тарифе сообщил, что им представилась блестящая возможность оправдать свое затянувшееся существование: в мертвый штиль по морю разбросан британский конвой. Галеры могли захватить несчастные торговые суда и хотя бы сжечь (увести их не удастся) под самым носом «Неустанного», лежащего на расстоянии чуть больше пушечного выстрела. Пелью посмотрел на три брига и два торговых судна. Одно из них было в полумиле от «Неустанного» и его можно было прикрыть огнем, но остальные — в полутора милях, в двух милях — такой защиты не имели.
— Пистолеты и абордажные сабли, ребята, — приказал он прыгающим на палубу матросам. — Цепляйте сей-тали! Поосторожней с этой карронадой, мистер Катлер!
«Неустанный» участвовал в стольких операциях, где дорога была каждая минута, что сейчас на подготовку почти не требовалось времени. Команда шлюпок похватала оружие, на нос тендера и барказа спустили шестифунтовые карронады, и вскоре шлюпки, наполненные вооруженными людьми и снабженные всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств, гребли навстречу галерам.
— Какого черта вы это делаете, мистер Хорнблауэр? О чем вы думаете?
Пелью только сейчас заметил, что Хорнблауэр спускает на воду находившийся под его командованием ялик. Ему было непонятно, что мичман собирается делать против галер со своей двенадцатифутовой лодочкой и командой из шестерых матросов.
— Мы можем подойти к одному из судов конвоя и усилить его команду, сэр, — отвечал Хорнблауэр.
— А, очень хорошо, продолжайте. Буду полагаться на ваш здравый смысл, хотя дело это гиблое.
— Вы молодец, сэр! — в восторге воскликнул Джексон, когда ялик отвалил от фрегата. — Просто молодец! Никто другой до этого бы не додумался.
Джексон, рулевой ялика, был уверен, что Хорнблауэр не собирается выполнять обещанное и усиливать команду одного из торговых судов.
— Даго вонючие, — процедил сквозь зубы загребной. Хорнблауэр чувствовал, что его команда охвачена той же безотчетной ненавистью к галерам, которую испытывал он сам. В те краткие секунды, анализируя свои чувства, он объяснил их обстоятельствами, при которых он впервые увидел эти галеры, а также запахом, которые те оставляли за собой. Никогда прежде не испытывал он личной ненависти; он сражался как слуга короля, не чувствуя враждебности к противнику. Но сейчас, под опаляющим небом, он вцепился в румпель, страстно желая поскорее сцепиться с врагом.
Барказ и тендер намного его обогнали и, хотя их команда уже отсидела два часа на веслах, скользили по воде с такой скоростью, что ялик, несмотря на преимущество, которое давало ему совершенно гладкое море, еле-еле нагонял их. Море за бортом было чистейшего, небесно-синего цвета; весла вспенивали его, делая белым. Впереди лежали суда конвоя, там, где застал их внезапный штиль. Сразу за ними Хорнблауэр увидел блеск весел: талеры быстро двигались к своей жертве. Барказ и тендер разошлись, чтоб прикрыть как можно больше судов, гичка осталась далеко за кормой. Если б Хорнблауэр и хотел высадиться на какое-нибудь судно, для этого уже не оставалось времени. Он положил руль к борту, собираясь держаться за тендером. В этот момент галера неожиданно появилась в промежутке между двумя торговыми судами. Хорнблауэр увидел, как тендер развернулся и направил свою шестифунтовую карронаду в нос приближающейся галеры.
— Налегай, ребята! Налегай! — выкрикивал Хорнблауэр, обезумев от возбуждения.
Он не мог себе вообразить, что будет дальше, но хотел быть, в самой гуще событий. Из шестифунтовой пушечки невозможно прицелиться на расстоянии больше ружейного выстрела — она годится на то, чтоб выпустить заряд картечи по толпе людей но бессильна против укрепленного носа галеры.
— Налегай! — снова выкрикнул Хорнблауэр. Они были у самой кормы тендера.
Карронада выстрелила. Хорнблауэру показалось, что он видит, как от носа галеры отлетают позолоченные щепки. С тем же успехом можно остановить разъяренного быка горохом из детской трубочки. Галера развернулась, весла ее задвигались быстрее. Галера шла на таран, как греки при Саламине.[10]
— Налегай! — выкрикнул Хорнблауэр. Инстинктивно он повернул румпель, чтоб обойти тендер.
— Суши весла!
Гребцы замерли, и шлюпка по инерции скользнула мимо тендера. Хорнблауэр видел, как Сомс стоит на корме, глядя в лицо летящей к нему по синей воде смерти. Борт о борт тендер мог выдержать удар, но он слишком поздно попробовал увернуться. Хорнблауэр видел, как он повернул, подставив форштевню галеры свой уязвимый борт. Больше он ничего не видел — корпус галеры скрыл от него финальный акт трагедии. Весла ялика едва не задели весла правого борта галеры. Хорнблауэр услышал крики и треск, увидел, как галера на миг приостановилась от столкновения. Им овладела безумная жажда битвы, мозг его работал с лихорадочной быстротой.
— Левая, на воду, — закричал он, и шлюпка скользнула под корму галеры. — Обе на воду!
Ялик метнулся к корме галеры, словно прыгающий на быка терьер.
— Цепляйся за них, Джексон, черт тебя побери! Джексон чертыхнулся в ответ и ринулся вперед, перемахнул через головы гребцов, не сбивая их с такта, схватил кошку на длинном лине и с силой размахнулся. Кошка зацепилась за резное позолоченное ограждение на корме. Джексон потянул линь, гребцы с силой налегли на весла, и шлюпка подошла к самой корме. В этот момент Хорнблауэр увидел то, что долго еще мучило его во сне — из-под кормы галеры выплыла раздробленная передняя часть тендера с паяющимися за неё людьми — теми, кто остался после долгого пути под днищем потопившей их галеры. Искаженные, налитые кровью лица, лица покойников. Через мгновение они исчезли, и по толчку, передававшемуся шлюпке через линь, Хорнблауэр понял, что галера двинулась вперед.
— Я не могу удержать ее! — крикнул Джексон.
— Заверни на утку, болван!
Теперь галера тащила привязанный двадцатифутовым линем ялик на буксире у самой кормы, сразу за рулем. Вода пенилась вокруг, нос ялика от натяжения задрался вверх, как будто они загарпунили кита: по полуюту галеры кто-то бежал с ножом, чтобы перерезать линь.
— Убей его, Джексон, — крикнул Хорнблауэр. Пистолет Джексона выстрелил, испанец упал на палубу — хороший выстрел. Несмотря на горячечное возбуждение, несмотря на бурлящую кругом воду и палящее солнце, Хорнблауэр пытался продумать дальнейшие действия. Инстинкт и здравый смысл говорили ему, что самое разумное — атаковать противника, невзирая на численный перевес.
— Эй, вы, подтяните нас к ней! — крикнул он. Все в лодке бешено орали. Баковые гребцы повернулись вперед, ухватились за линь и налегли на него. Однако на такой скорости подтянуть шлюпку было невероятно трудно; после того, как ценой неимоверных усилий удалось приблизиться к галере на ярд, это стало просто невозможно. Кошка зацепилась за леерное ограждение полуюта ярдах в десяти выше уровня воды, и, по мере того как шлюпка приближалась к корме, угол, под которым отходил линь, становился все круче. Нос ялика задрался еще выше.
— Отставить! — приказал Хорнблауэр, и, вновь повысив голос, крикнул: — Ребята, вынимай пистолеты!
Над кормой галеры возникли четверо или пятеро смуглых лиц. Ружейные дула уставились в ялик. Началась перестрелка. Один из гребцов со стоном упал на дно ялика, но лица на корме галеры исчезли. Осторожно стоя на качающейся корме, Хорнблауэр не мог различить на полуюте галеры ничего, кроме двух макушек, принадлежавших, очевидно, рулевым.
— Заряжай, — сказал он матросам, чудом вспомнив отдать этот приказ. Шомпола вошли в пистолетные дула.
— Делайте это тщательно, если хотите снова увидеть своих подружек, — сказал Хорнблауэр.
Он трясся от возбуждения. Безумная жажда битвы застилала ему глаза, и лишь какая-то часть сознания, вымуштрованная часть, машинально выдавала взвешенные приказы. Жажда крови на время убила в нем лучшие чувства.
Все вокруг было как в багровом тумане — так вспоминалось ему позднее, когда он мысленно возвращался к этим событиям. Вдруг послышался треск разбиваемого стекла: кто-то просунул ружейное дуло в большое кормовое окно галеры. Теперь испанцу требовалось время, чтобы прицелиться. Беспорядочная пальба из ялика послышалась одновременно с ружейным выстрелом. Куда попала пуля испанца, никто не заметил; испанец упал.
— Клянусь Богом! Вот нам куда! — заорал Хорнблауэр и тут же себя одернул. — Заряжай.
Когда пули были загнаны в стволы, он встал. За поясом у него был пистолет, из которого он еще ни разу не выстрелил, на боку — абордажная сабля.
— Перебирайся на корму, — приказал он загребному. (Ялик не выдержал бы еще одного человека на носу). — И ты тоже.
Хорнблауэр встал на банку, оглядывая натянутый линь и окно каюты.
— Посылай их за мной по одному, Джексон, — приказал он.
Собравшись с духом, Хорнблауэр прыгнул на линь, линь провис, и ноги его коснулись воды, но ему удалось, собрав все силы, несколько раз перехватить руки и взобраться по линю. Вот и разбитое окно. Размахнувшись ногами, он выбил большой кусок оставшегося стекла, просунул внутрь ноги, а затем и все тело. Он со стуком спрыгнул на палубу каюты: после ослепительного солнца снаружи там было совсем темно. Встав на ноги, он наступил на что-то мягкое, оно застонало от боли — очевидно, это был раненый испанец. Рука, которой Хорнблауэр вытаскивал саблю, была в крови. В испанской крови. Выпрямляясь, он с оглушительным треском врезался головой в палубный бимс. Каюта была совсем низкая, не выше пяти футов, и он чуть не потерял сознание от удара. Но вот перед ним дверь, и он ринулся вперед, сжимая в руке саблю. Над головой он услышал топот; сверху и спереди звучали выстрелы. Испанцы на корме перестреливались с командой ялика. Дверь каюты выходила на низкую полупалубу. Хорнблауэр бросился туда, в яркий солнечный свет, и оказался на крошечной полупалубе, начинающейся от уступа полуюта. Узкий переходный мостик тянулся между двумя рядами гребцов. Хорнблауэр увидел бородатые лица и копны взлохмаченных волос; тощие загорелые тела ритмично двигались взад-вперед, налегая на весла.
Это все, что он успел разглядеть. На дальнем конце мостика рядом с уступом полубака стоял надсмотрщик с бичом. Он мерно выкрикивал что-то по-испански, видимо, задавая ритм. На полубаке стояли двое или трое; за ними через распахнутую дверь фальшборта полубака Хорнблауэр видел две большие пушки, освещенные падающим через пушечные порты светом. Около пушек стояли артиллеристы: их было гораздо меньше, чем требуется для двух двадцатичетырехфунтовок. Хорнблауэр вспомнил слова Уэлса, что команда галеры составляет не больше тридцати человек. По крайней мере, один орудийный расчет отозвали на полуют для отражения атаки с ялика.
Сзади раздались шаги. Хорнблауэр подпрыгнул. Развернувшись с саблей наготове, он увидел Джексона — тот нетвердой походкой вышел на полупалубу. В руках у него была сабля.
— Чуть черепушку себе не раскроил, — сказал Джексон. Он говорил, как пьяный. Вторя его словам, на полуюте, на уровне их голов, послышалась стрельба.
— Олдройд идет за мной, — сказал Джексон. — Франклин убит.
По обеим сторонам от них были трапы, ведущие на полуют. Математически казалось логичней подниматься каждому со своей стороны, но Хорнблауэр рассудил иначе.
— За мной! — крикнул он Джексону и побежал по правому трапу. В этот момент появился Олдройд — ему Хорнблауэр тоже приказал следовать за собой.
Поручни трапа были сплетены из красных и желтых веревок — взбираясь вверх с пистолетом в одной руке и саблей в другой, Хорнблауэр успел обратить внимание на такую мелочь. Всего один шаг, и голова оказалась на уровне палубы. На крошечном полуюте сгрудилось более десятка людей, но двое из них были убиты, один стонал, прислонившись спиной к леерному ограждению, двое стояли у руля. Остальные глядели через ограждение на команду ялика. Хорнблауэр был все в том же исступлении. Последние две или три ступеньки он перемахнул одним прыжком и с безумным криком бросился на испанцев. Его пистолет выстрелил как бы помимо его воли, но лицо стоявшего в ярде испанца превратилось в кровавую маску. Хорнблауэр бросил пистолет и выхватил второй. Он нащупал пальцем курок и в то же время с грохотом обрушил свою саблю на шпагу следующего испанца — тот попытался оказать сопротивление. Хорнблауэр разил и разил саблей, словно безумный. Джексон был рядом: он тоже хрипло кричал и рубил саблей направо и налево.
— Бей их! Бей! — кричал Джексон.
Хорнблауэр видел, что Джексон обрушил свою саблю на голову беззащитного рулевого. Рубясь со стоящим перед ним испанцем, он краем глаза заметил сбоку еще одну шпагу, но его спас пистолет: он машинально спустил курок. Рядом выстрелил другой пистолет, видимо — Олдройда, и бой был окончен. Как испанцы так оплошали, что дали захватить себя врасплох, Хорнблауэр так никогда и не понял. Может, они не знали, что человек в каюте ранен и полагали, что он охраняет этот путь, может, им в голову не приходило, что трое могут напасть на десятерых, может они не заметили, что эти трое проделали опасный путь по линю, может быть, и скорее всего, в горячке битвы они просто потеряли головы ведь с того момента как ялик зацепился за корму, до того, как полуют был очищен, прошло всего несколько минут. Два-три испанца сбежали по трапу с полуюта и дальше по мостику между двумя рядами гребцов. Один из них зацепился за ограждение и жестом показал, что сдается. Но Джексон уже схватил его рукой за горло. Джексон был силен неимоверно — он перегнул испанца через перила, другой рукой ухватил его за ноги и перекинул через борт. Испанец с криком упал раньше, чем Хорнблауэр успел вмешаться. Палуба полуюта была полна корчившимися в предсмертных судорогах людьми, словно дно лодки бьющейся рыбой. Один из испанцев, когда Джексон и Олдройд ухватили его, упал на колени. Они подняли его и перекинули через борт.
— Прекратить! — сказал Хорнблауэр, и они с неохотой втащили его обратно и грохнули на окровавленные доски.
Джексон и Олдройд были как пьяные, они покачивались и хрипло дышали, глядя перед собой остекленевшими глазами. Хорнблауэр сам только что вышел из этого припадка. Он шагнул к уступу полуюта и вытер заливавший глаза пот, пытаясь одновременно стереть багровый туман, застилавший ему глаза. Впереди, на полубаке, собрались уцелевшие испанцы: когда Хорнблауэр двинулся в их сторону, один выстрелил, но пуля пролетела мимо. Внизу гребцы по-прежнему мерно двигались взад-вперед, их взлохмаченные головы и нагие тела качались в такт веслам, в такт словам надсмотрщика. Тот все еще стоял на мостике (остальные испанцы сгрудились за ним) и считал: «seis, siete, ocho».
— Прекратить! — заорал Хорнблауэр.
Он прошел к правому борту на глазах у гребцов этой стороны, поднял руку и снова крикнул. Одно или два заросших лица повернулось к нему, но весла продолжали двигаться.
— Uno, doce, tres, — считал надсмотрщик.
Джексон появился рядом с Хорнблауэром и навел пистолет на голову ближайшего гребца.
— Отставить, — раздраженно сказал Хорнблауэр. Его уже тошнило от убийств. — Найдите мои пистолеты и перезарядите их.
Он стоял на верхней ступеньке трапа, как во сне — как в кошмаре. Галерные рабы продолжали налегать на весла; более десятка врагов по-прежнему толпились возле полубака в тридцати ярдах от него; позади стонали, расставаясь с жизнью, раненые испанцы. Новый призыв к гребцам тоже не возымел никакого действия. Олдройд был самым хладнокровным из всех или раньше других пришел в себя.
— Я спущу их флаг, сэр? — спросил он. Хорнблауэр очнулся. На флагштоке над гакабортом колыхалось желто-красное знамя.
— Да, спустите немедленно, — сказал Хорнблауэр. Теперь сознание его прояснилось, и горизонт его не ограничивался узкими бортами галеры. Хорнблауэр посмотрел вокруг на синее, синее море. Вот торговые суда, за ними «Неустанный». Сзади белый след галеры: изогнутый след. До этого Хорнблауэр не осознавал, что не взял под контроль руль, и последние три минуты галера идет по морю неуправляемой.
— Встаньте к рулю, Олдройд, — приказал он. Это что, другая галера исчезает в дымке? Похоже; а вот далеко за нею барказ. Вот с левого борта гичка, весла ее подняты. Хорнблауэр видел маленькие фигурки на носу и на корме. Они размахивали руками, и до него дошло, что они приветствуют спуск испанского флага. Впереди раздался ружейный выстрел, пуля с силой ударила в перила у самого его бедра, так что позолоченные щепки полетели в сторону, вспыхивая в солнечном свете. Но Хорнблауэр уже пришел в себя и побежал обратно к умирающим: дальний конец полуюта не простреливался с мостика, и там он был в безопасности. Он по-прежнему видел гичку с левого борта.
— Право руля, Олдройд.
Галера медленно развернулась — при своих пропорциях она плохо слушалась руля, если ему не помогали весла — но вскоре нос ее уже почти закрыл гичку.
— Прямо руль!
Удивительно, но здесь, под кормой галеры, по-прежнему прыгал на пенной воде ялик. В нем был один живой человек и двое убитых.
— Где остальные, Бромли?
Бромли показал за борт. Видимо,их убило выстрелами с гакаборта в то время, как Хорнблауэр и двое матросов готовились штурмовать полуют.
— А ты какого черта там остался?
Бромли левой рукой приподнял правую: она явно не работала. Отсюда помощи ждать не приходится, и все же галерой надо овладеть полностью. Иначе их могут даже увести в Альхесирас — хотя руль и у них, человек, который приказывает гребцам, может, если захочет, управлять курсом судна. Оставалось одно.
Теперь, когда боевая горячка схлынула, Хорнблауэр был в мрачном состоянии духа. Его не волновало, что будет с ним; надежда и страх равно покинули его вместе с прежним лихорадочным возбуждением. Им овладел фатализм. Его мозг, продолжая просчитывать варианты, говорил ему, что если останется всего один шанс добиться удачи, надо его испробовать, а подавленное состояние духа позволило ему исполнить задуманное машинально, без эмоций и колебаний. Он подошел к ограждению полуюта: испанцы по-прежнему толпились на дальнем конце мостика, надсмотрщик все также отсчитывал гребцам ритм. Испанцы смотрели на Хорнблауэра. Он тщательнейшим образом убрал в ножны саблю, которую до той поры держал в руках; делая это, он заметил на мундире и на руках кровь. Медленно он поправил на боку ножны.
— Мои пистолеты, Джексон, — сказал он. Джексон вручил ему пистолеты, и Хорнблауэр так же медленно убрал их за пояс. Он повернулся к Олдройду: испанцы, как зачарованные, следили за его движениями.
— Оставайся у румпеля, Олдройд. Джексон, за мной. Не делай ничего без моего приказа.
Солнце светило ему прямо в лицо. Он спустился по трапу, прошел по мостику и приблизился к испанцам. По обе стороны от него всклокоченные головы и нагие тела галерных рабов все так же мерно двигались в такт веслам. Он подошел к испанцам: руки их нервно сжимали шпаги и пистолеты. Сзади кашлянул Джексон. В двух ярдах от испанцев Хорнблауэр остановился и обвел их взглядом. Он жестом указал на всех, кроме надсмотрщика, потом ткнул пальцем в сторону полубака.
— Все на нос, — сказал он.
Они стояли, во все глаза глядя на него, хотя не могли не понять его жест.
— На нос, — сказал Хорнблауэр и махнул рукой. При этом он топнул ногой по палубе.
Лишь один человек, похоже, собирался активно сопротивляться. Хорнблауэр подумал было выхватить пистолет и застрелить его на месте. Но пистолет может дать осечку, выстрел может вывести испанцев из оцепенения. Хорнблауэр пристально поглядел на того человека.
— На нос, кому сказано.
Они двинулись на нос, неловко переставляя ноги. Хорнблауэр наблюдал за ними. Чувства вернулись к нему; сердце так бешено колотилось в груди, что он едва мог сдерживаться. Ему пришлось дождаться, пока все остальные уйдут, прежде чем обратиться к надсмотрщику.
— Останови их, — приказал он. Хорнблауэр посмотрел надсмотрщику в глаза, указывая пальцем на гребцов. Губы надсмотрщика шевельнулись, но он не проронил ни слова.
— Останови их, — Хорнблауэр положил руку на рукоять пистолета.
Этого оказалось достаточно. Надсмотрщик что-то пронзительно выкрикнул, и весла остановились. Как только они перестали скрипеть в уключинах, на корабле воцарилась мертвая тишина. Слышен был только плеск воды за кормой идущей по инерции галеры. Хорнблауэр повернулся и окрикнул, Олдройда.
— Олдройд! Где гичка?
— Близко по правому борту, сэр!
— Как близко?
— В двух кабельтовых, сэр. Они гребут к нам.
— Развернись к ним, пока хватает скорости.
— Есть, сэр.
За какое время гичка на веслах покроет четверть мили? Хорнблауэр боялся, как бы в последний момент у испанцев не вспыхнули чувства. Простое ожидание может стать причиной этого. Нельзя вот так стоять и ничего не делать. Хорнблауэр чувствовал, как идет по воде галера. Он обернулся к Джексону.
— Неплохо идет, правда, Джексон? — сказал он и заставил себя рассмеяться, словно на свете все было просто и ясно.
— Да, сэр, полагаю, что так, сэр, — изумленно ответил Джексон. Он нервно теребил пистолет.
— Посмотри-ка на этих людей, — продолжал Хорнблауэр, указывая на галерных рабов. — Ты хоть раз в жизни видел такую бороду?
— Н-нет, сэр.
— Говори со мной, болван. Говори естественно.
— Я… я не знаю, что говорить, сэр.
— Черт побери, ничего ты не понимаешь, Джексон. Видишь, рубец на плече у этого парня? Видимо, не так давно надсмотрщик ударил его бичом.
— Наверное вы правы, сэр.
Хорнблауэр подавил раздражение и приготовился произнести новый монолог, когда сбоку борт заскрежетал о борт. Через мгновение на палубу попрыгала команда гички. Невозможно описать, какое он испытал облегчение. Хорнблауэр чуть не расслабился совсем, но вспомнил о необходимости сохранять достоинство. Он вновь подтянулся.
— Рад видеть вас на борту, — сказал он, когда лейтенант Чадд перекинул ногу через фальшборт и спрыгнул на палубу возле уступа полубака.
— Рад видеть вас,— сказал Чадд с удивлением глядя на него.
—Эти люди на носу — пленники. Хорошо бы их обезоружить. Я полагаю, это единственное, что осталось сделать.
И теперь он не мог расслабиться; ему казалось, что так и придется оставаться в напряжении всю оставшуюся жизнь. Напряженный и в то же время отупевший, он услышал приветственные крики с «Неустанного», когда галера подошла к фрегату. Отупевший и скучный, докладывал он, запинаясь, капитану Пелью, не забыв в самых лестных тонах отозваться о храбрости Джексона и Олдройда.
— Адмирал будет доволен, — сказал Пелью, внимательно глядя на Хорнблауэра.
— Я рад, сэр, — услышал Хорнблауэр свой ответ.
— Теперь, когда мы потеряли бедного Сомса, нам понадобится еще один офицер для несения вахты. Я намерен назначить вас исполняющим обязанности лейтенанта.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр все в том же отупении.
Соме был седовласый офицер с огромным опытом. Он проплавал семь морей, участвовал во множестве сражений. Но, в новой для него ситуации, ему не хватило сообразительности, чтоб не подставить свою шлюпку под таран. Сомс мертв, и.о. лейтенанта Хорнблауэр займет его место. Боевая горячка, чистое сумасшествие принесли ему это повышение. Хорнблауэр и не знал, в какие пучины безумия он готов погрузиться. Как Соме, как вся команда «Неустанного», он позволил слепой ненависти к галерам увлечь себя, и лишь удача сохранила ему жизнь. Это стоит запомнить.
ЭКЗАМЕН НА ЛЕЙТЕНАНТА
Его Величества корабль «Неустанный» скользил по водам Гибралтарского залива. На шканцах, рядом с капитаном Пелью, стоял исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр, напряженный и подтянутый. Его подзорная труба была направлена в сторону Альхесираса. По иронии судьбы главные военно-морские базы двух враждующих держав располагались всего в шести милях друг от друга, и, приближаясь к Гибралтарской гавани, не мешало повнимательней наблюдать за Альхесирасом — всегда существовала возможность, что оттуда неожиданно выйдет испанская эскадра и внезапно нападет на ничего не подозревающий фрегат.
— Восемь… девять судов с поднятыми реями, сэр, — сообщил Хорнблауэр.
— Благодарю вас, — отвечал Пелью. — Поворот оверштаг!
«Неустанный» лег на другой галс и взял курс на мол. Гибралтарская гавань была, как обычно, полна судов: здесь вынужденно базировались все средиземноморские военно-морские силы Англии. Пелью взял марсели на гитовы и положил руль к борту. Потом загромыхал канат и «Неустанный» повернулся на якоре.
— Спускайте мою гичку, — скомандовал Пелью. Пелью выбрал для своей шлюпки и ее команды сочетание синего и белого — синие рубахи и белые штаны для матросов, белые шляпы с синими лентами; сама шлюпка была синяя с белым, у весел — синие рукоятки и белые лопасти. Все вместе получалось очень красиво — весла взметнулись, и шлюпка плавно заскользила по воде. Капитан Пелью отправился засвидетельствовать свое почтение адмиралу порта. Вскоре по его возвращении к Хорнблауэру подбежал посыльный.
— Капитан приветствует вас и хотел бы видеть вас в своей каюте.
— Проверь-ка свою совесть, — ухмыльнулся мичман Брэйсгедл. — Что ты такого натворил?
— Хотел бы я знать, — искренне отвечал Хорнблауэр. Вызов к капитану — это всегда повод для волнения. Подходя к каюте, Хорнблауэр нервно сглотнул и, прежде чем постучаться, немного помедлил, собираясь с духом. Однако опасения его оказались напрасны: Пелью сидел за столом и приветливо улыбался.
— А, мистер Хорнблауэр, у меня для вас новость, надеюсь, радостная. Завтра будут лейтенантские экзамены, здесь, на «Санта Барбаре». Я надеюсь, вы к ним готовы?
Хорнблауэр чуть не ответил: «Думаю, что да», но вовремя себя одернул.
— Да, сэр. — Пелью ненавидел уклончивые ответы.
— Что ж, очень хорошо. Доложитесь там в три часа пополудни с характеристиками и журналами.
— Есть, сэр.
Такой короткий разговор о таком важном деле! Пелью назначил Хорнблауэра исполняющим обязанности лейтенанта два месяца тому назад. Завтра экзамен. Если он сдаст, адмирал на следующий же день утвердит назначение, и Хорнблауэр станет лейтенантом с двумя месяцами стажа. Но если он провалится! Это будет означать, что он не достоин лейтенантского чина. Он снова станет мичманом, два месяца стажа пропадут, и до следующих экзаменов его допустят не раньше, чем через полгода. Восемь месяцев стажа — дело огромной важности. Оно может повлиять на всю последующую карьеру.
— Скажите мистеру Болтону, что я разрешаю вам завтра оставить судно. Можете воспользоваться одной из корабельных шлюпок.
— Благодарю вас, сэр.
— Удачи, Хорнблауэр.
В последующие двадцать четыре часа Хорнблауэру нужно было не только перечесть «Краткий курс навигации» Нори и «Полный справочник по судовождению» Кларка, но и добиться, чтоб его парадная форма блестела, как с иголочки. За порцию спиртного уорент-офицерский кок разрешил лейтенантскому вестовому нагреть на камбузе утюг и прогладить шейный платок. Брейсгедл одолжил чистую рубашку, однако критический момент наступил, когда обнаружилось, что весь лейтенантский запас ваксы ссохся в комок. Пришлось двум мичманам растирать его с жиром, а получившаяся смесь, будучи нанесена на хорнблауэровы башмаки с пряжками, решительно отказалась натираться. Лишь упорный труд с применением сперва полинялой лейтенантской обувной щетки, а затем мягкой тряпочки, позволил довести их до приличествующего экзаменам блеска. Что до треуголки — тяжела жизнь треуголки в мичманской каюте, и часть вмятин так и не удалось выправить.
— Снимай ее как можно скорей и держи под мышкой, — посоветовал Брэйсгедл. — Может они не увидят, как ты поднимаешься на мостик.
Все собрались проводить Хорнблауэра, когда тот покидал корабль, со шпагой, в белых бриджах, в башмаках с пряжками, неся под мышкой стопку журналов, а в кармане — характеристики (о трезвости и примерном поведении). Зимний день уже давно перевалил за полдень, когда Хорнблауэр поднялся на борт «Санта Барбары» и доложился вахтенному офицеру.
«Санта Барбара» была плавучей тюрьмой. Захваченная родни в Кадисе, она с 1780 года так и гнила без мачт, на приколе, в мирное время — склад, в военное — тюрьма. На переходных мостика стояли солдаты в красных мундирах — ружья заряжены, штыки примкнуты. Карронады на полубаке и шканцах были направлены внутрь и наклонены так, чтобы простреливался весь шкафут. Несколько печальных и оборванных заключенных прогуливались по палубе. Поднявшись на борт, Хорнблауэр сразу почувствовал вонь: внизу томились две тысячи заключенных. Он доложился вахтенному офицеру и сообщил цель своего прибытия.
— Кто бы мог догадаться? — сказал вахтенный, пожилой лейтенант с длинными, до плеч, седыми волосами, оглядывая безупречную форму и толстую стопку у Хорнблауэра под мышкой. — Пятнадцать человек вашего брата уже на борту, и — Боже милостивый, вы поглядите только.
Целая флотилия маленьких лодок приближалась к «Санта Барбаре». На каждой было по крайней мере по одному мичману в треугольной шляпе и белых бриджах, на иных четыре-пять.
— Каждый уважающий себя молодой человек в Средиземноморском флоте хочет получить эполет, — сказал лейтенант. — Вот подождите только, экзаменационная комиссия увидит, сколько вас собралось. Ни за что на свете я не хотел бы оказаться на вашем, юноша, месте. Идите на корму и ждите в левой бортовой каюте.
Каюта была полна, и пятнадцать пар глаз уставились на Хорнблауэра. Офицеры в возрасте от восемнадцати до сорока лет, все в парадных формах, все нервничали. Кто-то судорожно листал «Краткий курс» Нори, восстанавливая в памяти сомнительные места. Одна компания передавала из рук в руки бутылку, очевидно для поднятия духа. Следом за Хорнблауэром хлынул поток новоприбывших. Каюта начала заполняться и вскоре была набита битком. Половине из сорока мичманов посчастливилось сесть на палубу, другие остались стоять.
— Сорок лет назад, — произнес кто-то громко, — мой дед шел с Клайвом отомстить за Черную Калькуттскую Яму. [11] Видел бы он, что случится с его отпрыском.
— Выпей! — сказал другой, — и ну их всех к черту!
— Нас здесь сорок, — заметил высокий, худой, ученый на вид офицер, считая по головам. — Сколько сдаст, как вы думаете. Пять?
— А ну их всех к черту, — повторил хмельной голос в углу и затянул: — Прочь от меня, докучные заботы…
Воздух наполнился протяжным свистом боцманских дудок, на палубе зазвучали команды.
— На борт поднялся капитан, — заметил кто-то. Офицер выглянул в дверную щелку.
— Неустрашимый Фостер, — сообщил он.
— Вот уж кто все жилы вытянет, — сказал толстый молодой человек, удобно прислонившийся к переборке. Снова засвистели дудки.
— Харви, из дока, — сообщил наблюдатель. Тут же последовал третий капитан.
— Черный Чарли Хэммонд, — сказал наблюдатель. — У него такой вид, словно он потерял гинею и нашел шестипенсовик.
— Черный Чарли?! — воскликнул кто-то, вскакивая и опрометью бросаясь к двери. — Дайте-ка глянуть! Он самый! По крайней мере, один молодой человек на экзамен не останется. Я и так знаю, что он мне скажет. «Еще шесть месяцев в море, сэр, и как, вы посмели, черт вас дери, явиться на экзамен с такими знаниями». Черный Чарли никогда мне не простит, что я уронил его любимого пуделя с борта тендера в Порт-оф-Спейн. Он тогда был первым на «Пегасе». Прощайте, джентльмены. Кланяйтесь от меня экзаменационной комиссии.
С этими словами молодой человек вышел. Все видели, как он объясняется с вахтенным офицером и подзывает лодку, чтоб вернуться на свой корабль.
— Одним меньше, — сказал ученый офицер. — В чем дело, любезный?
— Комиссия приветствует вас, господа, — сказал посыльный — морской пехотинец, — и приглашает первого молодого джентльмена.
Все смутились — никто не хотел быть первой жертвой.
— Тот, кто ближе к двери, — предложил пожилой помощник штурмана. — Будете добровольцем, сэр?
— Я буду Даниилом, — в отчаянии произнес бывший наблюдатель. — Вспоминайте меня в своих молитвах.
Он пригладил мундир, расправил галстук и вышел. Остальные ждали в полном молчании, нарушаемом лишь редким бульканьем — мичман-забулдыга прикладывался к бутылке. Прошло целых десять минут, пока вернулся кандидат на повышение. Он пытался изобразить улыбку.
— Еще шесть месяцев в море? — спросил кто-то.
— Нет, — последовал неожиданный ответ. — Три! Велели послать следующего. Идите вы.
— Но о чем они вас спрашивали?
— Сначала они попросили меня определить локсодромию… Советую вам не заставлять их ждать. — Человек тридцать офицеров тут же вытащили свои тетради, чтоб перечитать про локсодромию.
— Вы пробыли там десять минут, — сказал ученый офицер, глядя на часы. — Нас сорок, по десять минут на каждого… да они и к полуночи не управятся.
— Они проголодаются, — сказал кто-то.
— И съедят нас с потрохами, — добавил другой.
— Может, они будут допрашивать нас партиями, — предложил третий, — как французские трибуналы.
Слушая их, Хорнблауэр вспоминал о французских аристократах, шутивших у подножия эшафота. Кандидаты уходили и возвращались, одни — подавленные, другие — улыбались. В каюте стало просторнее. Хорнблауэр нашел свободный кусок палубы, сел, вытянул ноги и беспечно вздохнул. Не успел он этого сделать, как понял, что притворяется сам перед собой. Его нервы были на пределе. Наступала зимняя ночь; какой-то добрый самаритянин прислал пару интендантских свечей, слегка осветивших темноту каюты.
— Сдает один из трех, — сказал ученый офицер, вставая. — Как бы мне оказаться третьим.
Ученый офицер вышел, и Хорнблауэр встал — следующая очередь его. Он шагнул в темноту на полупалубу и вдохнул прозрачный свежий воздух. Слабый бриз дул с зюйда, охлажденный снежными вершинами Африканского Атласа. Ни луны, ни звезд не было. Ученый офицер вернулся.
— Быстрей, — сказал он. — Они нервничают. Хорнблауэр прошел мимо часового в кормовую каюту; она была ярко освещена, он заморгал и обо что-то споткнулся. Тут он вспомнил, что не поправил галстук и не проверил, ровно ли висит шпага. Он продолжал растерянно моргать. Три мрачных лица смотрели из-за стола.
— Ну, сэр? — произнес суровый голос. — Доложитесь. У нас нет времени.
— Х-хорнблауэр, сэр. Г-горацио Х-хорнблауэр. Мичман, то есть исполняющий обязанности лейтенанта. Его Величества судна «Неустанный».
— Характеристики, пожалуйста, — произнес сидевший справа.
Хорнблауэр протянул капитанам бумаги и ждал, пока они их изучат. Тут неожиданно заговорил сидевший слева:
— Вы идете в крутой бейдевинд левым галсом, мистер Хорнблауэр, лавируя в проливе против штормового норд-оста в двух милях к норду от Дувра. Это понятно?
— Да,сэр.
— Теперь ветер заходит на четыре румба и лобовой порыв застает вас врасплох. Что вы делаете, сэр? Что вы делаете?
Если Хорнблауэр о чем и думал в этот момент, то только о локсодромии. Вопрос в лоб застал его врасплох не хуже ветра в описанной ситуации. Он открыл и снова закрыл рот.
— Вы уже потеряли мачту, — сказал сидевший посредине смуглолицый капитан — Хорнблауэр заключил, что это Черный Чарли Хэммонд. Об этом он мог думать, а вот об экзамене — никак.
— Потеряли мачту, — повторил сидевший слева. Он улыбался, словно Нерон, наслаждающийся предсмертными муками христианина, — а скалы Дувра с подветренной стороны. Вы в затруднительной ситуации, мистер э… Хорнблауэр.
Вот уж действительно. Рот Хорнблауэра открылся и закрылся. В полном отупении он услышал глухой пушечный выстрел где-то неподалеку, но он не обратил внимания. Комиссия тоже ничего не сказала. Через минуту, однако, последовала целая серия выстрелов. Капитаны вскочили на ноги. Без всяких церемоний они выбежали из каюты, сбив с ног часового, Хорнблауэр — за ними. Как только они выскочили на шкафут, в ночное небо взмыла ракета и рассыпалась водопадом красных брызг — тревога! Над водой стоял барабанный бой, на всех кораблях командовали по местам. Возле левого борта, оживленно переговариваясь, толпились оставшиеся кандидаты.
— Смотрите, — сказал кто-то.
В полумиле от них темная вода осветилась желтоватым светом. Свет приближался, и вскоре все увидели объятый пламенем корабль. Он на всех парусах несся прямо к якорной стоянке.
— Брандеры!
— Вахтенный! Сигнальте моей гичке! — заорал Фостер. Цепочка брандеров неслась по ветру, прямо на тесно стоящие корабли. На «Санта Барбаре» поднялась суматоха: матросы и морские пехотинцы высыпали на палубу, капитаны и кандидаты подзывали лодки. Оранжевое пламя осветило воду, раздался рев бортового залпа — какое-то судно палило по брандеру, пытаясь его потопить. Стоит одному из этих пылающих остовов коснуться, пусть на секунду, стоящего на якоре корабля, пламя перекинется на сухую, крашеную древесину, на просмоленный такелаж, на паруса, и уже ничто его не остановит. Для легковоспламеняющихся кораблей, начиненный взрывчатыми веществами, огонь — страшнейшая из морских опасностей.
— Эй, на лодке! — заорал вдруг Хэммонд. — Сюда! Сюда, черт вас раздери!
Его зоркие глаза высмотрели проплывающую мимо лодку с двумя гребцами.
— Давайте сюда, не то стреляю! — подключился Фостер. — Часовой, приготовьтесь стрелять по ним.
При этой угрозе лодчонка развернулась и заскользила к бизань-русленю.
— Сюда, джентльмены, — сказал Хэммонд. Все три капитана бросились к бизань-русленю и попрыгали в лодку. Хорнблауэр прыгнул за ними. Он знал, что у него, как у младшего офицера, шансы раздобыть лодку минимальны, а он обязан добраться до своего судна. После того, как все три капитана доберутся до своих судов, он сможет воспользоваться лодкой и попасть на «Неустанный». Он прыгнул на корму отваливающей лодки, загремел шпагой о планширь и чуть не вышиб дух их капитана Харви. Однако три капитана приняли незваного гостя, ни слова не сказав.
— Гребите к «Неустрашимому», — приказал Фостер.
— Тысяча чертей, я тут старший, — произнес Хэммонд. — Гребите к «Калипсо».
— К «Калипсо», — сказал Харви, берясь за румпель, и повел лодочку по темной воде.
— Быстрей, быстрее же, — говорил Фостер с искаженным страданием лицом. Ничто не сравниться с душевной мукой капитана, лишенного возможности попасть на свой, терпящий бедствие, корабль.
— Вот один из них, — сказал Харви.
Прямо на них несся на всех парусах маленький бриг; они различали отблески огня, и вдруг, прямо на глазах, бушующее пламя объяло весь корабль, как праздничный фейерверк. Огонь полыхнул из бортов, взвился над люками. Сама вода осветилась зловещим красным отблеском. Судно замедлилось и начало тихо поворачиваться.
— Оно идет прямо на якорный канат «Санта Барбары», — сказал Фостер.
— Еще чуть-чуть, и оно прошло бы мимо, — добавил Хэммонд. — Не повезло же беднягам на «Барбаре». Сейчас оно пройдет борт о борт.
Хорнблауэр подумал о двух тысячах испанских и французских пленных, задраенных под палубами тюрьмы.
— Человек у руля мог бы провести его мимо, — сказал Фостер. — Мы должны это сделать!
Тут все завертелось. Харви положил руль на борт.
— Гребите, — сказал он лодочникам. Те по понятной причине не хотели грести к пылающему каркасу.
— Гребите! — сказал Харви.
Он выхватил из ножен шпагу, и лезвие, направленное загребному в горло, зловеще блеснуло красным. Коротко всхлипнув, загребной налег на весло и лодка понеслась.
— Подведите ее к кормовому подзору, — сказал Фостер. — Я на него прыгну.
Хорнблауэр наконец обрел дар речи:
— Позвольте мне, сэр. Я управлюсь.
— Давайте со мной, если хотите, —ответил Фостер. — Тут могут понадобиться двое.
Прозвище «Неустрашимый Фостер» происходило, вероятно, от названия корабля, но подходило по всем статьям. Харви подвел лодку под корму горящего судна; оно снова шло по ветру, прямо на «Санта Барбару».
В этот момент Хорнблауэр оказался ближе всех к бригу. Медлить было нельзя. Он встал на банку и прыгнул, ухватился за что-то и рывком втащил на палубу свое неуклюжее тело. Судно неслось по ветру и пламя отдувало вперед; на самой корме было пока просто очень жарко, но Хорнблауэр слышал рев пламени и треск горящего дерева. Он шагнул к штурвалу и схватил рукоятки. Штурвал был принайтовлен веревочной стройкой. Сбросив ее, Хорнблауэр снова взялся за штурвал и почувствовал, как руль берет воду. Он всем телом налег на штурвал и повернул его. Правый борт брига почти касался правого борта «Санта Барбары». Пламя осветило взволнованную, размахивающую руками толпу на полубаке плавучей тюрьмы.
— Руль на борт, — загремел в ушах Хорнблауэра голос Фостера.
— Есть руль на борт, — отвечал Хорнблауэр. Тут бриг послушался руля, нос его повернулся, столкновения не произошло.
Огромный столб огня поднялся из люка за грот-мачтой, мачта и такелаж вспыхнули, и тут же порыв ветра понес пламя к корме. Какой-то инстинкт подсказал Хорнблауэру, не выпуская штурвал, другой рукой схватить шейный платок и закрыть им лицо. Пламя на мгновение закружилось вокруг и спало. Но промедление оказалось опасным, бриг продолжал поворачиваться, и теперь его корма грозила врезаться в нос «Санта Барбары». Хорнблауэр в отчаянии крутил штурвал в другую сторону. Пламя отогнало Фостера к гакаборту, теперь он вернулся.
— Руль круто под ветер!
Бриг уже послушался. Его правый борт слегка задел шкафут «Санта Барбары» и скользнул мимо.
— Прямо руль! — крикнул Форстер.
Брандер прошел в двух-трех ярдах от борта «Санта Барбары». По шкафуту, держась наравне с бригом, бежали люди. Минуя плавучую тюрьму, Хорнблауэр краем глаза видел другую группу людей: на шканцах стояли матросы с пожарным деревом, готовые оттолкнуть брандер. Наконец «Санта Барбара» осталась позади.
— «Отважный» с правого борта, — сказал Форстер. — Не заденьте.
— Есть, сэр.
Жар был чудовищный, непонятно, как вообще можно было дышать. Лицо и руки Хорнблауэра обжигало горячим воздухом. Обе мачты высились огненными столпами.
— Один румб вправо, — сказал Форстер. — Мы посадим его на мель у нейтральной земли.
— Есть один румб вправо, — отвечал Хорнблауэр. Его захлестнула волна сильнейшего возбуждения, даже восторга; рев огня пьянил его, страха не было совсем. Тут палуба вспыхнула чуть не в ярде от штурвала. Пламя вырвалось из разошедшихся палубных пазов, жар стал невыносимым, пазы раскрывались все дальше, пламя быстро бежало по корме. Хорнблауэр потянулся за стропкой, чтоб принайтовить штурвал, но тот свободно завертелся под рукой — перегорели тросы рулевого привода. Тотчас палуба под ногами вздыбилась и полыхнула огнем. Хорнблауэр отскочил к гакаборту. Фостер был здесь.
— Перегорели тросы рулевого привода, сэр, — доложил Хорнблауэр.
Кругом бушевало пламя. Рукав его сюртука обуглился.
— Прыгайте! — сказал Фостер.
Хорнблауэр почувствовал, что Фостер толкает его. Все было как во сне. Он перелез через гакаборт, прыгнул, в воздухе от страха захватило дух, но ужаснее всего было прикосновение холодной воды. Волны сомкнулись над ним, и он в панике рванулся к поверхности. Было холодно — Средиземное море в декабре холодное. Какое-то время остававшийся в одежде воздух поддерживал его, несмотря на вес шпаги. Глаза, ослепленные огнем, ничего не видели в темноте. Кто-то барахтался рядом.
— Они идут за нами на лодке и сейчас подберут, — послышался голос Фостера, — Вы плавать умеете?
— Да, сэр. Не очень хорошо.
— Я тоже, — сказал Фостер, потом закричал. — Эй! Эй! Хэммонд! Харви!
Крича, он попытался выпрыгнуть из воды, плюхнулся обратно, снова попытался выпрыгнуть, снова плюхнулся; вода заливала ему рот, не давая закончить слово. Даже слабея в схватке с водой, Хорнблауэр не терял способности думать — так уж странно был устроен его мозг — и отметил про себя, что даже капитан с большим стажем в конечном счете, оказывается, простой смертный. Хорнблауэр попытался отцепить шпагу, не преуспел, а только погрузился глубже и с большим трудом вынырнул; со второй попытки он наполовину вытащил шпагу из ножен, дальше она выскользнула сама, однако ему стало не намного легче.
Тут Хорнблауэр услышал плеск весел и громкие голоса, увидел темный силуэт приближающейся лодки и испустил отчаянный крик. Через секунду лодка нависла над ним, и Хорнблауэр судорожно вцепился в планширь.
Фостера втащили через корму. Даже зная, что его дело — не шевелиться и не пытаться самому влезть в лодку, Хорнблауэр должен был собрать всю свою волю, чтоб тихо висеть за бортом и ждать своей очереди. Он одновременно презирал себя и с интересом анализировал этот необоримый страх. Для того, чтоб люди в лодке смогли подвести его к корме, надо было ослабить смертельную хватку, которой он вцепился в планширь, а для этого потребовалось серьезное и сознательное напряжение воли. Его втащили внутрь и он, на грани обморока, рухнул лицом вниз на дно лодки. Кто-то заговорил, и по коже Хорнблауэра побежали мурашки, ослабшие мускулы напряглись: слова были испанские, по крайней мере — на чужом языке, похожем на испанский.
Кто-то отвечал на том же языке. Хорнблауэр попытался выпрямиться, но чья-то рука легла ему на плечо. Он перекатился на спину, и привыкшими к темноте глазами различил три смуглых черноусых лица. Эти люди — не из Гибралтара. Через мгновение его осенило — это команда одного из брандеров, они провели судно за мол, подожгли, и теперь уходили на лодке. Фостер сидел на дне, согнувшись пополам. Подняв лицо от колен, он огляделся по сторонам.
— Кто это? — спросил он слабо. Схватка с морем вымотала его не меньше Хорнблауэра.
— Я полагаю, сэр, это команда испанского брандера, — сказал Хорнблауэр. — Мы в плену.
— Вот оно что!
Мысль эта вдохнула в него силы, как только что случилось с Хорнблауэром. Фостер попытался встать, но рулевой-испанец, доложив руку на плечо, пригнул его обратно. Фостер попытался скинуть руку и испустил слабый крик, но рулевой шутить не собирался. С быстротой молнии он выхватил из-за пояса нож. Свет брандера, безобидно догоравшего на мели, отразился на лезвии, и Фостер прекратил сопротивление. Несмотря на свое прозвище, Неустрашимый Фостер понимал, когда надо проявить благоразумие.
— Куда мы движемся? — шепотом, чтоб не раздражать хозяев, спросил он у Хорнблауэра.
— На север, сэр. Вероятно они хотят—высадиться на нейтральной земле и там перейти границу.
— Это для них лучше всего, — согласился Фостер. Он неловко повернул голову, оглядываясь на гавань.
— Два других судна догорают вон там, — сказал он. — Мне помнится, их было всего три.
— Я видел три, сэр.
— Значит все обошлось благополучно. Но какое смелое предприятие. Кто бы мог подумать, что доны на такое решатся?
— Возможно, они узнали про брандеры от нас, — предположил Хорнблауэр.
— Вы думаете, мы «тот самый повернули маховик, что, приводил в движение огниво»?
— Возможно, сэр.
Какой же ледяной выдержкой надо было обладать, чтобы цитировать стихи и обсуждать военно-морскую диспозицию, следуя в испанский плен под угрозой обнаженной стали. Ледяной в данном случае может быть понято и буквально — Хорнблауэр весь дрожал в мокрой одежде под пронизывающим ночным ветром. После всех волнений этого дня он ощущал себя слабым и разбитым.
— Эй, на лодке! — раздалось над водой: в ночи возник темный силуэт. Испанец, сидевший на корме, резко повернул румпель, направляя лодку в противоположную сторону. Гребцы с удвоенной силой налегли на весла.
— Караульная шлюпка, — сказал Фостер,но осекся, вновь увидев лезвие ножа.
Конечно, с северного края стоянки должна нести дозор караульная шлюпка; они могли бы об этом подумать.
— Эй, на лодке! — послышался новый окрик. — Суши весла, не то стреляю.
Испанцы не отвечали, и через секунду последовала вспышка и звук ружейного выстрела. Пули они не слышали, но выстрел всполошит флот, к которому они сейчас двигались. Однако испанцы не собирались сдаваться. Они отчаянно гребли.
— Эй, на лодке!
Это кричали уже с другой лодки, впереди. Испанцы в отчаянии опустили весла, но окрик рулевого заставилихвновь приняться за работу. Хорнблауэр видел вторую лодку — она была прямо перед ними — и слышал новый окрик с нее. По команде рулевого-испанца загребной налег на весло, лодка развернулась; новая команда, и оба гребца рванули на себя весла. Лодка пошла на таран. Если им удастся опрокинуть находящуюся на пути шлюпку, второй лодке придется задержаться, чтоб подобрать товарищей; тогда испанцы успеют уйти.
Все смешалось, каждый, казалось, орал что есть мочи. Лодки с треском столкнулись, нос испанской лодки прошел по английской шлюпке, но опрокинуть ее не удалось. Кто-то выстрелил, потом караульная шлюпка оказалась рядом, команда попрыгала к испанцам. Кто-то навалился на Хорнблауэра и принялся его душить. Хорнблауэр услышал протестующие, крики Фостера, через мгновение нападавший ослабил хватку, и Хорнблауэр услышал, как мичман караульной шлюпки извиняется за грубое обращение с капитаном Королевского Флота. Кто-то открыл лодочный фонарь, и в его свете появился Фостер, грязный и оборванный. Фонарь осветил молчащих пленников.
— Эй, на лодке! — послышался крик, и еще одна лодка возникла из темноты.
— Капитан Хэммонд, если не ошибаюсь: — В голосе Фостера звучали зловещие нотки.
— Благодарение Небу! — послышался голос Хэммонда.
— Вас-то благодарить не за что, — горько произнес Фостер.
— После того, как брандер миновал «Санта Барбару», порыв ветра понес вас так быстро, что мы отстали, — объяснил Харви.
— Мы двигались так быстро, как только могли заставить грести этих прибрежных скорпионов, — добавил Хэммонд.
— И все же, если б не испанцы, мы бы утонули, — фыркнул Фостер. — Я считал, что могу положиться на двух братьев-капитанов.
— На что вы намекаете, сэр? — огрызнулся Хэммонд,
— Я ни на что не намекаю, но другие могут прочесть намек в простом перечислении событий.
— Я считаю ваши слова оскорблением, сэр, — сказал Харви, — адресованным как мне, так и капитану Хэммонду.
— Такая проницательность делает вам честь, — отвечал Фостер.
— Что ж, — сказал Харви, — мы не можем продолжать разговор в присутствии этих людей. Я пришлю вам своего друга.
— Я буду очень рад.
— В таком случае, желаю вам доброй ночи, сэр.
— И я тоже, — сказал Хэммонд. — Весла на воду. Лодка выскользнула из освещенного пространства, оставив невольных свидетелей с открытыми ртами дивиться причудам людской натуры. Человек, только что спасенный сначала от смерти, потом от плена, вновь бесцельно рискует жизнью. Фостер провожал лодку взглядом; возможно, он уже раскаивался в своем истерическом всплеске.
— Мне многое предстоит сделать за ночь, — сказал он скорее самому себе, потом обратился к мичману караульной шлюпки. — Вы, сэр, займетесь пленными и отвезете меня на мой корабль.
— Есть, сэр.
— Кто-нибудь тут говорит по-ихнему? Я хочу, чтоб им объяснили, что я отправлю их в Картахену по картелю, без обмена. Они спасли нам жизнь, и это — наименьшее, что мы можем для них сделать. — Последняя фраза была адресована Хорнблауэру.
— Я думаю, это справедливо, сэр.
— Теперь вы, мой огнестойкий друг. Могу я выразить вам свою благодарность? Вы молодец. Если я переживу сегодняшнее утро, то постараюсь, чтоб начальство узнало о вашем поведении.
— Благодарю вас, сэр. — Вопрос застрял у Хорнблауэра в горле и потребовалась некоторая решимость, чтобы его выговорить: — А мой экзамен, сэр? Мои характеристики?
Фостер тряхнул головой: — Боюсь, в таком составе эта комиссия уже не соберется. Вам придется подождать другого случая.
— Есть, сэр, — с нескрываемым отчаянием произнес Хорнблауэр.
— Послушайте-ка, мистер Хорнблауэр, — сказал Фостер, поворачиваясь к нему. — Насколько я помню, вы находились в полной растерянности с наветренной стороны Луврских скал. Еще минута, и вы бы пошли ко дну. Вас спас только предупредительный выстрел. Разве не так?
— Так, сэр.
— Тогда благодарите судьбу за маленькие подарки. А тем более за большие.
НОЕВ КОВЧЕГ
Исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр стоял на корме баркаса вместе с мистером Таплингом из дипломатической службы. У их ног лежали мешки с золотом. Вокруг поднимались крутые склоны Оранского залива. Перед ними в ярких лучах солнца белел город, похожий на россыпь мраморных кубиков, небрежно раскиданных по склонам холмов. Шлюпка плыла по легкой зыби, гребцы ритмично налегали на весла, пеня изумрудно-зеленую воду. Средиземное море позади них было небесно-голубым.
— Издали вид премилый, — сказал Таплинг, глядя на приближающийся город, — но при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что зрение ваше обманулось. А тем более обоняние. В запах правоверных, право, не поверишь. Подведите баркас к причалу вот сюда, мистер Хорнблауэр, за этими шебеками.
— Есть, сэр, — отозвался на приказ Хорнблауэра рулевой.
— Вон часовой на батарее, — заметил Таплинг, внимательно осматриваясь, — и даже не совсем спит. Обратите внимание на эти пушки. Двадцатидвухфунтовые, не меньше. Каменные ядра сложены наготове. Каменное ядро, разлетевшись на куски, причиняет ущерб, несопоставимый с его размерами. И стены очень даже прочные. Боюсь, Оран не просто взять coup de main. [12] Если Его Туземное Высочество бей решит перерезать нам глотки и забрать наше золото, за нас не скоро отомстят, мистер Хорнблауэр.
— Не думаю, чтоб отмщение меня сильно утешило, — сказал Хорнблауэр.
— Тоже верно. Но, без сомнения, Его Туземное Высочество нас на этот раз пощадит. Мы — гусыня, которая несет золотые яйца. Полная лодка золота каждый месяц — радужная перспектива для пиратского бея в наши дни, когда торговые суда хорошо охраняются.
— Шабаш! — крикнул рулевой. Лодка плавно скользнула к причалу и аккуратно пришвартовалась. На берегу сидели в тени несколько человек — они сразу повернули головы и принялись разглядывать англичан. На палубах шебек появились темнолицые мавры и тоже принялись глазеть. Один или двое что-то выкрикнули.
— Без сомнения, они перечисляют родословные неверных, — сказал Таплинг. — Брань на вороту не виснет особенно если я ее не понимаю, — и добавил, глядя из-под руки: — Где же он?
— Никого не видно,кто бы походил на христианина, — сказал Хорнблауэр.
— Он не христианин, — сказал Таплинг. — Белый, но не христианин. Белый благодаря смеси французской, арабской и мавританской кровей, консул Его Британского Величества в Оране pro tem. [13] и мусульманин из соображений удобства. Кстати, в положении правоверного есть серьезные минусы. Зачем мне четыре жены, если в благодарность за это сомнительное удовольствие я должен воздерживаться от спиртного?
Таплинг спрыгнул на причал, Хорнблауэр последовал за ним. Внизу умиротворяюще плескалась легкая зыбь. От каменных плит, по которым они ступали, отражался ослепительный жар полуденного солнца. Далеко в заливе стояли на якоре два корабля — транспортное судно «Каролина» и Е.В.С. «Неустанный». Они были дивно хороши на синей морской глади, искрящейся серебром.
— И все-таки я предпочел бы Друри Лейн в субботнюю ночь, — сказал Таплинг.
Он снова повернулся к городской стене, защищающей Оран с моря. Узкие ворота, обрамленные бастионами, выходили прямо к причалу. Сверху стояли часовые в красных кафтанах. В густой тени под проемом ворот что-то двигалось, но ослепленные солнцем глаза не могли ничего различить. Наконец на свет вышла небольшая группа: полуголый негр вел осла, на котором сбоку, ближе к крупу, располагалась массивная фигура в белом одеянии.
— Пойдем навстречу консулу Его Британского Величества? — спросил Таплинг. — Нет. Пусть сам к нам идет.
Негр остановил осла, всадник спешился и вразвалку подошел к ним. Это был высокий грузный человек в длинном одеянии. Землистого цвета лицо украшали жидкие усики и бородка, большую голову венчал белый тюрбан.
— К вашим услугам, господин Дюра, — сказал Таплинг.
— Позвольте представить вам мистера Горацио Хорнблауэра, и. о. лейтенанта с фрегата «Неустанный».
Господин Дюра кивнул. Его лоб покрывала испарина.
— Деньги привезли? — спросил он утробным голосом. Прошло несколько минут, пока Хорнблауэр привык к его французскому и начал понимать.
— Семь тысяч золотых гиней, — отвечал Таплингнасносном французском языке,
— Хорошо, — произнес Дюре с явным облегчением. — Они в шлюпке?
— В шлюпке, — ответил Таплинг, — там они пока и останутся. Помните условия? Четыре сотни упитанных бычков, пять тысяч фанег ячменя. Когда я увижу, что все это погружено на лихтеры, а лихтеры подошли к судам в заливе, я вручу вам деньги. Когда припасы будут готовы?
— Скоро.
— Так я и знал. Когда?
— Скоро… очень скоро.
Таплинг состроил недовольную мину.
— Тогда мы возвращаемся на корабль. Завтра, может быть послезавтра, мы вернемся с золотом.
На потном лице Дюра проступил испуг.
— Нет, нет, не делайте этого, — сказал он поспешно. — Вы не знаете Его Высочество бея. Нрав его переменчив. Если он будет знать, что золото здесь, он велит пригнать скот. Увезите золото, и он не шевельнет пальцем. И.. и… он разгневается на меня.
— Ira prinsipis mors est, — произнес Таплинг, и, видя непонимающее лицо Дюра, снизошел до перевода. — Гнев князя означает смерть. Так ведь?
— Да, — отвечал Дюра и в свою очередь произнес несколько слов на незнакомом языке, сопроводив их резким непонятным жестом, потом перевел. — Да не будет этого.
— Конечно, мы надеемся, что этого не будет, — с обезоруживающей сердечностью согласился Таплинг. — Шнурок для удушения, крюк, даже битье по пяткам — все это так неприятно. Посему отправляйтесь-ка лучше к бею и постарайтесь, чтоб он распорядился насчет скота и ячменя. Иначе мы отчалим с наступлением ночи.
Желая подчеркнуть, что надо торопиться, Таплинг взглянул на солнце.
— Я поеду, — Дюра примиряюще развел руками. — Я поеду. Но умоляю вас, не отчаливайте. Быть может, Его Высочество занят в гареме. В этом случае никому не разрешается его беспокоить. Но я попытаюсь. Зерно уже здесь, в касбе. [14] Нужно только пригнать скот. Прошу вас, не беспокойтесь. Умоляю вас. Его Высочество не привык торговать, тем более торговать по обычаю франков. — Дюра подолом вытер потное лицо.
— Простите меня, — сказал он. — Я плохо себе чувствую. Но я отправлюсь к Его Высочеству. Умоляю вас, подождите меня.
— До заката, — непреклонно отвечал Таплинг. Дюра окликнул слугу-негра, который скрючился под ослиным животом, прячась от солнца, и с усилием взгромоздил свое жирное тело на ослиный круп. Снова вытерев лицо он в некотором замешательстве взглянул на англичан.
— Ждите меня, — были его последние слова. Ослик затрусил обратно к городским воротам.
— Он боится бея, — сказал Таплинг, провожая консула взглядом. — По мне лучше двадцать беев, чем один разъяренный адмирал сэр Джон Джервис. Что он скажет об этой новой задержке, когда флот и так на голодном пайке? Он мне кишки выпустит.
— От этих мавров не приходится ждать пунктуальности, — произнес Хорнблауэр с беспечностью человека, который сам ни за что не отвечает. Но подумал он о Британском флоте, который без друзей, без союзников, ценой отчаянных усилий поддерживает блокаду враждебной Европы перед лицом превосходящих сил противника, штормов, болезней, а теперь еще и голода.
— Посмотрите-ка! — вдруг сказал Таплинг. В пересохшей сточной канаве появилась большая серая крыса. Она села и принялась осматриваться, не обращая внимания на яркий солнечный свет. Таплинг топнул на нее ногой, но и тогда крыса не особо встревожилась. Он снова топнул, она попыталась спрятаться обратно в водосток, оступилась, упала, немного подергалась, потом поднялась на лапки и исчезла в темноте.
— Старая крыса, — сказал Таплинг. — Наверное, из ума выжила. Может даже слепая.
Ни слепые, ни зрячие крысы Хорнблауэра не волновали. Он пошел к баркасу, дипломат следовал за ним.
— Максвелл, разверни-ка грот, чтоб он давал нам немного тени, — сказал Хорнблауэр. — Мы останемся здесь до вечера.
— Как все-таки хорошо в мусульманском порту, сказал Таплинг, усаживаясь на швартовую тумбу рядом со шлюпкой. — Не надо волноваться, что матросы сбегут. /Не надо волноваться, что они напьются. Всех-то и забот, что бычки да ячмень. И как поджечь этот трут.
Он вынул из кармана трубку, продул и собрался набивать. Грот затенял теперь шлюпку, и матросы уселись на носу, переговариваясь вполголоса, другие поудобнее расположились на корме. Шлюпка мерно покачивалась на легкой зыби. Ритмичное поскрипывание кранцев между шлюпкой и причалом убаюкивало, город и порт дремали в послеполуденный зной. Однако живой натуре Хорнблауэра тяжело было сносить длительное бездействие. Молодой человек взобрался на пристань, прошелся туда-сюда, чтобы размять ноги. Мавр в белом одеянии и тюрбане нетвердой походкой вышел на солнечный свет у края воды. Его качало, и он широко расставлял ноги, пытаясь сохранить равновесие.
— Вы говорили, сэр, что мусульманам запрещено употреблять спиртное? — спросил Хорнблауэр сидевшего на корме Таплинга.
— Не то чтоб совсем запрещено, — осторожно ответил Таплинг, — но спиртное предано анафеме, поставлено вне закона и его трудно достать.
— Кое-кто ухитрился его достать, сэр, — заметил Хорнблауэр.
— Дайте-ка глянуть, — сказал Таплинг, вставая. Матросы, наскучившие ожиданием и всегда интересующиеся насчет выпивки, тоже перелезли на пристань.
— Похож на пьяного, — согласился Таплинг.
— Набрался до краев, — сказал Максвелл, когда мавр пошел полукругом.
В конце полукруга мавр упал ничком, из-под длинной одежды высунулась коричневая нога и тут же втянулась обратно. Теперь он лежал без движения, положив голову на руки. Упавший на землю тюрбан обнажил бритую голову с прядью волос на макушке.
— Лишился мачт, — сказал Хорнблауэр.
— И сел на мель, — закончил Таплинг. Мавр лежал, ни на что не обращая внимания.
— А вот и Дюра, — сказал Хорнблауэр.
Из ворот вновь появилась массивная фигура на осле. Следом, тоже на осле, ехал другой дородный мавр. Обоих осликов вели слуги-негры. Сзади шли человек десять темных личностей, чьи мушкеты и подобие формы выдавали солдат.
— Казначей Его Высочества, — представил Дюра, когда оба спешились. — Явился получить золото.
Дородный мавр высокомерно посмотрел на англичан. Солнце палило. Дюра по-прежнему обливался потом.
— Золото здесь. — Таплинг указал на шлюпку. — Оно на корме барказа. Вы его увидите, когда мы увидим припасы которые собираемся купить.
Дюра перевел его слова на арабский. Потом они с казначеем обменялись несколькими фразами, и казначей очевидно, сдался. Он обернулся к воротам и махнул рукой! Видимо, это был условленный сигнал, потому что из ворот тут же выступила печальная процессия: длинная цепочка полуголых людей, белых, цветных, мулатов. Каждый сгибался под тяжестью мешка с зерном. Рядом шли надсмотрщики с палками.
— Деньги, — перевел Дюра слова казначея. По команде Таплинга матросы принялись вытаскивать на причал тяжелые мешки с золотом.
— Когда зерно будет на пирсе, я прикажу отнести золото туда же, — сказал Таплинг Хорнблауэру. — Последите за ним, пока я загляну хотя бы в несколько мешков.
Таплинг подошел к веренице рабов. Открывая то один, то другой мешок, он заглядывал внутрь и доставал пригоршню золотистого ячменя. Некоторые мешки он ощупывал снаружи.
— Никакой возможности проверить все сто тонн ячменя, — заметил он, возвращаясь к Хорнблауэру. — Полагаю, в нем изрядная доля песка. Таков уж обычай правоверных. Цена назначена соответственно. Очень хорошо, эффенди. [15]
По знаку Дюра подгоняемые надсмотрщиками рабы затрусили к воде и начали грузить мешки на пришвартованный к причалу лихтер. Первые десять человек принялись раскладывать груз на дне лихтера, другие затрусили за новыми мешками. Тела их лоснились от пота. Тем временем из ворот появились два смуглых погонщика. Перед собой они гнали небольшое стадо.
— Жалкие заморыши, — произнес Таплинг, разглядывая бычков, — но плата учитывает и это.
— Золото, — сказал Дюра.
Вместо ответа Таплинг открыл один из мешков, вытащил пригоршню золотых гиней и водопадом ссыпал их обратно.
— Здесь пять сотен гиней, — сказал он. — Четырнадцать мешков, как вы можете видеть. Вы получите их, как только лихтеры будут загружены и снимутся с якоря.
Дюра усталым жестом вытер лицо. Ноги едва держали его. Он оперся на стоявшего позади спокойного ослика.
Бычков сгоняли по сходням другого лихтера. Еще одно стадо прошло через ворота и теперь ждало своей очереди.
— Дело идет быстрее, чем вы боялись, — сказал Хорнблауэр.
— Видите, как они гоняют этих бедняг, — нравоучительно произнес Таплинг. — Гляньте-ка! Дела идут быстро, если не щадить людей.
Цветной раб свалился под тяжестью своей ноши и лежал, не обращая внимания на град палочных ударов. Ноги его слабо подергивались. Кто-то оттащил его в сторону, и движение мешков в сторону лихтера возобновилось. Другой лихтер быстро заполнялся стиснутым в сплошную мычащую массу скотом.
—Надо же. Его Туземное Высочество держит свое слово, — дивился Таплинг. — Если бы меня спросили раньше,я бысогласился на половину.
Один из погонщиков сел на причал и закрыл лицо руками, посидел так немного и повалился на бок.
— Сэр, — начал Хорнблауэр, обращаясь к Таплингу. Оба англичанина в ужасе посмотрели в друг на друга, пораженные одной мыслью.
Дюра начал что-то говорить. Одной рукой он держался за ослиную холку, другой жестикулировал, как бы произнося речь, но в его хриплых словах не было никакого смысла. Лицо его раздулось больше своей природной толщины, исказились, к щекам прилила кровь, так что они побагровели даже под густым загаром. Дюра отпустил ослиную холку и на глазах у англичан пошел по большому полукругу. Голос его перешел в шепот, ноги подкосились, он упал на четвереньки, а затем и плашмя.
— Это чума! — воскликнул Таплинг. — Черная смерть! Я видел ее в Смирне в 96-м.
Англичане отпрянули в одну сторону; казначей и солдаты в другую. Посредине осталось лежать подергивающееся тело.
— Чума, клянусь святым Петром! — взвизгнул молодой матрос. Он был готов броситься к барказу, остальные побежали бы за ним.
— Стоять смирно! — рявкнул Хорнблауэр. Он испугался не меньше других, но привычка к дисциплине так прочно въелась в него, что он машинально остановил панику.
— Какой же я дурак, что не подумал об этом раньше, — сказал Таплинг. — Эта умирающая крыса, этот тип, которого мы приняли за пьяного… Я должен был догадаться!
Сержант казначейского эскорта и главный надсмотрщик что-то бурно обсуждали между собой, то и дело тыкая пальцами в сторону умирающего Дюра; сам казначей прижимал к себе одежду и с зачарованным ужасом глядел себе под ноги, где лежал несчастный.
— Сэр, — обратился Хорнблауэр к Таплингу, — что нам делать?
Характер Хорнблауэра в чрезвычайных обстоятельствах требовал действовать немедленно.
— Что делать? — Таплинг горько усмехнулся. — Мы останемся здесь и будем гнить.
— Здесь?
— Флот не примет нас обратно. По крайней мере, пока не пройдут три недели карантина. Три недели после последнего случая заболевания.
— Чушь! — сказал Хорнблауэр. Все его уважение к старшим взбунтовалось против услышанного. — Никто не отдаст такого приказа.
— Вы думаете? Вы видели эпидемию на флоте? Хорнблауэр не видел, но слышал, как на флотах девять из десяти умирали от сыпного тифа. Тесные корабли, где на матроса приходится по двадцать два дюйма, чтобы подвесить койку — идеальные рассадники эпидемий. Хорнблауэр понял, что ни один капитан, ни один адмирал не пойдут на такой риск ради двадцати человек, составляющих команду барказа.
Две стоявшие у причала шебеки неожиданно снялись с якорей и на веслах выскользнули из гавани.
— Наверное, чума разразилась только сегодня, — задумчиво сказал Хорнблауэр. Его привычка к умозаключениям оказалась сильнее тошнотворного страха.
Погонщики бросили свою работу, оставив товарища лежать на пристани. У городских ворот стражники загоняли народ обратно в город — видимо, слух о чуме уже распространился и вызвал панику, а стражники только что получили приказ не давать обитателям разбегаться по окрестностям. Скоро в городе начнут твориться кошмарные вещи. Казначей взбирался на осла; толпа рабов рассеялась, как только разбежались надсмотрщики.
— Я должен доложить на корабль, — сказал Хорнблауэр. Таплинг, штатский дипломат, не имел над ним власти. Вся ответственность лежала на Хорнблауэре. Команда барказа подчинялась Хорнблауэру, ее поручил ему капитан Пелью, чья власть исходила от короля.
Удивительно, как быстро распространяется паника. Казначей исчез, негр Дюра ускакал на осле своего бывшего хозяина, солдаты ушли толпой. На пирсе остались только
мертвые и умирающие. Вдоль побережья, под стеной, лежал путь в окрестности города, туда все и устремились. Англичане стояли одни, у ног их лежали мешки с золотом.
— Чума передается по воздуху, — говорил Таплинг. — Даже крысы умирают от нее. Мы были здесь несколько часов. Мы были достаточно близко… к этому… — Он кивнул в сторону умирающего Дюра. — Мы с ним говорили, до нас долетало его дыхание. Кто из нас будет первым?
— Посмотрим, когда придет время, — сказал Хорнблауэр. Это было в его натуре: бодриться, когда другие унывают. Кроме того, он не хотел, чтобы матросы слышали слова Таплинга.
— А флот! — горько произнес Таплинг. — Все это, — он кивнул в сторону брошенных лихтеров, один из которых был почти полон скота, другой — мешков с зерном. — Все это было бы для него спасением. Люди и так на двух третях рациона.
— Мы что-нибудь придумаем, черт возьми, — сказал Хорнблауэр. — Максвелл, погрузите золото обратно в шлюпку и уберите этот навес.
Вахтенный офицер Его Величества судна «Неустанный» увидел, что корабельный барказ возвращается из города. Легкий бриз покачивал фрегат и транспортный бриг на якорях. Барказ, вместо того чтоб подойти к борту, зашел под корму «Неустанного» с подветренной стороны.
— Мистер Кристи! — крикнул Хорнблауэр, стоя на носу барказа.
Вахтенный офицер подошел к гакаборту.
— В чем дело? — спросил он с удивлением.
— Мне надо поговорить с капитаном.
— Так поднимитесь на борт и поговорите с ним. Какого черта?
— Прошу вас, спросите капитана Пелью, может ли он поговорить со мной.
В окне кормовой каюты появился Пелью — он явно слышал разговор.
— Да, мистер Хорнблауэр? — Хорнблауэр сообщил новости.
— Держитесь с подветренной стороны, мистер Хорнблауэр.
— Да, сэр. Но припасы…
— Что с ними?
Хорнблауэр обрисовал ситуацию и изложил свою просьбу.
— Это несколько необычно, — задумчиво сказал Пелью. — Кроме того…
Он не хотел орать во всеуслышанье, что вскоре вся команда барказа может умереть от чумы.
— Все будет в порядке, сэр. Там недельный рацион для эскадры.
Это было самое главное. Пелью должен был взвесить с одной стороны, возможную потерю транспортного брига, с другой — несравненно более важную возможность получить припасы, которые позволят эскадре продолжить наблюдение за средиземноморским побережьем. С этой точки зрения предложение Хорнблауэра выглядело вполне разумным.
— Что ж, очень хорошо, мистер Хорнблауэр. К тому времени, как вы доставите припасы, я закончу перевозить команду. Назначаю вас командовать «Каролиной».
— Спасибо, сэр.
— Мистер Таплинг останется с вами пассажиром.
— Хорошо, сэр.
Так что когда команда барказа, обливаясь потом и налегая на весла, привела оба лихтера в залив, «Каролина», оставленная своей командой, покачивалась на волнах, а с борта «Неустанного» десяток любопытных в подзорные трубы наблюдал за происходящим. Хорнблауэр с полудюжиной матросов поднялся на борт брига.
— Прям-таки чертов Ноев ковчег, сэр, — сказал Максвелл.
Сравнение было очень точным: гладкая верхняя палуба «Каролины» была разделена на загоны для скота, а чтоб облегчить управление судном, над загонами были уложены мостки, образующие почти сплошную верхнюю палубу.
— И всякой твари по паре, сэр, — заметил другой матрос.
— Но у Ноя все твари сами заходили парами, — сказал Хорнблауэр. — Нам же не так повезло. И сначала придется погрузить зерно. Раздраить люки!
При нормальных условиях две-три сотни матросов с «Неустанного» быстро перегрузили бы мешки с лихтера, но теперь все это предстояло сделать восемнадцати матросам с барказа. К счастью, Пелью был достаточно добр и предусмотрителен, он приказал вынуть из трюма балласт, не то пришлось бы делать сперва эту утомительную работу.
— Цепляйте к талям, — сказал Хорнблауэр. Пелью посмотрел, как первые мешки с зерном медленно поднялись над лихтером, проплыли по воздуху и опустились в люк «Каролины».
— Он справится, — решил Пелью. — Мистер Болтон, пожалуйста, команду на шпиль, с якоря сниматься.
Хорнблауэр, распоряжавшийся погрузкой, услышал голос Пелью, усиленный рупором:
— Удачи, мистер Хорнблауэр. Доложитесь через три недели в Гибралтаре.
— Очень хорошо, сэр. Спасибо, сэр. Хорнблауэр обернулся и увидел рядом матроса, державшего руку под козырек.
—Простите, сэр. Слышите, как они мычат, сэр? Жарко ужасно, и они пить хотят, сэр.
— Черт! — сказал Хорнблауэр.
До заката ему этот скот не загрузить. Он оставил несколько человек продолжать погрузку и вместе с остальными стал придумывать, как же напоить несчастных животных. Полтрюма «Каролины» было заполнено фуражом и бочонками с водой, но воду эту пришлось перекачивать в лихтер с помощью помпы и шланга. Почуяв воду, бедные животные бросились к ней. Лихтер накренился и чуть было не перевернулся. Один из матросов (к счастью, он умел плавать) спрыгнул с лихтера через борт — иначе его задавили бы насмерть.
— Черт! — сказал Хорнблауэр, и далеко не в последний раз.
Без всякой подсказки ему предстояло научиться, как обращаться со скотом в море: чуть ли не каждую секунду он получал новый урок. Действительно, странные обязанности выпадают иногда флотскому офицеру. Давно стемнело, когда Хорнблауэр разрешил своим людям закончить работу; на следующий день он поднял их ни свет, ни заря. Утро только начиналось, когда они закончили погрузку мешков, и перед Хорнблауэром встала новая проблема: как перегружать бычков с лихтера. Животные провели ночь на судне, почти без пищи и воды, и были настроены недружелюбно. Однако поначалу, пока они стояли тесно, все оказалось не так уж сложно. На ближайшего бычка надели подпругу, прицепили к ней тали, животное повисло в воздухе и опустилось через отверстие в мостках. Его легко загнали в одно из стойл. Моряки кричали и размахивали рубашками, это их веселило. Однако следующий бычок, когда с него сняли подпругу, пришел в ярость и принялся гоняться за ними по палубе, грозя насмерть заколоть рогами, пока не забежал в стойло, где его быстро заперли на щеколду. Хорнблауэр, глядя, как солнце быстро встает на востоке, не находил во всем этом ничего смешного.
По мере того, как лихтер пустел, бычкам оставалось все больше места; они носились по палубе, и поймать их, чтоб надеть подпругу, становилось все более опасным. Вид их собратьев, с мычанием проплывающих над головами, отнюдь не успокаивал полудиких бычков. Еще до середины дня люди Хорнблауэра так вымотались, словно выдержали бой, и не один из них с радостью поменял бы свою новую работу на обычный матросский труд, например взбираться на рей и брать рифы на марселе в штормовую ночь. Когда Хорнблауэр догадался разделить внутренность лихтера на части ограждениями из рангоутного дерева, дело пошло лучше, но это заняло время, и до того, как они это сделали, стадо понесло некоторые потери: бешено носясь по палубе, бычки затоптали парочку наиболее слабых животных.
Некоторое разнообразие внесла подошедшая с берега лодка со смуглыми гребцами-маврами и казначеем на корме. Хорнблауэр оставил Таплинга торговаться — видимо, бей не настолько испугался чумы, чтоб позабыть про деньги. Хорнблауэр настоял только, чтоб лодка держалась на приличном расстоянии с подветренной стороны, и чтоб деньги отправили к ней по воде в пустых бочонках из-под рома. Наступила ночь, а в стойла перегрузили едва ли половину животных. Хорнблауэр тем временем ломал голову, как их напоить и накормить. Он тут же подхватывал любые намеки, которые удавалось дипломатично выудить из тех матросов, кто был родом из деревни. Лишь начало светать, он снова выгнал людей на работу. Он немного развлекся, глядя, как Таплинг прыгает на мостки, спасаясь от разъяренного быка. К тому времени, как всех животных благополучно заперли в стойлах, перед Хорнблауэром встала новая задача, которую один из матросов элегантно обозначил как «выгребание навоза». Задать корм… Напоить… Выгрести навоз… Полная палуба скота обещала достаточно работы для восемнадцати человек, а ведь надо будет еще управлять судном.
Но в том, что люди заняты, есть свое преимущество, мрачно решил про себя Хорнблауэр: с тех пор как началась работа, про чуму не говорили совсем. Место, где стояла «Каролина», не было защищено от северо-восточных ветров, и Хорнблауэр счел необходимым вывести ее в открытое море, пока они не задуют. Он собрал своих людей и поделил их на вахты; поскольку он был единственным навигатором, ему пришлось назначить рулевого и младшего рулевого, Джордана, вахтенными офицерами. Кто-то вызвался быть коком, и Хорнблауэр, обведя собравшихся взглядом, назначил Таплинга помощником кока. Тот открыл было рот, но, увидев выражение хорнблауэрова лица, предпочел промолчать. Ни боцмана, ни плотника… врача тоже нет, как мрачно заметил про себя Хорнблауэр. С другой стороны, если потребность во враче и возникнет, то, надо надеяться, ненадолго.
—Левая вахта, отдать кливера и грот-марсель, — приказал Хорнблауэр. — Правая вахта, на шпиль.
Так началось путешествие Его Величества транспортного брига «Каролина», ставшее (благодаря сильно приукрашенным байкам, которые матросы травили долгими собачьими вахтами в последующих плаваниях) легендарным во всем Королевском Флоте. «Каролина» провела свои три недели карантина в бездомных странствиях по западной части Средиземного моря. Ей надо было держаться ближе к Проливу, чтобы западные ветры и преобладающие течения со стороны океана не отнесли ее слишком далеко от Гибралтара. Она лавировала между испанскими и африканскими берегами, оставляя за собой крепнущий запах коровника. «Каролина» была старым, потрепанным судном: в любую погоду она текла, как решето; у помпы постоянно стояли матросы, то откачивая воду, то поливая водой палубу, чтоб ее очистить, то качая воду животным.
Верхний рангоут «Каролины» делал ее неуправляемой в свежий бриз; ее палубные пазы, естественно, текли, и вниз постоянно капала неописуемо мерзкая жижа. Единственным утешением было обилие свежего мяса. Многие матросы не ели его последние месяца три. Хорнблауэр щедро жертвовал по бычку в день: в таком жарком климате мясо долго не хранится. Так что его люди пировали, ели бифштексы и языки; многие из них ни разу в жизни не пробовали бифштекса.
Но с питьевой водой было плохо — это тревожило Хорнблауэра даже сильнее, чем обычного капитана: бычки постоянно хотели пить. Дважды Хорнблауэру приходилось высаживать на заре десант, захватывать какую-нибудь деревушку и наполнять бочки речной водой.
Дело это было опасное. Когда после второй вылазки «Каролина» торопилась прочь от берега, из-за мыса на всех парусах вышел испанский люггер береговой охраны — guarda-costa. Первым его заметил Максвелл. Хорнблауэр увидел люггер раньше, чем Максвелл успел доложить о появлении неприятеля.
— Очень хорошо. Максвелл, — сказал Хорнблауэр, пытаясь не выдать волнения. Он направил на люггер подзорную трубу. Тот был в милях в трех, не больше, с наветренной стороны, и «Каролина» оказалась заперта в бухте. Пути к спасению были отрезаны. За то время, что они сделают два фута, люггер сделает три, а неуклюжий рангоут «Каролины», не позволял ей идти круче восьми румбов к ветру. Хорнблауэр смотрел, в нем вскипало накопленное за последние семнадцать дней раздражение. Он злился на судьбу, впутавшую его в глупую историю. Он ненавидел «Каролину», ее неуклюжесть, ее вонь и ее груз. Он негодовал на свою неудачливость, загнавшую его в это безнадежное положение.
— Черт! — произнес Хорнблауэр, от гнева буквально топая ногами по мосткам. — Тысяча чертей!
«Надо же», — с любопытством подумал он, — «я пляшу от гнева». Но эта боевая лихорадка означало, что так просто он не сдастся. План действий созревал. Сколько человек в команде испанского guarda-costa? Двадцать? Это — от силы, ведь задача подобных люггеров — бороться с мелкими контрабандистами. Поскольку внезапность на его стороне, у него есть шанс, несмотря на четыре восьмифунтовки, которые нёс люггер.
— Пистолеты и абордажные сабли, ребята, — сказал он — Джордан, выбери двух матросов и встань с ними тут, на виду. Остальные, спрячьтесь. Спрячьтесь. Да, мистер Таплинг, вам можно с нами. Не забудьте вооружиться.
Никто не будет ожидать сопротивления от нагруженного скотом транспортного судна; испанцы думают, что на борту не больше двенадцати человек, а там дисциплинированный отряд из двадцати. Главное — подманить люггер достаточно близко.
— Круто к ветру, — сказал Хорнблауэр стоявшему внизу рулевому. — Приготовьтесь прыгать, ребята. Максвелл, если кто-нибудь, высунется до моего приказа, застрели его собственной рукой. Это приказ, если ослушаешься, тебе будет плохо.
— Есть, сэр, — сказал Максвелл.
Люггер приближался к ним; несмотря на слабый ветер, под его острым носом пенилась вода. Хорнблауэр посмотрел вверх и убедился, что «Каролина» не несет флага. Это делало его план допустимым с точки зрения морских законов. Раздался выстрел и над люггером поднялось облачко дыма: стреляли по курсу «Каролины».
— Я лягу в дрейф, Джордан, — сказал Хорнблауэр. — Грот-марса-брасы. Руль под ветер.
«Каролина» привелась к ветру и лежала, покачиваясь: казалось, самое беспомощное на свете судно сдается на милость победителя.
— Ни звука, ребята, — сказал Хорнблауэр.
Животные жалобно мычали. Вот и люггер, отчетливо видна вся его команда. Хорнблауэр видел офицера, тот стоял на грот-вантах, готовясь перепрыгнуть на «Каролину». Все остальные беззаботно посмеивались над уродливой «Каролиной» и доносившихся из нее мычанием.
— Ждите, ребята, ждите, — сказал Хорнблауэр. Люггер подошел к борту. Кровь прихлынула Хорнблауэру к щекам, когда он спохватился, что безоружен. Он велел своим людям взять пистолеты и сабли, он посоветовал Таплингу вооружиться, а сам совершенно забыл, что ему тоже понадобятся шпага и пистолет. Исправлять это было поздно. Кто-то с люггера окрикнул его по-испански, и Хорнблауэр жестами показал, что не понимает. Люггер коснулся «Каролины» бортом.
— За мной, ребята! — закричал Хорнблауэр. Он побежал по мосткам, и, сглотнув, прыгнул на державшегося за ванты офицера. В воздухе он снова сглотнул; обрушившись всем телом на несчастного, он обхватил его за плечи и с ним рухнул на палубу. Позади слышались громкие крики: команда «Каролины» прыгала на люггер. Топот ног, треск, грохот. Хорнблауэр поднялся. Максвелл только что зарубил офицера саблей. Таплинг впереди матросов бежал на нос; он размахивал саблей и вопил, как сумасшедший. Через мгновение все было кончено. Изумленные испанцы не успели шевельнуть пальцем в свою защиту.
Так что на двадцать второй день карантина транспортный бриг вошел в Гибралтарский залив, ведя с подветренного борта захваченный люггер guarda-costa. Густой запах коровника тоже был при нем, но, по крайней мере, когда Хорнблауэр поднялся на борт «Неустанного», у него был ответ для мистера мичмана Брэйсгедла.
— Привет, Ной, как поживают Сим и Хам? — спросил мистер Брэйсгедл.
— Сим и Хам взяли приз, — сказал Хорнблауэр. — Сожалею, что мистер Брэйсгедл не может сказать о себе того же.
Но главный интендант эскадры, когда Хорнблауэр доложился ему, сказал такое, что тот даже не нашелся ответить.
— Вы что, хотите сказать, мистер Хорнблауэр, — спросил главный интендант, — что вы позволяли матросам есть свежее мясо? По быку в день на восемнадцать человек? На борту было достаточно обычной провизии. Это невероятное расточительство, мистер Хорнблауэр, вы меня удивляете.
ГЕРЦОГИНЯ И ДЬЯВОЛ
Исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр привел шлюп «Ла рев», приз судна Его Величества «Неустанный», на стоянку в Гибралтарский залив. Он нервничал: спроси его сейчас, уж не думает ли он, что весь Средиземноморский флот наблюдает за ним в подзорные трубы, Хорнблауэр лишь рассмеялся бы в ответ на это фантастическое предположение; но именно так он себя чувствовал. Никто еще не оценивал так старательно силу легкого попутного бриза, не измерял так тщательно расстояние между большими линейными кораблями, не рассчитывал с такой точностью, сколько места нужно «Ла рев», чтобы стать на якорь. Джексон, старшина шлюпа, стоял на носу, готовый убрать кливер, и быстро исполнил соответствующий приказ Хорнблауэра.
— Руль под ветер, — кричал Хорнблауэр. — Взять на гитовы!
«Ла рев» медленно скользила вперед, ее инерция снижалась с потерей ветра.
— Отдать якорь!
Канат недовольно загромыхал, когда якорь потащил его через клюз, и, наконец, раздался долгожданный плеск о воду — это якорь достиг дна. Хорнблауэр внимательно наблюдал, как «Ла рев» установилась на якоре, и лишь затем немного расслабился. Приз доставлен в целости и сохранности. Коммодор — сэр Эдвард Пелью — явно еще не прибыл, значит, Хорнблауэру следует доложиться адмиралу порта.
— Спустите шлюпку, — приказал он, потом, вспомнив о долге милосердия, добавил: — Можете выпустить пленных на палубу.
Последние сорок восемь часов они были задраены внизу: каждый командир приза больше всего на свете боится, как бы пленные не захватили судно. Но здесь, в бухте, в окружении всего средиземноморского флота, опасность миновала. Два гребца налегали на весла, и через десять минул Хорнблауэр уже докладывал о себе адмиралу.
— Вы говорите, она быстроходна? — спросил последний, оглядывая приз.
— Да, сэр. И достаточно маневренна, — отвечал Хорнблауэр.
— Я беру ее на службу. Никогда не хватает судов для доставки депеш, — задумчиво сказал адмирал.
Несмотря на этот намек, Хорнблауэр приятно удивился, когда получил официальный приказ со множеством печатей, и вскрыв его, прочел, что «сим вам указывается и предписывается» принять под командование Его Величества шлюп «Ла рев» и, сразу по получении направляемых в Англию депеш, «со всей возможной скоростью» проследовать в Плимут. Это — независимое командование, это — возможность вновь увидеть Англию (последний раз Хорнблауэр ступал на родной берег три года назад), наконец это — высокий профессиональный комплимент. Но другое письмо, доставленное вместе с этим, Хорнблауэр прочел с меньшим восторгом. «Их превосходительства, генерал-майор сэр Хью и леди Далримпл, просят и.о. лейтенанта Горацио Хорнблауэра присутствовать на обеде сегодня, в три часа, в губернаторском дворце».
Может и приятно пообедать с губернатором Гибралтара и его супругой, однако для и.о. лейтенанта, все пожитки которого умещались в одном маленьком рундучке, необходимость одеться соответственно случаю заметно омрачала это удовольствие. И все же редкий молодой человек не испытал бы радостного трепета, поднимаясь от пристани к губернаторскому дворцу, особенно если его друг мичман Брэйсгедл, происходивший из богатой семьи и располагавший неплохим доходом, одолжил бы ему пару лучших белых чулок из китайского шелка. У Брэйсгедла были полные икры, у Хорнблауэра — тощие, но эту незадачу удалось искусно преодолеть. Две подушечки из пакли, несколько кусков лейкопластыря из докторских запасов — и Хорнблауэр стал обладателем пары превосходных ног, которые не стыдно показать людям. Теперь он мог выставлять вперед левую ногу и кланяться, не боясь, что чулок соберется в складки. Как выразился Брэйсгедл, такой ногой джентльмен может гордиться.
В губернаторском дворце Хорнблауэра встретил и провел вперед блестящий и томный адъютант. Хорнблауэр поклонился сэру Хью, суетливому краснолицему старому джентльмену, и леди Далримпл, суетливой краснолицей старушке.
— Мистер Хорнблауэр, — сказала леди. — Позвольте представить — Ваше сиятельство, это мистер Хорнблауэр, новый капитан «Ла рев». Ее сиятельство, герцогиня Уорфедельская.
Герцогиня, не более не менее! Хорнблауэр выставил вперед положенную ногу, оттянул носок, приложил руку к сердцу и поклонился так низко, как только позволяли его тугие бриджи — он вырос с тех пор, как купил их, поступая на «Неустанный». Подняв взор, он увидел перед собой смелые голубые глаза и некогда прекрасное немолодое лицо.
— Так это, значиться, он самый и есть? — спросила герцогиня. — Матильда, милочка, неужели вы доверитеменя этому младенцу?
Резкая вульгарность произношения ошеломила Хорнблауэра. Он был готов ко всему, кроме того, что шикарно разодетая герцогиня заговорит с акцентом лондонских трущоб. Он уставился на нее, забыв даже выпрямиться, да так замер, подняв подбородок и прижав руку к сердцу.
— Ну, прямо гусак на лужайке, — сказала герцогиня. — Щас как зашипит.
Она выставила подбородок, уперла руки в колени и закачалась из стороны в сторону — точь-в-точь разъяренный гусь. Очевидно, получилось так похоже на Хорнблауэра, что остальные гости расхохотались. Хорнблауэр был в полном смущении.
— Не обижайте парнишку, — сказала герцогиня, приходя ему на помощь и хлопая его по плечу. — Молодой он просто, и нечего тут стыдиться. Наоборот, гордиться надо, что ему в таком возрасте уже доверили судно.
К счастью, приглашение к столу спасло Хорнблауэра от дальнейшего смущения, в которое повергла его последняя фраза. Хорнблауэр с другими младшими офицерами и прочей мелюзгой оказался в середине стола; с одного конца восседали сэр Хью и герцогиня, с другого — леди Далримпл и коммодор. Однако женщин было куда меньше, чем мужчин: Гибралтар был, по крайней мере, в техническом смысле, осажденной крепостью. Так что у Хорнблауэра не оказалось дамы ни с одной стороны, ни с другой; справа сидел встретивший его молодой адъютант.
— За здоровье Ее Сиятельства, — сказал коммодор, поднимая бокал.
— Спасибочки, — отвечала герцогиня. — Очень вовремя, а то я чуть от жажды не сдохла.
Она подняла к губам наполненный до краев бокал. Когда она его опустила, бокал был пуст.
— Веселенькая у вас будет попутчица, — сказал Хорнблауэру адъютант.
— Как это? — изумился Хорнблауэр. Адъютант сочувственно посмотрел на него.
— Так вам ничего не сказали? — спросил он. — Как всегда тот, кого это больше всех касается, узнает последним. Отплывая завтра с депешами, вы будете иметь честь везти Ее Сиятельство в Англию.
— Господи помилуй, — сказал Хорнблауэр.
— Аминь, — благочестиво произнес адъютант, отхлебывая вино. — Какая же гадость эта сладкая малага. Старый Хар накупил ее в 95-м целую уйму, и с тех пор каждый губернатор все пытается ее допить.
— Но она-то кто? — спросил Хорнблауэр.
— Ее Сиятельство герцогиня Уорфедельская, — отвечал адъютант. — Разве вы не слышали, как леди Далримпл ее вам представила?
— Но герцогини так не говорят, — настаивал Хорнблауэр.
— Да. Старый герцог был в маразме, когда женился на ней. Ее друзья говорят, что она вдова трактирщика. Можете вообразить, что говорят ее враги.
— А как она тут очутилась? — не унимался Хорнблауэр.
— Она следует в Англию. Насколько я понимаю, она была во Флоренции, когда туда вошли французы, бежала оттуда в Ливорно, там подкупила шкипера каботажного судна и добралась досюда. Она попросила сэра Хью отправить ее в Англию, а сэр Хью попросил адмирала. Сэр Хью разобьется в лепешку для герцогини, даже если ее друзья говорят что она вдова трактирщика.
— Ясно, — сказал Хорнблауэр. За столом послышался взрыв хохота. Герцогиня ручкой ножа тыкала губернатора в обтянутый алой материей бок — убедиться, что, тот понял шутку.
— По крайней мере, вам не скучно будет возвращаться домой, — сказал адъютант.
В тот самый момент перед Хорнблауэром водрузили дымящийся говяжий филей, и его тревоги померкли перед необходимостью разделывать мясо с соблюдением всех приличий. Он с опаской взял нож, вилку и оглядел собравшихся.
— Позвольте положить вам кусочек говядины, Ваше Сиятельство. Мадам? Сэр? Достаточно, сэр? Немного жира.
В зале было жарко: орудуя ножом и вилкой, Хорнблауэр обливался потом. К счастью большинство гостей предпочитали другие блюда, так что много резать не пришлось. Пару изуродованных кусков он положил в свою тарелку, скрыв таким образом наиболее явные огрехи.
— Говядина из Тетуана, — фыркнул адъютант, — Жесткая и жилистая.
Хорошо губернаторскому адъютанту! Он и вообразить не мог, какой пищей богов показалось мясо молодому флотскому офицеру, только что с переполненного фрегата. Даже перспектива принимать герцогиню не могла до конца испортить Хорнблауэру аппетит. А заключительные блюда — меренги, миндальные пирожные, кремы и фрукты — что за упоение для молодого человека, чьим единственным лакомством был воскресный пудинг на нутряном жире с коринкой.
— Сладкое портит вкус, — сказал адъютант. Хорнблауэра это не волновало.
Теперь шли официальные тосты. Хорнблауэр стоя выпил за здоровье короля и королевской семьи, поднял бокал за герцогиню.
— Теперь за наших врагов, — сказал сэр Хью, — чтоб их нагруженные сокровищами галионы попытались пересечь Атлантику.
— В добавление, к вашему тосту, сэр Хью, — произнес коммодор с другого конца стола. — Чтобы доны надумали, наконец, выйти из Кадиса.
За столом поднялся звероподобный гул. Большая часть присутствующих флотских офицеров принадлежали к средиземноморской эскадре Джервиса [16], которая последние несколько месяцев моталась по Атлантике в надежде напасть на испанцев, если те посмеют высунуть нос наружу. Джервис вынужден был отправлять свои суда для возобновления запасов, так что офицеры были с тех двух судов его эскадры, что стояли сейчас в порту.
— Джонни Джервис сказал бы на это «аминь», — произнес сэр Хью. — По полной за донов, джентльмены, и пусть они выходят из Кадиса.
Дамы под предводительством хозяйки покинули комнату, и Хорнблауэр, при первой возможности, извинился и выскользнул из дворца. Он твердо решил не напиваться перед первым самостоятельным плаванием.
Может быть, перспектива принимать на борту герцогиню оказалась неплохим лекарством от чрезмерного возбуждения и спасла Хорнблауэра от излишних переживаний по поводу его первого самостоятельного плавания. Он проснулся до зари — еще до краткого в Средиземноморье предрассветного сумрака — убедиться, что его драгоценный корабль готов к встрече с морем, а также с врагами, которыми это море изобиловало. Для защиты от них Хорнблауэр располагал четырьмя игрушечными четырехфунтовыми пушечками, то есть — не мог противостоять никому. Его суденышко — слабейшее в море, даже самый маленький торговый бриг и тот вооружен сильнее. Для слабых созданий единственное спасение — скорость. Хорнблауэр в полумраке посмотрел наверх, туда, где будут подняты паруса, от которых столько будет зависеть. Вместе с двумя своими офицерами — мичманом Хантером и помощником штурмана Виньятом — он прошелся по списку членов команды и еще раз убедился, что все одиннадцать знают свои обязанности. После этого осталось только облачиться в лучшую походную форму, кое-как проглотить завтрак и ждать герцогиню.
К счастью, она явилась рано: чтобы проводить герцогиню, Их Превосходительствам пришлось подняться с постели в самый неурочный час. Мистер Хантер со сдерживаемым волнением доложил о приближении губернаторского баркаса.
— Спасибо, мистер Хантер, — холодно отвечал Хорнблауэр — так требовала служба, хотя всего несколько недель назад они вместе играли в салки на вантах «Неустанного».
Баркас подошел к борту, и два опрятно одетых матроса зацепили трап. «Ла рев» так мало возвышалась над водой, что взобраться на нее не составило труда даже для дам. Губернатор ступил на борт под звуки всего лишь двух дудок — все, что нашлось на «Ла рев» — за ним леди Далримпл. Потом герцогиня, потом ее служанка, молодая женщина, такая красавица, какой могла быть раньше сама герцогиня. Когда на борт поднялись два адъютанта, на палубе «Ла рев» стало так тесно, что некуда было внести герцогинин багаж.
— Позвольте показать вам каюту, Ваше Сиятельство, — сказал губернатор.
Леди Далримпл сочувственно закудахтала при виде крошечной каюты — там еле помещались две койки, и каждый входящий неизменно бился головой о палубный бимс.
— Переживем, — стоически произнесла герцогиня, — а ведь те, кто отправляется в прогулку на Тайберн, и этого сказать не могут.
Один из адъютантов в последний момент извлек на свет пакет с депешами и попросил Хорнблауэра расписаться в получении; отзвучали последние прощания, и сэр Хью с леди Далримпл под звуки дудок покинули корабль.
— На брашпиль! — закричал Хорнблауэр, как только гребцы барказа взялись за весла.
Несколько секунд напряженной работы, и «Ла рев» снялась с якоря.
— Якорь поднят, сэр, — доложил Виньят.
— Кливер-фалы! — кричал Хорнблауэр. — Грота-фалм!
Подняв паруса, «Ла рев» повернулась через фордевинд. Вся команда была занята: одни брали якорь на кат, другие ставили паруса, так что Хорнблауэру пришлось самому салютовать флагом, когда «Ла рев», подгоняемая слабым северо-восточным ветром, обогнула мол и погрузила нос в первый из атлантических валов, набегающих через Пролив. Корабль качнуло. Хорнблауэр сквозь световой люк услышал грохот падающего предмета и вскрик, но ему было не до женщин там, внизу. Он стоял с подзорной трубой, направляя ее сначала на Альхесирас, потом на Тарифу — какой-нибудь капер или военное судно могли неожиданно появиться оттуда и сцапать беззащитное суденышко. До конца послеполуденной вахты он так и не передохнул. Они обогнули мыс Марроки, и Хорнблауэр указал курс на Сан-Висенти. Горы Южной Испании начали таять за горизонтом. Лишь когда с правого борта появился Трафальгарский мыс, Хорнблауэр сложил трубу и подумал об обеде; хорошо быть капитаном собственного судна и заказывать обед по своему вкусу. Боль в ногах говорила о том, что он простоял слишком долго — одиннадцать часов кряду. Если в дальнейшем ему придется часто самостоятельно командовать кораблями, он доконает себя таким поведением.
Сидя в каюте на рундуке, Хорнблауэр блаженно расслабился и отправил кока постучать герцогине, передать приветствия и спросить, все ли в порядке. Резкий голос герцогини ответил, что ничего не надо, обеда тоже. Хорнблауэр философски пожал плечами и с юношеским аппетитом уничтожил принесенный обед. На палубу он поднялся с приближением темноты. Вахту нес Виньят.
— Туман сгущается, сэр, — сказал он.
Так оно и было. Садящееся солнце скрылось за густой пеленой тумана. Хорнблауэр знал, что это — оборотная сторона попутного ветра; зимой в этих широтах холодный бриз, достигая Атлантики, вызывает туман.
— К утру еще гуще будет, — сказал он мрачно, и внес коррективы в ночной приказ, изменив курс вест-тень-норднавест. Он хотел на случай тумана держаться подальше от мыса Сан-Висенти.
Вот такие-то пустяки и могут перевернуть всю жизнь — у Хорнблауэра было впоследствии вдоволь времени порассуждать, что случилось бы, не прикажи он изменить курс. Ночью он часто поднимался на палубу и вглядывался в непроницаемую мглу, но критический момент застал его внизу, спящим. Разбудил Хорнблауэра моряк, энергично трясший егоза плечо.
— Пожалуйста, сэр. Пожалуйста, сэр. Меня послал мистер Хантер. Он просит вас подняться на палубу, сэр.
— Сейчас, — Хорнблауэр заморгал и скатился с койки. Густой туман слегка розовел в свете только что забрезжившей зари. «Ла рев», качаясь, ползла по мрачному морю.
Слабый ветер едва обеспечивал ту минимальную скорость, при которой корабль слушается руля. Хантер, в крайнем напряжении, стоял спиной к штурвалу.
— Послушайте, — сказал он Хорнблауэру. Он произнес это шепотом и от волнения забыл прибавить обязательное при обращении к капитану «сэр» — Хорнблауэр от волнения этого не заметил. Прислушавшись, Хорнблауэр уловил привычные корабельные звуки — скрип древесины, шум разрезаемого носом моря. Тут он услышал другие корабельные звуки: рядом тоже скрипело дерево, еще одно судно разрезало воду.
— Какой-то корабль совсем близко, — сказал Хорнблауэр.
— Да, сэр, — подтвердил Хантер. — После того, как я послал за вами, я слышал команду. Она была на испанском — по крайней мере, на иностранном языке.
Страх, подобно туману, сгущался вокруг суденышка.
— Всех наверх. Тихо, — сказал Хорнблауэр. Отдав команду, он тут же засомневался в ее целесообразности. Можно расставить матросов по местам, зарядить пушки, но если корабль в тумане не просто торговое судно, то они — в смертельной опасности. Хорнблауэр попытался успокоить себя — может быть, это лакомый испанский галион, набитый сокровищами, и, захватив его, он станет богатым на всю жизнь.
— Поздравляю с Валентиновым днем [17], — произнес голос совсем рядом. Хорнблауэр чуть не подпрыгнул от неожиданности: он совершенно забыл о герцогине.
— Прекратите шуметь, — зашипел он, и герцогиня изумленно смолкла. Она была закутана в плащ с капюшоном, больше ничего в тумане видно не было.
— Позвольте спросить… — начала она.
— Молчать! — прошептал Хорнблауэр. В тумане послышался резкий голос, другие голоса повторили приказ, раздались свистки, шум и топот.
— Это испанцы, сэр, да? — прошептал Хантер.
— Испанцы, испанцы. Меняют вахту. Слушайте! До них донеслись два сдвоенных удара колокола. Четыре склянки утренней вахты. Неожиданно со всех сторон зазвучали колокола, словно вторя первому.
— Господи, да мы посреди флота, — прошептал Хантер.
— Большие корабли, сэр, — сказал Виньят. Он присоединился к ним по команде «все наверх». — Когда меняли вахту, я насчитал не меньше шести различных дудок.
— Значит доны все-таки вышли из Кадиса, — сказал Хантер.
«А я указал курс прямо на них», — горько думал Хорнблауэр. Сумасшедшее, душераздирающее совпадение. Но он запретил себе говорить об этом. Он даже подавил истерический смешок, возникший при воспоминании о тосте сэра Хью. Сказал же он следующее:
— Они прибавляют парусов. Даго на ночь все убирают и дрыхнут, как какие-нибудь жирные торговцы. Только с восходом они ставят брамсели.
В тумане со всех сторон доносился скрип шкивов в блоках, топот ног у фалов, удары брошенных на палубу концов, многоголосый гомон.
— Ну и шумят же, черти, — сказал Хантер. Он стоял, пытаясь проникнуть взглядом за стену тумана. Во всей его позе чувствовалось напряжение.
— Дай Бог, чтоб они шли другим курсом, — рассудительно заметил Виньят. — Тогда мы их скоро минуем.
— Вряд ли, — сказал Хорнблауэр.
«Ла рев» шла почти прямо по ветру; если бы испанцы шли в бейдевинд или в галфвинд, то звуки, доносившиеся с ближайшего судна, постепенно стихали бы, или, напротив, становились громче. Скорее всего, «Ла рев» догнала испанский флот с его убранными на ночь парусами и теперь была в самой его гуще. Вопрос, что в таком случае делать: убавить парусов и лечь в дрейф, чтобы пропустить испанцев мимо, или, наоборот, прибавить и попытаться их обогнать. Но с каждой минутой становилось все яснее: шлюп идет практически одним Курсом с флотом, иначе он неизбежно сблизился бы с каким-нибудь судном. Пока туман не рассеялся, такая позиция надежнее всего.
Но с наступлением утра туман неизбежно рассеется.
— Может, нам изменить курс, сэр? — спросил Виньят.
— Погодите, — сказал Хорнблауэр.
В свете разгорающейся зари мимо приносились клочья более густого тумана — верный признак, что долго он не продержится. В этот момент они вышли из полосы тумана на чистую воду.
— Вот он! — сказал Хантер. Офицеры и матросы забегали в панике.
— Стоять, черт возьми! — сорвался Хорнблауэр. Меньше чем в кабельтове с правого борта почти параллельным курсом шел трехпалубный корабль. Впереди и по правому борту угадывались силуэты трех боевых кораблей. Ничто не спасет шлюп, если он привлечет к себе внимание, единственный шанс — идти, как ни в чем не бывало. Остается надежда, что в беспечном испанском флоте вахтенные офицеры не знают, что у них нет такого шлюпа, как «Ла рев» или даже, чудом, что такой шлюп у них есть. В конце концов, «Ла рев» построена во Франции и оснащена по-французски. Борт о борт «Ла рев» и военные корабли шли по неспокойному морю. С такого расстояния любая из пятидесяти больших пушек могла бы расстрелять их в упор; одного попадания хватило бы, чтоб потопить шлюп. Хантер вполголоса ругался грязными словами, но дисциплина была безупречная — направленная с испанской палубы подзорная труба не обнаружила бы на борту шлюпа ничего подозрительного. Мимо них вновь проплыли клочья тумана, и они вошли в новую полосу.
— Слава Богу! — выдохнул Хантер, не заметив контраста между набожностью этой фразы и недавними богохульствами.
— Поворот через фордевинд, — скомандовал Хорнблауэр. — Положите ее на правый галс.
Матросам не надо было напоминать, чтоб они работали тихо: все и так прекрасно сознавали опасность. «Ла рев» плавно развернулась, шкоты были выбраны и свернуты без единого звука; теперь шлюп сел круто к ветру и волны набегали на его правую скулу.
— Сейчас мы пересечем их курс, — сказал Хорнблауэр.
— Дай Бог нам пройти у них под кормой, а не под носом, — заметил Виньят.
Герцогиня по-прежнему стояла на корме, закутанная в плащ с капюшоном. Она старалась никому не попадаться под ноги.
— Быть может, Вашему Сиятельству лучше спуститься вниз? — Хорнблауэр с трудом заставил себя обращаться официально.
— О нет, пожалуйста, — сказала герцогиня. — Я этого не вынесу.
Хорнблауэр пожал плечами и тут же забыл о герцогине, охваченный новой тревогой. Он ринулся вниз и вернулся с двумя большими запечатанными пакетами депеш. Вынув из ограждения кофель-нагель, он принялся куском веревки тщательно приматывать его к пакетам.
— Пожалуйста, — сказала герцогиня, — пожалуйста, мистер Хорнблауэр, скажите, что вы делаете?
— Хочу убедиться, что они утонут, если судно будет захвачено и я выброшу их за борт, — мрачно ответил Хорнблауэр.
— Но тогда они пропадут?
— Это лучше, чем если их прочтут испанцы, — Хорнблауэр с трудом сохранял спокойствие.
— Я могу позаботиться о них, — сказала герцогиня. — Конечно, могу.
Хорнблауэр пристально посмотрел на нее.
— Нет, — сказал он. — Они могут обыскать ваш багаж. Скорее всего, так они и поступят.
— Багаж! — воскликнула герцогиня. — Как будто я собираюсь убирать их в багаж! Я спрячу их на себе — меня-то они обыскивать не будут. У меня под юбкой их точно никто не найдет.
Неприкрытый реализм этих слов слегка ошеломил Хорнблауэра и одновременно заставил его почувствовать, что в предложении герцогини что-то есть.
— Если они нас захватят, — продолжала герцогиня, — не дай Бог, конечно, но если они нас захватят, меня они в плен не возьмут. Они отправят меня в Лиссабон и при первой же возможности посадят на английское судно. Тогда я немедленно передам депеши. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда.
— Это верно, — задумчиво произнес Хорнблауэр.
— Я буду беречь их пуще жизни, — сказала герцогиня. — Клянусь, что не расстанусь с ними. Я никому не скажу, что они у меня, пока не передам их королевскому офицеру.
Она посмотрела на Хорнблауэра. Ее взгляд светился честностью.
— Туман рассеивается, сэр, — заметил Виньят,
— Быстро! — сказала герцогиня.
Медлить было нельзя. Хорнблауэр высвободил пакеты из намотанной на них веревки, вручил их герцогине и вставил кофель-нагель на место.
— Ох уж эта чертова французская мода, — сказала герцогиня. — Я правду сказала, что спрячу их под юбками. За пазухой у меня места нет.
Действительно, верхняя часть платья отнюдь не выглядела вместительной: талия располагалась прямо под мышками, а дальше платье свисало свободно, в полном противоречии с анатомией.
— Дайте мне ярд этой веревки, быстро, — сказала герцогиня. Виньят отрезал ножом веревку и протянул герцогине. Она уже задрала юбки. Хорнблауэр в ужасе увидел полоску белого тела над чулками и тут же отвернулся. Туман несомненно, рассеивался.
— Можете смотреть, — сказала герцогиня, но юбки упали именно в тот самый момент, когда Хорнблауэр обернулся. — Они у меня под сорочкой, прямо на теле, как я вам обещала. Со времен Директории никто больше не носит корсетов. Так что я привязала их веревкой, один к животу, другой к спине. Вы что-нибудь видите?
Она повернулась кругом, чтоб Хорнблауэр смог убедиться.
— Нет, ничего не видно, — сказал он. — Я должен поблагодарить Ваше Сиятельство.
— Некоторое утолщение есть, — заметила герцогиня, — но неважно, что подумают испанцы, раз они не подумают правды.
Невозможность что-либо делать ставила Хорнблауэра в неудобное положение. Обсуждать с женщиной ее сорочки и корсеты — или отсутствие оных — занятие более чем странное.
Бледное солнце, еще совсем низкое, пробило туман и засияло им в глаза. Грот отбрасывал на палубу бледную тень. Солнце с каждой минутой светило все ярче.
— Вот оно, — сказал Хорнблауэр.
Горизонт стремительно распахнулся — сначала с нескольких ярдов до сотен, затем с сотен ярдов до полумили. Море было усеяно кораблями. Не менее шести были видны отчетливо, четыре линейных корабля и два больших фрегата. На их мачтах развевались красно-золотые испанские флаги, и, что еще более характерно, с них свисали большие деревянные кресты.
— Разверните судно обратно, мистер Хантер, — сказал Хорнблауэр. — Назад в туман.
Это был единственный шанс на спасение. Приближающиеся корабли обязательно обратят на них внимание, избежать их не удастся. «Ла рев» развернулась, но полоска тумана, из которой они только что вынырнули, уже растаяла под жарким солнцем. Последние остатки ее плыли впереди, но и они, тая, относились ветром. Прогремел пушечный выстрел, и недалеко от правого борта взвился фонтан брызг. Хорнблауэр оглянулся — как раз вовремя, чтоб увидеть последние клубы дыма, поднимающиеся над носом преследующего их фрегата.
— Два румба вправо, — сказал он рулевому, пытаясь учесть одновременно курс фрегата, направление ветра, расположение других судов и последнего островка тумана.
— Два румба вправо, — повторил рулевой. — фока— и грота-шкоты! — сказал Хантер. Новый выстрел. Ядро упало далеко за кормой, но направление было выбрано верно. Хорнблауэр неожиданно вспомнил о герцогине.
— Вы должны спуститься вниз, Ваше Сиятельство, — отрывисто сказал он.
— Нет, нет, нет, — сердито запротестовала герцогиня. — Пожалуйста, позвольте мне остаться. Я не могу спуститься в каюту, там эта моя горничная лежит в морской болезни и собирается помирать. Только не в эту вонючую коробку.
Да и незачем было отсылать ее в каюту. Обшивка «Ла рев» слишком тонка, чтоб устоять перед артиллерийским обстрелом. В трюме, ниже ватерлинии, женщины были бы в безопасности — но для этого им пришлось бы лечь на бочки с солониной.
— Корабль впереди, — крикнул впередсмотрящий. Туман рассеялся, и меньше чем в полумиле впереди возник силуэт линейного корабля, идущего почти тем же курсом, что и «Ла рев». Ба-бах — донеслось с фрегата. Эти выстрелы наверняка всполошили всю эскадру. На линейном корабле впереди поняли, что за шлюпом погоня. В воздухе с пугающим свистом пролетело ядро. Линейный корабль ждал их — марсели его медленно разворачивались.
— К шкотам! — приказал Хорнблауэр. — Мистер Хантер, поворот через фордевинд.
«Ла рев» снова развернулась, направляясь в быстро сужающийся просвет между судами. Фрегат ринулся наперерез. Ядро с ужасающим свистом пронеслось в нескольких футах от Хорнблауэра, так что поток воздуха заставил его пошатнуться. В гроте появилась дыра.
— Ваше Сиятельство, — сказал Хорнблауэр. — Этонепредупредительные выстрелы.
Теперь по ним стрелял линейный корабль, чей капитан наконец-то подготовил корабль к бою и расставил людей на батарее верхней палубы. Одно ядро попало в корпус «Ла рев»; палуба задрожала под ногами, словно корабль разваливался на куски. Тут же другое ядро ударило в мачту, штаги и ванты лопнули, на палубу посыпались щепки. Мачта, паруса, гик, гафель — все полетело за борт. Зацепившись за воду, они развернули двигавшийся по инерции остов. Все на мгновение оцепенели.
— Кто-нибудь ранен? — спросил Хорнблауэр, приходя в себя.
— Только царапина, сэр, — ответил кто-то. — Просто чудо, что никто не убит.
— Плотник, замерьте уровень воды в льяле, — сказал Хорнблауэр и тут же опомнился. — Нет, черт возьми. Отставить. Если доны могут спасти судно, пусть делают это сами.
Линейный корабль, чей залп произвел эти разрушения уже расправил марсели и двинулся прочь, фрегат быстро настигал их. Из кормового люка выбралась рыдающая женщина. Это была горничная герцогини, от страха позабывшая про морскую болезнь.
— Вашему Сиятельству стоит сложить багаж, — сказал Хорнблауэр. — Без сомнения вы скоро нас покинете. Надеюсь, доны предоставят вам каюту поудобнее.
Он изо всех сил старался говорить спокойно, как если бы в самом скором времени его не ждал испанский плен; но от его спутницы не укрылись ни подергивание обычно твердого рта, ни плотно сжатые кулаки.
— Как мне выразить, насколько меня это огорчает. — В голосе герцогини сквозила жалость.
— Тем тяжелее это для меня, — сказал Хорнблауэр и даже выдавал улыбку.
Испанский фрегат лег в дрейф в кабельтове с наветренной стороны.
— Позвольте, сэр, — сказал Хантер.
— Да?
— Мы можем сражаться, сэр. Только прикажите. Когда доны будут высаживаться на «Ла рев», можно внезапным выстрелом потопить шлюпки. Первый раз мы их отобьем.
Измученный Хорнблауэр чуть было не выпалил: «Бросьте валять дурака» — но сдержался и просто указал на фрегат. Двадцать пушек глядели на них в упор. Даже шлюпка, спускаемая сейчас с фрегата, несла по крайней мере в два раза больше людей, чем их шлюп. «Ла рев» была не больше иной прогулочной яхты. Это не десять к одному, даже не сто к одному.
— Понятно, сэр, — сказал Хантер. Испанская шлюпка спустилась на воду и готовилась отвалить.
— Мне надо поговорить с вами наедине, мистер Хорнблауэр, — неожиданно сказала герцогиня.
Хантер и Виньят, услышав ее слова, отошли в сторону.
— Да, Ваше Сиятельство, — сказал Хорнблауэр. Герцогиня, по-прежнему обнимая плачущую горничную, посмотрела прямо на него.
— Я такая же герцогиня, как и вы, — сказала она.
— Господи! — воскликнул Хорнблауэр. — Кто же вы?
— Китти Кобхэм, — Имя показалось Хорнблауэру смутно знакомым.
— Я вижу, мистер Хорнблауэр, вы слишком молоды, чтобы меня помнить. Прошло пять лет с тех пор, как я последний раз играла на сцене.
Вот оно что! Актриса Китти Кобхэм.
— Я не успею вам все рассказать, — продолжала герцогиня — испанская лодка быстро приближалась к ним, — но вступление французов во Флоренцию было лишь последним звеном в цепочке моих несчастий. Я бежала от них без копейки денег. Кто шевельнет пальцем ради бывшей артистки — брошенной и покинутой? Что мне оставалось делать? Другое дело герцогиня. Старушка Далримпл в Гибралтареизкожи вон лезла, чтобы угодить герцогине Уорфедельской.
— Почему вы выбрали этот титул? — против воли спросил Хорнблауэр.
— Я ее знаю, — пожала плечами герцогиня. — Она именно такая, как я ее изобразила. Поэтому я ее и выбрала — характерные роли всегда давались мне лучше, чем откровенный фарс. И не так скучно долго играть.
— Но мои депеши, — всполошился Хорнблауэр. — Верните их немедленно.
— Как скажете, — отвечала герцогиня. — Но когда придут испанцы, я смогу по-прежнему оставаться герцогиней. Они освободят меня при первой возможности. Я буду хранить эти депеши, как зеницу ока, клянусь вам, клянусь! Если вы доверите их мне, я передам их не позже, чем через месяц.
Хорнблауэр смотрел в ее умоляющие глаза. Быть может, она шпионка и искусно пытается сохранить депеши, чтоб потом передать их испанцам. Но никакой шпион бы не рассчитал, что «Ла рев» в тумане зайдет в самую середину испанского флота.
— Да, я прикладывалась к бутылочке, — говорила герцогиня. — Я пила. Но в Гибралтаре я оставалась трезвой, так ведь? И я не выпью ни капли, ни одной капли, до возвращения в Англию. Клянусь. Прошу вас, сэр. Умоляю вас. Позвольте мне сделать для моей страны то, что в моих силах.
Это был нелегкий выбор для девятнадцатилетнего молодого человека, который ни разу в жизни не разговаривал с актрисой. За бортом послышались голоса — сейчас испанская лодка зацепится за шлюп.
— Оставьте их у себя, — сказал Хорнблауэр. — Вручите, когда сможете.
Он не сводил глаз с ее лица, ждал, не мелькнет ли в ее глазах торжество. Если бы он увидел что-нибудь в этом роде, то в ту же минуту сорвал бы депеши с тела герцогини. Однако лицо ее выражало обыкновенное удовольствие, — и лишь тогда он решил поверить ей, — не прежде.
— О, благодарю вас, сэр, — сказала герцогиня. Испанская лодка зацепилась за шлюп и испанский офицер неуклюже попытался вскарабкаться на борт. Наконец он на четвереньках выбрался на палубу, поднялся на ноги, и Хорнблауэр заспешил ему на встречу. Победитель и побежденный обменялись поклонами. Хорнблауэр не понимал, что говорит испанец, но, очевидно, это были официальные фразы. Испанец заметил женщин и замер в изумлении, Хорнблауэр поспешил представить на ломаном испанском:
— Senor el tenenie Espanol. Senora la Duquesa de Wharfedale.
Титул явно произвел впечатление, лейтенант низко поклонился, герцогиня отвечала высокомерным безразличием. Хорнблауэр мог не опасаться за судьбу депеш. Эта мысль немного скрашивала ему ожидание испанского плена на борту своего полузатонувшего суденышка. Тут он услышал с подветренной стороны как бы раскаты дальнего грома. Гром не может греметь так долго. Это бортовые залпы сражающихся кораблей — или флотов. Где-то за мысом Сан-Висенти британский флот настиг, наконец, испанцев. Артиллерийские залпы гремели все яростней. Взобравшиеся на палубу испанцы заволновалась. Хорнблауэр стоял с непокрытой головой и ждал, пока его уведут.
Плен — это ужасно. Хорнблауэр ощутил это, как только прошло первое оцепенение. Даже весть о сокрушительном поражении испанского флота у мыса Сан-Висенти не могла смягчить отчаяние несчастного пленника. Не тяжелые условия (десять квадратных футов на человека в пустом парусном хранилище вместе с другими пленными уорент-офицерами) угнетали его — младшему офицеру в море приходится не лучше. Страшнее всего была утрата свободы, сам факт плена.
Так прошло четыре месяца, пока Хорнблауэру пришло первое письмо — испанское правительство, нерасторопное во всех отношениях, располагало худшей почтовой системой в Европе. Но вот это письмо, с несколько раз поправленным адресом, в его руках, после того, как Хорнблауэр буквально вырвал его из рук тупого унтер-офицера, озадаченного странной фамилией. Почерк был незнакомый, сломав печать и прочитав обращение, Хорнблауэр подумал было, что вскрыл чужое письмо. «Милый мальчик» — начиналось оно. Кто мог так его называть? Он читал, как во сне.
«Милый мальчик,
Надеюсь, Вам приятно будет узнать, что данное мне Вами, доставлено по назначению. Когда я вручала его, мне сказали, что вы в плену. Сердце мое обливается кровью. Еще мне сказали, что они очень довольны тем, как вы поступили. А один из этих адмиралов — совладелец Друри-Лейн[18]. Кто бы мог подумать? Но он улыбнулся мне, а я улыбнулась в ответ. Я тогда не знала, что он совладелец, и улыбалась просто от доброты сердечной. Боюсь, рассказывая ему о своих злоключениях с драгоценным грузом, я всего лишь разыграла представление. Но он мне поверил, а моя улыбка и мои приключения так его растрогали, что он потребовал у Шерри роль для меня, и вот теперь я играю вторые роли, преимущественно трагических матерей, и срываю аплодисменты партера. Это — утешение в старости, чье приближение я чувствую все острее. Я не притрагивалась к вину с тех пор, как рассталась с Вами, и никогда больше не притронусь. И еще одно: мой адмирал обещал переправить это письмо со следующей картелью — вам это слово, без сомнения, говорит больше, чем мне. Надеюсь только, что письмо когда-нибудь доберется до Вас и утешит Вас в Ваших бедствиях.
Молюсь за Вас еженощно. Ваш преданный друг Катарина Кобхэм»
Утешит в бедствиях? Возможно. Отрадно было сознавать, что депеши доставлены по назначению, и что, судя по письму, Лорды Адмиралтейства им довольны. Отрадно было даже то, что герцогиня вновь играет на сцене. Но все это меркло рядом с его страданиями.
Тут появился стражник и повел Хорнблауэра к коменданту. Рядом с комендантом сидел переводчик — перебежчик из ирландцев. На столе лежали бумаги — видимо, комендант получил их с той же картелью, что и послание Китти Кобхем.
— Добрый вечер, сударь, — как всегда вежливо сказал комендант, предлагая стул.
— Добрый вечер, сударь, премного благодарен. — Хорнблауэр учил испанский язык медленно и мучительно.
— Вы получили повышение, — сказал ирландец по-английски.
— Что? — переспросил Хорнблауэр.
— Повышение, — повторил ирландец. — Вот письмо: «До сведения испанских властей доводится, что ввиду безупречной службы временно назначенный исполнять обязанности лейтенанта мичман Горацио Хорнблауэр утвержден в лейтенантском чине. Лорды Адмиралтейства выражают уверенность, что мистеру Горацио Хорнблауэру будут немедленно предоставлены все причитающиеся младшему офицерскому составу привилегии». Вот так, молодой человек.
— Примите поздравления, сударь, — сказал комендант.
— Большое спасибо, сударь, — ответил Хорнблауэр. Добродушный старый комендант ласково улыбнулся нескладному юноше и хотел было продолжать, однако Хорнблауэр не мог разобрать испанских терминов и в отчаянии посмотрел на переводчика.
— Теперь вы офицер, — сказал тот, — и вас переведут в помещение для пленных офицеров.
— Спасибо, — отвечал Хорнблауэр.
— Вы будете получать половину причитающегося вашему званию жалованья.
— Спасибо.
— Вас будут отпускать под честное слово. Дав слово, вы сможете в течение двух часов посещать город и его окрестности.
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр.
В последующие долгие месяцы страдания Хорнблауэра несколько облегчались тем, что на два часа ежедневно его честное слово давало ему свободу; свободу побродить по улочкам маленького городка, выпить чашку шоколада или стаканчик вина — если у него были деньги — вежливо и с большим трудом поговорить с испанскими солдатами, матросами или горожанами. Но еще лучше было провести свои два часа, бродя по козьим тропкам на мысу, подставив голову ветру и солнцу, в обществе моря, исцеляющего горькую тоску плена. Еда теперь была чуть получше, помещение чуть поудобнее. А главное — сознание, что он лейтенант, лейтенант королевской службы, и если когда-нибудь, хоть когда-нибудь эта война закончится, и его выпустят на свободу, он сможет голодать на половинное жалование — ибо с окончанием войны на флоте не останется свободных мест для младших офицеров. Но он честно заработал свое повышение. Он заслужил одобрение начальства.Об этом стоило подумать во время одиноких прогулок.
И вот наступил день, когда задул штормовой зюйд-вест с той стороны Атлантики. Пролетев над бескрайним водным простором, он беспрепятственно набирал скорость, обращая море в череду бегущих валов, с грохотом и брызгами разбивающихся об испанский берег. Хорнблауэр стоял на мысу над Феррольской бухтой, придерживая рваную шинель и наклоняясь навстречу ветру, чтоб устоять на ногах. Ветер дул в лицо с такой силой, что перехватывало дыхание. Если повернуться к ветру спиной, дышать становилось легче, но тогда ветер задувал в глаза растрепанные волосы, задирал на голову плащ и так шаг за шагом заставлял Хорнблауэра спускаться вниз, к Ферролю, куда ему сейчас совсем не хотелось возвращаться. На два часа он один и свободен, и эти два часа были для него драгоценны. Он мог вдыхать атлантический воздух, идти, куда пожелает, делать, что захочет. Он мог смотреть на море: иногда с мыса удавалось разглядеть британский военный корабль, медленно пробирающийся вдоль берега в надежде захватить врасплох каботажное судно, наблюдая одновременно за военно-морскими приготовлениями испанцев. Когда такое судно появлялось в отпущенные Хорнблауэру два часа, он стоял и не отрываясь глядел на него, как умирающий от жажды глядит на недостижимый стакан воды, примечал все мелкие детали, вроде формы марселей и особенностей покраски; сердце его разрывалось на части. Кончался второй год плена. Двадцать два месяца, по двадцать четыре часа в сутки находился он под замком, запертый вместе с пятью другими младшими офицерами в тесной комнатушке крепости Эль-Ферроль. А сегодня ветер бушевал над ним, свободный и неукротимый. Хорнблауэр стоял лицом к ветру, перед ним лежала Корунья: белые домики, рассыпанные по склонам, как куски сахара. Между ним и Коруньей раскинулась покрытая барашками бухта Корунья, а слева тянулся узкий проход в Феррольский залив. Справа была открытая Атлантика; от подножия невысоких обрывов к северу тянулась цепочка рифов — Dientes del Diablo — Чертовы зубы. Подгоняемые ветром валы с промежутком в полминуты накатывали на рифы, ударяя о них с такой силой, что содрогался самый мыс, на котором стоял Хорнблауэр. Каждый вал рассыпался фонтаном брызг, которые тут же относил ветер, вновь открывая взору черные клыки скал.
Хорнблауэр был на мысу не один: в нескольких ярдахот него нес дозорную службу артиллерист испанского ополчения. Он непрерывно осматривал море в подзорную трубу. Воюя с Англией, приходится все время быть начеку: на горизонте может внезапно появиться флот, высадить небольшой десант, захватить Ферроль, сжечь док и корабли. Сегодня на это надеяться не приходилось — в такую погоду войско на берег не высадишь.
Однако часовой, без сомнения, пристально смотрел в какую-то точку с наветренной стороны; вытерев заслезившийся глаз рукавом, он стал смотреть снова. Хорнблауэр глядел туда же, не понимая, что привлекло внимание часового. Тот что-то пробормотал, потом повернулся и затрусил к караулке, где грелись остальные ополченцы, обслуживающие установленные на обрыве пушки. Вернулся он с дежурным сержантом, который взял подзорную трубу и стал смотреть туда же, куда прежде часовой. Оба затараторили на варварском гальегском диалекте; за два года упорных трудов Хорнблауэр овладел не только кастильским, но и галисийским, однако сейчас в реве ветра не понимал ни слова. Наконец, когда сержант согласно кивнул, Хорнблауэр невооруженным глазом разглядел, о чем они спорили. Светло-серый прямоугольник над серым морем — парус какого-то корабля. Корабль несется по ветру, чтоб укрыться в Корунье или Ферроле.
Весьма опрометчиво, ибо судну будет одинаково трудно как лечь в дрейф и бросить якорь в бухте Корунья, так и пройти узкий пролив, соединяющий с морем Феррольский залив. Осторожный капитан предпочел бы лавировать от подветренного берега, пока ветер не ослабнет. «Ох уж эти испанские капитаны, — подумал Хорнблауэр, пожимая плечами. — Впрочем, естественно, они стараются побыстрее добраться до гавани, ведь море прочесывает Королевский Флот». Но сержант и часовой не стали бы так волноваться из-за одного-единственного судна. Хорнблауэр не мог больше сдерживаться. Он подошел к оживленно разговаривающим ополченцам, мысленно формулируя фразы на чужом языке.
— Прошу вас, господа, — сказал он и начал снова. — Прошу вас, господа, скажите, что вы видите?
Сержант взглянул на Хорнблауэра и, повинуясь какому-то непонятному порыву, вручил ему трубу — Хорнблауэр чуть не выхватил ее из рук. В подзорную трубу Хорнблауэр различил корабль с полностью зарифленными марселями (все равно куда больше парусов, чем разумно в такую погоду) стремительно мчащийся к ним навстречу. Через секунду он увидел еще один серый прямоугольник. Еще парус. Еще корабль. Фор-стеньга значительно короче грот-стеньги, да не только это — весь облик до боли знакомый — британское военное судно, британский фрегат, преследующий другой корабль — очевидно, испанский капер. Упорная погоня — силы участников почти равны. Вполне вероятно, что испанцы укроются под защитой береговых батарей раньше, чем фрегат их настигнет. Хорнблауэр опустил трубу, чтоб дать глазу передохнуть, и сержант тут же вырвал ее из рук. Он внимательно следил за англичанином и по выражению его лица прочел все, что ему было нужно. Эти корабли ведут себя так, что он поступит правильно, если позовет офицера и поднимет тревогу. Сержант и часовой побежали в караулку, и через несколько секунд артиллеристы уже бежали к пушкам на краю обрыва. Вскоре на дороге, пришпоривая коня, показался офицер. Взглянув в подзорную трубу, он тут же поскакал к батарее, и вскоре пушечный выстрел оповестил всю береговую охрану о появлении неприятельского судна. На флагштоке рядом с батареей взвился испанский флаг; в ответ флаг взметнулся над Сан-Антоном, где другая батарея охраняла бухту Корунья. В готовность была приведена и артиллерия порта. Теперь, если британский фрегат подойдет на пушечный выстрел, ему несдобровать.
Преследователь и преследуемый были уже гораздо ближе к Корунье. Теперь Хорнблауэр с мыса видел их целиком. Они стремительно неслись вперед, и Хорнблауэр каждую минуту ожидал, что ветер сломает стеньги или сорвет с ликтросов паруса. Фрегат отставал примерно на полмили, чтоб стрелять из пушек в такую качку, ему нужно было подойти значительно ближе. Вот по дороге прискакал комендант со своими офицерами, он заметил Хорнблауэра и с испанской учтивостью поднял шляпу; Хорнблауэр, без шляпы; постарался так же учтиво поклониться. Он подошел к коменданту с неотложной просьбой — ему пришлось ухватиться за луку седла и кричать испанцу прямо в лицо.
— Сударь, я дал честное слово и должен вернуться через десять минут. Можно мне продлить отлучку? Пожалуйста, разрешите мне остаться!
— Оставайтесь, сеньор, — милостиво согласился комендант.
Хорнблауэр смотрел за погоней и в то же время внимательно наблюдал подготовку к обороне. Он дал честное слово, но никакой кодекс чести не запрещает ему запоминать то, что он видит. Когда-нибудь, возможно, он будет свободен, и тогда, может быть, знания об обороне Ферроля ему пригодятся. С приближением судов волнение нарастало. Английский капитан держался ярдов на сто мористее испанца, но догнать его никак не мог — Хорнблауэру даже показалось что испанец увеличивает разрыв. Однако английский корабль ближе к открытому морю, значит этот путь закрыт. Свернув от берега, испанец потеряет свое преимущество. Если он не сумеет попасть в бухту Корунья или Феррольский залив, он обречен.
Сейчас испанец поравнялся с мысом Корунья, — пора круто поворачивать руль и заходить в бухту, рассчитывая что под защитой мыса якоря смогут удержать корабль. Но когда такой силы ветер свистит среди скал и обрывов, все может случиться. Видимо, идущий из бухты порыв ветра ударил судно в лоб при попытке обогнуть мыс. Хорнблауэр видел, как оно закачалось, а потом, когда встречный порыв стих и ветер вновь подхватил его, накренилось и почти легло на борт. Когда судно выровнялось, Хорнблауэр на мгновение увидел дыру в грот-марселе. На мгновение, ибо после образования дыры миги марселя сочтены — только что появилась дыра, и вот уже парус исчез, разорванный в клочья. Баланс давления нарушился, и судно тут же потеряло управление;
ветер, наполнив фор-марсель, развернул судно, как флюгер. Если б у испанцев хватило времени поставить хоть какой-нибудь парус ближе к корме, судно еще можно было бы спасти, но в этих замкнутых водах лишнего времени не бывает. Только что судно могло обогнуть мыс Корунья, теперь эта возможность утрачена.
У испанца оставались еще шансы проскочить в узкий проливчик, соединяющий с морем Феррольский залив, ветер для этого был попутный — почти. Хорнблауэр, стоя на мысу, пытался представить себе, что думает на качающейся палубе испанский капитан. Он видел, как тот выровнял судно и направил в узкий пролив, знаменитый у моряков своей труднопроходимостью. Он видел, как судно взяло курс, и несколько секунд, пока оно неслось к устью, казалось, что испанцам удастся-таки, несмотря ни на что, проскочить точно в пролив. Тут снова налетел встречный ветер. Если бы судно хорошо слушалось руля, оно могло бы спастись, но с нарушенным балансом парусов оно неизбежно запаздывало. Яростный порыв ветра развернул его нос, и стало ясно, что судно обречено. Но испанский капитан решил играть до конца. Он не хотел выбрасывать корабль на подножие низких обрывов. Круто развернув руль, он предпринял смелую попытку обогнуть Феррольский мыс на отраженном от обрывов ветре.
Попытка смелая, но с самого начала обреченная на неудачу — судно и впрямь обогнуло мыс, но ветер снова развернул его нос, и корабль полетел на зазубренную цепочку Чертовых зубов. Хорнблауэр, комендант и все остальные бросились на другую сторону мыса, досмотреть финальный акт трагедии. Судно, подхваченное попутным ветром, с невероятной быстротой неслось к рифам. Волна подхватила его, еще увеличив скорость. Оно ударилось об риф и на секунду исчезло из виду, скрытое пеленой брызг. Когда брызги рассеялись, его трудно было узнать. Все три мачты исчезли, и только черный корпус возвышался над белой пеной. Инерция и волна почти протащили его через риф — без сомнения, распоров днище — и судно зацепилось кормой, а носом зарылось в относительно спокойную воду позади рифа.
На палубе оставались люди. Хорнблауэр видел, как они, ища спасения, жмутся к уступу полуюта. Новый вал разбился о Чертовы зубы, окутав брызгами несчастное судно. Но вот оно снова появилось, черное на фоне белой пены. Теперь, под прикрытием погубившего его рифа, оно было относительно защищено. Хорнблауэр видел, как на его палубе копошатся живые существа. Жить им оставалось недолго — минут пять, если повезет. Если не повезет — часов пять.
Вокруг него испанцы выкрикивали проклятия. Женщины плакали, мужчины в ярости грозили кулаками уходящему фрегату, который, удовлетворившись достигнутым, вовремя развернулся и теперь под штормовыми парусами лавировал в открытое море. Ужасно было смотреть на обреченных испанцев. Если более крупная волна, перекатившись через риф, не смоет корму и судно не затонет окончательно, оно так и будет биться о рифы вместе с бедными моряками. Если оно не разобьется сразу, несчастные не вынесут постоянных ударов ледяных брызг. Надо что-то сделать, надо их спасти, но лодка не сможет обогнуть мыс и Чертовы зубы, не сможет добраться до останков судна. Но… Мысли Хорнблауэра понеслись галопом. Комендант, сидя на лошади, что-то сердито говорил испанскому флотскому офицеру, очевидно о том же самом, офицер разводил руками, объясняя, что любая попытка спасти потерпевших обречена на провал. И все же… Два года Хорнблауэр был в плену; вся его искусственно сдерживаемая энергия рвалась наружу, а после двух лет заключения ему было все равно, будет он жить или погибнет. Он подошел к коменданту и вмешался в спор.
— Сударь, — сказал он. — Позвольте, я попробую их спасти. Может быть, из этой бухточки… Если со мной отправятся несколько рыбаков…
Комендант посмотрел на офицера. Офицер пожал плечами.
— Как вы хотите это сделать? — спросил комендант Хорнблауэра.
— Мы должны перетащить через мыс лодку из дока, — объяснил Хорнблауэр, с трудом облекая свои мысли в испанские фразы. — Но надо быстро… быстро!
Он указал на обломки судна. Волна, разбивающаяся о Чертовы зубы, прибавила силы его словам.
— Но как вы перетащите лодку? — спросил комендант. Даже по-английски кричать против ветра было бы очень трудно; кричать же по-испански было свыше его сил.
— Покажу вам в доке, сударь, — крикнул Хорнблауэр. — Объяснить не могу. Но надо быстрее.
— Так вы хотите отправиться в док?
— Да, да.
— Садитесь сзади меня, сударь, — сказал комендант. Хорнблауэр неловко вскарабкался на круп и уцепился за пояс коменданта. Лошадь, побежала вниз по склону. Хорнблауэра замотало из стороны в сторону. Все городские и гарнизонные зеваки бежали за ними.
Феррольский док пришел в полный упадок по причине британской блокады. Расположенный в одном из самых глухих уголков Испании, связанный с ее внутренними частями самыми плохими дорогами, он получал большинство припасов морским путем, а теперь, в результате блокады, оказался от них отрезан. Заход испанских военных судов лишил его последних запасов, тогда же большинство докеров завербовали во флот. Но Хорнблауэр из прежних внимательных наблюдений знал: все что ему понадобится, там есть. Он соскользнул с лошадиного крупа, счастливо избежав инстинктивного удара копытом со стороны раздраженного животного, и собрался с мыслями. Он указал на низкую телегу — скорее даже платформу на колесах. На ней обычно возили к пристани бочки с солониной и коньяком.
— Лошади, — сказал он, и десятки добровольных помощников бросились запрягать лошадей.
Рядом с причалом покачивались с полдюжины лодок. Здесь же было все необходимое для подъема тяжестей. Пропустить под лодку канаты и поднять ее было делом нескольких минут. Испанцы как правило ленивы и медлительны, но убеди их в необходимости действовать быстро, вдохнови, предложи им смелый план — они будут работать, как одержимые. А умелых работников было хоть отбавляй. Весла, мачта, парус (впрочем парус не понадобится), руль, румпель, черпаки — все оказалось на месте. Кто-то сбегал на склад за подпорками для лодки, их тут же поставили на телегу, телегу подвели под тали и взгромоздили на нее лодку.
— Пустые бочки, — приказал Хорнблауэр. — Вот эти.
Смуглый галисийский рыбак сразу понял, чего Хорнблауэр хочет, и подкрепил его ломаные фразы более пространными объяснениями. Тут же притащили дюжину пустых бочек из-под воды, с плотно пригнанными затычками. Смуглый рыбак забрался на телегу и принялся найтовить их под банками. Если их хорошо укрепить, они удержат лодку на плаву, даже если она наберет воды по самый планширь.
— Мне нужно шесть человек, — крикнул Хорнблауэр, стоя на телеге и оглядывая толпу. — Шесть рыбаков, кто знает маленькие лодки.
Смуглый рыбак, тот, что привязывал к банкам бочонки, оторвался от своего дела.
— Я знаю, кто нам нужен, сударь, — сказал он. Он выкрикнул несколько имен, и вперед выступили шесть рыбаков: сильные, обветренные, уверенные в себе. Очевидно, смуглый галисиец был их капитаном.
— Ну, вперед, — сказал Хорнблауэр, но галисиец остановил его.
Хорнблауэр не понял, что тот сказал, но в толпе кто-то кивнул, побежал и скоро вернулся, сгибаясь под тяжестью бочонка с водой и ящичка — видимо, с сухарями. Хорнблауэр мысленно обругал себя; он забыл, что их может отнести в море. Комендант, не слезая с лошади, внимательно наблюдал за происходящим и тоже заметил эти припасы.
— Помните, сударь, что вы дали мне слово, — сказал он.
— Я дал вам слово, сэр, — повторил Хорнблауэр. На несколько блаженных секунд он совершенно позабыл о своем плене.
Припасы были аккуратно убраны под кормовое сиденье. Капитан рыбачьей лодки поглядел на Хорнблауэра. Тот кивнул.
— Вперед! — крикнув он толпе.
Подковы зацокали по мостовой, и телега, подпрыгивая, двинулась вперед. Одни вели лошадей, другие толпою шли рядом, а Хорнблауэр с капитаном восседали на повозке, словно генералы. Процессия миновала ворота дока, прошла по главной городской улице и свернула на крутую дорожку, ведущую за гребень мыса. Энтузиазм толпы еще не остыл, и, когда на склоне лошади замедлили шаг, сотня людей налегла сзади, с боков, ухватилась за постромки и втащила телегу на холм. На гребне дорога почти исчезла, но телега продолжала тащиться вперед. Дальше дорога стала еще хуже. Петляя между земляничными и миртовыми деревьями, она серпантином спускалась со склона в маленькою песчаную бухточку, о которой Хорнблауэр сразу и подумал. Он видел, как в хорошую погоду рыбаки закидывали там невод, и еще тогда заприметил ее как наиболее подходящее место для высадки десанта, если когда-нибудь Королевский Флот захочет напасть на Ферроль.
Ветер неистовствовал по прежнему. Все море было покрыто белыми барашками. Перевалив через гребень мыса, все увидели тянущуюся от берега цепочку Чертовых зубов и свисающий с них остов корабля, черный на фоне бушующей пены. Кто-то заорал, все налегли на телегу, так что лошади перешли на рысь и телега, подпрыгивая на кочках, понеслась вперед.
— Тише, — заорал Хорнблауэр. — Тише!
Если они сломают ось или потеряют колесо, вся затея позорно провалится. Комендант присоединился к Хорнблауэру и несколькими громкими командами привел своих людей в чувство. Уже поспокойнее, телегу спустили к краю песчаной отмели. Ветер с силой подхватывал мокрый песок и безжалостно швырял в лицо, но волны, накатывающие на песок, были совсем небольшие: бухточка глубоко вдавалась в береговую линию, а с наветренной стороны валы разбивались о Чертовы зубы и дальше бежали уже параллельно берегу. Колеса зарылись в песок, и лошади остановились у кромки воды. Десяток добровольцев бросился распрягать лошадей, а с полсотни других затащили телегу в воду — при таком избытке рабочих рук сделать это было нетрудно. Как только первая волна прокатилась под днищем телеги, команда вскарабкалась в лодку. Дно бухты было покрыто каменными глыбами, но ополченцы и докеры, по грудь в воде, налегли посильнее и протащили через них телегу. Лодка едва не уплывала с подпорок, и, как только команда освободила се и забралась внутрь, начала поворачиваться под напором ветра. Моряки ухватились за весла и несколькими сильными гребками заставили ее слушаться; капитан-галисиец уже вставил рулевое весло в паз на корме, не полагаясь на руль и румпель. Берясь за весло, он посмотрел на Хорнблауэра. Тот молча кивнул, уступая ему эти работу.
Хорнблауэр, согнувшись против ветра, стоял на корме, ища между камней путь к останкам корабля. Тихая бухточка осталась далеко позади. Лодка пробиралась по бушующим волнам, кругом завывал ветер. Волны двигались беспорядочно, и лодку мотало из стороны в сторону. К счастью, рыбаки привыкли грести по бурному морю. Они держали лодку на ходу, так что капитан, с силой налегая на рулевое весло, мог вести ее через обезумевшие волны. Хорнблауэр, выбиравший путь, жестами указывал капитану направление, и тот мог сосредоточить все свое внимание на том, чтоб неожиданная волна не опрокинула лодку. Ветер ревел, лодка подскакивала на каждой волне, но пядь за пядью они приближались к погибшему кораблю. Если в движении волн и была какая-то закономерность, так это то, что все они огибали Чертовы зубы с дальнего конца, поэтому лодку приходилось постоянно разворачивать носом навстречу волне, затем обратно, отвоевывать у ветра бесценные пяди. Хорнблауэр взглянул на гребцов: они работали на износ. Ни секунды передышки — весла к себе, весла от себя, к себе, от себя; Хорнблауэр дивился, как сердце и мускулы выдерживают такое напряжение.
Тем не менее, они постепенно приближались к погибшему кораблю. Когда брызги рассеялись, Хорнблауэр увидел всю его перекошенную палубу. Видел он и человеческие фигурки, укрывавшиеся за уступом полуюта. Кто-то из них махнул ему рукой. В этот момент из моря, ярдах в двадцати впереди, вынырнуло чудовище. В первую секунду Хорнблауэр не понял, что это такое. Лишь когда оно вновь вынырнуло, он узнал толстый конец сломанной мачты. Мачта еще держалась за судно последним уцелевшим штагом, привязанным к ее верхнему концу. Ее отнесло к подветренной стороне судна, и здесь она вздымалась и подпрыгивала на волнах — казалось, некое морское божество, скрытое под водой, в гневе грозит пловцам. Хорнблауэр указал на опасность рулевому, тот кивнул и крикнул: «Nombre de Dios», но крик утонул в шуме ветра. Они обогнули мачту. Имея неподвижный ориентир, Хорнблауэр смог лучше оценить их скорость. Он видел, что каждый дюйм дается отчаянным усилием гребцов, видел, как лодка останавливается или даже относится назад более сильными порывами ветра, которыми весла не могли противостоять.
Теперь они были за мачтой, вблизи затонувшего носа судна, и достаточно близко к Чертовым зубам, так что каждая волна, разбившись о противоположную сторону рифов, осыпала их водопадом брызг. На дне лодки плескалась вода, вычерпывать ее было некому и некогда. Наступила самая сложная часть всего предприятия: надо подвести лодку достаточно близко к судну и не разбить ее при этом. Вдоль кормовой части судна торчали острые камни; и, хотя полубак выступал над водой, вся носовая часть шкафута была затоплена. К счастью, остов несколько наклонился на правый борт, то есть к ним, и это облегчало задачу. Когда вода спадала, то есть прямо перед тем, как следующий вал разбивался о риф, Хорнблауэр, встав и вытянув шею, видел, что рядом с центральной частью шкафута, там, где палуба соприкасалась с водой, камней вроде бы нет. Он указал рулевому на это место, потом взмахами привлек внимание уцелевших матросов у полуюта и показал, куда им надо двигаться. Волна, перекатываясь через риф, разбилась о палубу остова и почти по края наполнила лодку. Лодка завертелась в круговороте, но бочонки удержали ее на плаву, а могучие усилия рулевого и гребцов — от удара о скалы или об остов.
— Ну, давай! — крикнул Хорнблауэр. Не важно, что в этот решающий момент он заговорил по-английски — его поняли и так. Лодка продвинулась вперед, а потерпевшие, распутав веревки, которыми привязались в своем укрытии, поползли вниз по палубе. Хорнблауэра поразило, что их всего четверо — человек двадцать-тридцать смыло за борт, когда корабль налетел на риф. По команде рулевого гребцы подняли весла. Один из потерпевших собрался с духом и прыгнул на нос лодки. Еще одно усилие гребцов, и лодка снова продвинулась вперед, еще один потерпевший прыгнул в нее. Тут Хорнблауэр, следивший за морем, увидел, как новый вал вздымается над рифом. По его сигналу лодка отошла в безопасное — относительно безопасное — место, а два оставшихся на палубе матроса вскарабкались обратно к уступу полуюта. Волна прокатилась с грохотом и ревом, пена шипела, брызги стучали, лодка вновь придвинулась к остову. Третий потерпевший приготовился прыгать, не рассчитал и упал в море. Больше его никто не видел. Обессиленный от холода и усталости, он камнем пошел на дно, но печалиться было некогда. Четвертый потерпевший ждал своей очереди. Как только лодка подошла, он прыгнул и счастливо приземлился на носу.
— Есть кто еще? — крикнул Хорнблауэр и получил отрицательный ответ. Они спасли три жизни, рискуя восемью.
— Вперед, — сказал Хорнблауэр, но рулевой не нуждался в его словах.
Он уже позволил ветру отнести лодку подальше от погибшего корабля, подальше от скал — и дальше от берега. Достаточно было лишь изредка налегать на весла, чтоб держать лодку носом к ветру и волне. Хорнблауэр посмотрел на потерпевших, без чувств лежащих на дне лодки. По ним прокатывалась вода. Он наклонился и затряс их, приводя в сознание; потом с трудом сунул черпаки в их занемевшие руки. Они должны двигаться, иначе они умрут. С изумлением он увидел, что уже темнеет. Надо немедленно решать, что делать дальше. Гребцы явно не могли больше грести; если попытаться вернуться в песчаную бухточку, откуда они начали свой путь, ночь застанет их, обессиленных, меж предательских прибрежных камней. Хорнблауэр сел рядом с капитаном-галисийцем, который, не спуская глаз с набегающих волн, лаконично изложил свои соображения.
— Темнеет. — Он поглядел на небо. — Камни. Люди устали.
— Лучше не возвращаться, — сказал Хорнблауэр.
—Да.
— Тогда надо выйти в открытое море. Годы блокадной службы приучили Хорнблауэра держаться подальше от подветренного берега.
— Да, — сказал капитан и добавил несколько слов, которые Хорнблауэр не разобрал из-за ветра и плохого знания языка. Капитан повторил свои слова громче, сопровождая их выразительными жестами. Показывать ему приходилось одной рукой, другая была занята рулевым веслом.
«Плавучий якорь, — решил про себя Хорнблауэр. — Совершенно верно».
Он оглядел исчезающий из виду берег, прикинул направление ветра. Вроде бы он стал по-южнее. Если ветер не переменится, они смогут дрейфовать на плавучем якоре всю ночь, не опасаясь быть выброшенными на берег.
— Хорошо, — сказал Хорнблауэр вслух. Он тоже прибегнул к пантомиме, и капитан одобрительно кивнул, потом приказал двум баковым гребцам вынуть свои весла и сделать из них плавучий якорь — привязать эти весла к длинному фалиню, пропущенному под носом лодок. При таком напоре ветра лодка будет достаточно сильно тянуть плавучий якорь, чтоб нос постоянно указывал в открытое море. Хорнблауэр наблюдал, как плавучий якорь устанавливается в воде.
— Хорошо, — сказал он снова.
— Хорошо, — повторил капитан, кладя в лодку рулевое весло.
Хорнблауэр только сейчас понял, что все это время, мокрый до нитки, стоял на пронизывающем зимнем ветру. У его ног без чувств лежал один из потерпевших, двое других вычерпали почти всю воду и, благодаря своим усилиям, были живы и в сознании. Гребцы валились от усталости. Капитан-галисиец уже опустился на дно лодки и обхватил бесчувственное тело. Повинуясь общему импульсу, все сгрудились на дне лодки, под банками, подальше от ревущего ветра.
Так наступила ночь. Хорнблауэр почувствовал, что прикосновение человеческих тел согревает его, почувствовал на спине чью-то руку, и сам кого-то обнял. Подними на дне лодки плескались остатки воды, над ними по-прежнему яростно завывал ветер. Лодка кренилась то на нос, то на корму и, взбираясь на волну, резко вздрагивала, стопорясь плавучим якорем. Каждую секунду новая порция брызг обрушивалась в лодку на съежившиеся от холода тела; через короткое время на дне набралось столько воды, что пришлось расцепиться, сесть и на ощупь в темноте вычерпывать воду. Потом снова можно было сгрудиться под банками.
Посреди этого ночного кошмара, когда они в третий раз собрались вычерпывать воду, Хорнблауэр обнаружил, что тело, на котором лежала его рука, неестественно застыло. Матрос, которого капитан пытался привести в сознание, так и умер, лежа между ним и Хорнблауэром. Капитан в темноте оттащил тело на корму. Ночь продолжалась: холодный ветер, холодные брызги, качка; садись, вычерпывай воду, ложись, съеживайся, дрожи. Мучения были невыносимые — Хорнблауэр не мог поверить своим глазам, когда увидел наконец первые признаки наступающего утра. Постепенно забрезжила заря, и надо было думать, что делать дальше. Но вот окончательно рассвело, и все проблемы решились сами собой. Один из рыбаков, встав на ноги, хрипло закричал, указывая на север. Там отчетливо вырисовывался корабль, дрейфующий под штормовыми парусами. Капитан с первого взгляда узнал его.
— Английский фрегат, — сказал он. Видимо за ночь фрегат снесло на то же расстояние,чтои дрейфующую на плавучем якоре лодку.
— Сигнальте ему, — сказал Хорнблауэр. Никто не возразил.
В лодке не оказалось ничего белого, кроме рубашки Хорнблауэра, и тот снял ее, дрожа от холода; рубашку привязали к веслу и подняли на мачту. Капитан увидел, что Хорнблауэр надевает на голое тело мокрый сюртук, одним движением стянул через голову толстую вязаную фуфайку и протянул ему.
— Спасибо, не надо, — запротестовал Хорнблауэр, но капитан настаивал; с широкой ухмылкой он показал на застывшее тело, лежащее на корме и объяснил, что переоденется в фуфайку мертвеца. Спор был прерван новым криком одного из рыбаков. Фрегат привелся к ветру. Под взятыми в три рифа фор— и грот-марселями он двинулся к ним, подгоняемый слабеющим ветром. Хорнблауэр смотрел на корабль, потом, оглянувшись, увидел бледнеющие на горизонте галисийские горы. Впереди было тепло, свобода, товарищи, сзади — одиночество и плен.
С подветренного борта фрегата любопытные лица смотрели на бешено плясавшую лодку. Англичане спустили шлюпку и двое проворных матросов перепрыгнули с нее к рыбакам. С фрегата в лодку перебросили канат, на конце его был спасательный круг со штанами. Английские матросы помогали окоченевшим испанцам по очереди забираться в штаны и придерживали, пока тех поднимали на палубу.
— Я пойду последним, — сказал Хорнблауэр, когда они повернулись к нему. — Я — королевский офицер.
— Господи, помилуй! — сказал матрос.
— Тело тоже отправьте наверх, — велел Хорнблауэр. — Его надо будет похоронить, как положено.
Труп гротескно закачался в воздухе. Капитан-галисиец начал было препираться с Хорнблауэром, кому принадлежит честь последним покинуть лодку, но Хорнблауэра было не переспорить. Наконец матрос помог ему сунуть ноги в штаны спасательного круга и обвязал страховочным концом. Хорнблауэр взмыл вверх, раскачиваясь вместе с судном. Полдюжины сильных рук подхватили его и аккуратно положили на палубу.
— Ну вот, моя радость, ты и здесь, целый и невредимый, — произнес бородатый матрос.
— Я королевский офицер, — сказал Хорнблауэр. — Где вахтенный?
Вскоре Хорнблауэр, облаченный в невероятно сухую одежду, попивал горячий грог в каюте Крома, капитана фрегата Его Величества «Сириус». Кром был с виду бледен и угрюм, но Хорнблауэр слышал о нем, как о первоклассном офицере.
— Эти галисийцы отличные моряки, — сказал Кром. — Я не могу их завербовать, но может кто из них предпочтет стать добровольцем, чем отправляться в плавучую тюрьму.
— Сэр… — начал Хорнблауэр и заколебался. Негоже младшему лейтенанту спорить с капитаном.
—Да?
— Они вышли в море спасать чужие жизни. Они не подлежат взятию в плен.
Серые глаза Крома стали ледяными. Хорнблауэр был прав, негоже младшему лейтенанту спорить с капитаном.
— Вы будете меня учить, сэр? — спросил Кром.
— Упаси меня Бог, — поспешно отвечал Хорнблауэр. — Я давно не читал Адмиралтейские инструкции и боюсь, что память меня подвела.
— Адмиралтейские инструкции? — переспросил Кром несколько другим тоном,
— Наверное я ошибаюсь, сэр, — сказал Хорнблауэр, — но мне казалось, что та же инструкция касалась и двух других, потерпевших кораблекрушение.
Даже капитан не волен нарушать Адмиралтейские Инструкции.
— Я приму это во внимание; — сказал Корм.
— Я отправил покойника на корабль, сэр, — продолжал Хорнблауэр, — в надежде, что вы, быть может, разрешите похоронить его как следует. Эти галисийцы рисковали жизнью, чтобы его спасти и, думаю, сэр, будут чрезвычайно вам признательны.
— Папистские похороны? Я распоряжусь, пусть делают, что хотят.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Теперь касательно вас. Вы сказали, что имеете чин лейтенанта. Вы можете служить на этом корабле до встречи с адмиралом. Тогда он решит. Я не слышал, чтобы «Неустанный» списывал команду, так что формально вы можете числиться в его списках.
Вот тут-то, когда Хорнблауэр еще раз глотнул горячего грога, дьявол и попытался его искусить. Юноша до боли радовался тому, что вновь очутился на королевском корабле, Снова есть солонину и сухари, а нут и фасоль — никогда. Ступать по корабельной палубе, говорить по-английски. Быть свободным. Свободным! Очень маловероятно, чтоб он снова попал в руки к испанцам, Хорнблауэр с мучительной ясностью вспомнил беспросветную тоску плена. И все что от него требуется, это день или два подержать язык за зубами. Но дьявол недолго искушал его. Хорнблауэр еще раз отхлебнул горячего грога, отогнал искусителя и посмотрел Крому прямо в глаза.
— Мне очень жаль, сэр.
— В чем дело?
— Я здесь под честное слово. Я дал слово, прежде чем покинуть берег.
— Вот как? Это меняет дело. Здесь вы, конечно, в своем праве.
То, что британского офицера отпустили под честное слово, было настолько обычно, что не вызывало расспросов;
— Вы дали слово в обычной форме? — спросил Кром. — Что не попытаетесь бежать?
— Да, сэр.
— И что же вы решили?
Кром, конечно, и думать не мог повлиять на джентльмена в таком личном деле, как честное слово.
— Я должен вернуться, сэр, — сказал Хорнблауэр. — При первой возможности.
Он оглядел уютную каюту. Сердце его разрывалось.
— По крайней мере, вы сможете пообедать и переночевать на борту, — сказал Кром. — Я не рискну приближаться к берегу, пока ветер не уляжется. При первой возможности я отправлю вас в Корунью под белым флагом. И я посмотрю, что говорят инструкции об этих пленных.
Было солнечное утро, когда часовой форта Сан-Антон в бухте Корунья доложил офицеру, что британское судно обогнуло мыс, легло в дрейф вне досягаемости пушек и спустило шлюпку. На этом ответственность часового кончалась, и он праздно наблюдал, как офицер разглядывает тендер, плавно идущий под парусами, и белый флаг на нем. Тендер лег в дрейф на расстоянии чуть больше ружейного выстрела. К изумлению часового, на окрик офицера кто-то встал в лодке и отвечал на чистейшем гальегском диалекте. Подойдя по приказу офицера к причалу, тендер высадил десять человек и повернул обратно к фрегату. Девять из десяти кричали и смеялись, десятый, самый молодой, шел с каменным лицом. Выражение его не изменилось даже тогда, когда остальные с нескрываемым расположением обняли его за плечи. Никто не потрудился объяснить часовому, кто этот непроницаемый молодой человек, да его это и не слишком волновало. Отправив всю компанию в Ферроль через бухту Корунья, он выкинул их из головы.
Была почти уже весна, когда испанский ополченец вошел в барак, служивший в Ферроле офицерской тюрьмой.
— Сеньор Орнбловерро? — спросил он. По крайней мере, сидевший в углу Хорнблауэр понял, что обращаются к нему. Он уже привык, как испанцы коверкают его фамилию.
— Да? — спросил он, вставая.
— Будьте добры следовать за мной. Комендант послал меня за вами, сударь.
Комендант лучился улыбкой. В руках он держал депешу.
— Это, сударь, — сказал он, размахивая депешей под носом у Хорнблауэра, — персональный приказ. Вторая подпись герцога де Фуэнтесауко, министра Флота, но первая — премьер-министра, князя Миротворца, герцога Алькудийского.
— Да, сэр, — сказал Хорнблауэр.
В этот момент он должен был начать надеяться, но в жизни каждого заключенного наступает пора, когда все надежды умирают. Сейчас его больше заинтересовал странный титул князя Миротворца, о котором в Испании уже начали поговаривать.
— Тут говорится: «Мы, Карлос Леонардо Луис Мануэль де Годой и Боэгас, премьер-министр Его Католического Величества, князь Миротворец, герцог Алькудийский и гранд первого класса, граф Алькудийский, кавалер Священного Ордена Золотого Руна, кавалер Святого Ордена Сантьяго, Главнокомандующий морскими и наземными силами Его Католического Величества, адмирал Двух Океанов, генерал от кавалерии, от инфантерии, от артиллерии…[19] — во всяком случае, сударь, это приказ мне немедленно предпринять шаги для вашего освобождения. Я должен под белым флагом передать вас вашим соотечественникам, в благодарность «за смелость и самопожертвование, проявленные при спасении чужих жизней с риском для своей собственной».
— Спасибо, сударь, — сказал Хорнблауэр.