
Роберт С. Брамбо
Философы Древней Греции
Посвящается моим родителям
Введение
Развитие философии в Древней Греции от Фалеса до (включительно) Аристотеля – это приключение ума, которое волнует и захватывает.


Центры греческой философии: Иония, Италия, Аттика
Этот рассказ о движении древнегреческой мысли позволяет проследить за тем, как строилась «столица идей», в которой мы живем с того времени и до сих пор. Может показаться удивительным, что такие понятия, как материя, причинная связь, математика, форма, человеческое «я», все нужно было открыть, но это так, и первыми это сделали греческие философы. Сейчас подобные понятия стали частью наших представлений о мире и наша мыслительная деятельность практически невозможна без использования их. Если «здравый смысл» означает сумму тех навыков в разговорной речи и поступках, которые определенное общество считает чем-то само собой разумеющимся и не подвергает сомнению, то наш американский здравый смысл можно считать наследием этих греческих открытий. Поэтому мое повествование – это рассказ о нас, который помогает нам понять наш мир и самих себя.
Кроме того, идеи греческих философов есть, по существу, введение в основную область философии. «Философия» в том смысле, в котором этот термин применяется здесь, – это попытка ответить на три основных вопроса. Первый из них – «Что действительно существует?», или «Что такое «бытие»?». Этот вопрос подразумевает существование разницы между реальной действительностью и тем, как мы ее воспринимаем, между тем, какими предметы и явления кажутся, и тем, какие они есть. Он также подразумевает, что у всех разнообразных вещей, которые существуют в мире, есть нечто общее – то, что позволяет им существовать. Вначале философы пытались определить это общее «нечто» как материю: все вещи размещаются в пространстве и длятся во времени. Но после возникновения «чистой» математики, которая предполагает, что числа тоже реальные объекты, хотя они и не физические предметы, философы переключили свое внимание на выяснение того, что такое все вещи.
Второй вопрос – не о внешнем мире, а о внутреннем мире человека. Он звучит просто: «Что такое «я»?» Он появляется в нашем рассказе позже, чем вопрос «Что такое «бытие»?». Причина этого в том, что лишь после того, как возникли и какое-то время развивались естественные науки и теория общественных явлений, философы осознали, насколько люди отличаются от всего остального, что существует в природе. Ни естественные, ни общественные науки не могли удовлетворительно объяснить, что такое человеческое «я», и Сократ признанием этого факта ввел в западную философию ее второй главнейший вопрос.
Третий вопрос труднее сформулировать коротко. Возможно, формулировка должна быть такая: «Мир один или миров много?» По мере развития цивилизации специализация членов общества должна становиться все уже. По мере усиления специализации общество начинает обнаруживать, что каждый специалист имеет свой профессиональный взгляд на мир и на других людей. Но каждый из этих взглядов отличается от остальных. Например, химик и адвокат, говоря, скажем, о «ценности отдельного человека», имеют в виду совершенно разные вещи. Существует ли какой-то способ нанести на карту области человеческого знания, известные нашим экспертам, суммировать их открытия и дать экспертам возможность говорить вместе? Наше общество еще не позволяет нам ответить на этот вопрос. Однако Платон и Аристотель в своих философских учениях предполагают, что такого единения можно достичь с помощью философии. В пределах своей собственной греческой культуры они успешно сумели свести множество специализированных взглядов на мир в единое мировоззрение, и их работа может стать полезным примером для нашей теоретической философии.
Все современные философы согласны, что изучение древнегреческой мысли может дать человеку нечто ценное. Следуя умом за движением этих древних идей, мы видим, как привычный для нас мир рождается из скрывающего все знакомые нам контуры и различия тумана мифологии. Но насчет того, чем именно ценно это изучение, у сегодняшних философов существуют разные мнения. Некоторые из них считают, что такие занятия хороши прежде всего тем, что позволяют нам узнать, каким люди представляли себе мир в те времена, когда разум еще не разрезал действительность на куски со своими четкими границами. Другие полагают: изучение древних философов хорошо тем, что позволяет нам понять, какие прочные корни в прошлом опыте и прошлых проверках имеет наш современный здравый смысл. Третьи думают, что многие основные положения греческой философии верны и сейчас и что их можно применить для решения наших проблем – если не всех, то некоторых. Но мы все согласны в том, что смотрим на мир по-древнегречески и что-то выиграем, если ясно осознаем те идеи, которые теперь так прочно вросли в наше мышление, что мы их не замечаем.
Даже если греческая философия не поможет нам понять наш собственный мир и наши идеи, она будет управлять нами, когда мы станем давать чему-то оценку. Доплатоновские философы освещают путь к основным системам философии – платоновской и аристотелевской, – системам таким же великим, как Парфенон или самые совершенные эллинские скульптуры. Умение их оценить дает нам новый взгляд на мир, позволяет лучше реализовать ту способность творить и понимать, которой наделена человеческая душа.
Хотя изучение греческой философии полезно и интересно одновременно, оказалось, что очень трудно написать введение в мир древнегреческой мысли так, чтобы оно не было ни учебником, заполненным одними конкретными фактами, ни обобщенной оценкой без конкретного содержания. У нас очень мало информации о раннем периоде древнегреческой мысли от ее начала до Сократа, а о втором, системном ее периоде, который представлен Платоном и Аристотелем, информации слишком много. Реконструкция учений самых ранних философов – работа деликатная и трудоемкая: ни одной их работы не сохранилось, и приходится восстанавливать их идеи и вклады в науку по более поздним, разбросанным в разных местах цитатам, анекдотам и критическим замечаниям. Это в какой-то степени похоже на то, как если бы кто-то через две тысячи лет после нас пытался восстановить философское учение Джона Дьюи[1], не имея ни одной его работы, а только набор цитат из них, критические замечания и рассказы. Эта проблема не будет решена даже тогда, когда мы соберем все существующие материалы и составим себе мнение о достоверности каждого из них. Необходимо выявить не только то, что сказал такой-то человек, но и то, что он имел в виду, говоря это. А философия на ранних этапах своего развития принимала много различных литературных форм – от эпоса до афористического изречения, и в каждом из этих жанров были свои правила обозначения понятий. Но даже если бы не было этого разнообразия, мы все равно должны были бы рассматривать значения слов в контексте определенного, очень не похожего на современный, этапа развития языка и мышления. Мы должны критически относиться к существующему у нас соблазну прочитывать у древних авторов современные идеи, иначе этот соблазн приведет нас к заблуждению.
С Платоном и Аристотелем проблема как раз качественно иная. Их работы сохранились почти полностью, и в этих полных собраниях Платоновых диалогов и Аристотелевых конспектов лекций затронуто много тем, которые рассматриваются со многих точек зрения. Обработать все это и оказаться в состоянии увидеть главные контуры каждой из двух систем как органичного целого – это гигантская задача.
Сейчас в нашей современной философии как раз возрождается интерес к древнегреческой мысли. Однако разные философы считают греческую философию интересной по разным причинам. Во Франции и Германии экзистенциалисты верят, что она ценна и волнует нас потому, что помогает нам вернуть себе чувство, что мы находимся лицом к лицу с целостным миром, еще не разрезанным на части и не размеченным острым лезвием логики, основанной на принципе «или – или», не подвергшимся обработке классифицирующего ума. В Англии и Америке ученые больше внимания уделяют точности, и в их работах не хватает волнующего чувства постижения метафизики.
Но мы, естественно, начнем учиться с того, что Альфред Норт Уайтхед[2] назвал «этапом романтики», когда человек очарован предметом своих занятий и видит его перед собой как единое целое, а не как то, что изучил по частям. Это подводит нас к следующему «этапу точности», на котором наше внимание сосредоточивается на анализе, классификации деталей и овладении необходимыми техническими приемами. И наконец, мы подходим к «этапу обобщения», или «этапу мастерства». На этой стадии мы снова видим предмет изучения как единое целое, все части которого видны четко и удерживаются на своих местах несколькими основными принципами. Это хорошее описание учебного процесса, и оно точно соответствует тому, как формировалась греческая философия.
В этой книге я попытался познакомить читателя с изучаемым предметом так, чтобы не удалить из рассказа всю романтику ради точности, но при этом пойти дальше восторга от первой встречи и сообщить читателю те подробности, которые показались мне наиболее существенными. Завершающий этап обобщения, на котором происходит формирование важных суждений и оценка истинности утверждений, читатель должен пройти самостоятельно.
Остается сделать еще одно важное замечание. Я веду свой рассказ по прямой линии – без тех многочисленных оговорок и упоминаний об альтернативных взглядах, которые более естественны для научного стиля. Практически по каждому факту или толкованию, которые имеют отношение к древнегреческой мысли, существуют разногласия. Этого и следует ожидать, когда лично заинтересованные ученые активно исследуют новые подходы и измерения, пробуя различные техники исследования. Но к несчастью, если на каждом шагу останавливаться и говорить: «Хотя нельзя исключать такую-то альтернативную возможность, взвесив все, я придерживаюсь мнения, что…» – то главная линия рассказа теряется в тумане неуверенности и многословия. А оговорки интересны и важны только потому, что интересен и важен главный рассказ, который они корректируют. Фактические данные и альтернативы, касающиеся моего текста, частично отражены в разделе «Примечания».
Иония и Италия
Рассказ о греческой философии от ее самых ранних этапов до вершины ее развития в Афинах в IV веке до н. э. начинается с того, что произошло в начале VI века до н. э. на греческой границе. На востоке в Ионии, части греческого мира, в которую входили острова Эгейского моря и греческие города на побережье Малой Азии, и на западе в Южной Италии и на Сицилии возникли новые идеи. Эти идеи заставили людей Запада по-другому видеть мир: вместо взгляда, который мы сейчас ощущаем как чуждый и примитивный, они принесли новое мировоззрение, имеющее заметное сходство с нашим.
В раннегреческом мире единственным методом исторического фиксирования событий и объяснения природы еще была мифология. А с мифологической точки зрения мир устроен так, что все события, которые в нем происходят, – это результат решений и вмешательства более или менее капризных личностей, похожих на нас. Это мир, построенный по образцу человеческого, где причинами всех событий являются многочисленные боги, каждый из которых управляет какой-то частью мира, а законов природы нет и предсказуемого порядка мало. В таком мире человек должен довольствоваться мифологическим «объяснением» в форме эстетически правдоподобного рассказа. Так что греческая философия появилась на свет в мире, где не было точной истории, не было науки, не было чистой математики, не было даже представления о тех различиях, которые мы сейчас принимаем без доказательств, – между сознанием и материей, субъектом и объектом, одушевленными и неодушевленными объектами, чудом и естественной причиной. Вместо истории было собрание легенд, из которых одни точно отражали реальное прошлое, а другие вели свое начало от древних мифов о сотворении мира. Вместо науки не было ничего, если не считать технические приемы и вычисления, которые неизбежно должны были предшествовать науке. Правда, на Ближнем Востоке вавилоняне выполнили большую работу в области ведения астрономических записей и математических вычислений, но когда они смотрели за пределы своих таблиц и искали дальнейшие объяснения, то обращались к астрологии. Чистая, не прикладная математика еще не была открыта.
Греческая философия зародилась на побережье Малой Азии, в Ионии, позже имела большие достижения в Южной Италии и, наконец, достигла своей вершины в Афинах в V и IV веках до н. э.
Хотя на вавилонских глиняных табличках сохранились интересные решения некоторых видов уравнений, они не относятся к чистой математике. Египтяне, несмотря на то что некоторые современные оккультисты читают историю мира по пропорциям пирамиды Хеопса, вообще не имели чистой науки. Похоже, что цивилизация Древнего Египта имела высокоразвитые технику, искусство и культуру, но была совершенно лишена тех научных компонентов, которые стали так важны для Запада.
То, что формальная логика не была изобретена в Египте или Вавилоне, – не случайность, поскольку для существования формальной логики необходимо существование математических и научных схем рационального объяснения явлений, на основе которых она могла бы делать обобщения. Для современного логика попытка сформулировать обобщающий вывод при помощи тех моделей мышления, которые существуют в магии, мифе и фольклоре, была бы кошмаром.
Религия, связанная с мифами древнейших греков, была комплексом, сложившимся из многих разнообразных течений. Греки поклонялись олимпийским богам, и эта олимпийская религия постепенно включала в себя местные культы и местных божеств (следы этого мы часто находим в сказаниях о любовных похождениях Зевса). Похоже, что олимпийские боги в представлении людей из народа были семьей, точно такой же, как человеческие семьи, хотя они были бессмертны и гораздо сильнее людей. Их представляли себе и внешне похожими на людей, то есть предполагалось, что статуи в храмах – их точные изображения. Эти боги ссорились между собой, имели любимцев, их можно было убедить что-то сделать с помощью подарков, и они легко начинали сердиться, если смертные забывали оказывать им почтение. Параллельно с почитанием богов Олимпа, которое частично было обязанностью гражданина, существовали мистические религии, основателем которых считался Орфей. Эти религии обещали посвященным в их веру особый дар прозрения, позволяющий видеть загробную жизнь, и иметь большие, чем обычно, шансы на спасение в ином мире. Кроме того, греческий эпос и греческие трагедии отражают чувство, что где-то выше даже самих богов существует Судьба, и она выносит решения, которые невозможно отменить и избегнуть которых не могут ни боги, ни люди. Но представление о Судьбе было смутным, а помимо него мало что среди множества богов, культов и мистических откровений могло навести благочестивого грека на мысль искать в природе какой-то разумный порядок или общий для нее закон – те порядок и закон, существование которых мы иногда в результате долгой традиции считаем естественным выводом из положений нашей собственной религии.
На границах греческого мира дух приключений чувствовался постоянно. Основная природа этих мест – горы, море и небо. Географические факторы влияли на каждый шаг человека в его повседневной жизни. Приливы, звезды и холмы были важны для людей и требовали постоянного внимания к себе.
Помимо этого существование иноземных соседей давало грекам, особенно живущим на границе, понять, что есть и другие цивилизации, кроме их собственной. На востоке были Персидская и Египетская империи, которые вели торговлю, время от времени воевали и распространяли свое культурное влияние. На западе находился Карфаген, незнакомая враждебная сила, которая захватила западную часть Сицилии и не давала греческим кораблям заплывать слишком далеко на запад в Средиземное море.
Суровый, состоящий из крупных частей пейзаж Кефалонии типичен для восточного побережья и островов Ионического моря. По нему видно, как воображение могло подсказывать конкретные представления для нового понятия «основное вещество», предложенного и истолкованного Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром.
Политически греки были организованы в города-государства. Это была децентрализованная модель общества, которая сложилась естественно и хорошо подходила к географическим условиям материковой Греции. На побережье Малой Азии и на соседних с ним островах, а также на сицилийских равнинах эта форма общественной организации оказалась не вполне стабильной. Малоазиатские города не смогли сотрудничать между собой настолько эффективно, чтобы избежать завоевания, и Персия захватила их по одному. А политическая история Самоса и Сицилии показывает, что там временами была сильная централизованная диктатура, а временами довольно свободно организованная демократия.
Хотя основа культуры у этих двух регионов была во многих отношениях одинаковой, между ними были и различия. В Ионии важнейшим центром жизни всегда было море. Персия могла быть врагом, но с ней все-таки было много путей сообщения, и восточные греки признавали ее цивилизованным обществом. Не признающая национальных различий коммерция и техническая традиция подсказывали греческим поселенцам, что можно порвать со стариной и поставить под сомнение старые идеи. На западе земледелие и коневодство были так же важны, как мореплавание. Карфаген, похоже, имел гораздо меньше общих дел с греками и казался им гораздо более чужим и диким, чем Персия. Огромные храмы западной границы напоминают нам, что колонисты чувствовали себя, во всяком случае в течение какого-то времени, на краю пустоты и пытались сохранить и укрепить ту религию, которую принесли с собой.
Вероятно, приключенческий настрой души, характерный для границы, был необходимым элементом для возникновения греческой науки и философии. Труднее понять, почему философия на востоке проявила в своем развитии тенденцию к сочетанию материалистических объяснений и раннего признания постоянно возникающего перед людьми факта, что мир нестабилен и постоянно меняется, а на западе приобрела склонность к формализму и рано выразила интуитивное чувство того, что в мире есть что-то постоянное и неизменное, лежащее за границей той действительности, которую воспринимают человеческие чувства.
Фалес
Первооткрыватель психики и философии
Фалес из Милета учил, что «все вещи – вода».
Греки считали Фалеса великим изобретателем за его успехи инженера. Насколько они недооценивали его, видно по тому, что Фалес мог бы не без оснований назвать своими изобретениями понятия «материя», «физика», «наука» и «философия». Как ни странно это звучит, все эти понятия надо было открыть. И чтобы открыть их, надо было расстаться с мифологией. Утверждение Фалеса, что «все вещи – вода», может показаться малообещающим началом для тех науки и философии, которые мы знаем сегодня. Но по сравнению с мифологией, внутри которой оно родилось, это была революция. Разрыв с мифологией не был, да и не мог быть полным. Фалес еще не мог представить себе материю как нечто абстрактное и отделить понятие о ней от мысленного образа морской воды: одно было неотъемлемо от другого. А его представление об изменении еще основывалось на чувстве, что «все вещи имеют душу». Но Фалес задал вопрос нового типа, и этот вопрос придал четкую форму западной мысли.
В одной старинной китайской книге сказано: «Все, что существует, находится в пространстве; и все, что находится в пространстве, имеет звук». Сегодня мы вряд ли согласимся со вторым из этих высказываний, но первое более правдоподобно. В число тем, которыми сейчас занимаются наши ученые-исследователи, входят вопросы о природе пространства и материи, о способах превращения массы в энергию, новые конструкции циклотронов и т. д. Мы считаем все это «наукой», и порой мы – или, по крайней мере, научные обозреватели наших газет – пишем, что сегодняшняя наука занята поисками глубочайшей природной основы нашей действительности. Так ли это на самом деле, зависит от того, истинно ли утверждение, что все существующее в мире расположено в пространстве и состоит из вещества, а это скорее общефилософский вопрос, чем узконаучный.
Именно Фалеса из Милета мы должны благодарить за возникновение на Западе и философии, и науки1. Город Милет в Малой Азии был известен своими инженерами; во времена Фалеса – в первой четверти VI века до н. э. – это был процветающий космополитический морской порт, центр торговли с Египтом, Грецией и Персидской империей. Афины и Спарта в то время были маленькими провинциальными городками2.
Как бывает в большинстве случаев при рождении чего-то нового, появление философии на свет вылядело достаточно скромно; и как во многих случаях бывает с тем, что старо, ее историю трудно выделить из потока информации и восстановить3. Фактически наш главный источник сведений о Фалесе – это короткая цитата из Аристотеля, которая начинается словами: «Фалес из Милета учил, что все вещи – вода4».
Этот отрывок очень бросается в глаза, потому что и вопрос, стоящий за утверждением Фалеса, и характер предложенного в цитате ответа представляют собой нечто новое. До Фалеса никто в Древней Греции и на Ближнем Востоке не пытался ответить, «что такое все вещи». Те объяснения реального мира, которые были, принимали форму анимизма и мифологии5. Сэр Джеймс Фрэзер, великий антрополог XIX века, предположил, что люди донаучной эпохи ошибочно принимали «ассоциацию идей в своих умах» за «причинно-следственные отношения между вещами»6. И хотя мы теперь знаем о первобытной культуре и первобытной мифологии гораздо больше, чем Фрэзер, это его замечание по-прежнему остается поучительным. Попытки причинить вред врагу путем симпатической магии, уничтожая его изображение, – прекрасный пример того, о чем писал Фрэзер: поскольку представление об определенном человеке ассоциативно связано с его изображением, тот, кто выполняет ритуал, предполагает, что между ними есть реальная причинно-следственная связь. А ранние греки на примитивном уровне своей культуры считали, что мир природы населен действующими существами, похожими на людей, только живущими далеко и большими по размеру, которые «делают то, что происходит». Они верили, что ветер дует потому, что кто-то похожий на них самих надувает щеки так же, как делали они, когда дули. Эти действующие существа имели склонность к своенравию и непредсказуемому поведению, и в объяснениях такого рода не было ничего позволяющего предположить, что в природе есть неизменные закономерности и законы. Например, планеты, которые как будто блуждают по небу, были просто «путешественниками»7.
А Фалес, наоборот, пытался формулировать объяснения в терминах причинно-следственных связей между существующими в пространстве и времени предметами, а не в терминах субъективных ассоциаций между идеями.
Давайте рассмотрим ближе тот фундаментальный вопрос, на который ответил Фалес. Поиск ответа на вопрос «Что такое все вещи?» требовал огромной проницательности и огромной силы воображения, поскольку этот вопрос подразумевает, что все в мире – это части единого мира «бытия» и что все вещи имеют какое-то общее свойство. Он влечет за собой вопрос о том, что такое «бытие», в отличие от менее обобщенных вопросов о том, что такое те или иные конкретные живые существа. И прежде чем ответить на этот вопрос, Фалес предположил, что бесконечное разнообразие того, что существует в мире, структурировано настолько, что позволяет дать какой-то один ответ8. С этого допущения и началась философия.
Философия в том смысле, в котором мы будем применять этот термин, кроме всего прочего – попытка найти единственное интуитивное определение бытия, единственную систему реального мира, которая могла бы синтетически объединить и скрепить многочисленные специализированные компоненты наших знаний и нашей общественной структуры. Нет никаких указаний на то, что кто-либо до Фалеса занимался этим вопросом или ожидал, что если бы кто-то заинтересовался им, то наблюдения над физическим миром и их обобщение могли бы дать на него ответ. Ближневосточные легенды, в которых описано, как мир поднимается из воды после Всемирного потопа, отвечают на другой вопрос: как возник мир? Они не задаются вопросом о том, что он такое. Они дают ответ другого рода: «кто-то сделал мир». Нет, определенные вещи всегда действуют определенным образом.
В греческом языке эпохи Фалеса слово hydor (вода) означало не только Н2О, но применялось и для обозначения «любого жидкого вещества». (Примерно так же, как в средние века латинское слово aqua (вода) применялось алхимиками для обозначения любого жидкого химического препарата: мы можем найти у них названия реактивов aqua fortis (сильная вода), aqua regia (царская вода), aqua vitae (вода жизни).) Фалес, конечно, не имел в своем распоряжении ни одного из тех точных слов и понятий, которыми мы пользуемся, когда говорим о «материи в жидком состоянии». Понятие «материя» он открыл сам, и тогда еще не было химических каталогов, где бы перечислялись все виды воды.
Что привело Фалеса к его идее? Хотя мы этого не знаем, мы можем предположить, что к его теории имеют отношение четыре фактора. Во-первых, он был инженером. Милет был центром обучения инженеров персидской армии, а в рассказах о Фалесе говорится, что он был человеком этой профессии. Во-вторых, он был из Милета. В Милете, где смешивались в одной толпе греческие, персидские, египетские и лидийские купцы и путешественники, отбросить принятые в Греции представления было легче, чем где-либо еще. В-третьих, он был путешественником и моряком: из более поздних рассказов мы узнаем о его путешествиях и созданных им новых правилах навигации. Как и у других ионийских греков, центром его мира было Эгейское море. В-четвертых, вода – свежая вода – в этой части мира не была чем-то, что дается даром. Ее огромное значение для всех живых существ и ее вкус здесь оценивали по достоинству: через сто лет после Фалеса поэт Пиндар написал: «Лучшая из всех вещей – вода».
Как бы ни сочетались между собой эти стимулирующие компоненты прошлого опыта, в любом случае из них родилась новая идея – мысль, что различия между вещами каким-то образом обусловлены преобразованиями воды – ее переходами из жидкого состояния в огненное, иначе говоря, газообразное, или твердое, а именно: что в основе этих различий лежит определенная закономерность, потому что все вещи, существующие в природе, – это материя в покое или в движении.
Если говорить коротко, то Фалес определил основные сущностные свойства материи как такие, которые отвечают на его новый философский вопрос; поэтому он имеет право называться первооткрывателем не только философии, но и науки9.
Второй отрывок мысли Фалеса – это снова короткая цитата из его высказываний, сохраненная Аристотелем: «магнит имеет душу («психе»), потому что двигает железо»10. Так же, как слово «гидор» в греческом языке времен Фалеса не всегда означало только один вид жидкости, так и «психе» не имело того значения «сознательное «я», которое сразу же подсказывает нам перевод «душа». Для Фалеса «психе» могло означать всего лишь источник движения, внутреннюю силу. (Другую такую же силу-душу Фалес видел, когда наблюдал за электростатической силой притяжения предметов к янтарю.) Но эта информация все же показывает, что «жидкая материя» Фалеса все-таки была в какой-то степени живой и что изменения и действия, происходящие в природе, частично объяснялись тем, что материя живая11. Представления о безличной природе, в которой нейтральная материя автоматически передает импульсы движущих сил, не возникало у Фалеса. Поэтому мы не совсем правы, когда, говоря о его идеях, применяем термины «природа», «материя» или «автоматические причинно-следственные отношения». Полное разграничение представлений о природе как о чем-то механическом и представлений о природе как о чем-то живом произошло только через восемьдесят лет после него.
То, что слова «жидкость» и «душа» были такими двусмысленными в греческом языке во времена Фалеса, не случайно. До него никто даже не вступал на путь формирования ясного представления о материи, а без понятия «материя» никому не могли прийти на ум ни понятие «физика» (изучение движущейся материи), ни понятие «материализм» (философский взгляд, согласно которому все, что существует, материально). У греков тогда еще не было ясного представления о человеческом «я», оно же душа, оно же сознание; они склонялись к тому, чтобы отождествлять «я» человека с его телом. Представление о душе человека как внутреннем «я», отдельном от тела, появилось на сцене философии почти через два столетия после Фалеса.
Некоторые философы будут спорить с этим, доказывая, что ясновидение и проведение четких границ несовместимы. Они полагают, что философия неизбежно теряет дар ясновидения по мере того, как наука, жизнь и учеба создают эти четкие границы. Рассматривая историю мысли, мы должны спросить себя, действительно ли факты показывают, что такое противоположение обязательно, то есть существует всегда12.
Кроме положений Фалеса о том, что вода – основное вещество и «психе» – причина движения, существует только спутанный клубок анекдотов и легенд о нем.
Благодаря тому что у Фалеса было много талантов, он был героем не только для позднейших историков философии: древние греки сделали его и литературным героем. Разнообразие интересов и изобретательность Фалеса привлекали их, и ему было приписано множество мудрых афоризмов и приключений. Вероятно, первый на Западе рассказ о рассеянном ученом был сочинен про Фалеса13. (Вот как звучит эта прародительница всех шуток о рассеянных профессорах: «Фалес однажды ночью смотрел на звезды и из-за этого упал в оросительную канаву. Молодая служанка-фракийка вытащила его оттуда и отругала: «Как ты собираешься понять, что происходит в небе, если не можешь разглядеть даже собственные ноги?»)
Часть этих рассказов и анекдотов, видимо, основана на каких-то фактах и позволит нам с интересом – который почти становится муками Тантала – бросить несколько быстрых взглядов на творческий путь этого раннего древнегреческого мыслителя. Например, точно известно, что Фалес предсказал затмение Солнца, остановившее сражение 23 мая 585 года до н. э.14 Говорили, что он измерил высоту египетских пирамид по их теням и разработал способ измерять расстояния от находящихся в море кораблей до берега. Говорили, будто Фалес, чтобы заставить замолчать своих друзей, которые поддразнивали его тем, что он так умен, а не богат, скупил в своем краю все маслобойни, где выжималось оливковое масло, и накопил крупное состояние, а потом потратил его на статую, которую по обету поднес в дар храму в Дельфах. (Эту историю рассказал Аристотель и предложил, чтобы кто-нибудь собрал рассказы о том, каким образом люди зарабатывают большие деньги.)15 Мне самому эта история нравится, и я думаю, что она несомненно произошла на самом деле, но отбрасываю ее позднейшее украшение – рассказ, согласно которому Фалес предсказал по звездам необыкновенно богатый урожай.
О Фалесе также рассказывали, что он изменил направление реки Галис для царя Лидии Креза, написал сборник литературных произведений, посоветовал мелким греческим городам Малой Азии объединиться, потому что по отдельности они будут захвачены Персидской империей16, измерил отношение диаметра Солнца к размеру всего небосвода; предложил несколько новых правил навигации (но сами правила, похоже, безнадежно искажены при передаче этого рассказа)17. Многое в этих легендах, вероятно, основано на фактах, и они создают привлекательный образ человека с напряженно работающим, любознательным и разносторонним умом.
Некоторые предполагают, что Фалес просто повторил ближневосточные мифы о великом потопе и о сотворении мира; другие считают, что он был только инженером, которому жившие позже почитатели приписали и дар философского прозрения. Но ни одна из этих версий не согласуется с фактами. Совершенно верно, что Фалес был здравомыслящим, деловым и нормальным человеком, а это не совпадает с распространенным представлением о философе как аскете и мистике, который излагает свои мысли загадочно и поэтически. Но само это представление подразумевает довольно односторонний взгляд на то, что такое философия.
Читатель, которому нравится заниматься историческими расследованиями, найдет литературные источники и исследовательские работы, которые восхитительно реконструируют и интерпретируют слова и дела Фалеса. В частности, книга «Жизнь и мнения выдающихся философов», составленная Диогеном Лаэрцием в III веке н. э., полна анекдотов и рассказов о Фалесе. Ее весело и приятно читать, хотя Диоген некритически относился к своим источникам и его информация часто недостоверна.
Анаксимандр
Идея нейтральной материи
Все вещи возникают из безграничного…
Фалес со своей идеей о систематическом развитии естественных наук стал для греков великим первопроходцем в области мысли. Но современные ученые скорее выберут своим героем его преемника, более поэтичного и пылкого Анаксимандра. Он поистине может быть назван первым настоящим философом.
Анаксимандр пошел дальше блестящего, но простого утверждения, что все вещи сделаны из одной и той же материи, и показал, как глубоко должно проникать средствами объективного анализа в реальный мир. Он сделал четыре четко определяемых крупных вклада в понимание людьми мира:
1. Он понял, что ни вода и никакое другое обычное, как она, вещество не может быть базовой формой материи. Эту базовую форму он представлял себе – правда, довольно смутно – в виде более сложного безграничного нечто (которое назвал «апейрон»). Его теория прослужила науке двадцать пять веков.
2. Он перенес понятие закона из человеческого общества в физический мир, и это было полным разрывом с прежними представлениями о капризной анархической природе.
3. Он первым догадался применять механические модели, чтобы облегчить понимание сложных природных явлений.
4. Он сделал в зачаточной форме вывод о том, что Земля изменяется с течением времени и что высшие формы жизни могли развиться из низших.
Каждый из этих вкладов Анаксимандра – открытие первой величины. Мы можем получить представление о том, насколько они важны, если мысленно уберем из нашего современного метода мышления все, что связано с понятиями, что такое нейтральная материя, законы природы, вычислительный аппарат масштабов и моделей и что есть эволюция. Мало что осталось бы в этом случае от науки и даже от нашего здравого смысла1.
Анаксимандр был родом из Милета и появился на свет примерно через сорок лет после Фалеса (следовательно, его зрелая деятельность должна была начаться около 540 года до н. э.). О нем писали, что он был учеником Фалеса и сменил своего учителя в милетской школе философии. Но и дата, и эти сведения основаны на позднейших сообщениях, которые не точны хронологически и переносят представление об организованных по определенной системе школах на ранний период древнегреческой мысли, когда в действительности еще не было таких формальных объединений философов и ученых. Однако мы можем быть уверены, что Анаксимандр был младшим земляком Фалеса, осознал и высоко оценил новизну его идей и развил их – как именно, уже было сказано. Анаксимандр был философом в том смысле, что занимался в числе интересовавших его вещей и философскими вопросами; но в ту раннюю эпоху философия и наука еще не разделились на отдельные области. Нам лучше считать Анаксимандра любителем, чем следовать за предположениями позднейших историков, переносивших в прошлое свое представление о философе-профессионале.
К уже упомянутым сведениям о его родном городе, времени жизни и знакомстве с Фалесом мы мало что можем прибавить. Анаксимандр был разносторонним и практичным человеком. Милетцы выбрали его главой новой колонии, что говорит о его важной роли в политической жизни2. Считается, что он много путешествовал, и это, возможно, подтверждают три факта его биографии: он был первым греческим географом, который составил карту; одна его поездка – из Ионии на Пелопоннес – подтверждается свидетельством о том, что он создал в Спарте новый инструмент в форме солнечных часов, который измерял продолжительность времен года; то, что он видел высоко в горах окаменевших рыб, говорит о том, что он, вероятно, поднимался в горы Малой Азии и внимательно всматривался в то, что видел вокруг3. Добавляя к этому традиции Милета, родины инженеров, и то, что Анаксимандр применял технологические приемы, когда конструировал инструменты, карты и модели, мы также можем предположить, что он, как и Фалес, был по меньшей мере знатоком инженерного дела, а возможно, и профессиональным инженером.
Первым крупным вкладом Анаксимандра в науку были его новый метод анализа и понятие «материя». Он соглашался с Фалесом в том, что все в мире состоит из какого-то одного вещества, но считал, что это не могло быть ни одно привычное для человека вещество вроде воды, скорее это было «безграничное нечто» (апейрон), в котором изначально содержались все формы и свойства вещей, но которое само не имело никаких характерных для него конкретных признаков4.
В этом месте Анаксимандр сделал в своих рассуждениях интересный ход: если все существующее в действительности – материя с определенными свойствами, эта материя должна иметь возможность быть в одних случаях горячей, в других холодной, иногда мокрой, а иногда сухой. Анаксимандр считал, что все свойства материй группируются в пары противоположностей. Если отождествить материю с одним свойством из такой пары, как сделал Фалес, сказав «все вещи – вода», то из этого последует вывод: «быть – значит быть мокрым. А что же тогда происходит, когда вещи становятся сухими? Если материя, из которой они состоят, всегда мокрая (так Анаксимандр определил Фалесово слово гидор), высыхание уничтожило бы материю в вещах, они стали бы нематериальными и перестали существовать. Точно так же материю нельзя отождествить ни с каким одним качеством и тем самым исключить его противоположность. Отсюда следует, что материя есть нечто безграничное, нейтральное и неопределимое. Из этого «резервуара» вычленяются противоположные качества: все конкретные вещи возникают из безграничного и в него возвращаются, когда перестают существовать5.
Это движение философской мысли от примитивного определения материи как гидор (вода) к пониманию материи как бесконечной субстанции – огромный шаг вперед. И действительно, до XX века в науке и философии нового времени материю часто описывали как «нейтральное вещество», что очень похоже на «апейрон» Анаксимандра6. Но между современной идеей и ее древней прародительницей есть одно коренное различие: Анаксимандр еще не знал разницы между образом, который создает воображение, и абстрактной умственной конструкцией. По-настоящему абстрактное понятие материи появилось только через двести лет после Анаксимандра, когда была создана атомистическая теория. Бесконечное вполне могло ассоциироваться у Анаксимандра с образом серого тумана или темной дымки на закате или холмов неопределенных очертаний на горизонте. Тем не менее эта попытка дать определение веществу – основе всей физической реальности – вела прямо к тем позднейшим более совершенным схемам, которые мы обнаруживаем, когда возникает материализм как полностью развитая философская система.
Ввод Анаксимандром моделей в астрономические и географические исследования был не менее важным переломным шагом в развитии науки7. Очень мало людей понимают, как велико значение моделей, хотя мы все их используем и не можем обойтись без них. Анаксимандр пытался конструировать предметы, воспроизводя присущие им линейные соотношения, но в меньшем масштабе. Одним из результатов этого стала пара карт: карта земли и карта звезд. Карта показывает расстояния до различных мест и направления, в которых надо к ним двигаться. Если бы людям приходилось узнавать, где находятся другие города и страны, по дневникам путешественников и собственным впечатлениям, то путешествия, торговля и географические исследования были бы очень тяжелыми занятиями. Анаксимандр построил также модель, воспроизводившую движения звезд и планет; она состояла из колес, вращавшихся с разными скоростями. Подобно проекциям в наших современных планетариях, эта модель позволяла ускорять видимое движение планет по их траекториям и находить в нем закономерности и определенные соотношения скоростей. Чтобы коротко объяснить, сколь многим мы обязаны применению моделей, достаточно напомнить, что атомная модель Бора сырала ключевую роль в физике и что даже химический эксперимент в пробирке или опыт над крысами в биологии – это применение техники моделирования.
Первая астрономическая модель была довольно простой и безыскусной, но при всей своей примитивности она была прародительницей современного планетария, механических часов и множества других родственных им изобретений8. Анаксимандр предположил, что земля имеет форму диска, расположена в центре мира и окружена полыми трубчатыми кольцами (современный дымоход – хорошее подобие того, что он имел в виду) разного размера, которые вращаются с разными скоростями. Каждое трубчатое кольцо полно огня, но само состоит из твердой оболочки вроде скорлупы или коры (эту оболочку Анаксимандр называет флойон), которая позволяет огню вырываться наружу только из нескольких отверстий (дыр для дыхания, из которых огонь вырывается, словно его раздувают кузнечные мехи); эти отверстия – то, что мы видим как солнце, луну и планеты; они движутся по небу, когда вращаются круги. Между круглыми колесами и землей расположены темные облака, которые вызывают затмения: затмение происходит, когда они закрывают отверстия в трубах от наших глаз. Вся эта система в целом вращается, делая оборот за один день, и, кроме того, каждое колесо движется само по себе9.
Было ли в этой модели такое толкование и для неподвижных звезд, не вполне ясно. Похоже, что Анаксимандр сконструировал глобус неба, но нам неизвестно, как это расширение области применения техники карт и моделей было связано с движущимся механизмом из колец и огня.
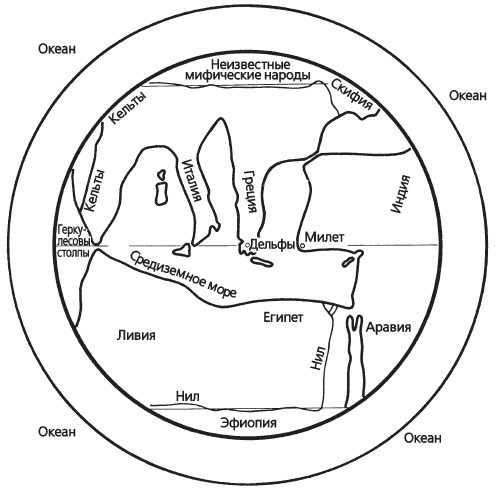
АНАКСИМАНДР. ПЕРВАЯ КАРТА
Эта карта – реконструкция того, что, как считают, было первой когда-либо начерченной географической картой. Ее центр – Дельфы, где камень, называвшийся «пуп земли» (по-гречески «омфалос»), отмечал точный центр земли. Картографом, создавшим ее, был Анаксимандр, греческий философ, живший с примерно 611-го по 547 год до н. э. Ранние карты все были круглыми. Полвека спустя Геродот комментировал это так: «Мне смешно видеть, что так много людей до сих пор чертили карты Земли, но ни один из них не изобразил ее даже сносно: ведь они рисовали Землю круглой, словно она сделана с помощью компаса, и окружали ее рекой Океаном.
Великим вкладом Анаксимандра в науку была общая концепция моделей, которые он применял таким же образом, как мы применяем ее теперь. В составлении первой карты известного ему мира он проявил то же самое сочетание технической изобретательности и научной интуиции. Точно так же, как движущаяся модель может показать соотношения длительных астрономических периодов в меньшем масштабе, в котором их легко наблюдать и контролировать, карта представляет собой модель расстояний между объектами и их взаимного расположения в меньшем масштабе, так что человек может охватить все это одним взглядом; карта избавляет его от необходимости путешествовать долгие месяцы или пытаться разобраться в разрозненных заметках, где путешественники описывали свои маршруты, чтобы определить расположение мест, расстояния и направление движения.
Идея карты уже сама по себе – показатель любви к четкости и симметрии, которая была характерна для греческой науки и для позднейших классических карт и моделей. Мир у Анаксимандра имел форму круга с центром в Дельфах (где священный камень омфалос, как считали греки, отмечал точный центр Вселенной) и был окружен океаном. Как и колеса – «дымоходы», эта карта стала примитивным предком огромного потомства: она прародительница карт и чертежей, которые сделали возможным существование современной навигации, изыскательских работ в географии и геологии. «Карта звезд», возможно, еще более яркий пример того, как работал этот оригинальный научный по своей природе древний ум: мысль нанести небо на карту вместо того, чтобы смотреть на узоры, в которые складываются звезды, как на предзнаменования или украшения, подразумевает, что земные и небесные явления имеют одинаковую природу, и означает попытку понять мир не путем эстетической фантазии и не безответственным путем религиозного суеверия.
Но это применение моделей для дублирования изучаемых закономерностей природы, какой бы огромной ни оказалась их роль за прошедшие с тех пор века, всего лишь побочное дополнение к более общей идее о том, что природа регулярна и предсказуема. Эту идею Анаксимандр выразил в своем определении природного закона10: «Все вещи возникают из безграничного… они возмещают друг другу ущерб, и одна платит другой за свою вину перед ней, когда совершает несправедливость, согласно счету времени»11.
Хотя кажется, что Анаксимандр повторяет идеи высокой трагедии, в которой «гибрис» (избыток гордости) неизбежно приводит к «немесис» (падению-возмездию), он говорит чисто юридическим языком, позаимствованным из судебной практики, где вред, который один человек причиняет другому, компенсируется уплатой денег. Здесь он использует в качестве модели для периодической смены природных явлений не часы, а маятник. «Все вещи», которые по очереди нарушают закон и расплачиваются за это, – это те противоположные друг другу качества, которые «вычленяются» из безграничного. События в природе и в самом деле часто имеют форму постоянного движения от одного крайнего состояния к другому, противоположному, и обратно; наглядные примеры этого – прилив и отлив, зима и лето. Это движение и стало моделью для Анаксимандровых «законов природы»: одно качество пытается развиться больше, чем следует, вытесняя свою противоположность, и поэтому «справедливость» отбрасывает его назад, наказывая за вторжение на чужую территорию. Но с течением времени та из противоположностей, которая проигрывала вначале, становится сильнее, в свою очередь переступает запретную черту и, «согласно счету времени», должна быть возвращена в свои законные пределы.
Это было огромным прогрессом по сравнению с миром Фалеса, где за изменения и движение отвечали индивидуальные «психе» вещей, хотя склонность к наделению всего человеческими свойствами и мифологическому мышлению не угасла полностью. С исторической точки зрения интересно, что определение закона природы возникло как перенос в другую область уже сложившегося в обществе представления о судебном праве: мы скорее стали бы ожидать противоположного, поскольку природа кажется нам гораздо более упорядоченной, чем человеческое общество. Однако Анаксимандру свод законов показался самой лучшей моделью, какую он мог найти, чтобы пояснить свою новую интуитивную идею точной периодичности и закономерности естественного порядка.
К идее эволюции Анаксимандра привели знакомство с окаменелыми останками ископаемых животных и наблюдения за младенцами12. Высоко в горах Малой Азии он видел в толще камня окаменевших морских животных. Отсюда он сделал выводы, что эти горы когда-то находились в море, под водой, и что уровень океана постепенно понижался. Мы видим, что это был частный случай его закона чередования противоположностей: разлив и высыхание разлившейся воды. Он совершенно верно рассудил, что если когда-то вся земля была покрыта водой, то жизнь должна была зародиться в этом древнем океане. Он говорил, что первыми и простейшими животными были «акулы». Мы не имеем объяснения, почему именно они, но, вероятно, потому, что, во-первых, акулы казались ему похожими на ископаемых рыб, которых он видел, и, во-вторых, очень жесткая кожа акул казалась ему признаком примитивности. Глядя на человеческих детей – у него был по меньшей мере один собственный сын, – он пришел к заключению, что ни одно такое беспомощное живое существо не могло выжить в природе без защищающего окружения. Жизнь на суше произошла от морской жизни: по мере того как вода высыхала, животные приспосабливались к этому, отращивая колючие шкуры. Но людям из-за их долгой беспомощности в детстве был нужен еще какой-то дополнительный процесс. Но перед этой задачей Анаксимандр встал в тупик: он смог лишь предположить, что люди, может быть, развивались внутри акул и освобождались из них, когда акулы умирали, а сами к этому времени становились более способны к самостоятельной жизни.
В своих размышлениях на биологические и ботанические темы Анаксимандр высказал еще одну оригинальную мысль: что во всей природе существа, которые растут, делают это одинаковым образом. Они растут концентрическим кольцами, самое внешнее из которых затвердевает и превращается в «кору» – кору деревьев, кожу акул, темные оболочки вокруг огненных колес в небе. Это был способ собрать в одно целое явления развития, обнаруженные по отдельности в астрономии, зоологии и ботанике; но эта «раковинная» теория, в отличие от других идей, которые мы здесь рассматривали, никогда не принималась всерьез. Позднейшие философы и люди науки, от древнегреческих до современных американских, выбирали в качестве модели того, чем должна быть наука, либо физику, либо зоологию (крайние случаи: соответственно самый простой и самый сложный изучаемый предмет). А высказывание Анаксимандра больше похоже на обобщающий вывод из ботаники13.
Анаксимандр, сочетавший в себе любознательность ученого, богатое воображение поэта и гениальную дерзкую интуицию, несомненно, может разделить с Фалесом честь стоять у истоков греческой философии. После Анаксимандра греческие мыслители смогли увидеть, что новые вопросы, поставленные Фалесом, подразумевают нечто такое, что выходит далеко за пределы тех ответов, которые предлагали и Фалес, и сам Анаксимандр. Мы словно видим, как наука и философия на миг замерли перед только что открывшимся для них новым миром – миром отвлеченной мысли, который ждал своих исследователей.
Анаксимен
Изменение без личности
Все изменения – это сгущение и разрежение.
Фалес и Анаксимандр стали первооткрывателями нового мира естественные наук и философии. Но все же они не были свободных от старых мифологических методов мышления: за изменения, происходящие в мире, у них отвечали персонифицированные силы: душа – «психе» у Фалеса и богиня Дике у Анаксимандра. Человеком, преодолевшим последние остатки мифа, был Анаксимен, третий философ из Милета. Он открыл, что изменения в природе можно объясниты механическими процессами.
Анаксимен считал, что все изменения в мире вызываются изменением – в результате конденсации или разрежения – плотности единого для всего мира вещества-основы, которое он называл аэр. Огромным достоинством этой новой идеи было то, что она дала ученым почву для новых экспериментов, модели и четкие физические объяснения происходящих в природе изменений и их причин1. Этого образа мыслей мы придерживаемся и сегодня. Когда в наши дни человек задает себе вопрос, почему вода превращается в пар, он уже думает не о «душе» или «грехе гордыни», а об огне, который создает давление, то есть силу, «раздвигающую в стороны» молекулы воды. И Анаксимен доказывал, что различные качества и состояния вещества, которые можно наблюдать, – это просто результаты сдвигов давления, создающих различные плотности. Его объяснение все же оставляет желать лучшего в смысле точности, поскольку представление о том, что вещество состоит из частиц, которые могут быть ближе придвинуты одна к другой или отодвинуты друг от друга, появилось лишь через столетие после Анаксимена. У этого философа вещество скорее было непрерывным и растягивалось каким-то образом, который он определял не очень точно.
Прикладное применение этой новой идеи в астрономии позволило улучшить Анаксимандрову первую модель Вселенной. Введя в нее «вращающийся вихрь», по-гречески дине, Анаксимен смог описать, как более плотные и потому более тяжелые клочья сжатого вещества собираются в центре этого вихря, подобно тому как палка втягивается в центр водоворота, а более легкое вещество выталкивается ближе к краям вихря. Одновременно с этим, по его мнению, происходили изменения и столкновения, которые постоянно меняли состояние этой системы, поскольку нагревание и охлаждение изменяли плотность отдельных участков ее внешней части и центра. Если не считать необходимости объяснить, как началось движение, эта вихревая модель представляет собой полную и самоочевидную систему природы: для ее объяснения не нужны ни души, ни боги, а только движущаяся материя. Модель вращающегося мира, совершенствуясь в деталях, оставалась ключевой схемой его строения в астрономии и физике в течение десяти веков после Анаксимена.
Например, Аристофан в своей комедии «Облака» упоминает о керамической модели вихря. Аристофану не нравилась эта наука без религии, частью которой была такая модель, и в пьесе у него есть старик, на которого она сначала производит сильное впечатление, поскольку он заявляет: «Зевс больше не правит, вместо него правит Вихрь», а в конце концов он возвращается к религиозному способу мышления: «Прости меня, Зевс! Я по ошибке принял глиняный волчок за бессмертного бога…» Это доказывает, что вихревая модель мира оставалась стандартом для науки еще в 423 году до н. э., когда были написаны «Облака».
Чтобы осознать величие и важность достижений трех милетских философов, каждый из которых глубже предыдущего проникал в мир и лучше видел его материальность, однородность и механический характер причинно-следственных отношений в нем, – современный читатель должен понять, что перед нами – далекие предшественники современной физики и астрономии. Например, в восхитительной книге профессора Джорджа Гамова «Рождение и смерть Солнца» показано, как современная астрофизика может описывать истории жизни звезд в терминах поочередного увеличения и уменьшения их плотности2. Конечно, по чистоте экспериментов и по сложности и объему опыта разница между современным и древним ученым огромна. Некоторые понятия из книги профессора Гамова, например «гравитационные силы», «ядерные реакции», «орбиты электронов», – это технические идеи такого уровня, что понадобилось два тысячелетия экспериментов и работы мысли, прежде чем их удалось точно сформулировать или измерить. И тем не менее тот взгляд на мир, который принят в современных физике и астрономии, в основном – милетский. Следовательно, когда мы дойдем здесь до того, как Сократ позже критиковал милетцев, нам может оказаться интересно спросить себя, насколько эта критика применима к нашей сегодняшней науке3.
Кроме идеи о механическом характере изменений в природе, Анаксимен выдвинул еще одну идею: что вещество, которое является основой мира, – не вода и не нечто безграничное, а то, что он называл «аэр», то есть воздух4. То, что такой гениальный человек, каким проявил себя Анаксимен, мог посчитать такое представление о материи шагом вперед, кажется движением назад и может озадачить. Но мы должны помнить, что наше понятие материи очень далеко от милетского понятия основы всех вещей. Если «безграничное» у Анаксимандра действительно было серым туманом, мы можем понять, почему слово «аэр» могло показаться Анаксимену более точным обозначением этого вещества без определенных свойств. В то время воздух не считался «телесным». Только через пятьдесят лет греческие ученые доказали, что воздух все же занимает место в пространстве и в сжатом состоянии оказывает сопротивление другим телам. В самом деле, по сравнению с водой или землей воздух действительно кажется лишенным определенных свойств и невещественным: он свободно пропускает через себя звуки и свет, и, если он не движется с большой скоростью, кажется, что он не оказывает сопротивления, когда мы проходим сквозь него.
Анаксимен мог выбрать воздух еще и потому, что в те времена понятие «воздух» содержало в себе идею дыхания, души, дающей жизнь людям и животным. Признание воздуха основой вещей подразумевало связь между жизнью и материей.
Само слово «аэр» использовалось Гомером и более поздними писателями для обозначения темного тумана; завеса из «аэра» могла сделать героя невидимым. Родственное этому слову слово «айтер» (aither) означало ярко светящийся воздух и сияющее небо. Слово «пневма» (pneuma) применялось в значениях «дыхание» и «дух жизни» у людей и животных. Четкой границы между этими тремя словами не было, и «аэр» могло иметь все три значения вместе.
«Аэр» – темный туман – был именно тем образом, который ассоциировался с «безграничным». Чтобы сказать о «нейтральности» своего вещества-основы, Анаксимен немного сместил акценты и выбрал более понятное и распространенное значение слова «аэр» – значение «воздух». Поскольку он рассматривал природу чисто механически, ему теперь нужно было как-то объяснить существование жизни и души, а традиционная ассоциативная связь «аэр – пневмапсихе» (воздух – дыхание – душа) предлагала ему включить жизнь в естественный порядок вещей.
Тем не менее переход от понимания материи как безграничной субстанции к определению материи как «воздуха» был временным шагом назад. «Безграничное» – термин, побуждающий нас выходить в научных исследованиях за пределы наглядных образов, а «воздух» совершенно не подходит для этого.
Обсуждая новую идею Анаксимена, мы указали на то, как сильно милетское представление о вращающемся мире похоже в своей основе на картину мира, принятую в нашей современной физике и астрономии. Но понятие «аэр» указывает на большую качественную разницу между прозрениями ученых на том раннем этапе и теми же идеями сегодня.
Профессор Ф.С.К. Нортроп в своей книге, посвященной сравнительному анализу культур и разработке научной методики этого анализа, проводит как раз то самое различие между этими двумя способами мышления, которое важно для нас здесь. Он называет это разницей между «интуитивными понятиями» и «понятиями-постулатами»5.
«Большинство людей и культур дают своим идеям значения, ассоциируя или отождествляя их с конкретными картинами, возникающими в воображении. Когда мы думаем о материи как о море, похожем на неутомимо движущееся Эгейское море, может быть, покрытое волнами и синее, – это интуитивное понятие. «Понятия-постулаты», напротив, есть результ чисто интеллектуальной работы; их получают в результате обобщения, оставляя при этом воображение позади; это абстрактные идеи, которые нельзя представить в виде картин. Такие понятия-постулаты мы получаем не из своего непосредственного опыта: наши глаза не могут увидеть квадратный корень или закон тяготения. Скорее они связаны с опытом через «косвенную проверку» – через изучение отдельных примеров и частных случаев, которые можно наблюдать. Согласно Нортропу, специфические черты научного и юридического мышления, принятого на Западе, являются результатами того, что греки открыли обобщение. Три милетца, которые начали западную науку и философию, сделали попытку – еще достаточно примитивную – использовать для объяснения вещей «понятия-постулаты». Но эти люди не имели ни опыта, ни аппарата логики для того, чтобы пойти дальше той смеси идеи и образа, которая называется «интуитивное понятие».
Пифагор и его школа
Музыка сфер
Пифагорейцы… поскольку воспитывались, изучая математику, думали, что вещи являются числами… и что все небеса в целом – это гамма и число…
Отвечая на исходный вопрос Фалеса, Пифагор и его последователи утверждали, что все вещи являются числами. Изучение математических соотношений, характеризующих музыкальные гаммы и движение планет, привело Пифагора к вере в то, что количественные законы природы можно обнаружить во всех областях, которые исследует наука. Кроме того, он ожидал, что такие законы так же просты, как законы, управляющие музыкой.
Западная мысль обязана пифагорейцам, во-первых, открытием чистой математики, во-вторых, более строгим определением понятия «математическое доказательство», в-третьих, знанием того, что индивидуальность вещи придают ее форма и структура1. Их работа положила начало научному поиску количественных законов и философской традиции формализма, которая в конце концов достигла наивысшего расцвета у Платона2.
У пифагорейцев философия стала центральной частью религиозного образа жизни, поскольку Пифагор был не только математиком, но также учителем морали и религиозным лидером, и Пифагорейское братство было не толъко группой ученых-исследователей, но также общественным и религиозным сообществом.
Понятие формы и греческое слово «эйдос», которое в конце концов стало его выражать, имеют довольно сложную историю. Первоначально «эйдос» означало «внешний вид вещи», или «лицо» (как у Гомера, когда Ахилл, разгневавшись на Агамемнона, называет его «кинэйдос!» («собачья морда!»). В медицине «эйдос» имело смысл «внешний вид пациента» – его физический тип, имевший значение для постановки диагноза и лечения. В математике «эйдос» было почти синонимом слова «схема» (форма) и означало математическую структуру. Медицинское значение, связывавшее «внешний вид» пациента со здоровьем или болезнью, смешивалось с понятием «хорошая форма», важным в атлетике и танцах, и заставляло предположить, что форма – это критерий ценности. Платон и Аристотель пытались разными путями соединить эти два смысла слова «форма», математический и идеальный.
Эта формалистическая философия появилась на свет в 530 году до н. э., когда выдающийся мыслитель Пифагор переехал со своего родного Самоса в город Кротону в Южной Италии. В Кротоне находилась крупная медицинская школа, и это, возможно, сырало для Пифагора важную роль при выборе нового места жительства. Очень скоро в этом городе сформировалось Пифагорейское братство, под влиянием которого ряд греческих общин в Южной Италии стали жить по социальной и этической программе, которой учил Пифагор; кроме того, мы можем обнаружить в математике и философии новые для того времени идеи, которые приписывают Пифагору и его последователям. Пифагор был одновременно религиозным и общественным лидером, философом и ученым, а также практикующим художником. Возможно, это он разработал чертежи для серии монет нового типа, которые были отчеканены в Италии вскоре после его приезда туда3.
Позднейшим историкам, начиная с эпохи Аристотеля и до сих пор, было трудно представить себе, как две стороны пифагорейства, научная и религиозная, могли существовать вместе, поскольку к тому времени, когда жил Аристотель, четкая граница между наукой и религией стала считаться чем-то само собой разумеющимся. В зависимости от своих собственных предпочтений позднейшие авторы считали кружки пифагорейцев либо чисто научно-исследовательскими организациями, либо чисто религиозными общинами4. Далее мы обсудим сначала интеллектуальные достижения этого братства, а затем его религиозную деятельность.
Специфические для пифагорейцев философские идеи можно свести к двум фразам: «Числа – это вещи» и «Вещи – это числа»5. Первая из этих заповедей расширяет понятие реальности далеко за пределы идеи милетцев, что «быть значит быть материальным»; она говорит о том, что пифагорейская школа открыла чистую математику. Вторая заповедь выражает понятие, которое возникло из другого открытия пифагорейцев – что математические формулы можно использовать для объяснения физического мира. Из этого открытия они методом обобщения вывели философский тезис о том, что по своей самой глубинной природе мир – математический. Точно так же, как милетцы под впечатлением того, что открыли физику, думали, что, возможно, материя – ключ, которого одного достаточно, чтобы познать природу вещей, пифагорейцы под впечатлением того, что открыли математику, думали, что она и есть вся философия. Эти два предположения поставили перед последующими греческими философами проблему – как примирить форму и материю, которые обе претендуют на роль составных частей реального мира.
Чистая математика требует огромного шага вперед по пути обобщения. Вместо того чтобы думать и считать в терминах наборы предметов и получать в результате разные формы числа два, если объединяешь в пару двух свиней или два камешка, человек должен сосредоточить внимание на числе два как просто понятии «два», а не количестве «два чего-то». В большинстве примитивных языков, если не во всех них, мы можем обнаружить «счетные приложения» – слова, указывающие на то, какие вещи считают. В нашем языке тоже еще сохранилось несколько таких слов: мы говорим «две головы скота», «два куска хлеба» и так далее. В японском языке их гораздо больше: «два круглых предмета карандашей», «два плоских предмета листов бумаги» и так далее. Это пережитки той стадии развития человеческого сознания, когда числа использовали только как обозначения количества чего-то, и если бы кто-то сказал: «два», те, кто слушал его, спросили бы: «Два чего?» Признать, что «числа – это вещи», можно, только если два и любое другое количество отделены от числовых приложений и больше не зависят от них.
Пифагорейцы обнаружили, что могут думать по тому же методу и о формах. Вместо того чтобы думать о конкретных треугольных участках земли, они могли думать о треуголъности, о любом треугольнике или любом прямоугольном треугольнике6. Сегодня нам, поскольку мы привыкли к чисто отвлеченным математическим понятиям и к мыслительной операции обобщения, трудно оценить по достоинству новизну этого вклада пифагорейцев в науку. И, правду говоря, некоторые стороны их математики поражают нас своей странностью. Во-первых, значительная часть этой новой математики не была чистой, поскольку сильно зависела от рисунков и от воображения. Числа у пифагорейцев имели форму и даже были личностями. Как понятие материи у философов милетской школы, понятие числа должно было пройти путь развития от интуиции до постулата (историки математики часто это скрывают: сообщают только о некоторых теоремах и идеях – тех, которые математически чисты, – и пренебрегают всем остальным). Но возможно, еще поразительнее для нас тот огромный почти религиозный восторг, с которым пифагорейцы относились к математике. Новое понимание формы озарило умы своих древних первооткрывателей с силой, равной силе мистического откровения.
Некоторое представление о степени развития математики в эпоху от Пифагора до Платона мы можем получить из текстов по геометрии, изложенных в книгах 1–5 «Элементов» Евклида, а эти книги – новая редакция более ранних пифагорейских трактатов по геометрии7. Кроме того, получить ответ нам помогают рассказы и некоторые теоремы. «Теорема Пифагора», предположительно открытая самим Пифагором, породила много легенд. Аристотель сообщает, что пифагорейцы знали и давали ученикам своей школы еще в начале учебы доказательство того, что диагональ единичного квадрата несоизмерима с этой стороной. Это доказательство, которое мы применяем до сих пор, показывает, что техника построения доказательств и способность при необходимости мыслить отвлеченно у пифагорейцев достигали очень высокого уровня8. Сообщения о том, что пифагорейцы отождествляли правильные геометрические тела с молекулами материального мира, говорят, что ученых этой школы интересовало применение математических методов к изучению твердых тел и применение математики к естественным наукам. Мы также обнаружим сообщение о «сите» – методе, позволявшем выбрать из последовательности чисел все простые числа, и своеобразные зачатки теории чисел.
Этих подсказок достаточно, чтобы стало очевидно, что речь идет действительно о качественно новом понимании формы. Теперь нам нужно рассмотреть философские последствия утверждения, что «числа – это вещи», которое обобщает эти новые представления. Может быть, мысль пифагорейцев станет яснее, если мы перефразируем эти слова и скажем «числа реальны», поскольку слово «вещи» в современном языке ассоциируется с материальными предметами, а это искажает смысл изречения. Но в каком смысле числа или формы реальны? Во-первых, они существуют независимо от наблюдателя: хотим мы того или нет, два плюс два всегда будет равно четырем, и два всегда будет четным простым числом. У них, в отличие от бесформенной или безграничной пустоты Анаксимандра, есть точные индивидуальные характеристики: каждое число является только самим собой. Числа – нечто общее для всех: они для всех наблюдателей одни и те же, в отличие от субъективных фантазий какого-либо человека или проходящих со временем впечатлений. Они системно связаны между собой. Всех этих свойств, кажется, достаточно для того, чтобы признать форму, число и соотношение чисел чем-то реальным. Но они реальны по-иному, чем материальные объекты: в отличие от них, числа не имеют ни прошлого, ни места в пространстве и существуют в мире, где нет ни движения, ни изменения. И числа видимы только уму: мы не можем коснуться их или смотреть на них, как смотрим на камень или ручей. Таким образом, перед философией возник, кроме мира физических реальностей, признанного милетцами, еще целый новый мир, который можно использовать9. И этот мир реально имел отношение к интересам и проблемам людей, поскольку его абстрактные соотношения и фигуры давали науке инструменты для познания природы10.
И все же у пифагорейцев, несмотря на отмечаемое иногда изящество доказательств и определений, числа были гораздо теснее связаны с воображением, чем наши сегодняшние абстрактные числа11. Пифагорейцы представляли себе числа как «группы единиц» (монад) и считали, что «естественный» способ записи чисел – изображение их в виде групп точек, при котором у каждого числа была собственная характерная для него естественная монадная структура. Этим способом мы до сих пор изображаем числа на домино и игральных костях, а ассоциативная связь между числами и пространственными фигурами сохранилась в современных терминах «квадратные» и «кубические» числа. Фактически в течение всего Средневековья «фигурные числа» были стандартным крупнейшим разделом арифметики. Школьники заучивали теоремы о том, что, например, суммы последовательных целых чисел «треугольны», то есть составляющие их числа можно изобразить в виде треугольника (как в «тетрактисе десятки» на схеме, которая приведена ниже). Эта смесь воображения и абстракции позволяла легко ассоциировать числа с формами и предметами. Например, изображение чисел в виде группы единиц предполагало какую-то связь между единицами в арифметике и точками пифагорейской геометрии, и некоторые члены пифагорейской школы пытались построить физический мир из пространственных точек.
Для математика-пифагорейца числа не только продолжали нести в себе представление о физической форме и узоре, но имели и другие качества. У каждого числа были черты личности – оно могло быть мужским или женским, совершенным или несовершенным, красивым или уродливым. Современная математика постепенно избавилась от такого ощущения чисел, но его отголоски мы до сих пор находим в художественной литературе и поэзии. Самым лучшим числом было десять: оно содержало в себе четыре первых целых числа – один, два, три и четыре – и в точечной записи они образовывали совершенный треугольник. Списки чего-либо у пифагорейцев обычно делились на группы по четыре или по десять строк. Позже история чисел на Западе сложилась так, что математика пошла своим собственным путем, а идея личностных свойств и ценностных качеств чисел породила целую традицию в магии, нашедшую отражение в нумерологии и геомантике12.
Поскольку математика пифагорейцев еще не достигла идеальной чистоты, они легко поверили в то, что «вещи – это числа». Интуитивное философское представление, выраженное этими словами, таково: определенная количественная форма вещи дает ей индивидуальность. Например, различные виды животных различаются между собой количеством и формой частей тела13. Уберите форму, и останется только лужа бесформенного вещества.
Математика и космология пифагорейцев
I. Фигурные числа
Чтобы показать, как каждое число складывается из монад, в пифагорейской системе «естественной» записи эти группы монад изображали с помощью маленьких букв альфа. Например, получались следующие соответствия:

Изучение «фигурных чисел» развивалось по пути выяснения того, какую (в обобщенном виде) форму имеют числа, которые могут быть записаны в определенном виде. Например, произведения двух одинаковых сомножителей все были «квадратными». Суммы последовательных целых чисел, например, 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 и так далее, имеют «треугольную» форму.
II. Тетрактис десятки
Фигурой, обладающей самыми чудесными свойствами, сочетающей в себе четыре первых целых числа, треугольную форму и «совершенное число» десять, был «тетрактис десятки» – треугольник из десяти монад, сложенный из целых чисел 1, 2, 3 и 4:
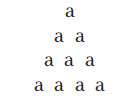
III. Таблица противоположностей
Как писал Аристотель, «некоторые пифагорейцы» для объяснения, как зародились числа и весь остальной мир, использовали таблицу противоположностей14.

Эту интерпретацию мы находим в ранней пифагорейской таблице противоположностей (которая приведена выше под номером III). В одном столбце – «формальные» качества, похожие на число или порождаемые числом; в другом собраны их противоположности, которые не имеют формы и становятся определенными только тогда, когда их ограничивают определением.
Другие представители пифагорейской школы толковали положение «вещи – это числа» более буквально. Поскольку выяснилось, что законы природы – количественные, было соблазнительно считать, что объекты, которыми эти законы управляют, тоже количественные. Если не брать в расчет иррациональные числа, то есть считать их исключением и отложить их исследование на потом, то аналогия между арифметической единицей и геометрической точкой подсказывала простую модель того, что вещи действительно были созданы из наборов точек. Каждый набор точек соответствовал фигуре, в которую складывались единицы, составлявшие одно из арифметических чисел.
Красота тезиса о том, что вещи – это числа, не только в его богатых возможностях для философии, но и в практических результатах, которые появились, когда ученые-пифагорейцы начали измерять и считать. По традиции считается, что Пифагор сам сделал открытие, которое привело к идее о «музыке сфер» – идее, гораздо позже вдохновлявшей людей науки и поэтов. Измеряя длину вибрирующей струны, которая производила гармоничные звуки, Пифагор обнаружил, что соотношения таких длин для октавы, пятой доли и четверти были точно 2:1, 3:2 и 4:3 – простейший из возможных набор соотношений целых чисел. А наблюдения показали с допустимой погрешностью, что в этих же самых соотношениях находились между собой периоды обращения планет. Таким образом, система небесных светил была гаммой, была гармонией, которая, как музыка, была математически простейшей15. (Некоторые энтузиасты понимали эту аналогию буквально, то есть считали, что каждая планета во время движения создает звук, высота которого пропорциональна скорости планеты. Но то, что сейчас называют космическим шумом, не слишком похоже на звучание всех семи нот музыкальной гаммы сразу.)
Это сходство гамм и звезд заставляло предполагать, что в природе все законы должны обладать такой же математической простотой. И пифагорейцы начали различными способами открывать, каковы эти лежащие в основе мира количественные соотношения. Для современной науки то, что изучение количественных данных помогает проникнуть в самую суть вещей, – урок, заученный наизусть, который она сейчас считает чем-то само собой разумеющимся. Но в те дни эта идея была новой, и можно себе представить, как волновались пифагорейцы, когда их метод в каких-то случаях имел успех, а в других терпел неудачу.
Пифагорейские идеи с самого начала успешно применялись в музыке и астрономии. По мере того как члены этой школы продолжали свои исследования, их новая методика, казалось, показала свою силу и в некоторых других областях знания. В медицине сицилийские врачи уже сформулировали определение здоровья как изономии – равновесия, или сбалансированности, в теле человека противоположных качеств – жары и холода, влаги и сухости16. Это представление очень близко по духу к пифагорейскому образу мыслей. И хотя я не видел ни одного исследования, специально посвященного этому вопросу, кажется несомненным, что медицина уже с первых попыток измерить температуру тела получила от этого пользу. Таким образом, пифагорейские идеи в сочетании с более ранними представлениями привели к созданию италийско-сицилийской медицинской теории, которая в греческой медицине была главной соперницей более эмпирического метода, созданного Гиппократом. В ваянии знаменитый скульптор Поликлет был одним из тех, кто верил, что красоту и правильность форм создают те же числовые соотношения, которые были обнаружены в музыке. Он полагал, что существует набор из «многих чисел», который описывает совершенные пропорции человеческой фигуры, и сам не только написал об этом исследование, но и создал согласно этим пропорциям статую, которая известна под названием «канон». В химии были высказаны будившие мысль смелые идеи о простоте геометрической формы мельчайших частиц материи. Важная роль правильных пропорций конечно же была центральной идеей греческой архитектуры. Казалось, не было границ способностями числа и пропорции проникать в самую глубину природы вещей, и именно эта их могучая сила поддерживала постоянный интерес к тезису «вещи – это числа» и делала его правдоподобным.
Помимо интеллектуального труда, Пифагорейское братство занималось еще тремя видами деятельности – политической, религиозной и этической. Эти остальные виды деятельности «ордена пифагорейцев» включали в себя переосмысление идей утопических общин, религиозные понятия об очищении, переселении душ в новые тела и каком-то виде бессмертия души, а также этическую идею о том, что жить хорошо – значит жить в гармонии с порядком, согласно которому устроен мир.
Политика всегда была одним из направлений деятельности этого братства. Идеалом Пифагора были малочисленные общины, где имущество было бы общим, женщинам предоставлялись бы такие же возможности и такое же образование, как мужчинам, а общий интерес к музыке и математике был бы частью повседневной жизни. Такая община должна была признавать свою гражданскую ответственность за формирование политики более крупного города-государства, частью которого она являлась бы. Таким образом, ей было доверено право участия в решении дел, касавшихся мира за ее собственными границами. По словам тех, кто писал об этих общинах, принимали туда не каждого желающего, а выбирали подходящих по уму и характеру, но об этом известно очень мало. Этот древний социальный эксперимент погубило, конечно, правило об ответственности перед более крупным сообществом. В ту эпоху жестокой борьбы между различными группировками политика пифагорейцев неизбежно начинала противоречить интересам других сильных партий. Похоже, что их противники смогли убедить достаточно много людей в том, что пифагорейцы – опасные радикалы или странные колдуны, и этим спровоцировать серию нападений, которые за последующие двадцать лет полностью уничтожили пифагорейские общины17.
Религиозная сторона жизни Пифагорейского братства была одним из проявлений того возрождения, которое переживала религия в Греции в VI веке до н. э. Непосредственно пифагорейцев вдохновляла официальная вера в олимпийских богов, а орфическое направление религии, где посвященному открывали тайны, должно было помочь его личному спасению18. Это открытие тайн сопровождалось сильным волнением чувств. Многие жрецы орфиков уверяли, что их вдохновляют высшие силы и что они имеют сверхъестественные способности. Рассказы о Пифагоре делают из него такого вдохновленного свыше религиозного вождя. Говорили, что он «в один и тот же день и час был в Метаронте и в Кротоне». Он будто бы укротил дикого кавлонского медведя тем, что говорил с ним, и медведь стал вегетарианцем. Однажды на Олимпийских играх Пифагор будто бы показал, что его бедро сделано из золота. Абарис, жрец Аполлона с дальнего севера, разыскал Пифагора и «подарил ему волшебный дротик, который указывал Абарису дорогу в лесах». Таких рассказов столько, что ими можно было бы заполнить большую книгу.
Эта легенда постоянно разрасталась в течение десяти веков; более поздние ученые пытались уничтожить ее полностью, но несколько отрывков из книги, которую Аристотель написал о Пифагоре, показывают, что легенда о сверхъестественных способностях была жива еще во времена Аристотеля. В качестве пророка Пифагор устанавливал правила, в которых современный антрополог узнал бы первобытные ритуальные запреты: «Встав, расправь свою постель», «Огонь никогда ножом не разгребай», «Не ешь бобы и рыбу барабульку».
Он также проповедовал идею метемпсихоза, или переселения душ. После смерти душа покидает одно тело и переселяется в другое; в некоторых случаях, что, правда, бывает редко, человек может помнить свои предыдущие жизни. Пифагор, например, вспоминал, что был троянским героем Эвфорбом. В зависимости от того, насколько душа чиста, она может при перевоплощении переселиться из человеческого тела в тело животного. Это подсказало поэту Ксенофану придуманный им рассказ о том, как Пифагор попросил кого-то перестать бить собаку и сказал: «Это мой покойный друг: я узнаю его по голосу!»
В религиозное учение пифагорейцев входило большое количество мифов. Эти сказания описывали страшный суд в подземном мире, за которым следовали период награды или наказания, а через какое-то время – возвращение в мир живых для новой жизни. Меня не удивляет, что многие из этих идей казались странными большинству слушателей и осмеивались в греческих комедиях, но они были в русле религиозной традиции того времени, и их нельзя отбросить, даже если они и «ненаучны».
Но в том, что касалось очищения, Пифагор порвал с традиционной религией. Очищение он истолковал по-новому. В орфической религии душа очищалась с помощью магического ритуала: оплаченные положенным образом жертвоприношения и заклинания считались средством сделать спасение души более вероятным. Пифагор же считал, что лучший способ достичь душевной гармонии и очищения – изучение математики и музыки. Это переосмысление очищения как раскрытия человеком своих способностей и умственного развития – важный шаг вперед в истории религии и одна из точек соприкосновения научной и религиозной сторон жизни братства.
Этика, которую преподавал Пифагор, строилась вокруг идеи гармонии в душе. Хорошая душа – та, импульсы и ценности которой правильно упорядочены, и цель образования – внушить человеку любовь к гармонии. Мы становимся гармоничными людьми через соприкосновение с красотами музыки, абстракциями математики и конкретным величием звездной системы и через умение их ценить.
Одним из интересных способов применения этой теории к медицине было использование музыки для лечения душевнобольных пациентов: так использовалась в практической терапии идея, что можно восстановить правильный космос (порядок) внутри человека, показывая этому человеку нечто гармоничное.
В своей этической практике пифагорейцы были знамениты бескорыстием, честностью и дружбой между членами общины. Примером того, как велика была роль дружбы в пифагорейском братстве, служит рассказ о Дамоне и Пифии. Тиран (диктатор) Сиракуз Дионисий, услышав о том, как высоко ценится дружба в братстве пифагорейцев, решил это проверить: заточил в тюрьму молодого пифагорейца Дамона и объявил, что собирается его казнить. Дамон попросил отсрочку, чтобы привести в порядок свои дела. Дионисий сказал, что выполнит его просьбу, если Дамон сможет найти друга, который займет его место в тюрьме и будет заложником. Друг Дамона Пифий тут же согласился сделать это и оставался в тюрьме до возвращения Дамона. Когда тот вернулся, Дионисий преподнес обоим подарки, и, согласно некоторым рассказам, попросил двух друзей принять его самого к себе третьим другом. Они отказались, и мы поймем почему, когда снова будем говорить о Дионисии в связи с Платоном.
Объединяющим началом научных интересов пифагорейской школы и присущих ей черт религии, предписывающей определенный образ жизни, было постоянное применение гармонии и порядка в качестве критерия истинности и красоты как в природе, так и в человеческих отношениях. Пифагорейцы одними из первых греческих мыслителей назвали мир словом космос, что означает систему или порядок. Они уважали порядок как условие ценности – и холодный порядок систем математических абстракций, и включенный в более широкую сферу деятельности порядок жизни человека в сообществе людей, и всеобъемлющий порядок природы, отражающийся в движении звезд19. До этой границы образ жизни, которому учил Пифагор, не был полностью противоположен интересу его школы к математике и философии или независим от этого интереса. Дальше этого предела читатель, человек XX века, почти не может представить себе, как люди могли принимать сочетание научного объяснения и религиозного обряда, не чувствуя в этом несоответствия.
Вклад пифагорейцев в философию трудно переоценить20. Открыв чистую математику, они дали Западу самый ценный из его исследовательских инструментов; поиск количественных законов природы, который они вели, оказался самым плодотворным путем из всех, по которым когда-либо шла наука21. В философии нововведение пифагорейцев – чувство порядка и формы – скорректировало довольно наивный материализм милетцев и открыло новый ряд важных вопросов. Их религия и этика по меньшей мере подразумевали существование человеческой души и ее судьбы и возможность планируемого порядка в обществе. Эти идеи сохранились до тех пор, пока снова не были явно выражены в Афинах на втором, системном этапе развития греческой философии.
Гераклит
Отношение времени к вечности
Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, потому что по ней каждый миг протекает другая вода.
Гераклит из Эфеса не принадлежит ни к основанной милетцами материалистической традиции, ни к начатой пифагорейцами традиции математического и логического формализма. Гераклит был скорее поэтом, чем инженером или математиком, и выражал в загадочных изречениях, похожих на слова прорицателя, напряжение, возникающее между неизменными общими идеями философии и кратковременными конкретными фактами жизни и смерти, в их неустанном изменении. Этот динамический аспект реальности нельзя ни описать, ни объяснить с помощью статических абстрактные понятий – точка зрения, о которой нам напомнили в нашем XX веке философы-экзистенциалисты. Поэтому, говоря о Гераклите, мы должны сделать попытку разделить с ним его интуитивный взгляд на мир, который он не выразил ни в ясных понятиях, ни в точных теоремах, но который, как он справедливо считал, придал философии еще одно новое измерение.
Возможно, Гераклит, как и его предшественники, начал с того, что искал одно общее вещество-основу для того изменчивого мира, который мы все видим вокруг себя. Однако он не вписывается ни в милетскую традицию, ни в пифагорейскую. Для него действительность состоит из движения, процесса, силы, борьбы и течения. Мир больше похож на неутомимо горящий огонь, чем на механизм, сделанный из какого-то вещества. Эти идеи Гераклита придали греческой философии важное новое измерение.
Когда мы задали вопрос «Что такое бытие?» и поняли, что спрашиваем о каком-то свойстве, которое имеют все существующие вещи, возвращение в мир отдельных конечных существ становится невозможным без определенной доли парадокса, потому что наиболее очевидный ответ на вопрос, что такое действительность, – «какое-то никогда не меняющееся вещество или лишенное перемен царство формы» – заставляет нас считать все реально существующие вещи частями единого непрерывного целого, которое никогда не было создано и никогда не может быть уничтожено. Однако наш опыт всюду сталкивает нас с непрерывным изменением, неповторимой индивидуальностью и чувством отдельности каждого конкретного конечного существа.
Разум убеждает нас удовлетвориться общим видом вещей – их неизменными свойствами, и это соблазнительно. Но, вспоминая свой собственный опыт, мы всюду видим себя погруженными в мир единичных вещей, а не типов, потока, а не застывшей формы. У мыслителя, осознающего этот парадокс, естественно появляется склонность пересмотреть отношение философии к абстрактному мышлению. Во-первых, космический парадокс важнее, чем аккуратная теорема; во-вторых, физические и математические абстракции не являются адекватными средствами для сообщения истины о конкретном существовании, конкретных решениях и текучей жизни1.
Восстание против сущности за существование – господствующая тема философии нашего века: парадоксальная напряженность связи время – вечность стала господствующей темой у японских дзен-буддистских мыслителей. И в свете этих более поздних попыток исследовать конкретное существование конечных вещей Гераклита Эфесского можно назвать «первым западным экзистенциалистом» из-за нового подхода к философии, который он применил2.
Гераклита в античные времена называли «темным» в смысле «непонятным»: те из его разрозненных изречений, которые сохранились до наших дней, похожи на загадочные слова дельфийского оракула – смысл в них глубоко скрыт, они содержат много ярких образов, значение которых иногда подчеркивается звукоподражательной игрой слов (например, известное изречение о реке начинается со слов, похожих на шум текущей реки: «аутойси потамойси»). Эти высказывания относительно независимы друг от друга: у Гераклита совершенно нет связывающих утверждения «поэтому» и «если… то», которые характерны для науки и математики3. Он сам написал, что «оракул бога в Дельфах не утверждает и не отрицает, а подает знак…» и что «сивилла в бреду произносит неприкрашенные слова, которые слышны тысячу лет…». Эти цитаты позволяют предположить, почему Гераклит, чтобы передать людям философские мысли, выбрал в качестве образца пророчества оракула4. Это необычный выбор, который на Западе после Гераклита повторил только Ницше в «Так говорил Заратустра».
Гераклит считает, что космический порядок основан на вечном течении, напряжении и борьбе: «Все течет…», «Раздор – отец всего и господин всему…», «Противоположности соединяются», «Все вещи превращаются в огонь и огонь во все вещи…», «Из напряжения рождается согласие, как у лука и лиры…», «Имя лука – жизнь, но его дело – смерть» и многие другие высказывания5. Он очень плохого мнения обо всем человечестве в целом («Мудрее всех был Биас из Приены, потому что сказал: «Большинство людей дурных». «Всех эфесцев следовало бы повесить…») и плохого мнения о научных и религиозных лидерах своего времени6. «Многознание не научает мудрости… иначе бы знание научило ей Пифагора… который из своей полиматии создал искусство вредить и сеять смуту», и дальше: «Они, нечестивые, думают очиститься тем, что грязнят себя кровью…», «Ночные бродяги, слуги Вакха, колдуны…»7.
И все же из бесцельно кружащегося потока времени рождается логос – формула, слово, пропорция, космический порядок. Существует цикл трансформаций, в ходе которого происходит обмен огня, земли и воды, путь «вверх» и путь «вниз»8. Но как только мы решаем, что, по крайней мере, здесь мы имеем дело с ясным изложением физики милетского типа – правда, выбор огня в качестве вещества-первоосновы вылядит странно, мы считаем, что «путь вверх и путь вниз – один и тот же путь»9. Логос «направляет все и все пронизывает…», «Внимайте не мне, но моему логосу». Человек может найти логос в чем-либо «общем для всех», а не в индивидуальных мирах личных мнений и личных мечтаний10. Сходство с человеческими законами того, что происходит при управлении миром, описано в манере, напоминающей Анаксимандра: «Солнце не может выйти за границы своего пути: если бы оно так сделало, фурии, служительницы справедливости (Дике), загнали бы его обратно»11. Но время у Гераклита не делится четко на отрезки, как у Анаксимандра, у которого каждой вещи назначен свой «день в суде», скорее «время – ребенок, играющий в шашки…»12.
Психология человеческого «я» толкуется таким же загадочным образом. «Люди и боги… умирают в жизни друг друга и живут в смерти», «Сухая душа – самая мудрая и самая лучшая», «Людям следует крепко держаться за общее, как городу – за свои законы», «Судьба человека – в его характере», «После смерти нас ждет то, чего мы не ожидаем и о чем не думаем»13.
Выбирая из этих изречений подходящие и располагая их в разном порядке, можно по-разному понимать Гераклита14. Аристотель, например, сосредоточил свое внимание на аналогии Вселенной с неустанно горящим пламенем и посчитал Гераклита просто одним из ионийских материалистов, который, по извращенному капризу, сделал своей первоосновой архе – огонь15. (Но он не был уверен в правильности этой классификации: следуя своей логике, он предположил, что Гераклит на самом деле вообще не философ. В своей «Этике» Аристотель задавал вопрос: может ли какой-то дефект в характере Гераклита быть объяснением его «нелепых» изречений. В «Поэтике» он говорит, что многие трудности в текстах Гераклита можно было бы устранить, если обратить внимание на знаки препинания.)
Римские стоики считали себя последователями Гераклита. Они сделали логос материальным дыханием, или духом, разлитым во всей Вселенной. Отождествив этот дух с Богом, они соединили материализм с пантеизмом (точкой зрения, что все вещи в мире являются частями Бога)16. Наш современник Филипп Уилрайт, ученый и литературный критик, утверждает, что Гераклит на самом деле был поэтом и, излагая свою философию, применял «плюрисигнацию» – сознательное использование сразу нескольких значений одного слова17. Английские ученые (по крайней мере, некоторые из них) отстаивают толкование, согласно которому главным открытием Гераклита является то, что логос, единый космический порядок, стоит за и над хаотическим процессом18. Платон считал, что Гераклит был склонен отождествлять реальность с потоком. Он подытожил философию Гераклита в коротком изречении «панта реи» – «все течет». Это – полная противоположность собственной формалистической философии Платона и звучит как цитата из самого Гераклита. Этот вывод выражает ту же идею, что и знаменитый образ реки в изречениях самого Гераклита: «Мы входим и не входим в одну и ту же реку; мы есть, и нас нет…»19
В свете такого широкого разброса толкований может оказаться и интересно и полезно снова взглянуть на опыт парадокса, который описан Гераклитом, и на причины, которые привели его к выбору пророческого изречения как средства для описания этого опыта. Когда я «слушаю логос» Гераклита, я уверен, что слушаю не учебник, где собраны утверждения, составляющие «полиматию… искусство вредить и сеять смуту…»; и я не нахожу у него того вечного безмятежного порядка, который отражен в пифагорейском представлении, что все – космос.
Похожее ощущение парадокса я нахожу в стихах Басе, японского поэта XVII века, последователя дзен-буддизма. Басе – великий мастер хайку, трехстиший из семнадцати слогов20. И часть его поэзии передает его философию. Прислушайтесь вот к этим трем стихотворениям:
I Старый пруд.
Прынула в воду лягушка.
Плеск в тишине.
II Ворона сидит
Одна на голом суку.
Осенний вечер.
III Бурное море,
Остров Садо среди волн.
И – Река Небес.
В каждом из этих стихотворений, как и в других стихах Басе, образы имеют особую, почти осязаемую наглядность. Короткие строки дают читателю непосредственное впечатление того, как отдельное конечное событие, в котором участвует что-то шумное, черное или скалистое, накладывается на фон спокойной гладкой поверхности звездной реки, старого пруда или розовых дымных осенних сумерек. В этом состоит философский парадокс дзен-буддистских взглядов Басе: бытие (действительность) спокойно и вечно, но может включать в себя существа, которые на краткий срок нарушают это вечное спокойствие. Маленький темный остров между неустанно движущимся морем и никогда не изменяющейся звездной рекой, сжавшаяся в комок одинокая маленькая ворона, которая выделяется черным силуэтом на фоне вечернего неба, – вот что, по мнению Басе, нам важно увидеть и осмыслить вместе с ним. Надо не думать об этом абстрактно, а пережить это непосредственно, и только с помощью стихов он мог надеяться напрямую передать нам собственные опыт и способность чувствовать.
Я считаю, что сравнение Басе с Гераклитом многое разъясняет. У них обоих было ощущение парадоксальности мира преходящих индивидуальных вещей. Их взгляды не полностью согласуются между собой: там, где Басе пишет о «Небесной Реке», то есть предполагает, что реальность – там, где звезды, Гераклит не в состоянии ничем успокоить дикое текучее море. Там, где Басе передает свои мысли напрямую через яркие зрительные образы, Гераклит применяет созвучия, игру слов, ясно выраженное словами противоречие. И все же у них одно и то же чувство парадокса в основе и одна и та же вера, что философские истины нельзя преподносить косвенным образом и в абстрактных понятиях, а следует излагать напрямую, путем интуитивных ассоциаций. Более того, это сравнение позволяет нам разглядеть одну особенность современного экзистенциализма. Экзистенциалисты часто пишут не обычные «полиматические» труды, а романы, поэмы или пьесы. Может быть, это тоже потому, что у них есть чувство парадокса, которое, как они интуитивно ощущают, может быть передано только путем литературного «обмена чувствами на расстоянии». Или, если взять другой пример экзистенциальной мысли, не выполняют ли изумительные, хотя и вычурные «этимологии» Хайдеггера[3] в какой-то степени ту же роль, что неожиданные обороты речи у Гераклита?21 Этот вопрос не был задуман как риторический, хотя я, разумеется, думаю, что верный ответ – «да».
Вечный, никогда не утихающий огонь и всеобщий «логос», борьба противоположностей, напряжение между ними и гармония как результат борьбы, абстракции, которые придумывают мудрецы, и конкретные дела этих мудрецов – вот центральные темы у Гераклита. Попытка напрямую передать интуитивные представления, несомненно, объясняет выбор прорицания как формы: такое изречение достаточно коротко для того, чтобы действовать на слушателя непосредственно, а его простые слова и загадочный смысл слышны и через две тысячи лет22.
Гераклит вывел философию на новый уровень. И поскольку его открытия были новым измерением, а не просто новым учением уже привычного материалистического или формалистического типа, нам трудно сказать обычным языком, что он имел в виду. Что, например, означало у него слово «пир» (огонь)? Просто огонь-вещество, как у милетцев? Едва ли. Тогда еще не было известно, что «аэр» – воздух – материален, а огонь, если рассуждать разумно, еще меньше подходил на роль вещества-первоосновы!23 Возможно, огонь – просто символ постоянного преобразования и того, что перемена – мощный порыв? Слово «огонь» действительно имеет особую символическую силу, это доказывают недавнее исследование французского философа Башляра Огненныш Психоанализ (Psychanalyse de Feu) и строчка у Джека Керуака[4] «Я горю, горю, горю», которой мои студенты начинают свои курсовые работы о Гераклите. Но живой огонь, который, бесконечно изменяясь, творит движущую силу мира, – больше чем символ. Он по меньшей мере физическая причина. А «путь вверх» и «путь вниз» позволяют предположить, что среди взглядов Гераклита было представление о каком-то закономерном цикле физических преобразований24.
Я думаю, что Уилрайт прав, считая, что у Гераклита слово «огонь» имело много значений, слитых воедино25. Но если мы настаиваем на том, чтобы обязательно сохранять все оттенки значений этого изумительного космического слова «огонь» в любом контексте, то должны осознавать, что это можно сделать только в поэзии, но не в науке и не в философии. Может быть, само простое, что можно сказать об этом, – это то, что Гераклит пытался обозначить в образе огня одновременно и напряжение, которое приводит к гармонии, и огромное количество энергии, текущей через реальный мир. Для него важнее всего была не материя, как таковая, а присущая ей энергия26. Аристотель не мог представить себе энергию в отрыве от какой-то материальной энергетической вещи, хотя его собственные воззрения могли бы навести его на мысль, что энергия без материального носителя возможна. Может быть, лишь такие недавние достижения западной мысли, как у Эйнштейна и Уайтхеда, заменили Аристотелевы вещества процессами, происходящими в элементарных частицах природы, позволили нам заглянуть дальше, чем видел Аристотель. И сегодня мы можем признать философию процесса, в котором физической реальностью является не материя, а энергия, подлинной и интересной философией27.
В определенном смысле кажется, что Гераклит вернулся назад в эпоху мифологии. Но его чувству парадокса придает новизну и яркость фон бытия, вызванный к жизни тем вопросом, который задал Фалес. Без этого фона неизменной реальности мы обнаружили бы только пафос, а не парадокс у поэта, который пишет, что поколения людей «падают, как листья опадают с деревьев»28. Однако, когда разум оказывается околдован механическими моделями или математическим картами и забывает про конкретные факты изменений, борьбы и неповторимости единичного, которые являются самой основой известного нам по опыту мира, этому разуму снова нужен прорицатель. Видения человека, который обладает тонким чувством эстетики и метафизики, необходимы для того, чтобы показать нам, что аккуратный космос наших моделей и уравнений – это не тот мир, в котором все существует и который мы знаем. Ни мифология, ни абстрактные рассуждения не могут ни раскрыть его природу, ни дать философии окончательный ответ на ее вопросы.
«Этот мир, одинаковый для богов и людей, никем не сотворен, но представляет собой вечный огонь, который в определенном ритме разгорается и в определенном же ритме угасает», – писал Гераклит29.
Парменид
Логика и мистицизм
Только бытие существует, небытие не может существовать.
Парменид, уроженец города Элеи в Южной Италии, испытал сильное влияние пифагорейцев. Он изобрел формальную логику, применив математический метод доказательства к философской проблеме о сущности бытия и небытия. Излагая свои доводы в форме эпической поэмы, он применял логику для того, чтобы показать, что бытие неизменно и не сотворено. Этот вывод отрицал возможность любой видимости разнообразия или изменения. Естественным результатом этого точного, хотя и мистического, умозаключения был вывод о том, что человеческий разум способен понимать реальность.
Довольно интересно, что кроме этого Парменид писал об астрономии, биологии и других науках. А ведь если свою главную интуитивную идею он считал верной, то многое, что изучают эти науки, не могло быть реальным. Греки, остро ощущая изменчивость и единичность вещей в том мире, который они наблюдали вокруг себя, пытались найти способ сохранить логический метод Парменида, но избежать его мистического вывода.
Парменид изложил свои идеи в эпической поэме – в этой форме записывали свои откровения поэты-орфики. Благодаря невероятной удаче большой кусок первой части этой эпопеи – «Путь Истины» – дошел до нас. Сохранились также несколько разрозненных отрывков из второй части, называвшейся «Путь мнения». Поэма открывается прологом, в котором Парменид совершает путешествие во дворец солнца, где встречается с богиней, приветствующей и наставляющей его.
«Кони, которые несут меня так далеко, как я желаю, вынесли меня туда, куда их направляли, – на тот знаменитый Путь, который ведет знающего человека через все человеческие города. По этой дороге несли меня кони. Подчиняясь хорошим советам, они тянули колесницу, а Девы указывали путь. Скрипела деревянная ось, которая сверкает (потому что на оба ее конца надето по круглому грузу), когда Девы Солнца покидают Дом Ночи и едут к свету, отбрасывая руками назад свои покрывала.
Вот Ворота Ночи и Дня, скрепленные каменным порогом и мраморной перемычкой, сами их огромные двери достигают эфира, их поворачивающиеся ключи хранит мстительная Справедливость. Девы убедили ее ласковыми словами, и она быстро и без возражений отодвинула засовы. Огромные двери с бронзовыми скрепами раскрылись, их петли громко заскрипели в гнездах. Бронзовые колодки повернулись, и распахнулись ворота. По широкой дороге Девы со скакунами и колесницей въехали в них.
Богиня приветствовала меня, взяв мою правую руку в обе свои, и так мне сказала:
«Добро пожаловать, юноша, которого бессмертные возницы привели вместе с твоими конями сюда в мой дом! Привет тебе! Не губительный рок привел тебя на эту дорогу (хотя она пролегает далеко от проезжих человеческих дорог), а привели благочестие и справедливость. Ты изучишь все: непоколебимое сердце, окруженное Правдой, и мысли смертных, среди которых нет ни одного верного мнения…»1
Затем богиня начинает раскрывать перед ним путь истины. Ее центральная мысль: «Только Бытие существует: небытие не может существовать»2.
Это «бытие, которое существует», оказывается единым и неделимым целым, одинаковым во всех направлениях и повсюду. Его можно постичь умом, может быть, дополнив ум своего рода интеллектуальной интуицией. Но бытие нельзя ни наблюдать в нашем, известном обыденному сознанию мире, ни описать обычным языком3.
Чтобы доказать, что это действительно путь истины, богиня рассматривает другие возможности. «Есть два пути: что-то есть или чего-то нет». Богиня знает правильный путь, но «смертные блуждают в нерешительности, возвращаясь назад»4. Затем она начинает излагать отвлеченный логический довод, чтобы показать, почему никто не может идти вторым путем.
Допустим, кто-то предполагает, что бытие делится на много отдельных существований. Тогда что же разделяет их и не дает им слиться? Этим разделителем не может быть бытие, потому что в таком случае все части все-таки оказались бы слиты в одно общее целое, а не существовали бы раздельно. С другой стороны, если сказать, что вещи разделены небытием, это приведет к абсурду, и вот почему. Небытие, если оно противоположность бытия, может быть только пустотой, чем-то вроде ничто в чистом виде. Если кто-то говорит, что небытие – разделитель, он рассматривает его как бытие, которым оно не является по определению. Если кто-то скажет, что небытие, хотя оно ничто, все же делит бытие на части, это все равно что сказать: «ничто не делит бытие на части», а это утверждение фактически отрицает, что части разделены. Как ничто может делать что-то позитивное? Эта мысль внутренне противоречива.
Богиня – прекрасный логик. Подобными рассуждениями она показывает, что бытие не может иметь начала: «Потому что из чего оно могло бы возникнуть? Из ничего ничто не может родиться, если же оно появилось из бытия, то не возникло, а уже существовало». Бытие неизменно, неделимо, вечно: вот окончательная истина о реальности.
Идеи, которые здесь использованы, – абстрактные и непривычные. Поэтому при оценке того, что сказал Парменид, полезно рассмотреть использование им формальной логики и его учение о природе реальности отдельно перед тем, как перейти к третьей теме, которую подразумевают слова его поэмы – к статусу «мнений, которых придерживаются люди».
Город Элея был географически и политически близок к Кротоне, так что идеи пифагорейцев должны были иметь там большое влияние. Если Парменид знал среди этих идей Пифагорово доказательство того, что диагональ единичного квадрата несоизмерима с его стороной, мы можем представить себе, как он путем обобщения этой схемы доказательства пришел к созданию формальной логики.
Фактически он расширил область применения таких косвенных доказательств, перенеся количественные соотношения в область философских обобщений. Там, где в математике есть переменные «икс» и «игрек» из наших уравнений, которые означают «любое число», формальная логика раздвигает границы. В такой логике «икс» и «игрек» означают «любые единичные вещи», как количественные, так и иные. В этом случае необходимы какие-то новые определения для арифметических действий – для сложения, умножения и так далее: новая система слишком обща для того, чтобы подчиняться обычным правилам математики. Но аналогия здесь очень близкая. Итак, рассуждения Парменида – экстраполяция пифагорейского метода доказательства. Это доказательство приводит к заключению, что если допустить, что длина диагонали измеряется рациональным числом, то «данное число является нечетным и четным сразу». Поскольку этот вывод абсурден, нужно отказаться от допущения.
Точно так же Парменид показывает, что некоторые философские допущения типа «существует более чем одно бытие», приводят к заключению, что «определенная вещь одновременно существует и не существует». Это заключение абсурдно, и Парменид явным образом разъясняет почему.
Самая важная для истории западной науки и логики строка в «Пути Истины» – замечание богини, когда она отбрасывает ложный выбор пути: «…то, о чем можно думать, и то, что может существовать, – одно и то же»15. Здесь явно признается, что человеческий разум в силах постичь, как устроено бытие. Все человеческие рассуждения имеют в своей основе идею, что все разумное или хотя бы ясно представимое в мыслях должно быть последовательным. Прямое противоречие, например, «число Х является нечетным и четным одновременно» абсурдно: мы не можем ясно представить себе такое число. Более того, мы уверены, что такого противоречивого числа нет, и, если чье-то доказательство подводит к такому заключению, часть выводов в этом доказательстве была ошибочной.
Утверждая явно, что непротиворечивость – фундаментальное свойство и бытия и мышления, Парменид обнаружил принцип, имеющий первостепенную важность: если признано, что существовать могут только непротиворечивые объекты, истинность обобщений можно выяснять, проверяя их на отсутствие противоречия. Не только в математике, где пифагорейцы к тому времени уже разработали способ доказательства путем приведения к абсурду количественных соотношений, но и в философии, в физике – везде стало возможным показать, что какие-то обобщения ложны, просто выяснив, последовательны ли они с точки зрения логики. Каждый раз, когда точная дедукция приводит к противоречию, мы можем быть уверены, что исходное допущение неверно. Бытие не может терпеть ничего внутренне противоречивого. Существуют общие модели рассуждения, по которым точно видно, какие следствия логически вытекают из конкретных посылок: алгебраическая логика XX века сумела выявить эти модели. Но именно Парменид первым сформулировал основное правило логического рассуждения.
Своим открытием Парменид укрепил формализм в философии: оно показало, что действительность и абстрактная логическая форма тесно связаны между собой, и благодаря Пармениду философы стали лучше осознавать те пути, которыми они приходили к своим выводам. После Парменида и его ученика Зенона греческие философы стали ценить точные логические построения6.
Переходя от логических категорий к философским, мы можем спросить себя, может ли хоть один человек поверить в эти выводы. Вместо гераклитовского чувства напряжения, энергии и парадокса Парменид предлагает постоянство, абсолют, различия и изменения внутри которого нереальны. Я не думаю, что кого-то можно убедить в этом одними словесными доводами без мистического переживания, которое заставило бы человека поверить, что эти доводы отражают реальную картину мира (под мистическим переживанием я имею в виду острое интуитивное ощущение единства всего сущего). Вероятно, это одна из причин, по которым Парменид выбрал поэтическую форму, чтобы изложить свое учение, и вложил его в уста богини.
А интуитивное чувство единства всего, что существует, и ощущение призрачной нереальности конкретных возникающих перед тобой объектов возможны. Как раз такого интуитивного взгляда на мир придерживается индийская школа Адвайта Веданта, и ее учение почти совпадает с учением Парменида7. Величайшим представителем этой традиции был философ Шанкара, который сосредоточил свои усилия на том, чтобы доказать нереальность всех проявлений внешнего мира. Рассказывают, что однажды, когда во время торжественной процессии слон бросился на толпу, Шанкара отбежал в сторону и спрятался за дерево. Друг Шанкары спросил его: «Это же только видимость слона, почему ты бежишь от нее?» – «То, что я бегу, только кажется: это тоже видимость», – ответил философ. Но если индийцы приняли этот вывод как конечное учение, то древние греки отреагировали иначе: они приняли логику Парменида, а затем использовали ее для того, чтобы увидеть, что неверно в его философских аргументах, потому что позднейшие мыслители почти не сомневались, что в нем где-то есть ошибка.
Вот где «узкое место» на пути правды Парменида: если этот путь верен, видимости вообще не существуют. Нет ни богини, ни философа, ни мистической дороги, а только единая и целостная, без малейшей трещины, хрустальная сфера бытия, как такового. Видимости даже не кажутся существующими, потому что они – чистое ничто. А греки, которые остро чувствовали и высоко ценили окружающий мир, не могли признать истиной такое явное отрицание самой возможности существования всех известных по опыту фактов вплоть до самых очевидных. Аргумент Парменида, к несчастью, имеет некоторые свойства «универсального растворителя» средневековых алхимиков. Так они называли химическое вещество, которое растворяло бы все, к чему прикасалось. Любопытно, в чем искавшие этот растворитель алхимики собирались его хранить, если бы нашли.
Если точно придерживаться текста поэмы и раскрывать замысел Парменида, невозможно обойти проблему видимостей. Утверждение, что единственные возможные варианты для выбора – бытие или небытие, создает непростую проблему в философии и логике. До Парменида вовсе не было ясно, что дать определение небытия окажется такой же трудной и будящей мысль задачей, как дать определение самого бытия. До сих пор неясно, можно ли строго применять правило исключенного третьего (логическое правило, согласно которому «все является либо A, либо не-А») к миру фактов. Дальше у Платона и Аристотеля мы увидим, что их анализ понятий «бытие» и «ничто» сделал возможным сохранение строгой логики Парменида без необходимости принимать ту философию, которую он, по его мнению, должен был исповедовать8.
Из «Пути мнения», второй части поэмы, нам известны только введение и около пятнадцати разрозненных отрывков, сохранившихся благодаря цитированию.
Богиня начинает эту часть своей речи словами: «Здесь я схожу с пути правды…» «Смертные ошибаются, когда дают имена двум формам – свету и тьме: правильно было бы давать имя только одной из них», – утверждает она. Но Парменид должен изучить эти мнения: тогда «ни одно мнение человечества не одолеет тебя…» – говорит ему богиня. Из сохранившихся цитат видно, что после этого она переходит к краткому изложению пифагорейской науки и начинает с обозначения пар противоположностей из философской таблицы последователей Пифагора. Она критически замечает, что пифагорейцы, когда включают в свою таблицу «пустоту», «ночь», «неопределенность», предполагают существование разновидностей небытия. Абсурдность этого допущения богиня уже показала во вступлении, когда критиковала «смертных», которые «дают имена двум формам»9.
Но почему эта вторая часть вообще была написана? Ученые долгое время задавали себе этот вопрос и предлагали много объяснений. То, что Парменид стал подробно рассматривать мнения, означало ли, что мир видимостей каким-то образом является проекцией или прорывом куда-то в чистую реальность, которая одна существует в первой части? Платон именно так рассматривает отношение видимости к рельности в своем диалоге «Парменид», но Платон стоял на гораздо более сложной философской позиции и признавал наличие степеней как у бытия, так и у небытия, а у Парменида этой идеи явно не было: «что-либо или есть, или его нет». Не была ли вторая часть задумана как учебник по современной Пармениду науке, написанный в стихах, для того чтобы ученики Парменида легче запомнили неверные мнения современных им знатоков? Такое могло быть, но во времена Парменида, в отличие от нашего времени, несомненно, не было случая, чтобы кто-то составил сборник всех идей, которые считал ошибочными, или вообще написал учебник. Может быть, за время, прошедшее между завершением первой половины поэмы и началом работы над второй, Парменид изменил свое мнение по поводу видимостей? Если он это и сделал, никаких внешних признаков этого нет. Возможно, он захотел показать своему читателю неустранимую абсурдность мира, в котором невозможно примирение разума с опытом? Тогда в основе обеих частей лежит одна и та же мысль, и истинный пафос и новизна поэмы – в их несовместимости.
Были сделаны все эти предположения и еще много других10. Мне кажется самым лучшим более простое объяснение. «Путь мнения» можно прочесть как прямую критическую атаку на пифагорейство, которая ставит под сомнение надежность пифагорейской науки, объясняющей мир в терминах противоположных понятий – предела и беспредельного, числа и пустоты, формы и поля. Когда пифагореец предлагал красиво упорядоченные объяснения астрономических, физических, психологических или генетических явлений, это было привлекательно, и вовсе не было очевидно, что в основе всей его процедуры лежит противоречивая философия. Если богиня на основе точной логики может показать, что существование небытия – одно из допущений, которое присутствует во всех более или менее узких по теме пифагорейских научных работах, она держит слово, которое дала Пармениду, и опровергает для него наиболее правдоподобные мнения того времени таким образом, что уйти от ее критики невозможно11. Мне кажется, что вторая часть поэмы была задумана именно для этого12.
Сочетание логики и мистицизма у Парменида оказало сильное влияние на последующую греческую философию. Его чистая логика получила высокую оценку и была взята на вооружение. Его аргумент «ничто не может родиться из того, чего нет» стал вызовом многим поколениям философов, пытавшихся объяснить природу изменчивости мира13. Его нежелательные выводы побуждали позднейших философов к новым, более точным исследованиям понятий «бытие» и «небытие». Позднейших мыслителей удерживало от попыток отождествить бытие с каким бы то ни было одним веществом или одной субстанцией выполненное Парменидом доказательство того, что в мире, состоящем из какой-то одной субстанции, не могло бы происходить никаких подлинных изменений (потому что каждая вещь после изменения оставалась бы в своей основе такой же, какой была до этого). После Парменида те, кто истолковывал понятия бытия и изменения, перешли от монизма, то есть попытки найти одно начало, лежащее в основе всей действительности, к плюрализму, то есть попытке объяснить мир как нечто созданное из многих разных элементов – материальных частиц или иных сущностей.
Зенон Элеиский
Парадокс движения1
Если в каждый определенный момент времени летящая стрела находится в покое, когда она движется?
Зенон из Элеи, последователь и поклонник Парменида, обладал точным чувством логической формы и имел дар выбирать подходящий (и остроумный) пример для иллюстрации своих рассуждений; с таким сочетанием качеств мало что может сравниться в философии. Зенон принял обе части философской мысли Парменида: вывод, что множественность и изменение нереальны, и высокую оценку формальной логики как метода испытания теорий на верность путем проверки их на логическую последовательность. Желая доказать, что Парменид был прав, Зенон демонстрировал абсурдность противоположной точки зрения (мнения, что в мире реально существуют множественность и изменение). Его наивысшим достижением в этой области был набор из четырех загадок, которые он придумал, чтобы подтвердить нереальность движения примерами, которые показали бы, что ни здравый смысл, ни пифагорейская наука не могут дать определение движению, не столкнувшись с противоречием или невозможностью.
Современный лектор вполне мог бы начать рассказ о Зеноне в духе самого Зенона:
«Если я скажу: сегодня у меня есть доказательство, что вы не можете дойти оттуда, где сидите, до двери аудитории, потому что дойти невозможно, это, может быть, покажется вам такой нелепостью, что всем нормальным людям среди вас тут же захочется дойти до этой двери, пройти через нее и пойти дальше! Но как раз это я и собираюсь доказать… Я предложу вам четыре довода, которые все вместе покажут, до чего бестолков и неразумен ваш здравый смысл и почему нелепо пытаться дать определение движению…»
Деятельность Зенона не убедила тех, кто пришел после него, в том, что Парменид был прав, но заставила их оценить по достоинству точную формальную логику. Она укрепила формализм, показав, что такие далекие одна от другой области знания, как математика и контрактное право, используют одни и те же логические формы. Она заставила философов аккуратнее обдумывать определения бытия и небытия и их отношение к определению изменения. Зенон раз и навсегда показал математикам, что пифагорейская программа построения непрерывных количеств из конечных рядов дискретных единиц внутренне противоречива и потому ее осуществление невозможно. Греческие философы и ученые, жившие после Зенона, реагировали на него так же, как на Парменида: не приняли идею, что реальность – всеохватывающий и неподвижный единый абсолют, а вместо этого стали доказывать, что формальная логика может быть действенной и разум надежным в мире, где множественность и изменения возможны. Мы можем заметить его влияние у всех последующих греческих мыслителей.
Зенон придал своей критике движения форму головоломок потому, что хотел нанести удар по здравому смыслу и по профессиональным взглядам математиков одним и тем же оружием. Понятые как конкретные ситуации, его головоломки ставят вопросы, которые заставляют здравый смысл признать, что его собственные нечеткие идеи могут оказаться вообще неразумными. Понятые как иллюстрации к более абстрактным критическим замечаниям, те же головоломки показывают, что технические допущения о точках и моментах, на которых основывается их свойство ставить слушателя в тупик, приводят к явному логическому противоречию. Четыре случая были подобраны так, чтобы показать пифагорейцам, поклонникам математики, хорошо знакомым с методом косвенного доказательства, что их определения движения неудачны. Платон пишет, что Зенон «отбивал удары тех, кто смеялся над Парменидом, и делал это интересным образом». Итак, давайте посмотрим на эту контратаку2.
Загадок о парадоксах движения четыре. Такое количество примеров Зенон выбрал потому, что ему нужно было опровергнуть четыре разных возможных определения движения. Но сначала перед нами четыре его загадки, которые продолжают восхищать детей, математиков и самых обычных слушателей с тех самых пор, как Зенон впервые рассказал их.
Первый парадокс известен как «Дихотомия», или «Деление на два». Предположим, вы стоите на стадионе на каком-то расстоянии от двери, которая ведет на улицу. Тогда вы никогда не сможете выйти с этого стадиона, потому что перед тем, как дойти до двери, вы должны дойти до середины пути. Но перед тем, как дойти до середины, вы должны пройти середину расстояния до нее. Поскольку движение от одной точки до другой занимает какой-то конечный промежуток времени, а серединных точек бесконечно много, вам понадобится бесконечно много времени для того, чтобы пройти их все и выйти со стадиона. Что не так в этом аргументе? Он вылядит неразумным. Но как все-таки получается, что вы выходите из этой двери?
Если же вас не убедило это деление на два, у Зенона есть вторая головоломка – загадка об Ахилле и черепахе. В ней вы должны снова представить себя на стадионе. Вы смотрите на соревнование по бегу между Ахиллом и черепахой. Поскольку черепаха движется гораздо медленнее, Ахилл позволяет ей стартовать впереди него. Но это ошибка: сделав это, Ахилл никогда не догонит черепаху, говорит Зенон. К тому времени, как Ахилл добежит до места, откуда стартовала черепаха, та переместится вперед в какую-то другую точку. К тому времени, когда Ахилл доберется до этой второй точки, черепаха переместится еще дальше вперед. Так что Ахилл никогда не сможет обогнать черепаху. Греческие слушатели Зенона, несомненно, в первый момент реагировали на это словами: «Но мы же знаем, что в настоящем беге Ахилл обогнал бы черепаху и победил», а потом, немного подумав, приходили ко второй мысли: «Да, конечно, он бы ее обогнал. Но как?» Поскольку нас нелегко убедить в том, что логичные рассуждения ведут к заключению, совершенно противоположному реальности, вызов Зенона побуждает к действию – обосновать, почему становится возможным обогнать черепаху. Мы возвращаемся к его рассказу и даже рисуем схему состязания так, как его описал Зенон, чтобы увидеть, где он сделал какое-то неверное допущение о расстоянии, скорости или движении. Эта схема вылядит так:

«АХИЛЛ И ЧЕРЕПАХА» ЗЕНОНА
А( – место, откуда стартует Ахилл, Т( – место, откуда стартует черепаха. К тому времени, как Ахилл добегает из А( в А2, черепаха перемещается в Т2; пока Ахилл бежит из А2 в А3, черепаха снова перемещается вперед из Т2 в Т3; и так до бесконечности. Эта схема тоже как будто подтверждает, что черепаха выигрывает состязание.
Третий парадокс Зенона, парадокс о стреле, самый простой из четырех, но, как показала история, самый сильный из них стимулятор для мысли. «Если летящая стрела в каждый момент времени находится в покое и занимает пространство, равное ее длине, то когда она движется?» В самом деле, когда? Этот вопрос хорошо бы задавать математикам и физикам, когда они начинают говорить нам о «состояниях» или «моментах», которые представляют собой «вещи в нерастянутом отрезке времени». Как можно построить движение из таких статических моментальных кадров покоя? Этот вопрос будет интересен для них и для любого другого человека тоже.
Четвертая загадка Зенона заставляет нас еще раз вернуться на стадион. Ахилл и черепаха ушли – может быть, вопреки Зенону, они все-таки дошли до двери, – и вместо них перед нами три движущихся «тела» – повозки или колесницы, – выстроенные в определенном порядке. Одна стоит, вторая проезжает мимо нее. Сколько времени нужно второй, чтобы проехать расстояние, равное длине колесницы?
Это, разумеется, зависит от скорости движущейся колесницы. Но какую бы скорость мы себе ни представили, нас просят принять «время проезда расстояния, равного одной длине колесницы», за единицу времени. (Здесь нужно заметить, что для здравомыслящего грека, любителя гонок на колесницах, длина колесницы была естественной мерой и расстояния, на которое одна колесница обгоняет другую, и времени, на которое раньше она финиширует.) А теперь представим себе, что третья колесница движется с той же скоростью, что вторая, но в противоположном направлении. Когда эти две колесницы проезжают одна мимо другой, время, необходимое каждой из них, чтобы проехать расстояние, равное одной длине колесницы, равно лишь половине исходной единицы. Итак, заключает Зенон свой парадокс, пол-единицы времени равняются целой единице времени. Этот его аргумент, когда оказывается понят, сильно озадачивает любого человека, который всегда считал само собой разумеющимся, что движение и покой – абсолютные противоположности. Те ответы, которые приходят в этом случае на ум нам самим, пришли в наш здравый смысл из теории относительности. Мы понимаем, что движение, конечно, всегда происходит относительно какой-то системы координат, то есть одна и та же колесница имеет разные скорости в зависимости от способа, которым измеряется скорость. Для слушателей Зенона эта мысль вовсе не была привычной. Если бы Зенон сказал в своем выводе: «Поэтому одно и то же движущееся тело одновременно имеет разные скорости», слушатели посчитали бы это такой же нелепостью, как то, что он им предложил: что целый отрезок времени равен половине этого отрезка.

ПАРАДОКС ЗЕНОНА «СТАДИОН»
AAA находится в покое, BBB движется от знака поворота, а CCC движется к знаку поворота с той же скоростью. Если мы примем «время проезда расстояния, равного одной длине колесницы», за единицу времени и измерим его по движению B относительно A, то B проедет мимо C за половину этого времени. Это противоречит представлению о том, что исходная выбранная единица времени была неделимой. Этот аргумент можно применить, чтобы показать, что не может быть наименьшего неделимого отрезка времени.
Хотя современному читателю ясно, что Зенон действительно обнаружил важную истину, наш здравый смысл XX века настолько привык к тому, что скорость относительна, что эта четвертая задача для нас менее интересна, чем остальные три. Однако, если мы посмотрим на эти парадоксы как на критические выпады против «научных» идей о движении, которые излагали прифагорейцы, мы обнаружим, что в этом последнем из четырех парадоксов Зенон спрятал еще одну задачу.
В то время, когда жили Зенон и Парменид, пифагорейцы были в западном мире экспертами по естественным наукам и математике. Выполняют ли четыре парадокса Зенона свою функцию критики распространенных тогда более точных определений пространства, времени и движения?
Пифагорейцы, похоже, пришли к соглашению, что физический мир, включая пространство и время, складывается из отдельных «точек» и «моментов». Поэтому они определили бы движение примерно так, как мы определяем скорость, – как перемещение через определенное количество точек пространства за определенное количество моментов времени. В физике и геометрии пифагорейцы также единогласно признавали положение, что любой непрерывный объект, имеющий длину, – например, линия или ее часть – может быть разделен на две части. Но помимо этого согласованного общего мнения не было ни одного принятого всей их школой взгляда на то, каков размер моментов и точек: они могли не иметь вообще никакого размера или могли иметь соответственно конечную длину и конечную длительность. Не было согласованного единого мнения и на то, следует ли рассматривать линию, определяемую точками, как ряд точек, расположенных одна вплотную к другой, или считать, что точки на линии отмечают границы интервалов, а промежутки между точками заняты какой-то разновидностью пустоты или пространства3.
Отсутствие согласия по поводу конкретных деталей означало, что Зенон должен был рассмотреть четыре возможных случая, чтобы показать, что ни одно точное описание не может быть свободно от противоречий. Похоже, он чувствовал, что Парменид уже доказал нелепость попыток заполнить промежутки между точками каким-то видом пустоты4. Такая пустота была бы формой небытия, а поскольку ничто не может что-то делать и не может иметь какие-то свойства, было бы нелогичным считать, что оно разделяет точки или связывает их. Поэтому не вызывают возражений с точки зрения логики только те варианты, в которых сегменты пространства (и времени) вплотную прилегают один к другому.
Четыре возможных у пифагорейцев способа описать движение объединяются в две группы: либо (1) сегменты пространства и части времени не похожи друг на друга, либо (2) они похожи. Если (1) они не похожи, то либо (1a) каждый момент времени имеет определенную протяженность, а сегменты пространства ее не имеют, либо (1b) дело обстоит наоборот: точки имеют конечную длину, а моменты времени не имеют длительности. Если (2) время и пространство подобны одно другому, то либо (2a) элементы и того и другого не имеют никакой протяженности, либо (2b) элементы и того и другого имеют какую-то минимальную конечную длину [то есть либо T = 1, S = 1, либо T = 0, S = 0]5.
Именно эти четыре возможности и рассмотрены по порядку в четырех парадоксах движения. Зримо представить это в компактной форме вам может помочь таблица:

Для начала вернемся к задаче «Деление на два» и обратим внимание на то, что в этой головоломке предполагается, что пространство между вами и ведущей наружу дверью можно делить бесконечно. И для Зенона, и для Пифагора это означало, что пространственные точки не имеют длины. В то же время, когда Зенон сказал: «Чтобы пройти через каждую точку пространства, нужно какое-то время», он предполагал, что у моментов времени есть какая-то «длина» и поэтому, если сложить бесконечное количество моментов, в сумме получится бесконечное время. Это противоречие происходит оттого, что к пространству применяется пифагорейский постулат о том, что любое непрерывное количество можно разделить на две части, а к времени применяется другая пифагорейская теорема, что непрерывное количество представляет собой последовательность бесконечного числа отдельных точек. (С точки зрения арифметики раз пространственные точки не имеют длины и поэтому их длина равна нулю, то при их сложении не может получиться длина больше нуля. Но поскольку моменты времени имеют длительность, сумма любого количества этих моментов будет больше, чем нуль. Если теперь описать движение как отношение расстояния к времени s/t, получится 0/t, то есть неподвижность.)
В парадоксе об Ахилле делается противоположное допущение. Когда Зенон заявляет, что Ахилл никогда не сможет обогнать черепаху, он явно говорит о времени, которое можно делить на две части до бесконечности и которое, следовательно, состоит из не имеющих протяженности моментов; но он предполагает, что в каждый момент времени оказывается пройден какой-то конечный отрезок пути. В этом случае оказывается, что скорость любого движения равна бесконечности, потому что отношение расстояния к времени (s/t) равно s/0. Аристотель считал парадокс об Ахилле «детским», потому что «очевидно, что пространство делится на части таким же образом, как время». Но Аристотель не понял, что Зенон использовал парадокс об Ахилле для того, чтобы опровергнуть одно из логически возможных пифагорейских толкований. (Фактически эти два первых рассмотренных Зеноном случая никогда не принимались всерьез как научные гипотезы вплоть до XX века; но пифагореец мог бы рассматривать их, и потому Зенон включил их в свою атаку по всему фронту6.)
В парадоксе о стреле допущения достаточно простые и очевидные: если ни моменты времени, ни сегменты пространства не имеют совершенно никакой протяженности, отношение расстояние к времени всегда будет 0/0, а это выражение не имеет смысла. Причина того, что задача о стреле создает такие фундаментальные трудности, состоит в том, что мы часто хотим разрезать пространство и время на отдельные фрагменты, как на куски. Целая длинная и интересная глава в истории математики заполнена попытками, используя различные стратегии, опять сложить из этих фрагментов непрерывное целое.
И наконец, в четвертой задаче с движением колесниц относительно друг друга предполагается, что точки пространства и моменты времени имеют определенную протяженность, но она минимальна, и поэтому они имеют длину, но неделимы. (Если бы они были делимыми, то многократным делением на два их можно было бы разделить до частей, каждая из которых была бы ничем, и перед нами опять был бы случай со стрелой.) Но допущение о неделимости сразу же оказывается неверным: мы видим, что факт относительности движения приводит к необходимости делить моменты или точки на более мелкие части, если мы не согласны с выводом самого Зенона: «Итак, два промежутка времени равны одному промежутку». То, что Зенон назвал движущиеся по стадиону предметы словом «онкос», означавшим что-то объемное, характерно для этого философа: обычные слушатели сразу понимали, что здесь имеются в виду повозки или колесницы, и представляли их себе; но слово «онкос» еще означало «физическое тело» у пифагорейцев, и более ученый слушатель мог представить себе просторный стадион и на нем крошечные пифагорейские точки – движущиеся онкой-тела7.
Четырьмя парадоксами Зенон очень хорошо достигает того, чего хотел. Он логически строго показывает, что в пифагорейских представлениях о движении, пространстве и времени что-то неверно. Эти демонстрационные примеры Зенона не убедили более поздних мыслителей принять выводы Парменида, однако заставили этих мыслителей проникнуться уважением к формальной логике и увидеть новые возможности ее применения. Еще они, естественно, заставили их попытаться сформулировать пифагорейские понятия по-новому, таким образом, чтобы исключить показанные Зеноном противоречия. Эти попытки имели много форм: у Анаксагора – отказ от представления об отдельных точках и замена их непрерывной последовательностью, у Аристотеля – полное отделение арифметики от геометрии, а в атомистической теории – лежащее в ее основе четкое разграничение физической и математической «делимости»8.
Эмпедокл
Слишком много воображения
Головы без тел, Торсы без конечностей Падали в воздухе с огромной высоты.
Эмпедокл из города Агригента (иначе Акрагаса) на южном побережье Сицилии был не только известным врачом, но также поэтом и философом. Чтобы объяснить происходящие в мире изменения, не допуская, что «что-то рождается из ничего», он выдвинул идею, что существует много «элементов», которые смешиваются в разных пропорциях, но сами остаются неизменными. Однако и форма и содержание его стихов заставляют предположить, что Эмпедоклу интереснее было истолковывать яркий мир наших чувств, чем искать за внешним обликом мира какую-то другую реальность. Его воображение было способно сочетать самые несхожие понятия, и эта способность была так велика, что многие позднейшие читатели оказались не в состоянии оценить оригинальность его работы. Из его идей сильнее всего повлияли на философию представления о множественности «элементов» и теория естественного отбора в биологии. Но самое интересное у Эмпедокла – то, как в его работе сочетаются острая наблюдательность греческих поэтов и медиков с игрой воображения.
Как писал Уайтхед, одна из важнейших человеческих потребностей – жажда приключений. Знакомство с чужим сознанием, которое настолько сильно отличается от твоего собственного, что эта разница побуждает твой ум работать, – смягченный вариант того же самого. Уайтхед ничего не говорит о встрече с кем-то настолько же не похожим на нас, как «свалившийся с Марса» человек из поговорки, но я полагаю, что он посчитал бы такую встречу огромной удачей из-за новых возможностей в поведении и мышлении, которые открылись бы нам благодаря такому существу. Древнегреческий врач Эмпедокл, который жил в Агригенте около 440 года до н. э., поражает меня тем, что он во многих отношениях далек, словно марсианин, от нашего современного мира. Он настолько не похож на нас, что ученым оказалось трудно поверить в его существование и тем более оценить его по достоинству. Может быть, лишь поэты пару раз подошли к нему ближе, чем остальные. Мэтью Арнольд написал поэму «Эмпедокл на Этне», основанную на легенде, что Эмпедокл, желая укрепить веру в то, что он бог, покончил жизнь самоубийством, прыгнув в кратер вулкана Этны. А через полвека после Арнольда Уильям Эллери Леонард написал во введении к своему переводу работы этого древнего философа, что считает его сочинение великой космогонической поэмой, равной поэмам Лукреция и Уильяма Блейка. Леонард был исключением из правила среди литературных критиков: они со времен Аристотеля, который был тут первым, не находили ни одного доброго слова для поэзии Эмпедокла.
Эмпедокл изумляет современного читателя разносторонностью своих интересов, временами – своей колкостью и характерной неспособностью признавать то, что мы считаем очевидным и необходимым с точки зрения нашего здравого смысла. Эмпедокл изучил традиционную медицину сицилийских греков и внес в нее свой вклад, он восхищался пифагорейцами, остановил эпидемию чумы в городе Селине и верил в переселение душ1. Кроме того, Эмпедокл заявлял о себе, что он бог, писал лирические стихи о естественном отборе, ввел в науку точное понятие «стихия» и описал «первый настоящий эксперимент» на Западе. Он явно отождествлял философию со своим собственным направлением неорганической химии, которое состояло наполовину из анализа и наполовину из поэзии2. Эмпедокл внес свой вклад в философию, генетику, литературу, химию, здравоохранение, методологию науки – был новатором во всем, кроме математики. Может быть, если бы у нас был только список его открытий, мы больше восхищались бы им. К несчастью, мы слишком много знаем о его работе в каждом из этих случаев. (Отчасти так вышло потому, что Аристотель, сам сын врача и биолог, много раз цитирует Эмпедокла, хотя каждый раз с раздражением.)3
Пытаясь понять Эмпедокла, я прежде всего задал себе вопрос: почему он изложил свои мысли красочным, но точным размером и почти в тех образах, которые можно найти в нашей современной лирике. Далее я спросил себя: был ли он хорошим ученым и почему мнения о нем настолько противоположные. Сам я считаю, что Эмпедокл отчасти сознательно, а отчасти, должно быть, неосознанно придерживался таких взглядов на отношение видимого к реальности, подобных которым не было ни у одного другого философа в его время. Возможно, это не так, но это привлекает внимание к тому действительно интересному с точки зрения философии, что я обнаружил в его стихах.
Все мыслители, с которыми мы знакомились до сих пор, подчеркивали огромное различие между реальным и видимым. Они разными путями пытались увидеть то, что находится за гранью обычного мира, доступного взгляду и прикосновению, будь это неизменная первооснова или вечно текущий поток огня. Если существует такая разница между тем, чем вещи являются, и тем, чем они кажутся, то перед философом открываются два пути. Те, кто считал, что человеческий разум может выяснить, что такое вещи на самом деле, включились в традицию конструктивного рассуждения, которая была центральным направлением греческой мысли4. Появившиеся позже софисты стали другой, отколовшейся от традиционалистов группой: они полагали, что вещи не то, чем кажутся людям, но скептически относились к способности человека определить, каковы вещи на самом деле5. Однако существует и третья возможность: можно отрицать, что под видимым обликом вещей существует какая-то глубоко скрытая реальная суть, и утверждать, что истину следует искать, внимательно наблюдая за тем, что мы можем потрогать, увидеть или живо вообразить себе. Тот, кто принял эту точку зрения, стал бы в своих словах меньше полагаться на упоминание загадочных «сущностей» и на сверхотвлеченные аргументы и больше – на более яркие образы, из которых состоит опыт человека. Полезно рассмотреть подход Эмпедокла к данным вопросам.
По примеру Аристотеля и последующих историков философии мы начнем свой рассказ с того, что рассмотрим дискуссию Эмпедокла об архе, первооснове всех вещей. Эмпедокл, живший после Парменида и Зенона, охотно пользовался их логикой для того, чтобы подкрепить ею свое собственное мнение, что для настоящего изменения нужен не один тип бытия, а много. При такой исходной позиции мы могли бы ожидать от Эмпедокла любой вариант решения – от какой-нибудь новой концепции живой природы до тупого возвращения к «четырем основным видам материи», которые были нормой тогдашнего массового сознания, но находим сплав философии и химии, который не нравится ни химикам, ни философам. Эмпедокл часто писал, что все вещи состоят из шести элементов – земли, воздуха, воды, огня, любви и ненависти!6 Для него притяжение и отталкивание вещей такой же несомненный факт, как приобретенное нами опытным путем знание, что вещи бывают холодные или горячие, влажные или сухие. Иногда он олицетворяет в виде богов все шесть элементов, иногда только два последних7. Первые четыре элемента материи существуют в виде частиц, которые определяют размер и форму предметов. Вот почему верны открытия пифагорейцев, вот почему число применимо к природе8. Формула состава – например, «три части земли на одну часть воды» – определяет его свойства и то, насколько тесно его «молекулы» прижаты одна к другой. Эти маленькие неделимые группы элементов являются «буквами» алфавита природы (Эмпедокл называл их стойхейя, то есть «корни», а слово «буквы» в этом значении первым применил Платон9.) Поскольку эти элементарные частицы имеют разные форму и размер, складываясь, они образуют решетки или иные структуры, где между ними остаются «поры»; более мелкие частицы могут проходить через эти поры, но более крупные элементарные или составные частицы будут ими остановлены. Чтобы показать, как это происходит, Эмпедокл приводит знакомый пример:
Как если человек, готовясь к пути в зимнюю ночь,
Раздувает в лампе яркий огонь
И вставляет в лампу дощечки,
которые загораживают огонь от дыхания ветра,
А свет проходит через дощечки, поскольку он мельче,
И не уставая светит за порогом,
Так в это время огонь таился в зрачке глаза…
Этот огонь, благодаря малому размеру своих частиц, может выскользнуть из глаза через поры в частицах воды и глазных тканей. Это хорошая научная иллюстрация его утверждения, и, кроме того, она типична для Эмпедокла. Похоже, он чувствовал, что понимание его теории пор и частиц отчасти зависит от того, что читатель или слушатель представляет себе золотистый луч света, резкий порыв ветра, когда человек переступает порог, качающийся фонарь в ночной темноте10.
Однако в системе Эмпедокла не было никакого пустого пространства: поры были заполнены чем-то вроде жидкой массы из более мелких частиц иных видов, так что изменение происходило, когда частицы менялись местами, а не было каким-то видом движения в пустоте. Эмпедокл, по достоинству оценивший элейских философов, был твердо уверен в одном: пустое пространство было бы ничем в чистом виде, неощутимым и неспособным к действию11. Все элементы занимают какое-то пространство, состоят из частиц, имеющих определенную протяженность, и обладают сопротивлением. Природа воздуха – «аэра», который до того времени считался то подлинным физическим веществом, то абстрактным понятием, близким к «безграничному», была наконец определена с помощью разработанного Эмпедоклом эксперимента, о котором пойдет речь ниже12.
С философской точки зрения представление Эмпедокла о плотно упакованных элементах выглядит прежде всего неудовлетворительно, поскольку элементы имеют протяженность и форму, а это, как нам кажется, заставляет предположить, что существует общая для всего материальная субстанция, которая «держит» воспринимаемые нами качества и подразумеваемые нами формы. Если же такая общая материя существует, то разве рассуждения Парменида не заставляют нас снова отрицать реальность изменений? Но именно с целью избежать этого и были взяты за начало четыре или шесть элементов вместо одного. Парменидовой логики невозможно избежать, если мы не предположим, что здравый смысл заслуживает доверия больше, чем суперабстрактная теория. Если мы вместе с Эмпедоклом делаем это предположение, то мы можем быть уверены в реальности изменений и разнообразии первичных качеств в мире. Мы можем быть почти полностью уверены (поскольку это – прямое следствие) в том, что «корней» много, и полностью уверены (поскольку в практической деятельности счет и измерение позволяют успешно обнаруживать законы и закономерности), что природа имеет какую-то математическую подструктуру. Но для таких абстрактных обобщений, как аргументы Зенона и Парменида, у нас нет способа проверки, который мог бы обеспечить уверенность, сравнимую с этой. Каким образом элементы могут быть одновременно протяженными и неделимыми и каким образом общая материя, принимающая различные формы, может изменяться по-настоящему – это головоломки для логиков, которые здравый смысл не берется решать и, кажется, доволен, что поступает так.
Даже если рассматривать теорию Эмпедокла с научной точки зрения, отделяя чисто научный взгляд на нее от философского, достоинства этой теории оказываются спорными. Ценность введенных им понятий химический элемент и химическая формула несомненна, и все же его методика определения того, какие элементы существуют в мире, кажется ненадежной. Вместо аналитического метода, который мы бы инстинктивно выбрали и которого ожидали бы, Эмпедокл применяет то, что мы могли бы назвать проективной техникой: он берет за исходную точку свое субъективное осознание собственных реакций и проецирует его во внешний мир. Например, сравнительно высокая интенсивность ощущений жары, холода, сухости и влажности кажется ему причиной для того, чтобы выбрать землю, воздух, огонь и воду в качестве элементов, а его непосредственные чувства любви и ненависти кажутся ему настолько же бесспорными, острыми и реальными, как тепло и холод. Далее, когда два предмета притягиваются друг к другу или отталкиваются друг от друга, это можно понять так, что они, должно быть, чувствуют то же, что чувствуем мы, когда испытываем симпатию или антипатию к окружающим нас людям и предметам. То есть Эмпедокл посчитал бы слова современного химика о «притяжении», «захвате», «разделении с другим атомом» и «отдаче» электронов и хорошими как литературное описание, и вызывающими уважение с научной точки зрения; а химик, вероятно, предпочел бы обойтись без такого языка13. Из этого возникает интересный вопрос более общего характера, который до сих пор активно обсуждается в связи с научным методом: насколько сильно ученый может или должен зависеть от своего воображения, когда дополняет свои непосредственные наблюдения, выходя за их границы? Например, если я утверждаю, что «этот сахар растворим в воде», – я просто сообщаю факт или же черпаю информацию из своих памяти и воображения? Должно быть, верно второе, потому что «способность растворяться», или «растворимость», – не такое свойство, которое любой человек может наблюдать до того, как сахар действительно растворится в воде, разве не так? Но если даже в случае такого очевидного факта суждение и интерпретация выходят далеко за рамки обычного наблюдения, где мы должны провести границу между фактом и фантазией? А эту границу мы должны провести, если хотим утверждать, что «водород любит серу» – поэтическое, но ненаучное выражение.
Сочетание у Эмпедокла образного проективного мышления, любви к мифологии и точных наблюдений привело его к попытке создать великую космологическую поэму. Он написал свою историю Вселенной в терминах великого цикла: в «Сфере» какое-то время господствует Любовь, все вещи притягиваются одна к другой и прочно слипаются друг с другом, но потом возникает Раздор, он «усиливается по краям Сферы», и начинается отделение ее частей друг от друга и их дифференциация14. Соединяя научную проницательность, которая может соперничать с проницательностью Дарвина, и равное блейковскому безумное буйство воображения в сценах сотворения мира, поэт дальше объясняет, как после разделения вещей возникли «головы без плеч, туловища без конечностей» и стали падать (так перевел Леонард) «в Воздухе с ужасной высоты»!15 Любовь и в это время сохранила часть своей власти, и мы представляем себе, как эти разнообразные части тел сталкиваются друг с другом и снова соединяются совершенно случайным образом в чудовищные и произвольные органические коллажи. В результате появились «люди с бычьими головами…» и тому подобное. Минотавры, кентавры, сфинксы, сирены и химеры греческой мифологии возникают снова как погибшие биологические виды в рассказе, который похож на описание естественного отбора16. Что перед нами именно такое описание, становится ясно, когда Эмпедокл продолжает описывать эти случайные сочетания. «Большинство из них погибли оттого, что были не способны усваивать пищу…» Еще меньшее число было способно производить потомство. Однако немногие, лучше всех приспособленные, оказались в состоянии произвести себе подобных и выжить. Так случайная сочетаемость приобрела вид разумной цели для тех существ, которые пережили процесс отсева в космическую эпоху усиления Раздора17.
Аристотель, величайший биолог, отреагировал на эту Эмпедоклову науку с оттенком техники возмущенно18. Ему не нравилось, когда поэзию и зоологию смешивают, и, отделив одну от другой, Аристотель посвятил немалую часть своих вводных лекций по естествознанию защите наличия цели в природе против Эмпедокловой «случайности» или «механической необходимости»19.
Но, как мы уже заметили, Аристотель не устоял против желания вставить в свой текст цитаты из работ критикуемого предшественника.
И наконец, в космологической эпопее Эмпедокла наступает время вражды и разделения всех вещей – та часть космического цикла, когда Раздор правит безраздельно; но в этом состоянии всеобщего разделения снова возникает Любовь; она начинает усиливаться, и Вселенная снова становится организованной и единой20.
Таким образом, в сочинении Эмпедокла высказаны новые для того времени идеи космологического цикла и естественного отбора, и это сделано с величайшей силой средствами поэзии, которая дает мифологическим чудовищам место в зоологии. Дальше в поэме поэтапно описаны тонкости процесса приспособления органической жизни к окружающей среде. Это сделано с помощью яркой и броской комбинационной модели – «головы без тел», «плечи без рук» и другие подобные же отдельно существующие специализированные органы; а они – морщась, замечает Аристотель – могли появиться на свет только как части целых организмов!21
Теорией «элементов» и эволюции загадка Эмпедокла не исчерпывается. Какое место мы должны дать ему в истории экспериментальной науки? Например, объясняя, как происходит дыхание, он использовал прекрасный образ, чтобы показать, что воздух занимает место в пространстве и сопротивляется другим веществам. Когда легкие наполнены, находящийся в них воздух не допускает внутрь них другие «элементы», которые иначе ворвались бы в них. «Это как если бы девица принесла бронзовую трубку к ручью, закрыла чем-либо один ее конец и опустила ее в чистую воду: трубка не наполнилась бы водой из-за сопротивления находящегося в ней воздуха»22.
Девица и ручей, возможно, напомнят читателю о современном телевидении – передаче на научную тему, которой придает блеск красивая молодая ассистентка, не столь уж обязательная с логической точки зрения, но необходимая для оформления передачи, как девушки в купальниках для рекламы сигарет.
Однако наука ли все это вообще? Профессор Артур Х. Комптон, получивший Нобелевскую премию за свои эксперименты в области физики, однажды сказал мне, что, по его мнению, этот отрывок у Эмпедокла был первым в истории описанием контролируемого научного эксперимента, имевшего целью установить, что воздух – вещество. Дэниел Фёрли, филолог и историк, недавно написал подробную статью, где показал, что этот отрывок скорее поэтическое уподобление и Эмпедоклу совсем не обязательно было думать об этом как о контролируемом эксперименте: он мог просто считать это упрощенной моделью привычного всем органического процесса23. В свете других работ и идей Эмпедокла кажется, что правы оба этих авторитетных ученых. Я думаю так: то, что описал Эмпе-докл, было достаточно трезво задуманным решающим экспериментом, в котором был применен специально выбранный прибор (приспособление, обычная вещь на древних кухнях) и целью которого было заставить буквы природы зазвучать и сложиться в ответ на конкретный вопрос; но без девушки, ручья и связи с дыханием этот опыт, вероятно, никогда не заинтересовал бы Эмпедокла настолько, чтобы поместить его в поэму о природе.
Другие идеи и события жизни Эмпедокла – сочетание медицины с магией, включение им в свою систему орфическо-пифагорейской веры в переселение душ или то, что он принимал «как нечто совершенно естественное» те почести, которые оказывали ему «как богу», – создают при толковании те же самые трудности24.
При всей синкретичности идей Эмпедокла, кое-что у него характерно именно для греческой мысли. В философии и науке классического периода идея эволюции представлялась только внутри взгляда на время как на замкнутый цикл; открытое по своей природе, постоянно возникающее время появляется у представителей западной мысли гораздо позже. Характерными для ученых были также одновременно универсализм, острая наблюдательность и (временами даже у Эмпедокла) уважение к логически безупречному аргументу. Еще одна характерная особенность – что существование в научных взглядах различий, которые кажутся нам не только разумными, но даже неизбежными, либо не признавалось явно, либо вообще не признавалось.
В свою эпоху Эмпедокл оказал больше влияния на медицину и биологию, чем на философию. Хотя некоторые из его идей навеки стали его вкладом в философию, сегодня он интересен нам прежде всего из-за центрального вопроса, который задан в его философском творчестве: согласуемся мы с реальностью или действуем просто наугад, когда проводим четкую границу между субъектом и объектом, наблюдателем и наблюдаемым миром, наукой и мифологией, выполненными экспериментами и экспериментами воображаемыми? Можем ли мы утвержать, как делают некоторые современные философы, что человек составляет единое целое с остальной природой и поэтому нашим сознательным ощущениям и мышлению должно соответствовать что-то схожее, хотя и смутное, у рыбы, у амебы и даже у электрона? Должно ли удовлетворять нас знание того, что изменение и множественность существуют на самом деле, раз мы не можем переспорить Зенона, который доказывает, что они не согласуются с разумом и, следовательно, невозможны?
Но даже те философы нашего времени, которые поднимают эти вопросы, до сих пор не признают Эм-педокла своим интересным предшественником: у него было слишком много воображения!25
Демокрит и атомистическая теория
Материализм
Случайности нет: все происходит по необходимости.
Не существует ничего, кроме атомов и пустоты.
Применив логику, разработанную Парменидом и Зеноном в элейской школе, к представлениям о материи, которые были сформулированы милетцами, Левкипп и Демокрит создали новые направление – материализм. Их тезис был таким: все существующее состоит из твердых неделимых частиц, которые движутся и сталкиваются друг с другом в пустом пространстве. Так впервые была провозглашена атомистическая теория, которой до этого не было ни в философии, ни в науке. Но эта ее греческая форма несколько отличалась от более поздних версий, и потому важно не путать ее с более поздними философскими идеями и с теориями физиков-атомистов XX века.
Когда Демокрит из Абдеры был молод, он приехал в Афины в надежде побеседовать с Анаксагором, ведущим ученым и философом в кружке людей искусства и интеллигентов, который собрал вокруг себя афинский государственный деятель Перикл. Но этот знаменитый старший собрат не имел свободного времени для встречи с одаренным молодым теоретиком из чужого города и не увиделся с ним. Разочарованный, Демокрит написал: «Я приехал в Афины, и никто не знал меня»1.
Насколько иной показалась бы ему эта поездка теперь, когда главная дорога, по которой подъезжают к Афинам с северо-востока, проходит мимо впечатляющей Лаборатории ядерных исследований имени Демокрита. Ее название напоминает о том, что Древняя Греция была родиной атомистической теории, а Демокрит – первым великим разработчиком этой теории! Вариациям на тему идей Демокрита современные наука и техника обязаны большей частью своего увлекательного развития, и именно атомизм создал последние понятия, которые были нужны, чтобы возник материализм как мощная и последовательная философская система2.
Честь открытия этой теории принадлежит философу по имени Левкипп, но мы почти ничего не знаем о нем, а стала установившейся системой взглядов и приобрела большое влияние эта теория благодаря системной интерпретации и практическим применениям, которые осуществил Демокрит3.
Демокрит из Абдеры жил около 400 года до н. э. Он был современником Сократа, так что мы нарушаем хронологию, когда, следуя установившейся практике, говорим о нем как о досократовском философе. Но в определенном смысле это вполне разумно, потому что взгляды Демокрита стали конечным синтезом, который системно завершил усилия милетцев понять материальные составные части и механизмы природы. Сократ же начал революцию в мышлении, отбросив претензию на то, что наука может ответить на все вопросы этики, человеческой жизни и философии.
В Древнем мире проводили контраст между Гераклитом и Демокритом – плачущим и смеющимся философами: «Гераклит надо всем плачет, а Демокрит смеется». Это отчасти напоминает деление философов на «грубые» и «нежные» умы у Уильяма Джеймса.
О жизни Демокрита мы знаем мало. Единственная фраза личного характера – то замечание, которое процитировано выше: «Я приехал в Афины, и никто не знал меня», откровенная жалоба гения на то, что он не признан, которую с сочувствием читали многие позднейшие ученые. О его идеях мы знаем немало, поскольку его атомистическую теорию много критиковал Аристотель и одобрительно цитировал Эпикур (чье большое философское «Письмо к Геродоту» сохранилось среди смеси жизнеописаний и мнений в книге Диогена Лаэрция4).
Атомистческая теория в том виде, как ее разработал Демокрит, была сочетанием милетской науки, элей-ской логики и, возможно, применением более ранней методологии5. Задолго до того, как Левкипп или Демокрит создали понятие «атом», другие уже предполагали, что физический мир состоит из маленьких частиц. Эмпедокл считал, что каждый из «элементов» существует в виде мелких частиц определенного размера и определенной формы. Эта идея, в свою очередь, восходит к пифагорейскому представлению о маленьких «телах правильной формы», которые являются «молекулярными частицами» природы. Попытка пифагорейцев соединить математику и физику, построив физический мир из точек, вела в том же направлении. Однако главной основой атомистической теории было, очевидно, применение механических моделей при изучении естественных процессов, начатое Анаксимандром. В модели природное явление копируется с помощью механического взаимодействия ее отдельных маленьких частей. Поэтому, когда кто-то спрашивает себя, почему все-таки моделирование срабатывает, у этого человека возникает искушение поверить гипотезе, что модель похожа на природу оттого, что природа тоже – сложное сочетание маленьких частиц, взаимодействующих между собой механически. Это представление становится более правдоподобным, когда техника показывает, что механизмы могут выполнять гораздо более сложные функции, чем предполагали более ранние мыслители.
Основой греческого атомизма как физической теории являются четыре идеи: во-первых, что материя состоит из мельчайших отдельных частиц, которые «нечленимы» (атом в переводе с древнегреческого означает «то, что не делится»); во-вторых, что существует пустое пространство, в котором эти частицы движутся; в-третьих, что атомы различаются только формой и объемом; в-четвертых, что любое изменение является результатом передачи движущего импульса от одного атома к другому, а такая передача возможна только при их соприкосновении: в этой системе, конечно, нет никакого «воздействия на расстоянии»6.
Атомы в этой теории – маленькие твердые крупицы бытия (которые, как Единое Бытие Парменида, неделимы, потому что внутри них нет прожилок небытия, вдоль которых они могли бы быть «разрезаны»). У них нет ни одного из «вторичных» качеств – цвета, запаха и так далее, которые мы знаем по собственному опыту, а только форма и протяженность. (Идея, что материя нейтральна по отношению к качествам, здесь, наконец, четко сформулирована.)
Отдельные атомы и их сочетания отличаются друг от друга «формой, местоположением и порядком». Например, A отличается от B формой, N от Z местоположением, AZ от ZA порядком7. Эти частицы, как утверждает Демокрит, имеют множество разнообразных форм. «Нет причин, по которым они должны иметь одну форму, а не другую». Атомы всегда находились и находятся в движении; двигаясь, они сталкиваются; иногда они «сцепляются» и остаются вместе, иногда «отскакивают» друг от друга при толчке8. (Римский поэт Лукреций, пытаясь дать общедоступное образное описание атомизма, изображает на атомах «крючки», с помощью которых они скрепляются друг с другом.) Таким образом, любое изменение в конечном счете является изменением места этих твердых частиц и передачей ими друг другу кинетических импульсов, а все физические тела представляют собой совокупности этих твердых частиц, сгруппированных в неодинаковые по стабильности конструкции.
Это представление о том, что любое изменение представляет собой передачу кинетического импульса или перегруппировки разных по форме твердых частиц, сразу же позволило удовлетворительно объяснить многие явления, которые хотели истолковать физики.
Прежде всего рассмотрим вопросы конденсации и разрежения, которые со времен Анаксимена продолжали занимать центральное место в физике. Если плотность зависит от относительного объема пустого пространства между частицами вещества, легко понять, как увеличение давления приводит к конденсации, а бомбардировка маленькими частицами «огня» раздвигает атомы в стороны и приводит к разрежению. С тех пор наука не нашла никакого более удовлетворительного, по крайней мере в принципе, объяснения причин различия веществ по плотности и изменения плотности одного и того же вещества.
Идея ионийских философов о том, что мир сформировался из «кружащегося вихря», в котором разные элементы собрались на разных уровнях в зависимости от их относительной массы, стала прекрасно служить атомистам, когда представление о вихре было пересмотрено и начали считать, что он состоял из множества мелких частиц. Можно было утверждать – и найти близкие аналогии в человеческом опыте, – что меньшие по размеру атомы проявляют тенденцию при столкновениях «отскакивать» дальше, из-за чего постепенно вытесняются наружу. Анализ «пор и истечений» у Эмпедокла мог быть взят на вооружение и становился гораздо более удовлетворительным, если «поры» на самом деле были «пустотами» в решетках из атомов. «Модели» Анаксимандра были, конечно, самым сильным аргументом в пользу этого нового подхода к физической реальности: атомистическая теория могла объяснить, что природа ведет себя как машина потому, что она действительно является сложным механизмом.
Итак, до сих пор мы видели, что новая теория смогла синтезировать и усовершенствовать все достижения существовавшей до нее физики. Казалось, не было явлений, которые она не могла бы объяснить. В принципе теоретики-атомисты считали, что физика и философия – одно и то же, то есть наука наконец нашла ответ на вопрос «Что такое бытие?»: «В действительности не существует ничего, кроме атомов и пустоты».
Философско-логическое происхождение нового учения сырало решающую роль в том, что атомизм возник как материалистическая философская система, а не только как физическая теория. Ученые из Ионии и логики из Элеи почти в одинаковой степени способствовали этому.
1. Парменид, к большому удовольствию атомистов, доказал, что для существования в мире изменений или хотя бы их видимости необходимо существование многих, а не одного, видов «бытия»; а если их много, «бытие» должно разделяться на части небытием.
2. Но здравый смысл и наука ионийцев ясно показывали, что «природа» все же изменяется если не действительно в каком-то абстрактном смысле, то, во всяком случае, по видимости.
3. Следовательно, действительность должна делиться на много частей, и должно существовать «небытие» – их разделитель.
(Фактически эту логическую цепочку аргументов, которую признал истинной Демокрит, до него уже изложил философ Мелисс с Самоса, сторонник идей и методов Зенона и Парменида; но Мелисс отбросил заключительный вывод как абсурдный, поскольку в нем утверждалось существование «небытия». Аевкипп и Демокрит, напротив, признали, что на самом деле этот вывод – истинный, потому что он объясняет появление в мире изменений.)
Элейская родословная новой теории видна также в четкости и строгости логики, примененной для определения характеристик атомов и пространства. Атомы фактически представляют собой маленькие куски Парменидова «бытия», и каждый из них характеризуется неделимостью, однородностью и нейтральностью – теми свойствами, которые Парменид придал своему Единому Бытию. В ином случае атомы обязательно содержали бы внутри себя «небытие» и, следовательно, были бы не одиночными частицами материи, а чем-то, состоящим из нескольких частей. Пустое пространство – это «небытие» элейцев: по определению оно не имеет плотности, не оказывает сопротивления и не проявляет силы сцепления. Следовательно, оно не может ничего делаты или передаваты, поскольку «из ничего ничто не родится». Любое взаимодействие должно быть результатом совместных действий двух единиц бытия.
Таким образом, эта теория синтезирует предшествовавшие ей воззрения и этим создает новое философское направление, у которого есть собственные методы и логические правила. Эта теория уверяет нас, что для того, чтобы понять изучаемый объект, любой такой объект нужно с помощью анализа мысленно разложить на части вплоть до мельчайших компонентов и определить схему, по которой они сочетаются между собой. Если теория верна, такие части всегда найдутся, и явления всегда можно объяснить и скопировать, изучая их механическое взаимодействие.
Сторонники атомистической теории заявляли, что с ее помощью можно объяснить не только явления физики и химии, но также многое в медицине, психологии, этике и теории познания. При этом расширении своей области применения атомизм иногда сталкивался с трудностями – например, в этике его абсолютный детерминизм плохо совмещался с идеей свободы выбора. Но атомизм имел и несколько крупных достижений. Например, в медицине тогдашние хирурги и другие врачи обнаружили, что идея атомистов рассматривать тело как сложную машину хорошо сочеталась с их собственным практическим знанием механики тела. Было ясно, что работа мышечной системы и скелета, прилив и отлив крови (о кровообращении они, разумеется, не знали), последствия повреждений мозга – все это можно объяснить методами механики.
Разумеется, выявить процессы и функции взаимодействия ума и тела было сложнее. Например, среди пациентов были такие, которые жаловались на боль, хотя физически у них не было никаких нарушений. Их болезнь имела психологическую причину. Тогда не было ясно – и не ясно до сих пор, – как явления, подобные этим, можно свести к механике. Но атомисты были уверены, что это сделать можно.
Прежние колебания по поводу «психе», отразившиеся в попытках определить душу как «пневму» или «аэр», но все же сохранить религиозный взгляд, по которому душа бессмертна, или же включить «психе» как составную часть в закономерный порядок физического мира, но при этом считать, что она порождает движение благодаря чему-то вроде «свободно принятого решения» действовать, – нашли наконец окончательное разрешение. Человеческое «я» – не исключение из всеобщей структуры реального мира, оно телесно и является частью природы. Лишь иллюзии и склонность принимать желаемое за действительное привели людей к вере, что они свободны и бессмертны. Из-за своей высокой чувствительности и большой активности душа считалась состоящей из очень мелких подвижных атомов (вероятно, шарообразных, чем объяснялась их подвижность), которые были причиной движений души в ответ на воздействия ощущений, приходящих из внешнего мира9. Когда после беспокойства душа снова приходит в равновесие, ее движение усиливается и передается телу, а также сознанию и мышлению.
Такая теория предлагала новый инструмент для исследования механизма ощущения. Поскольку любое «действие» есть результат контакта, чувственное восприятие объяснялось как отпечаток, оставленный на органах чувств атомами, появляющимися извне. Например, поверхности, которые видит человек, излучают пленки из атомов, которые перемещаются в воздухе и ударяют по глазу. Четкость видимого изображения зависит и от силы этого постоянного излучения, и от состояния среды. Если атомы воздуха между наблюдателем и наблюдаемым объектом движутся сильно, изображение искажается. Если они движутся не сильно, происходит какое-то трение. Углы пленки, которая движется от квадратной башни, обламываются, и глазам башня кажется круглой. В случаях передачи и искажения зрительных образов, а также анализа осязания и обоняния атомистическая теория придала новую точность оценкам ощущения и иллюзии. Философы убедились, насколько тоньше стали благодаря новой теории оценки работы органов чувств и различных «перспектив», в которых появляется перед нами объект в зависимости от условий наблюдения10.
Теоретики-атомисты, последовательные в своей философской позиции, считали так называемые вторичные качества (тепло, вес, цвет, вкус) не объективными свойствами предметов, а чем-то субъективным, что привнесено наблюдателем. Все эти свойства существуют только «по соглашению», писал Демокрит. «По соглашению» здесь – значит противоположно существованию «в действительности» или «по природе». В этой фразе понятие из области права и обычаев общества – структур, явно созданных людьми, – переносится на органы чувств наблюдателя, который окрашивает нейтральный внешний мир, состоящий «только из атомов и пустоты», очевидными для него самого качествами. В отрывках из сочинений Демокрита есть несколько слишком ранних неудачных предположений о том, каким образом различные «бесцветные» или «черно-белые» конфигурации атомов воспринимаются как цветные.
В области этики цена атомистической теории, похоже, оказалась слишком высокой. Поскольку все события были механическими результатами физических причинно-следственных цепочек (один из двух сохранившихся отрывков из Аевкиппа звучит так: «Нет ничего случайного: все происходит по необходимости»), в этой схеме нет места человеческой свободе. В ней также нет никакого способа разъяснения целей; и эта теория не обеспечивает уверенности, что прежние наблюдения окажутся в какой бы то ни было степени пригодны в будущем: атомизм признает как свидетельство только непосредственное наблюдение, а будущее нельзя наблюдать непосредственно. С другой стороны, эта теория была прекрасным противоядием от элементов суеверия в распространенных тогда религиозных понятиях.
Различные высказывания, которые приписывают Демокриту, показывают, как именно атомизм мог логически связывать себя с этическими рекомендациями. Согласно им, душа либо неспокойна, и тогда ее движение воздействует на тело как резкий порыв, либо находится в покое и тогда гармонично регулирует мысли и действия. Свобода от беспокойства – условие человеческого счастья, а счастье человека и есть цель этики. Общество, в котором люди встречаются и объединяются друг с другом как атомы, стабильно, когда количество социальных столкновений внутри него поддерживается на минимальном уровне.
Может показаться странным, что в тех отрывках из работ Демокрита, которые посвящены этике, мы обнаруживаем высказывания о том, что нам следует выбирать или делать, поскольку его теория не оставляет места человеческой свободе и выбору. Иногда решением этой проблемы становятся слова о том, что из-за нашего невежества нам кажется, будто мы свободны, поскольку мы не знаем всего о мелких причинах, которые, внося каждая свой вклад, делают определенное решение неизбежным. В свете этой нашей иллюзии мы рассуждаем о морали, отправляем правосудие и чувствуем себя ответственными за свою судьбу. (Отказ от признания свободы человека для того, чтобы объяснение природы оставалось простым и точным, не удовлетворил тех, для кого этика является важнейшей частью философии. Позже Эпикур и его школа, пытаясь подвести под свободу и случайность естественно-научную основу, дополнительно ввели положение о том, что иногда атомы «отклоняются» от своего пути непредсказуемым образом.)
Этика и политика, основанные на атомистической философии, ясны и реалистичны, и возникает соблазн развивать их в этом направлении. Тем не менее за всю историю западной мысли никто не смог удовлетворительным образом примирить свое представление о человеческой природе со строгими законами физики. Материализм как философия, основанная на атомизме в применении к естественным наукам, со времен Древней Греции остался важным и привлекательным синтетическим видом теоретической мысли. Материализм пережил период забвения в Средние века, поскольку слишком явно противоречил христианской религии; но атомистическая теория существовала в трех разных версиях – исходная греческая, более поздняя римская, приспособленная к новым условиям Эпикуром и его школой, и наша современная. Приведенная ниже таблица показывает, где греческий оригинал согласуется, а где расходится с двумя позднейшими вариантами, а наше обычное представление об атомистической теории фактически составлено из элементов всех этих трех ее этапов. Атомизм Демокрита из всех трех самый ясный и строгий в логике и получении выводов; для Эпикура меньше была важна логическая красота атомизма и больше – этическое применение этой теории; при помощи атомистической теории он пытается объяснять этические явления; мы в наше время меньше интересуемся логической строгостью теории или ее влиянием на мораль, а больше – ее применением в физике для описания и контроля. Теперь мы, возможно, находимся на пути к теории, которая объединит в себе высочайшие достоинства всех трех11.
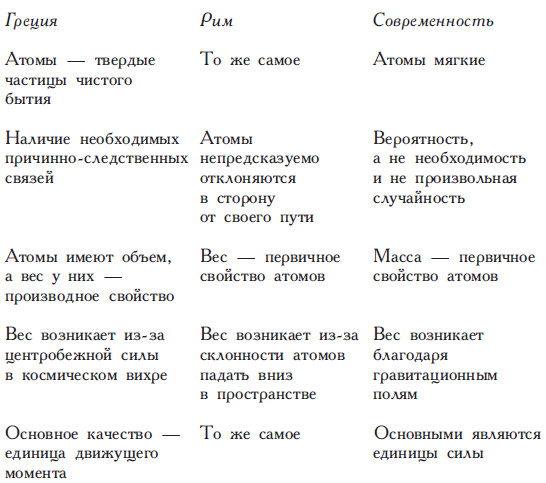
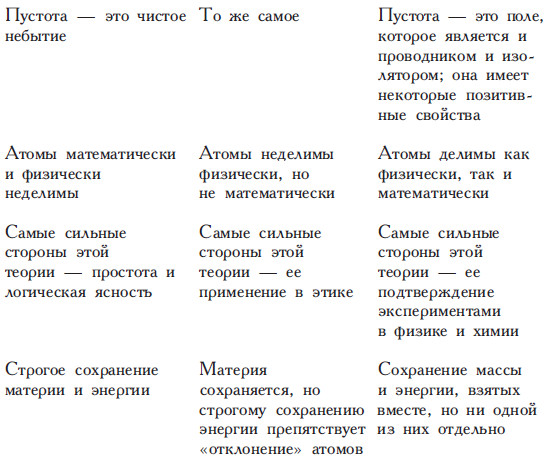
Мы могли бы значительно расширить этот список, но эти пункты, возможно, позволят вам ясно увидеть тот сплав строгой логики и полной объективности, который делает теорию Демокрита единственной в своем роде. В частности, необходимо обратить внимание на то, как в римском варианте наглядная образность мышления вносит путаницу в идеи этой теории и как современный вариант потерял ту остроту, которая делала классическую теорию особенно ясной и удовлетворительной. Сюда можно также добавить четыре более частных критических замечания, которые заставляют предположить, что для этой теории есть границы; и продолжают появляться новые критические высказывания12.
Первое критическое замечание такое: в мире, как его представляет себе атомист, вообще не может быть никакой теории13. Заявление, что определенная теория в большинстве случаев верна и люди должны верить ей, предполагает, что какой-то теоретик изучил фактические данные и выбрал из нескольких возможных объяснений лучшее. Но если «все», и в том числе все физиологические процессы, «происходит по необходимости», тогда то, что думает любой человек, – необходимый автоматический результат имевших место ранее предпосылок. Обратите внимание: речь здесь идет не о том, что кто-то, верящий в истинность атомистической теории, не прав, а лишь о том, что он поступает непоследовательно, когда утверждает, что эта вера может быть чем-то большим, чем личной точкой зрения, отражающей его собственный прошлый опыт, и что поэтому он не имеет права говорить, будто кто-то другой обязан согласиться с ним.
Во-вторых, вопрос в том, действительно ли так называемые вторичные качества могут быть понижены в ранге до звания существующих «по соглашению»14. К примеру, чтобы объяснить, как черно-белый мир может вылядеть цветным, ученые разработали великолепную методику проведения лабораторных экспериментов, в которых образцы, составленные из бесцветных компонентов, позволяют узнать, как наблюдатель воспринимает цвет. Но думать, что это объясняет, как воспринимаю цвет «я», – самая настоящая забывчивость рассеянного милетца. Когда ученый смотрит на свой эксперимент как на моделирование мозга, он забывает, что сам является частью этого эксперимента. Допустим, он может показать, что сочетание бесцветных импульсов может вылядеть цветным, но он не показал, как наблюдатель узнает, что оно имеет этот цвет. Что в модели мозга соответствует экспериментатору в лаборатории, который видит (в двух значениях этого слова сразу – и наблюдает, и воспринимает именно зрением), как из бесцветного образа рождается цвет?
В-третьих, вопрос в том, является ли вообще «пустое пространство» внятно сформулированным научным понятием15. Если мы, как Демокрит, считаем пространство чистым небытием, то можем ли мы говорить, что оно «разделяет» атомы, которые в нем движутся? В отличие от двух первых это третье возражение не так непосредственно касается нашей современной теории, как возражения по двум более ранним версиям.
В-четвертых, можно возразить, что существуют наши собственные сознание нашей свободы, наше чувство ответственности и способность воспринимать цели и моральные ценности. Здесь атомистическая теория может оказаться в таком же положении, в какое попала элейская философия с отрицанием движения. Даже если все это в конечном счете иллюзия, разве не нужна теория, которая адекватно показала бы, как становится возможной такая иллюзия? А может ли выполнить такую задачу теория, которая с самого начала предполагает, что в реальном мире нет места свободе и моральным ценностям?
Возможно, первые теоретики-атомисты были слишком большими оптимистами, когда думали, что их идеи могут ответить на все вопросы философии. В следующих главах мы увидим, как новое внимание к человеку-наблюдателю привело к иному теоретическому синтезу – платоновскому идеализму, – и узнаем о завершающей попытке Аристотеля сочетать платонизм с материализмом, которая закончила собой классическую эллинскую эпоху в истории греческой мысли.
Я хотел бы сделать еще один, последний комментарий по поводу отношения техники к атомистической теории, а именно: обратить внимание на то, что эта теория всегда приносила пользу, когда ее применяли на практике. Это очень полезный взгляд для изобретателя или инженера, который хочет заставить ряд механических деталей автоматически работать вместе и выполнять определенную полезную функцию. Разве могла бы такая теория показаться правдоподобной и оставаться такой важной частью умственной жизни в культуре, если бы не было техники, способной придать таким взглядам образное правдоподобие и иллюстрировать их конкретными примерами? Разумеется, любой человек ответит «нет», и действительно, тот факт, что в Древней Индии атомистическую теорию обдумывали теоретически, но отвергли как неправдоподобную, согласуется с нашими расчетами16. Но до недавнего времени у нас не было представления о том, что делалось у древних греков в области технических приспособлений. В классической литературе есть несколько пренебрежительных упоминаний об искусстве и ремеслах, но почти ни одной строчки, описывающей изобретения или технические устройства. На основании этих свидетельств нам пришлось бы представить себе классического атомиста как очень странного человека, который способен так же сильно, как и мы, восторгаться механическими конструкцияи, в то время как он ни разу не имел дела с каким-то конкретным механизмом.
Однако новые свидетельства археологов показывают, что к тому времени, когда жили Левкипп и Демокрит, греки использовали механизмы достаточно широко, чтобы аналогия между древними и современными атомистами была правдоподобной. Пробел в этих представлениях о древних ученых был вызван частично обычаем, указывавшим, какие темы достойны описания в книгах, а какие нет, а частично – спросом и предложением, определявшими, какие книги лучше всего продавались, а поэтому больше переписывались и сохранились до наших дней. Даже в истории научной аппаратуры, где традиция ясно прослеживается и демонстрируется, у нас еще остается белое пятно длиной в пятьдесят лет между классическим и эллинистическим периодами. Но что касается менее выдающихся устройств, которые как раз позволяют нам увидеть то, что мы хотели знать, решающими оказались раскопки на афинской Агоре в 1957 году17.
Аристотель в своей «Конституции Афин», которая и сама была найдена лишь на рубеже XIX и XX веков, описал оборудование и процедуру, которые использовались для составления списка присяжных и для вынесения решений в суде. Его описание немного похоже на сон Руба Голдберга[5].
В 1957 году археологи впервые обнаружили античное оборудование, подтверждавшее свидетельства Аристотеля. Давайте рассмотрим подробнее один или два из этих случаев применения технических изобретений для обеспечения беспристрастности суда. Тогда выяснится, что у американской машины для голосования была интересная предшественница в Афинах – ее предок и по задаче, для решения которой она была изобретена, и по техническим решениям: используются рычаги, шестерни и колеса.
Тайна голосования была первостепенной необходимостью, чтобы присяжных не могли критиковать, запугивать или убивать за то, что они проголосовали не так. Точно так же было крайне необходимо дать каждому присяжному только один жетон, чтобы никто не мог, спрятав в рукаве десяток жетонов, кроме своего, высыпать их все в урну. Чтобы удовлетворить первое требование, греки изобрели указатели для голосования. Эти жетоны, которые использовались при голосовании и назывались «гальки» (название осталось от более ранних времен, когда жизнь была проще), были внешне одинаковы – колесики с короткими стержнями, выступающими по бокам. Они отличались друг от друга только тем, что стержни одного были цельными, а другого полыми. От присяжного требовалось держать свои жетоны так, чтобы стержни были накрыты пальцами – большим и одним из остальных – и никто не смог бы увидеть разницу. (Была еще одна тонкость, смысл которой до сих пор еще не понят полностью: требовалось, чтобы служащий ставил жетоны на «подставку для ламп», с которой присяжный и брал их так, как было описано только что.) А чтобы каждый человек голосовал только один раз, урна для голосования имела наверху прорезь, форма которой была точно рассчитана таким образом, чтобы в нее входил только один жетон-колесико. Таким образом, основной принцип автоматов и телефонов, которые начинают работать, когда бросаешь монету в специальную щель, был предугадан еще в Древних Афинах. Особая группа счетчиков считала жетоны, и в помещении суда водяные часы официально отмеряли время, отпущенное для подачи жалоб18.
Греки считали жизненной аксиомой, что, если хоть кто-то будет знать имена действующих присяжных, ни одно дело не будет решаться беспристрастно. Чтобы устранить возможность принуждения, был создан великолепный механизм для выбора по жребию. Он был не просто изобретен, а выпущен серийно: чтобы подготовиться к одному дню судебных слушаний, было нужно двадцать таких машин. Насколько мне известно, до сих пор не найдено никаких следов остальных механизмов, применявшихся в суде, а это были: сто воронок, наполненных желудями, на которых были написаны буквы от А до Л; крашеные палки, которые указывали присяжным дорогу в суд, где им было назначено заседать; жетоны, дававшие присяжным право получать свою плату, если они отказывались судить; что-то, позволявшее установить всегда одинаковую продолжительность времени, предназначенного для слушания одного дела, учитывая разницу в длине июльского и декабрьского дня. Но даже без этих устройств документы и археологические находки подтверждают интересную догадку, что в то время, когда возникла атомистическая теория, греческий мир имел достаточно технических изобретений и механического оборудования, чтобы наполнить конкретным содержанием представление о реальности как об огромной массе маленьких неделимых колесиков, прорезей и стержней, образующих какую-то великолепную машину.
Афины. Школа Греции
Когда Сократ прошел по Агоре, задавая людям вопрос: что такое быть отличным человеком, – он нашел много знатоков, каждый из которых был отличным специалистом в каком-то искусстве или ремесле – кто в поэзии, кто в политике, кто в гончарном деле, и каждый был склонен довольствоваться своими познаниями. Только сократовские вопросы показали, что глубокие познания в какой-то узкой области не помогают дать верный ответ, когда речь заходит о конечных целях и ценностях. Вопросы об этих целях и ценностях имеют большое значение для любой человеческой деятельности, но ответы на них невозможно отыскать в какой-нибудь симпатичной, чисто убранной комнате, где есть подходящий эксперт, который даст ответ.
После двух веков, когда философские исследования, как мы уже знаем, велись на границах греческого мира, в пору своего самого яркого расцвета вступили Афины, и во второй части нашего рассказа о греческих мыслителях события будут происходить именно в этом городе1. В течение V века до н. э. Афины стали не только столицей Греции, но и центром ни с чем не сравнимой по своей высоте культуры. Никогда ни один западный город не мог соперничать с Афинами по уровню культурных и политических достижений.
Этот культурный расцвет начался после победы над Персией в 470 году до н. э. Мощный флот позволил афинянам создать империю на островах Эгейского моря; рост торговли сделал Афины главным центром грузовых перевозок и главным рынком и принес им все возраставшее экономическое процветание. Новые, ни с чем не сравнимые храмы выросли на Акрополе вместо разрушенных персами алтарей. В театре шли пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана. В скульптуре работали Фидий и его современники. В исторической науке, в ораторском искусстве, в чеканке монет, в гончарном деле – во всем Афины поднялись на новый высокий уровень. И вместе с ростом военной мощи, торговли и искусства развивалась афинская философия.
Этот великий культурный взрыв обеспечил подъем философии в Афинах, наполнив ее тем духом приключения и риска, который, видимо, необходим для любого движения по новому пути2. В этом городе все было увлекательно, здесь сошлись пути всех новых разработок. Политические эксперименты вели Афины от прежней аристократической системы к новой демократии, основой которой стало собрание горожан; афинские граждане все время взволнованно следили за этим движением и увлеченно в нем участвовали. Коммерческая экспансия Афин как крупнейшего центра торговли еще больше усиливала воодушевление афинян, их жажду деятельности и чувство новизны. Поражение Афин – победа над ними Спарты, завершившая Пелопоннесскую войну в 404 году до н. э., – не остановило афинских художников и писателей. В следующем после этого веке творили Платон и Аристотель, а драматургия и скульптура продолжали развиваться с тем же блеском, что и раньше.
Возраставшее богатство Афин и все большая классовая мобильность афинского общества как магнит притягивали художников и мыслителей. Глава Афин Перикл собрал вокруг себя кружок писателей, скульпторов и поэтов, и его покровительство делало этот город еще привлекательнее. Афиняне впервые стали знакомиться с ионийской наукой «из первых рук» – узнавать ее от самих ионийцев в лице Анаксагора, выдающегося молодого астрофизика, которого пригласил в Афины Перикл3. В Афины переселились также софисты, группа странствующих преподавателей красноречия и права, которые достаточно быстро теряли терпение от «рассуждений, не приносящих практической пользы», но на удивление эффективно обучали молодых людей, сильно желавших сделать себе карьеру4. Встреча науки и софистики в Афинах привела Сократа к исследованию природы человеческого «я», что стало революцией в развитии греческой мысли5. Афины времен Сократа с их новыми границами в мире искусства стали тем фоном, на котором произошла систематизация философии у Платона и его ученика Аристотеля6.
Для более ранних греческих философов основной проблемой были интуитивное постижение истины и радикальные нововведения. В Афинах природа уже не играла первостепенной роли в повседневной жизни, поскольку техника дала людям нечто новое: они перестали напрямую зависеть от условий, задаваемых природной средой. Колебания рынка стали значить для людей столько же, сколько приливы и отливы моря; шест и водяные часы стали такими же важными средствами измерения времени, как вращение звезд; бани и тенистые портики смягчали для горожан суровость погоды в разные времена года7. Благодаря трудам ионийских и италийских первопроходцев мир природы и абстрактный мир форм уже не ждали, окутанные туманом традиции, чтобы кто-то бросил на них первый беглый взгляд.
Отступления от обычаев и яркие вспышки интуитивного прозрения раз за разом освещали по частям этот неизвестный мир, открывая для людей естественные науки, математику, астрономию, технику, формальную логику, и наконец осветили его весь. Теперь нужно было развить и закрепить достигнутое. Должно быть, постоянное ощущение этого было самой сутью Афин – города, где люди отделили одно от другого понятия «деловое» (спекуляция на рынке) и «интеллектуальное» (отвлеченное рассуждение), чего наверняка не было во времена Фа-леса. Афинская политика складывалась как равнодействующая интересов многих групп. За исключением тех сорока лет, когда городом управлял Перикл, центральная власть никогда не была на уровне стоявших перед ней задач сдерживания центробежных сил коммерческого успеха и эффективного использования новых достижений культуры в качестве движущей силы.
В области философии первое большое расширение старых границ произошло, когда Сократ заметил, что до его дней ученые и учителя, интересуясь внешним миром природы или внешним миром практической деятельности, не обращали внимания на человека-наблюдателя. Сократ признавал, что понимание человеческой натуры – дело трудное и важное из-за особой сложности человеческого «я» и почти парадоксального сочетания сознания того, что жизнь коротка, с верой в бессмертие. Начиная с Сократа греческая философия никогда не забывала, что «мир реальности», который она должна объяснить, не только включает в себя наблюдаемый порядок физического мира, но и характеризует наблюдателя. Она должна также дать какое-то достойное доверия объяснение тому, как безличное совпадение по времени физических факторов и сознательной деятельности человека, направленной на достижение ценной для него цели, могут сосуществовать в повседневной реальности одновременно.
Великие афинские философы Платон и Аристотель постоянно сознавали, что реальность имеет много измерений и что специализация становится возможной, если сосредоточить внимание только на одном из них. Другие философы обычно оказывались гораздо менее понятными, чем Платон и Аристотель, когда формулировали представление о границах реальности, которую им надо было постичь. Чтобы по-новому увидеть один из аспектов реальности, нужны гениальность и самобытность. Это верно не только для глубокой древности, но также для Средневековья и современности. Афины сами по себе были средой, где философия могла так же, как искусство и наука, наполниться духом исканий, оптимизмом и творческой силой, но при этом (благодаря постоянно напоминавшим об этом крупным достижениям во всех областях) не забывать, что в итоговой структуре реального мира должно быть место для таких не похожих одна на другую областей жизни, как театр, рынок, Акрополь и школа.
Рост специализации заставил философов осознать, что место философии в мире изменилось. Конечно, было необходимо расширять эту науку, включив в нее такие вопросы о различных вещах и областях, которыми не задавались философы, жившие раньше. Но столь же было важно объять философской идеей различные специализированные области знания. Поэт, торговец, политик, атлет, врач – каждый человек имел дело только с одним измерением реальности. А делом философии было объединить воедино все эти измерения. Великие открытия Платона и Аристотеля в области образования частично были ответом на это требование жизни. Афинянам приходилось решать одну из наших самых неотложных и жгучих проблем – как узкие специалисты в различных областях могут общаться и сотрудничать друг с другом, не отказываясь от выгодных сторон специализации8.
Достаточно провести в современных Афинах совсем немного времени, чтобы полностью уяснить себе, что Древние Афины действительно преподали своим философам незабываемые уроки того, как важны и полны жизненной силы те несколько миров – торговля, искусство, религия, политика, – которые соседствовали друг с другом в этом городе и временами сотрудничали, но чаще конфликтовали между собой.
На южном склоне Акрополя до сих пор стоит театр Диониса. С любого зрительского места, начиная с красивых каменных кресел, которые предназначались для обладателей высоких религиозных должностей (на каждом сиденье вырезано название должности), до самого верхнего яруса, где места предоставлялись бесплатно, чтобы привлечь к театру симпатии народа, вы можете увидеть в своем воображении, как артисты хора вприпрыжку проходят по сцене в комедии Аристофана «Облака», когда автор высмеивает новые идеи, которые считает нежелательными и завезенными из чужих стран; а если изменится настроение, вы можете представить себе Эриний, которые преследуют Ореста и гонят его на последний суд, или хор троянок, в котором Еврипид, говоря о прошлом, высказывался по поводу внешней политики Афин, или же Эдипа, говорящего о том, что нужно «прояснить то, что неясно». В этом городе философы не могли не замечать того, что было предметом поэзии: судьба, мифы, воображение, поиски истины и пути к власти.
У подножия северного склона Акрополя находятся храм Гефеста и древняя Агора9. Свойства мира Агоры – публичность, конкурентность и практицизм: эта площадь была центром ремесел и торговли, где с помощью монет, гирь, стандартных единиц измерения, часов и столиков менял конкуренцию старались загнать в границы общественных отношений, которыми правила деловая этика. Мир Агоры – это также техническое мастерство и огромная изобретательность, которая проявлялась в создании новых инструментов для выполнения различных дел – от охладителя для вина до машины для выбора судей10. Этот мир в корне отличался от театра по своей фактуре, звуковому и смысловому наполнению: здесь велениям судьбы уделяли меньше внимания, чем спросу и предложению, и Орест с Агоры видел в безумном бреду не преследующих его богинь мести, а кредиторов, которые гонятся за ним.
За Агорой проходит проспект Академии. Он идет мимо старых двухпилонных ворот на запад через кладбище квартала Керамик. Когда-то это была широкая, обсаженная деревьями улица, на всем протяжении которой стояли памятники умершим афинянам, а за ней возле большого общественного сада был раскопан фундамент Академии Платона11.
Акрополь, который возвышается над этим многоликим городом, должно быть, казался тогда, как кажется и теперь, земным воплощением идеала, существующей вне времени точкой фокуса, которая придает стройный порядок картине шумящей под Акрополем жизни и воскрешает эту жизнь в памяти12.
Анаксагор
Ум упорядочивает все
В едином мире вещи не отсечены одна от другой словно топором.
Анаксагор, молодой ученый и философ, приняв приглашение Перикла, вошел в блестящий круг людей искусства и государственные деятелей, собравшихся в Афинах1. Он внес в греческую философию три новые идеи. Во-первых, разработал идею о том, что материя непрерывна. Это – один из способов обойти парадоксы Зенона, поскольку и пространство и время приобретают способность делиться бесконечно. Во-вторых, он предложил новую концепцию разума и его места в мироздании: разум остается чистым, хотя все остальные вещи смешиваются друг с другом. Это еще не был дуализм сознания и материи, но это был важный шаг в этом направлении. В-третьих, он сформулировал новый способ связывания двух измерений – разума и материи: он увидел в разуме движущую силу, которая приводит в движение материю.
Уроженец города Клазомены Анаксагор выдвинул теорию о том, что небесные тела – это камни, которые вращаются вокруг Земли и держатся на своих местах благодаря быстроте движения. Эта идея явно приобрела довольно широкую известность, и ее посчитали смешной: как могут быть камни высоко в небе? Но когда в 467 году до н. э. в Эгоспотамах на Сицилии упал огромный метеорит, его падение сочли наглядным доказательством того, что в странных теориях молодого ученого что-то есть, а некоторые источники утверждают, что Анаксагор предсказал появление метеорита. Вероятно, именно этот случай и привел Перикла к решению выбрать молодого ионийца Анаксагора, которому тогда еще не было и тридцати лет, «ученым советником» для своей афинской группы ведущих людей культуры2.
Анаксагор прожил в Афинах тридцать лет – до тех пор, пока политическая удача не отвернулась от Перикла и против самого Анаксагора не выдвинули обвинение в непочитании богов, из-за которого он был вынужден уехать в город Аампсак. В многочисленных и разнообразных историях из жизни Анаксагора, которые известны нам, он вылядит ученым-исследователем, легко выходившим из себя, когда люди или события в жизни общества заставляли его прервать работу. Нам известно, что он общался с Периклом, Еврипидом и молодым афинским энтузиастом науки по имени Архелай, который позже основал в Афинах школу по подготовке ученых. С другой стороны, Сократ, который в то время был молод и был в восторге от новых появившихся в Ионии идей, видимо, никогда не встречался с Анаксагором; а когда в Афины приехал Демокрит, Анаксагор не нашел времени, чтобы увидеться с ним3. И все же идеи Анаксагора, несмотря на его необщительность профессионала, в своей популярной форме привлекли внимание афинян, и новые научные идеи, бросавшие вызов традициям, вызвали противодействие и дискуссии.
Идеи Анаксагора – это четкая формулировка тех интуитивных представлений о непрерывности изменчивых процессов природы, которые Гераклит выразил в форме афоризмов. Анаксагор также расширил поле деятельности ионийской науки, которая раньше занималась только материей и ее движением, распространив исследования на более широкую область явлений, куда входил и разум, а также попытался объяснить отношения между материей и разумом. Эти представления о разуме (то есть сознании), о материи и об их отношении друг к другу были основным вкладом Анаксагора в развитие греческой философии. Оглядываясь назад, мы впервые видим предвосхищение дуализма материи и сознания4 – центральной проблемы западной мысли с конца эпохи Древнего Рима до сегодняшнего дня. Сам Анаксагор не проводил того очень четкого различия между сознанием и материей, которое появилось у более поздних мыслителей: в его представлении сознание было в некотором смысле еще слишком материальным, а материя – слишком духовной, чтобы они оказались полностью противоположны друг другу и между ними не было бы никакого связующего звена.
По-новому формулируя интуитивное представление Гераклита о том, что «все течет», Анаксагор осторожно обошел логические трудности, на которые указали Парменид и Зенон. Материя непрерывна, она не состоит из отдельных точек или частиц; она течет, а не движется скачками из одной точки в другую. Материя в представлении Анаксагора – это текучая смесь различных качеств, а не похожее на лед «вещество», которое занимает определенное пространство и «является опорой» для качеств. Если бы все, что существует, действительно было таким протяженным в пространстве веществом-опорой, изменения не могли бы быть реальными. Атомисты были вынуждены, чтобы допустить изменение, ввести в свою систему, наряду с «бытием», еще и «небытие» – пустое пространство. А Эмпедокл, кажется, пришел к логическому противоречию: его четыре корня отличались друг от друга по форме и размеру, но все же это были формы и размеры какого-то вещества, общего для всех корней. Анаксагор же избежал этой трудности.
И наконец, Анаксагор под влиянием слов Парменида «ничто не может возникнуть из ничего» считал, что материя изменяется только путем разного смешения общих для всех вещей качеств. Никогда не происходит так, что вдруг начинает быть то, чего только что не было, но существуют изменения в интенсивности перемешанных между собой качеств, которые текут из одного места в другое. Сами качества с тех пор, как выделились из исходной субстанции, где «все вещи находились вместе», сохраняются, а не создаются и не уничтожаются.
Это тонкий анализ, и не похоже, что афинские собратья Анаксагора были в состоянии понять эти рассуждения. В любом случае, когда афинские ученые защищали материализм, они пользовались гораздо более простым, чем у Анаксагора, понятием материи.
Теперь рассмотрим немного подробнее, каким образом обошел Анаксагор камень преткновения элейской философии. Если материя, пространство и время определяются как непрерывные (и поэтому бесконечно делимые) и дискретные (составленные из конечного числа расположенных вплотную друг к другу точек или иных мельчайших частиц) одновременно, то, как показывают парадоксы Зенона, в такой теории должен быть какой-то логический дефект. Но Анаксагор ответил на критику Зенона тем, что отказался от допущения, что частицы материи, времени и пространства дискретны, однако сохранил непрерывность и бесконечную делимость. В предположении, что все в физическом мире может делиться до бесконечности, нет логической неувязки, хотя нужны новые математические идеи для описания соотношения целого и части в такой текучей Вселенной5. В мире Анаксагора движение подобно течению реки, а не прыжкам кузнечика. Нам не нужно делать бесконечное количество скачков из каждой очередной точки в следующую, чтобы добраться от своего места до двери, потому что нет отдельных точек, которых нужно достичь, и нет промежутков между очередной точкой и следующей, которые надо пересечь.
Но Анаксагор кроме ухода от парадоксов Зенона хотел иметь мир, в котором изменение было бы реальным; поэтому он должен был учитывать два из аргументов Парменида: первый – что если мир состоит из одного вещества, то не может быть настоящего изменения, и второй – что «настоящее» изменение приводит к невозможному «возникновению чего-то из ничего». Первое из этих ограничений действует всегда, когда материя, которая делает вещи реальными, рассматривается как нечто подобное льду и протяженное в пространстве, но не имеющее других собственных качеств. Именно так вылядит материя в атомистической теории. Похоже, что именно это представление о материи подразумевал и Эмпедокл в своей теории элементов, частицы которых отличаются друг от друга формой и размером. Однако Анаксагор нигде не использовал такое понятие материи. У него мир состоит из противоположных качеств – жары и холода, влажности и сухости, и эти качества не являются свойствами какого-то другого вещества, которое «держит» их: они сами и есть материя мира, и их изменения – фундаментальные факты природы, а не просто отражения на поверхности застывшего шара из заполненной чем-то протяженности.
Третье свойство материи у Анаксагора – что «во всем есть часть всего». Так он формулирует свое решение задачи, которую поставил Парменид, отрицая любой процесс, в котором «что-то возникает из ничего»6. Изменения – не внезапные скачки от небытия к бытию, а изменения относительной интенсивности качеств в их смесях. Противоположные одно другому качества никогда не бывают чистыми, они всегда смешаны одно с другим: в снеге больше белизны и холода, чем черноты и тепла, но, когда снег тает и превращается в воду, просто становится больше тепла и черноты в смеси, где какая-то доля этих двух качеств уже содержалась. В результате получается, что при таянии снега не происходит внезапное создание чего-то из ничего, а возрастает степень чего-то. Эта формулировка не всегда была ясна читателям Анаксагора, потому что его собственные высказывания, например «Как же то, что не плоть, может стать плотью?» – часто ведут их по ложному пути. Эту фразу раньше понимали так: в любой пище, которой мы питаемся, на самом деле есть мелкие частицы человеческих мяса и костей. Довольно живописное, но абсурдное высказывание. Но если понимать упомянутую фразу как утверждение, что у пищи и плоти есть общие качества, а значит, то и другое может смешиваться и создавать новые наборы качеств, получается вполне разумная идея. При этом видно, что необычную форму этой фразы Анаксагор выбрал специально как ответ на Парменидово ограничение: он берет «плоть из неплоти» как частный случай «чего-то из ничего».
Чтобы построить тот мир, который мы знаем, из этих невещественных и проникающих одно в другое качеств, Анаксагор ввел представление об этапах смешения и соединения качеств. Одни сплавы качеств «плотнее», чем другие. Например, мы читаем у него о «долях», которые, смешиваясь, образуют «семена», а те, в свою очередь, «сливаются друг с другом» и образуют вещи7. Возможно, из-за того, что Анаксагор так заботился о том, чтобы обойти все технические препятствия, указанные элейцами, его теория материи тоже очень технична. Тот, кто знакомится с ней, на каждом шагу чувствует искушение вернуться к общепринятым представлениям о предметах и протяженном веществе, когда пытается понять, что такое для Анаксагора «вещи», «семена» или «противоположности». Но каждый раз, когда он возвращается к общепринятым толкованиям, теория становится бессмыслицей. Анаксагор представлял себе физический мир по-другому: его концепция гораздо ближе к огню и потоку Гераклита.
Перейдя от чистой теории к рассказу о возникновении космоса и подробному научному исследованию его механизмов, Анаксагор, разумеется, почувствовал, что может ввести в свою работу более привычные ионийские слова и идеи. Его афинские поклонники, которые плохо понимали смысл дискуссии о качественном материализме, смогли понять и оценить строгость логических выводов и способность к блестящим догадкам, которые он проявил в своем описании того, как возник мир.
Космология Анаксагора – классически милетская, хотя он развил ее на несколько шагов дальше. Вначале «все вещи были перемешаны вместе», кроме разума, который привел эту смесь в движение таким образом, что она стала кружащимся расширяющимся вихрем8. В результате этого вращения из нее выделились противоположности: тяжелые частицы в большинстве случаев относило в центр, где из них складывалась наша земля, а более легкие частицы, в том числе огромное количество воздуха, были вытолкнуты наружу9. До этого момента новая теория выглядит как смесь идей Анаксимандра и Анаксимена. В ней существует «много миров», но этот вывод был уже предсказан Анаксимандром, продолжил свою жизнь в ионийской науке как типичная для нее идея и перешел оттуда в атомистическую теорию10.
Однако Анаксагор видел, что эта классическая модель разделения смеси на части в результате вращения не подходила для того мира, который он наблюдал вокруг себя. «Гигантский вихрь», действующий механически, расположил бы вещи однородными слоями в порядке их плотности, и в верхних слоях не могли бы сформироваться Солнце, Луна и планеты11. Поэтому он добавил к этому описанию свою собственную идею: из центра были выброшены огромные глыбы камня, которые не упали обратно из-за огромной скорости своего движения. Солнце, Луна и планеты – такие раскаленные камни в небе, а метеориты – камни меньшего размера, которые упали на землю, когда потеряли ту скорость, которая удерживала их в небе.
Анаксагор сделал и несколько других предположений, которые, должно быть, приводили людей в ужас и изумление: они кажутся оригинальными даже сейчас, когда мы привыкли, что наука преподносит нам необычные теории и открытия. Например, он считал, что в других мирах живут разумные существа, что жизнь первоначально «упала с неба» на землю в простой форме, а потом усложнялась в ходе развития, что немейский лев – чудовище, убитое Гераклом, – «упал с Луны»12. В этих идеях научный склад ума соединился с воображением первоклассного писателя-фантаста. Может быть, именно из-за сочетания этих свойств Еврипид и Перикл любили общество своего ионийского коллеги.
Вот эту новую космологию афинская публика как раз смогла понять. Солнце, Луна и планеты всегда почитались как боги, и то, что их разжаловали в горячие камни, оказалось таким ударом по религиозным чувствам и вызовом для них, что оскорбляло общественное мнение и через полвека. То, что изменения в природе – дождь, смена времен года, молния и прочее – объяснялись чисто механическими причинами, тоже казалось преступлением против веры тем, кто привык представлять себе каждое событие как результат божественного провидения. Афиняне привыкли считать: чтобы вызвать или прекратить дождь, землетрясение, благоприятный ветер и тому подобное, необходимы обряды и жертвоприношения. Они видели, что если Анаксагор прав, то им нужно отказаться от всех их традиционных верований.
Рассуждения Анаксагора про Нус («разум», или «ум») тоже не примиряли афинян с его взглядами. Он утверждал, что существует разум, который остается «несмешанным и чистым», все видит и все знает, и это он в самом начале заставил двигаться Вселенную. Во всем есть какая-то доля этого космического ума; в частности, у человека эта доля большая. То, что разум ни с чем не смешивается, действительно предполагает что-то вроде дуализма разума и материи. С другой стороны, то, что он действует как движущая сила и описан как «распределяемый по частям» среди всего, напоминает нам, что в то время еще не проводили четкого различия между вещественным и невещественным, а без этого различия невозможно дать определение разума как чего-то бестелесного. Однако этот космический Нус явно не мог иметь человеческое тело. То в системе Анаксагора, что для нас сегодня выглядит как предвестие нового бога и новой религии, его современникам казалось просто еще одним примером атеизма. Мало кто из греческих государственных деятелей, деловых людей, домохозяек или поэтов когда-либо в своей жизни представлял себе богов иначе, чем в виде реально существующих и неумирающих существ. Они думали, что любой человек видит, как выглядят боги, когда смотрит на их статуи на Акрополе или на то, как богов изображают на сцене в трагедиях Эсхила и Еврипида.
Причина, по которой в схеме Анаксагора «один разум остается чистым», – то, что разум должен иметь возможность «знать все вещи» и при этом не становиться ими по-настоящему. Если бы ум был таким же, как все другие качества, существующие в мире, при его смешении с каждой вещью возникала бы новая смесь, и разум терял бы часть своей собственной природы при каждом ощущении и каждой встрече с чем-либо. Анаксагор заставил разум привести космос в движение потому, что видел: чтобы создать логически удовлетворительную физику, кроме материи нужна еще какая-то энергия, или, иными словами, сила. То, что разум у Анаксагора, кажется, способен перемещать качества по миру путем прямого давления на них, отражает попытку этого философа остаться в границах материализма. Его Нус еще близок к дающему жизнь дыханию или «тонкому течению», и Анаксагору, вероятно, не слишком бы понравилось современное предположение о том, что разум бестелесен.
Вопрос о том, насколько активную роль играет разум в философии Анаксагора, часто становится предметом дискуссий. Более поздние греческие мыслители считали, что он ввел в свою систему Нус только потому, что было нужно что-то, что привело бы мир в движение, а на самом деле считал Нус просто одним из материалистических механизмов. Некоторые современные ученые более серьезно относятся к утверждению «Разум знает все» и полагают, что Анаксагор предвидит развитие космического порядка. Верное толкование, должно быть, лежит где-то посередине между этими двумя.
Анаксагор интересен и важен для нас по целому ряду причин. С исторической точки зрения он разбудил умы афинян для идей, которые уже какое-то время существовали в центрах ученой мысли на границах греческого мира. В науке он осуществил переход от одной традиции к другой. Мысли Анаксагора о Нусе расширяют область интересов ученых, которые, кроме движущейся материи, наблюдаемой нами, стали включать и человека-наблюдателя. Его идеи о материи привлекали внимание позднейших мыслителей, и они оказались способны оценить изящество теории о непрерывном изменчивом течении вещей, что противодействовало элейско-пифагорейской тенденции рассматривать мир как нечто статичное13. Строгая логика и поражающее своим богатством воображение Анаксагора делают его интересной самостоятельной фигурой в истории науки и философии.
Деятельность молодого ученого, протеже Перикла, вызвала в одних кругах такое восхищение, что его поклонники организовали что-то вроде научно-исследовательского общества, а в других кругах такую критику, что его обвинили в атеизме и заставили покинуть Афины14.
В Лампсаке, куда Анаксагор переселился из Афин, его приняли хорошо и оказывали ему почет как видному гражданину. По работе Метродора из Лампсака мы можем представить себе, как Анаксагор повлиял на распространенные в народе верования. Метродор начал истолковывать общепринятую мифологию в духе натурализма и называл автором этой идеи Анаксагора. В этой интерпретации боги отождествлялись с привычными явлениями и стихиями. Например, падение Фаэтона считалось описанием падения метеорита в дневное время.
Анаксагор попросил, чтобы годовщину его смерти вместо статуи или надписи в его память сделали праздничным днем для школьников, и эта просьба была выполнена.
Возможно, причина того, что, как сейчас считают все, Анаксагора всегда недооценивали, состоит в том, что после него вплоть до Уайтхеда, нашего современника из XX века, ни один философ не пошел по тому пути, который привел Анаксагора к взгляду на мир как на процесс, а не как на материю15.
Архелай
Первый афинский ученый
Зевса больше нет: вместо него правит вихрь.
Архелай занимает в истории греческой мысли скорее место учителя, чем самостоятельного теоретика. Чтобы новые научные воззрения пустили корни в Афинах, привлекли внимание общества и повлияли на развитие философии, необходимо сделать нелюдимого Анаксагора и его трудные для понимания идеи более доступными для всех и совместимыми с практикой жизни. Архелай понял, что новые методы и идеи Анаксагора заслуживают того, чтобы стать действенными и давать результаты. Энтузиазм Архелая, его работа по созданию при его школе научно-исследовательского центра в полном современном значении этого слова и конкретность, которую Архелай внес в понимание Анаксагоровой космологии, принесли ему успех как популяризатору и преподавателю. Хотя мы помним Архелая в основном из-за Сократа, его лучшего ученика, который разочаровался в науке, обнаружив, что она не дает ответа на те вопросы, которые он считал самыми важными, влияние Архелая не следует недооценивать. В конце концов, некоторые из самых оригинальных и подробных работ в истории науки были выполнены в Афинах поколением, следующим за тем, к которому принадлежал Сократ; и нет сомнения, что некоторые из идей школы Архелая и часть царившего в ней энтузиазма сохранились в атмосфере афинской жизни настолько, что оказали влияние на Академию Платона и Ликей Аристотеля1.
Все историки единодушно считают, что Архелай был сначала учеником, а позже ближайшим сотрудником Анаксагора, и это подтверждается свидетельствами современников. Согласно некоторым источникам, он покинул Афины вместе со своим учителем, когда того заставили уйти в изгнание2. Но это не значит, что Архелай преподавал своим ученикам философское сочинение Анаксагора как книгу, где есть нужные им идеи или методы. Напротив, Платон пишет, что Сократ, один из учеников Архелая, не только никогда не встречался с Анаксагором, но и книгу его прочел только после долгого изучения наук3. Возможны несколько причин того, что книга Анаксагора не применялась как учебник: может быть, Архелай считал ее слишком профессиональной, чтобы преподавать своим студентам (это было бы неудивительно); может быть, он думал, что лобовой подход к изложению сложных проблем – не лучший способ преподавания, и почти наверняка он считал, что идеи Анаксагора иногда слишком абстрактны, а в других случаях должны быть откорректированы. Вероятно, верны все эти соображения сразу4.
Хотя Архелай следовал за Анаксагором в главном, утверждая различие между разумом и материей и непрерывность природы, сам он больше всего интересовался подробной разработкой способов применения научных теорий своего учителя в медицине и психологии5. Архелай обнаружил, что очень абстрактное понятие Нус трудно представить себе и использовать в экспериментальной работе. Он должен был преобразовать представление о творящей космической силе, которая не смешивается ни с какими другими качествами, в какую-то более конкретную форму, чтобы получить возможность измерять эту силу и производить над ней какие-то операции. И Архелай сделал это, отождествив психе с воздухом, почти так же, как за много лет до него Анаксимен отождествил воздух с «бесконечным»6. В этом случае на Архелая мог повлиять его менее выдающийся современник Диоген из Аполлонии, который тоже использовал в своей схеме воздух как вещество-первооснову; но это совершенно не означало разрыва с идеями Анаксагора, потому что ведь и у Анаксагора первый этап эволюции космоса, когда началось вращение, – это стадия, когда в мире есть огромные массы воздуха. Возможно, и Диоген из Аполлонии, и Архелай считали, что, сделав воздух одновременно веществом, из которого состоит психе (душа), и первоосновой физического мира, они усовершенствовали теорию, высказанную Анаксагором7.
У Архелая воздух выполнял три функции: он был одновременно нейтральным состоянием материи, из которого выделились остальные качества, принципом, управляющим вещами, то есть воздух имел власть начать космическое движение, и «веществом жизни», из которого состоят душа и ум. В этих идеях не было ничего по-настоящему оригинального. Отождествление воздуха с душой предвещал еще Гомер. Воздух в качестве первичного вещества – это была теория Анаксимена. Роль дыхания и вопрос о том, связаны ли различные болезни с избытком или недостатком воздуха, были распространенными темами для обсуждения у медиков. Архелай и сам особенно интересовался этим медицинским направлением мысли. Он не соглашался с точкой зрения Анаксагора, что Нус распределен по всей природе, и считал, что его частица есть только в животных. Архелай полагал, что, поскольку растения не дышат и не реагируют на окружающее разумно, трудно приписать им какую-либо долю души или ума.
Это новое толкование Архелаем теории Анаксагора, по которому Нус отождествлялся с воздухом и «присутствовал» только в животных, привело к тому, что умозрительные философские теории стали применяться для изучения специальных физиологических проблем типа тех, которые в наше время изучает биохимия.
И в «Облаках» Аристофана, и у Платона в «Федоне» показан Сократ в этот ранний «естественно-научный» период своей деятельности. Тогда его занимали вопросы, особенно интересные для первой афинской группы ученых-исследователей, – из области астрономии и медицины, и Сократ изображен желающим узнать, каковы форма и местоположение Земли. Плоская она или круглая? Находится она в центре Вселенной или, может быть, движется вокруг этого центра? Сократ также хочет понять природу мысли. Думаем мы воздухом, который находится в нас (так должен был считать Архелай), или огнем, или, может быть, мозгом? Можно ли объяснить природные явления – дождь, облака, вихри и тому подобное – как процессы, происходящие с воздухом в разных его состояниях, а сами эти состояния ставить в зависимость от плотности, влажности и движения или покоя?8
Согласно Платону, только проработав долгое время над этими вопросами, Сократ познакомился с книгой Анаксагора. Он услышал, как кто-то читает ее вслух, и на него особенно сильно подействовала фраза «Ум упорядочивает все». В таком случае, подумал Сократ, ум, несомненно, располагает вещи в каком-то порядке, имея в виду определенную цель и определенные ценности. А если так, то, чтобы решить, какая из научных гипотез верна, нужно выяснить, какая из них предлагает «наиболее разумный» порядок. Он тут же купил список этой книги и прочел ее. К разочарованию Сократа, ему показалось, что Анаксагор использовал разум только для того, чтобы объяснить начало движения, а об остальном говорил лишь в терминах механической причинно-следственной связи9. Несмотря на это разочарование, знакомство Сократа с книгой Анаксагора стало для него первым шагом в понимании того, что наука в том виде, как ее преподавал Архелай, была применима только к тем задачам, с которыми она могла работать эффективно и которые могла решить10. В результате Сократ переключился с науки на поиски в другой области, а о том, что стало дальше со школой, нам ничего не известно.
Софисты
Как добиться успеха в Афинах
«Ничто» не существует, но даже если бы «ничто» и существовало, мы не смогли бы познать его, а если бы и познали, не смогли бы высказать его в слове и истолковать другому.
Справедливость – преимущество сильнейшего.
Возникновение софистов – группы профессиональные странствующих учителей – стало для греческой философии угрозой на новом и важном направлении. Философы раннего периода сосредоточивали внимание на мире природы, а дела людей обычно выпадали из их поля зрения. Некоторые мыслители, например Гераклит и Эмпедокл, были исключениями из этого правила, но похоже, что даже они больше интересовались вопросами, касающимися внешнего мира, чем подробным анализом своего внутреннего «я» или даже общества. Софисты, которые обучали молодых людей жить так, чтобы иметь успех в обществе, считали, что нужно изучать не философию, а риторику – искусство говорить убедительно.
Какое впечатление софисты производили на людей, можно до некоторой степени почувствовать, если вспомнить все значения английского слова «софистикейшн», образованного от слова «софист»: утонченность, опытность и фальсификация. Учеба у софистов имела целью сделать ученика умелым в житейских делах светским человеком. Такой человек хорошо владеет приемами разговора, легко приспосабливается к новой среде и достаточно много ездит по миру для того, чтобы быть знакомым с обычаями больше чем одной местности; он уверен в себе, имеет изящные манеры, и его нелегко смутить. Описанный у Стивена Поттера «человек жизни», чья тактика – «побеждать в жизненной игре, не обманывая по-настоящему»1, является образцом присущей софистам светскости. Однако афиняне были гораздо восприимчивее, чем мы, к этому искусственному умению жить. Не только теория, но и практика такого поведения была тогда новой, и молодой человек, умевший использовать свой ум для того, чтобы находить способы произвести хорошее впечатление, имел большое преимущество перед своими конкурентами в политике, праве и общественной жизни. Новое понятие «светский человек» возникло как характеристика этого тактического мастерства.
Афинам для их прогресса нужно было что-то вроде софистов. Городу, который внезапно возвысился до роли центра греческой цивилизации, требовались новые представления, способные заменить унаследованный от предков идеал благородного человека, возникший на основе героических поэм Гомера еще в микенскую эпоху. Городу было нужна легкость перехода из одного слоя общества в другой, но вышедшую из моды монополию части общества на владение собственностью и почет трудно было устранить. Афинам был нужен новый уровень приспособляемости в политике: традиционный консерватизм сильно тормозил управление делами города.
Но вполне естественно, что, хотя софисты в определенном смысле были нужны Афинам, не все афиняне были им рады. Успех, который имели уроки софистов, уже сам по себе вызывал негодование и зависть у тех, кто был слишком беден, чтобы заплатить за такую учебу, и противодействие у более консервативной части аристократии (к которым принадлежал и Аристофан), поскольку был угрозой для их монополии на тщательно выработанные благородные манеры знатных снобов2.
Более серьезные люди из числа афинских мыслителей тоже были недовольны. И Сократ и Платон оба чувствовали неисправимые близорукость и поверхностность постулатов, лежавших в основе софистики. Оба считали, что жизнь – нечто большее, чем постоянное вращение в обществе, и что измерять успех человека на жизненном пути просто богатством или почетом недостойно ни общества, ни человека. Но оба не упускали из вида и то хорошее, что принесло с собой новое движение в образовании. У Платона четыре или пять из его диалогов – портреты, которые все вместе составляют что-то вроде справочника «Кто есть кто в афинском образовании», а это явно говорит о том, что ему было нелегко отвергать софистов3.
Хотя диапазон интересов и методов преподавания у этих странствующих учителей был широкий, все вместе они бросали вызов науке тем, что предлагали другой, не научный тип образования. В этом случае интерес к получению высоких практических результатов помог им изобрести много усовершенствований.
Искусство красноречия у софистов приобрело точность, которой не имело до этого. Они первыми стали применять «систему состязательности противоположных сторон» в преподавании права. Они признали условный характер языка и стали изучать грамматику, диалекты и этимологию. Применив формальную логику при состязании сторон в суде, дискутировании и выступлении на публике, софисты выработали новые стандарты ясности и новые тонкие критерии ошибочности суждения. Их упорное утверждение, что этика и политика основаны только на соглашении между людьми, а не на человеческой природе, побудило три поколения афинских философов к более детальному исследованию человеческой природы и поведения людей. И возможно, таким же важным наследием софистов, как любое из их остальных нововведений, является то, что они показали: хорошим манерам и правильному произношению можно научиться. До этого греческие аристократы думали, что умение вести себя благородно передается по наследству, что манеры есть нечто врожденное, данное им от природы. И наконец, мы должны признать еще одной заслугой по крайней мере некоторых учителей этой школы то, что они вновь проявили интерес к искусствам и ремеслам, на которые в их время афинская интеллигенция стала смотреть свысока, хотя в предыдущие периоды греческой истории было иначе.
В итоге получается, что софисты не внесли в западную философию крупных конструктивных и прогрессивных изменений, а скорее оказали на нее влияние как критики. Они осуществили тот резкий разрыв с традицией, который был необходим как пролог к исследованиям нового типа – изучению общественных явлений. Но софисты мало доверяли обобщенным теориям, и применяемая ими риторика, с помощью которой они убеждали своих слушателей, что наука и философия бесполезны для практики, была альтернативой науке, а не вкладом в науку.
Одним из первых по времени и самых великих учителей был Горгий из Леонтин. Он усовершенствовал искусство красноречия, применив формальную логику к ведению дискуссии и ораторскому искусству. В то время жалобы и речи строились беспорядочно и состояли из почти случайных скачков от мысли к мысли, а Горгий на этом фоне первый начал применять риторические фигуры, ритмическую прозу и аллитерацию и включать в выступление четкую формулировку его тематической структуры. Эти приемы остаются на вооружении у ораторов до сегодняшнего дня (а если не до сегодняшнего, мы должны, по крайней мере, признать, что Западу понадобилось двадцать пять веков, чтобы привыкнуть к этим нововведениям настолько, что он захотел избавиться от них). Горгий просто завораживал своих греческих слушателей, которые любили споры, беседы и речи перед публикой. Горгий имел огромный успех в качестве дипломата, когда был прислан в Афины с Сицилии. Афинские поэты и государственные мужи начали подражать ему в стиле речи. Он поставил свою статую в Дельфах, и там же найден фундамент еще одной его статуи, воздвигнутой жившим позже его родственником4. Несколько речей Горгия дошли до нас; современным людям они кажутся довольно искусственными и банальными по структуре. Например, когда мы читаем в «Надгробной речи»: «Что же эти люди оставили несделанным такого, что они должны были бы сделать, или что сделали такого, что должны были бы оставить несделанным?» – мы ощущаем это как искусственный штамп5. Но этот прием, когда Горгий ввел его в обращение, не был штампом и производил сильнейший эффект. В своей речи «В защиту Елены Троянской» Горгий ненадолго отклоняется от темы, чтобы прославить власть слова, и в этом отрывке видны его собственное отношение и интерес к слову6.
Но Горгий, наделяя свои речи силой, не полагался в этом только на словесные украшения. Структура двух его демонстрационных образцов – речей перед воображаемым судом в защиту легендарных гомеровских персонажей Елены и Паламеда – носит следы работы человека, ценившего точную логику, которую так эффективно применял Зенон. Защита вылядит так: Елена бежала от мужа с Парисом Троянским по одной из трех причин: либо по воле Судьбы, либо из-за непреодолимой страсти, либо уступив неодолимой силе убеждающих доводов. Но если это была Судьба, у Елены не было никакого выбора, и поэтому она невиновна в преднамеренном бегстве от мужа; если это была любовь, в том, что произошло, тоже повинна сила, которая мощнее человеческой воли; и то же самое верно в случае убеждения, поскольку слова имеют власть подчинять себе и ум и волю. Следовательно, заключает Горгий, мы доказали, что Елена не была безнравственной женщиной; она не покинула Менелая преднамеренно и заслуживает скорее нашего сочувствия, чем нашего осуждения7.
Горгий не был единственным, кто признавал, что новая логика полезна при ведении судебных дел, политических переговоров и драматических монологов. Эта логика проникла в греческие драму, право, политику, культуру дискуссии и даже в частную беседу. Но Горгий одним из первых применил элейский формализм с практическими целями, и следует сказать: он был не слишком милостив к элейцам, которым был многим обязан. Проявив частицу того богатства воображения и той изобретательности, которыми обладал сам Зенон, Горгий спланировал свою речь как доказательство трех утверждений: во-первых, ничто не существует; во-вторых, даже если бы что-то существовало, мы не смогли бы познать его; в третьих, если бы что-то существовало и мы смогли познать его, мы не смогли бы передать свое знание другим8.
Защита первого тезиса – пример того, как работала техника Горгия: если что-то существует, оно должно быть либо конечным, либо бесконечным. Парменид убедительно доказал, исходя из того, что «только «бытие» существует», что оно должно быть конечным; но более поздний последователь Парменида Мелисс, исходя из того же допущения, с помощью столь же убедительных рассуждений доказал, что «бытие» должно быть бесконечным. Только ложное утверждение может привести к такому противоречию; следовательно, «ничто» не существует9. Это тот тип аргумента, который много раз и часто возникал в истории философии: противоречия между великими философами доказывают, что сама философия – одни слова, или ее положения не поддаются проверке, или она находится за пределами возможностей человеческого ума. Это было бы верно, если бы не было способов разрешить кажущиеся противоречия либо путем проведения новых различий (например, между значением слова «конечный» у Парменида и у Мелисса), либо с помощью нового синтеза (например, показав, что одно измерение «бытия» фактически бесконечно, а другое детерминировано и конечно). Речь Горгия отражает его позицию: он не преподавал своим ученикам науку или философию10.
Поскольку в городах-государствах того времени (сразу после Персидской войны) для любого молодого грека, стремившегося сделать карьеру, умение выступать с речами на публике и компетентность в юридических вопросах были важными навыками, все софисты включали в свою учебную программу эти два предмета. Некоторые из софистов преподавали только их, остальные включали право и ораторское искусство в курс более общего образования. Великим легендарным адвокатом в школе софистов был Протагор из Абдеры, который был способен выиграть в суде присяжных любое дело для любой из сторон. Он шокировал афинское общество тем, что, обучая своих студентов, заставлял их доказывать правоту обеих сторон в каждом судебном деле; за прошедшее с тех пор время ценность этой процедуры была признана, и она стала повсеместно использоваться при обучении праву11. Но обычный житель Древних Афин считал: каждому видно, что в любом судебном деле есть правая сторона и неправая сторона; уравнивание их между собой шло вразрез с представлениями о том, что суд обладает интуитивным чувством справедливости и может вынести правильное решение по любому делу. Выражая возмущение афинян, шокированных новым методом Протагора, Аристофан в комедии «Облака» изобразил большой спор между Справедливой и Несправедливой Речами. В этой пьесе они кружат по сцене в облике дерущихся петухов. Побеждает Несправедливая Речь, которая в каждом деле защищает неправую сторону.
Из других документов, таких, как «Двойные аргументы» («Dissoi Logoi»), видно, что некоторые из подражателей Протагора были не очень сообразительными. Этот документ представляет собой таблицу обобщенных аргументов, полезных при доказательстве таких утверждений, как «Одна и та же вещь хороша, плоха, а также не хороша и не плоха». Однако сам Протагор так блестяще владел профессиональной техникой юристов, что представлял каждое дело, которое вел, в виде, рассчитанном на то, чтобы завоевать симпатии присяжных для своего клиента, и добивался того приговора, которого хотел.
Протагор, как и Горгий, терпеть не мог абстрактных научных и философских рассуждений. Одно из самых знаменитых его высказываний звучит так: «Человек – мера всех вещей: тех, которые есть, – что они есть, а тех, которых нет, – что их нет»12. Подразумевал ли он, что каждый человек – мера или что мера – все общество в целом, в любом случае это утверждение отражает новое представление об истине как о чем-то относительном, что зависит от культуры и индивидуальности наблюдателя. Он также написал: «Что касается богов, существуют ли они, я не знаю из-за трудности этой темы и краткости человеческой жизни»13. Благочестие, справедливость, истина и тому подобное очевидны для человека, а скорее являются условностями, которые выработало общество. Афинские адвокаты следующего поколения не хитрили, когда сформулировали одно из положений, вытекающих из этой точки зрения: в любом судебном деле невозможно сказать, какая сторона «справедлива», до тех пор, пока это не решил суд, поскольку закон – это «лишь то, что суды сделали», а справедливость – «то, что суды сделают».
Другой софист, Продик, является наилучшим примером нового отношения к языку как к инструменту, а не как к магии, что было очень важным завоеванием культуры. Человек, который вырос в таком сообществе людей, где существует всего одна разновидность речи, тем более до изобретения грамматики, вообще не понимал, что говорит на определенном языке. Ему должно было казаться, что его форма речи – естественная и передает другим людям смысл слов правдиво и напрямую. Такое некритичное поведение опасно, и работа, которую проделал Продик, сослужила большую службу западной цивилизации. Его классификация частей речи: имена, артикли, глаголы, причастия и частицы – была началом научной грамматики на Западе. То, как он разграничивал значения близких синонимов, приводило в восторг его современиков. Он также был первым, кто стал изучать различия между диалектами и историю слов14. Лекции Продика о языке были широко известны: у Платона Сократ извиняется за то, что недостаточно хорошо владеет словом, потому что мог заплатить только за дешевую лекцию Продика, а не за дорогой «полный курс языка»15. В то же время, если портрет Платона вообще верен, Продик был ученым-педантом: определял разницу между словами независимо от того, являлось ли это различие значительным в данной ситуации, и был способен истолковать стихотворную строку «Трудно быть добрым» как «Добро – плохое» после подробного поочередного и тщательного этимологического анализа входящих в нее слов16. Но после Продика, был он педантом или нет, греческим мыслителям пришлось осознать существование языка и занять определенную позицию по отношению к таким вопросам, как способность обычного языка адекватно описывать мир, потребность философии в специальной профессиональной терминологии и меры языковых предосторожностей, необходимые, чтобы отличить реальные рассуждения и опровержения от чисто словесных17.
Гиппий из Элиды известен нам в основном по двум диалогам, написанным в Академии Платона: чувство, которое он там вызывал, напоминает отношение Гераклита к Пифагору: большая ученость не всегда делает человека мудрым, а может быть «полиматией – искусством вредить и сеять смуту».
Дело в том, что Гиппий был истинным полиматом: он знал все. Он изобрел так называемое искусство запоминания и выодно использовал его, организовав собственную «викторину» и сыграв в ней главную роль на Олимпийских играх18. Он был компетентным математиком и астрономом, а также проявлял интерес к прикладному искусству и ремеслам19. В одном из платоновских диалогов Гиппий рассказывает, как он появился на Олимпийских играх, и его одежда, обувь, кольцо – все было его собственной работы. Чтобы завершить эту демонстрацию своей разносторонности, он прочел стихотворение, сочиненное им самим.
То, что софисты высоко ценили умение направлять и формировать поведение человека, частично подтверждается техническими достижениями, находившимися на афинской Агоре. Высокая оценка, которую Гиппий давал «знанию, как делать», ясно говорит о том, какую роль сыграло в развитии софистики это взаимодействие техники и мысли. Но, если мы можем хоть сколько-нибудь доверять диалогам «Больший Гиппий» и «Меньший Гиппий» – написанным в Академии литературным портретам этого знатока за работой, – этот человек знал все факты, но был не способен на какое-либо обобщение и совершенно не имел чувства юмора. Гиппий (вернее, карикатура на него, но, вероятно, не лишенная сходства) просто злит читателя, когда невероятно торжественным тоном предлагает решить спор о тонкостях философии между Протагором и Сократом, затем говорит, что у ложек, у стихов и в огромном количестве других случаев красота и пригодность для выполнения своей функции – одно и то же, но не способен заметить, что это подразумевает связь между красотой и функцией, а услышав в ответ колкости Сократа, совершенно не чувствует, что его пронзают эти стрелы иронии, и продолжает отождествлять ум с информированностью.
Такими были те из старших софистов, кто занимался преподаванием. Они имели изысканные манеры, были вежливы и учтивы, вели себя как хорошо воспитанные люди и в большинстве случаев занимали важные политические должности. Например, Протагор, хотя и не был уверен, что боги существуют, был уверен в том, что их нужно чтить: набожность, которую укрепляет государственная религия, – важный элемент цивилизующего влияния, необходимого, чтобы укрощать человеческую натуру. Горгий разработал нечто вроде таблицы правил этикета, где было указано, какое поведение в обществе будет правильным в такой-то ситуации для человека такого-то возраста, пола и общественного положения.
Но у более молодых учителей – младших софистов – эти утонченные благородные манеры сменились совершенно иными20. Из нового для их времени понимания, что в структурировании общественного поведения и создании принятых в обществе ценностей важную роль играют условные договоренности, эти софисты следующего поколения стали делать выводы, ранившие чувства других людей, – о том, что следует отбрасывать все прежние ценности как совершенно произвольно принятые условности. Критий, более известный своей беспринципностью, когда был временным диктатором, чем достижениями в области интеллекта, применил деструктивную критику в отношении религии: он говорил, что богов придумали хитрые политики, чтобы страхом заставить народ хорошо себя вести. Фразимах, отличавшийся упорством и стойкостью адвокат, подводя итог своему опыту работы с судами и судебными делами, откровенно заявил, что справедливость – просто имя, которое дается любому поступку, который дает «преимущество сильнейшему или правителю»21. Антифон был уверен, что несправедливость нельзя считать неестественной, если она не влечет за собой никакой боли, если не будет обнаружена и наказана, а поступки, «противные природе», всегда имеют вредные последствия. В «Двойных аргументах» их неизвестный автор набрасывает общую схему защиты обеих сторон в любом судебном деле и включает в нее примеры, показывающие, как доказать, что один и тот же поступок хорош, плох и ни хорош ни плох. Этот список можно было бы расширить, но приведенных примеров достаточно, чтобы показать, как младшие софисты обобщили и сделали явными некоторые наименее приемлемые и, в сущности, наименее заслуживавшие доверия следствия из идей своих учителей.
Одним из факторов, которые помогли софистике приобрести широкую известность и одновременно вызвали гнев против нее во многих кругах, было то большое значение, которое снова приобрели дебаты. Выступление Гиппия на Олимпийских играх, когда он, показывая свои высокие достижения в умственной гимнастике, отвечал на любой вопрос, который ему кричали, было типичным примером того, как стали смотреть на беседу – ее все больше считали прежде всего возможностью помериться умом, состязаться в области мысли. Греки любили хороший спор, и словесное единоборство могло найти заинтересованных слушателей. Позже Аристотель написал свой анализ языка и логики, в котором кратко сформулировал цели таких «дебатов»: те, кто сражается словами, вначале ставят себе целью опровергнуть противника. Если и это невозможно, они ставят себе целью поймать противника в ловушку, заставляя его утверждать парадокс. Если это не удается, они пытаются заставить его сделать ложный вывод, который потом можно предъявить публике и этим дискредитировать противника, или вынуждают его говорить с нарушением грамматики, чтобы позже заявить о его неграмотности и отсутствии нужных знаний. И наконец, если ничто из всего этого не удается, они пытаются довести противника до неразборчивого бормотания!
У Платона в его диалоге «Эвтидем» Сократ изображен втянутым в такой бой насмерть словесным оружием. Его противники – два приехавших на время в Афины брата – Эвтидем и Дионисидор, которые «бросили заниматься фехтованием в доспехах и стали фехтовать словами». Эти карикатуры на тогдашних героев диспута, которые при своих плохих манерах побеждали противника словами, вызывают у современного читателя некоторую симпатию к тем консерваторам, которые, как Аристофан, были возмущены таким побочным действием нового высшего образования.
В этом диалоге Платона Сократ, спросив у приезжих братьев о природе добродетели, слышит от них, что он уже знает ответ на свой вопрос:
«– Ответь мне, Сократ: ты – знающий человек?
– В том, что мне известно, – да.
– Это не ответ на мой вопрос: отвечай «да» или «нет».
– Ну, тогда – да.
– А быть и не быть чем-то в одно и то же время невозможно. Поэтому, если ты знающий человек, ты знаешь все…»22
Сократ считает, что это неправда, но у Эвтидема есть на это готовый ответ: неправдой было бы «сказать то, чего нет»; но «небытие не может ни существовать, ни быть подумано, ни быть сказано»; значит, ложное утверждение невозможно! За этим применением элейской логики там, где она не к месту, следует неправомерное использование приема «отвечай «да» или «нет» (заимствованного из техники перекрестного допроса в суде), которым софисты владели в совершенстве, перемежаемое оскорблениями, которые не задевают Сократа, но одного из его младших товарищей чуть не доводят до апоплексического удара23.
Софисты были колоритной группой, которую философы не могли оставить без внимания. Предложение софистов забыть о философии и принять вместо нее риторику было вызовом, на который нужно было отвечать. Их отношение к условностям и релятивизм мышления привлекли внимание к ограниченности во взглядах живших до них ученых и философов, которые полагали (не формулируя это допущение явно), что человеческая натура и общество – лишь частные случаи той системы природы, куда входят химические вещества, времена года и звезды. Они первые в истории осознали, что язык по своей природе инструмент, и открыли свойства этого чудеснейшего инструмента; этот вклад софистов в западную культуру потрясает воображение и будет существовать вечно.
Однако то, что эти новые идеи имеют значение для философии, было замечено не вторым поколением софистов, а их младшей группой, которая, похоже, заменила серьезную и ответственную работу ума манипуляцией лозунгами. Философское значение софистики заметили скорее те, кто критиковал софистов, и они начали заново изучать отношение человеческой жизни к бытию и природе в целом и исследовать имеющий огромное философское значение вопрос о соотношении между природой, действительностью и ценностью.
Влияние софистики в Афинах распространилось широко: оно отразилось и в пьесах Еврипида, и в великих речах Перикла, и в менее великих речах других ораторов, и в дебатах, которые устраивали в гимнасии. Но софисты были популярны не у всех: консервативных афинян, от имени которых выступал Аристофан, возмущало, что софисты бросили вызов традиционным ценностям, а некоторых менее консервативных афинян, которым не хватало денег, чтобы заплатить за дорогостоящее новое образование, раздражали те преимущества, которые оно давало. Рассказ, что книга Протагора была сожжена, а его самого вынудили уехать из Афин в 418 году до н. э., кажется, не заслуживает доверия, но он основан на том реальном историческом факте, что софисты, несмотря на все внимание, которое они проявляли к способам добиться популярности, не завоевали сердца всех афинян24.
После софистов греческая философия изменилась: ей пришлось стать намного самокритичнее и осмотрительнее. Софисты показали, что язык – это изобретенный людьми инструмент, а не точное, без искажений отражение реальности. Они убедительно доказали, что в общественных институтах и законодательстве по меньшей мере очень много условного, и человек уже не мог утверждать, что поведение того людского сообщества, к которому он принадлежит, – это «просто природа человека». И была речь Горгия, несомненно, раздражавшая философов: ее задачей было показать, что все прежние отвлеченные рассуждения о реальности лишь приводили к противоречиям, а вот прикладные искусства в своей истории непрерывно двигались вперед.
Сократ
Поиск себя
Неизученная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить.
Сократ
Ответ Фалеса на вопрос «Что такое бытие?» привел греческих мыслителей к исследованию окружающего мира. Как отклик на этот вопрос развились науки – физика, математика, логика и зоология, каждая из которых дала часть ответа. Вопрос Сократа «Что такое «я»?» вызвал к жизни новый этап исследовательского поиска. Сократ, который вначале был восхищен идеями ионийской науки, позже понял, что ни ученые, ни софисты, ни обычные афиняне не могут объяснить, в чем суть человеческого «я». Он признал необходимость поиска в области этики и стал вдохновителем новых подходов к политике и образованию. Греческие философы столкнулись с новой для них проблемой – как совместить естественные науки и гуманитарные ценности в одной схеме реального мира. Пример жизни и смерти самого Сократа уже напоминает нам о значении человеческого ума и о необходимости свободы пользоваться этим умом.
«Куда вы идете, люди? Вы интересуетесь только богатством и тем, как его добыть, и не знаете, что не делаете ничего из того, что вам следует делать. А что касается ваших сыновей, которым оставите это богатство, вас не беспокоит, будут ли у них знания, необходимые для того, чтобы использовать его справедливо. Вы не ищете для них ни преподавателей справедливости, если она преподается, ни тренеров, если она создается практикой и тренировкой. Вы даже не делаете первый шаг – не исправляете свои собственные взгляды на это…»1
Так говорил Сократ на Агоре, и появление его направило греческую философию по новому пути2. То, что он исследовал природу человеческого «я»; его упорные попытки заставить своих сограждан думать меньше о том, как сделать своих детей богатыми, и больше о том, как сделать их лучше; его критика, опровергавшая утверждения политиков и софистов, что они знают, что такое добродетель и как можно научить ей людей, – все это переключало внимание философов с мира, на который смотрит человек, на человека, смотрящего на мир. Они начали замечать, что у философии есть подтекст, который касается повседневной общественной и политической практики, и что упорный поиск правды в философии может привести ее к конфликту с традицией или политической выодой. Такой конфликт действительно произошел, и это был один из самых драматических эпизодов в истории Запада. Речь идет о суде над Сократом в 199 году до н. э. Когда политические вожди Афин обнаружили, что вопросы Сократа разрушали ту слепую верность населения, которая, по их мнению, была им нужна, они попытались заставить его покинуть город или, по крайней мере, замолчать. Приведенный на суд и обвиненный в непочитании богов и вредном влиянии на молодежь, Сократ не позволил себя запугать и не пошел на компромисс. Защищаясь, он утверждал, что на нем лежит важная обязанность – ставить вопросы, чтобы афиняне постоянно помнили о важных вещах, на которые они, возможно, предпочли бы не обращать внимания. Он заявил, что он благодетель общества, а не преступник, и, так как у него была возможность предложить свой вариант наказания вместо смертной казни, о которой просило обвинение, сказал, что, если бы он получил то, чего заслуживает, это были бы еда и жилье за общественный счет до конца его жизни. Сократа приговорили к смерти и казнили, но характерные для него интерес к человеческому «я» и дух беспристрастного исследования нашли во всей Греции много поклонников, которые продолжили его труд, а его пример до сих пор напоминает нам о том, как важна для людей свобода мысли, и о праве и обязанности человека вести разумно организованный поиск интересущих его ответов.
Обычно греческую философию делят на досократовскую и послесократовскую, поскольку после Сократа греческие мыслители никогда уже не могли обойти вопрос «Что такое «я»?», который, как оказалось, столь же сильно манил обманчивыми надеждами и был столь же важен, как более старый вопрос «Что такое «бытие?» – с которого началось греческое отвлеченное мышление.
Сам Сократ ничего не писал, и, когда мы пытаемся реконструировать его взгляды, мы находим у каждого, кто писал о нем, свой портрет Сократа. Все основные школы греческой философии называли себя сократовскими, то есть продолжающими работу Сократа и идущими к тем же целям, к которым шел он сам. Друзья Сократа Ксенофон и Платон оставили нам его литературные портреты, а кроме того, у нас есть карикатура на него, вышедшая из-под пера Аристофана. У Аристофана мы находим Сократа – жуликоватого шарлатана. Ксенофон изобразил сентиментального отставного солдата. Киники – одна из сократовских школ – видели в Сократе человека, который не желал мириться с общественными условностями и жил «согласно природе». Мегарская школа считала Сократа специалистом по формальной логике. Киренаики – еще одна школа – полагали, что главный урок Сократа – его этическое учение о том, что хорошая жизнь – это «умное получение удовольствий»3. И до наших дней продолжается это всеобщее восхищение Сократом при разных представлениях о нем; например, уже в нашем веке его понимали как экзистенциалиста, политического либерала и индийского гуру4.
У этого многообразия интерпретаций есть две причины. Первая из них – результат веры Сократа в то, что люди должны думать сами: он обычно называл себя человеком, который не знает ответов на задаваемый им вопрос, но был бы рад поискать этот ответ вместе со своими собеседниками, выступая при этом в роли их критика. Поэтому нелегко составить список того, что утверждал Сократ, даже если хочешь это сделать, и легко увидеть, что идеи Сократа, будь они выстроены в ряд на странице учебника, потеряли бы те силу и смысл, которые были в них вложены. Вторая причина того, что разных точек зрения на Сократа так много, – то, что жившие после него философы все считали его жизнь доказательством того, что человек может жить, поступая так, как подсказывают его идеалы. Пример Сократа показал, что бывают моменты, когда тот или иной человек должен принять решение делать то, что правильно, несмотря на то что этот выбор противоречит всем его эгоистическим интересам и заставляет жертвовать даже собственной жизнью5. И вполне естественно, что каждая позднейшая группа философов, признавая Сократа идеалистом, при формировании своего образа Сократа вкладывала в этот образ свое собственное представление об идеальной человеческой жизни. Историю западной этики можно прочитать как непрерывный спор между этими разнообразными представлениями о сократовском идеале. Каждое из них по-своему привлекательно, но по-своему ограниченно; и, вероятно, для Сократа не было бы ничего приятнее, чем узнать, что его пример окажется таким убедительным, что укажет направление для будущих поисков в этике, но при этом таким загадочным и бросающим людям вызов, что будет заставлять людей критиковать и подвергать сомнению каждое решение, которое им будут предлагать.
Мы хотим немного подробнее рассказать о жизни и деятельности Сократа. В начале пути это было увлечение естественными науками, потом открытие необходимости этического поиска и случай с дельфийским оракулом, укрепивший решимость Сократа жалить, как овод, соотечественников-афинян. Дальше мы увидим, что он, несмотря на свое собственное заявление, что он ничего не знает совершенно точно, все-таки пришел к конструктивным выводам. И наконец, мы увидим, что суд над ним и его казнь сами по себе доказали, что попытки обуздать ум и любознательность человека путем запугивания бесполезны.
В молодости Сократ восхищался новыми в то время идеями ионийской науки и был лучшим учеником школы Архелая. После того как Архелай покинул Афины, Сократ какое-то время фактически был признанным главой или руководителем школы и в этом качестве показан в «Облаках» у Аристофана6. Но в тогдашних Афинах быстрый и подвижный молодой человек просто не мог обращать внимание только на один круг новых идей, у Сократа было много интересов и знакомств за пределами круга людей, занимающихся естествознанием. Например, он ходил на «менее дорогие» лекции Продика о языке, был знаком с несколькими молодыми пифагорейцами из Фив (этот город находился недалеко от Афин); встречался с Зеноном и Парменидом, и эта встреча произвела на него сильное впечатление7. А по тому, как умело он вел свои перекрестные допросы, мы можем с уверенностью сказать, что он с интересом слушал софистов всякий раз, когда кто-то из них произносил большую речь или выступал на процессе в суде. Он прочел распространенные в то время руководства по риторике, но был о них невысокого мнения. Он служил в армии с отличием, посещал театр, ходил на народное собрание и вел беседы в афинских гимнасиях. Все эти виды деятельности влияли на него и развивали в нем те черты, которые стали характерны для Сократа в его последующей жизни: способность к высокой оценке новых идей, чувство юмора и глубокая убежденность в том, что ум и справедливость – необходимые качества хорошего общества и хорошей жизни.
Примерно в сорок лет Сократ понял, что наука не может ответить на те вопросы, которые начали его интересовать. Это были вопросы о природе человеческого «я», о том, что ценно в этом мире, и о том, что значит быть прекрасным человеком. До Сократа мыслители тоже искали человеческое «я». «Я искал себя», – написал Гераклит; «Познай себя», – так звучало одно из трех изречений, написанных на храме Аполлона в Дельфах; спасение какого-то психического «я» было целью религиозной практики орфиков и пифагорейцев; тема связи рока с познанием себя была на первом плане в работах историков и в трагедиях. Но Сократ первый стал искать разгадку этой загадки с помощью критического интеллектуального расследования, поднявшись выше мифологии, кратких изречений и поэзии8.
Мы даже можем, вспомнив Архелая, представить себе, как именно новая наука того времени привела Сократа к постановке этого общего вопроса. Одним из главных интересов Архелая было исследование в физиологии и психологии человека. Учась в его школе, Сократ, должно быть, был очарован такими вопросами, как «Думаем мы воздухом, который находится в нас, или кровью… или, может быть, не тем и не другим, а мозгом?».
Но Архелай также был ученым, продолжавшим традиции милетцев, а их традиция уделять основное внимание объективному наблюдению и описанию не оставляла места ни для изучения субъективного опыта наблюдателя, ни для оценки фактов9. Когда Сократ понял это, он, возможно, вначале подумал, что софисты ближе к тому подходу, который он искал. Но если он думал так, то быстро изменил свое мнение: софисты были так заняты разработкой «реалистичных» тактических приемов для накопления собственности и завоевания престижа, что не видели ни возможной роли идеалов в жизни людей, ни того, что богатство и почет – не внутренне присущие человеку блага. «Я» у софистов было довольно простой смесью прирожденной алчности и созданной общественными условностями привычки. Познание человеком себя интересовало эту группу не больше, чем основную массу афинян или какого-нибудь тогдашнего политика, озабоченного своими делами10.
Рассказ о дельфийском оракуле и о роли, которую тот сыграл в жизни Сократа, побудив его начать ходить по Афинам и задавать критические вопросы, вероятно, соответствует действительности. В нем прекрасно отразились характерные для Сократа юмор и страсть к познанию11.
Друг Сократа Херефон, находясь в Дельфах, задал оракулу Аполлона вопрос: «Есть ли человек мудрее Сократа?» – и оракул ответил: «Нет!» Сократ был изумлен, потому что, как он сказал, он только начинал понимать, сколь многого он не знает. И он решил, что отправится искать человека мудрее себя, чтобы иметь возможность, когда найдет такого, поехать в Дельфы и сам задать оракулу ряд встречных вопросов, чтобы выяснить, что Аполлон имел в виду на самом деле. То, что Сократ не воспринял этот хвалебный отзыв о себе как возможность почувствовать себя авторитетным человеком и самодовольно надуться от важности, а истолковал как указание или загадку, цель которой – подтолкнуть его к решению выйти на улицы и задавать вопросы, – совершенно в его характере.
Результат его удивил. Сократ искал того, кто мудрее, чем он, вначале среди самых вероятных претендентов – преподавателей и политиков, а потом перешел к поэтам и ремесленникам. Но каждый знаток своего дела, хотя и думал, что знает все о том, что такое человеческое совершенство, справедливость, мужество, хорошая общественная политика, когда Сократ задавал ему свои вопросы, оказывался «точно таким же невежественным, как я сам!». Тогда Сократ спросил себя: «Каким мне лучше быть: таким, как эти люди, – невежественным, но воображающим, что я все знаю, или таким, какой я есть, – понимающим, что я не знаю ничего; и я решил, что лучше буду самим собой!»
А в это время знатоки, чье невежество Сократ выставил напоказ, вовсе не были благодарны ему за эту демонстрацию их незнания, особенно потому, что она часто доставляла удовольствие зрителям. Мы можем представить их реакцию, если вообразим себе, как Сократ притискивает к стене сенатора, который только что кончил произносить речь о несправедливости какого-нибудь нового закона, спрашивает его, что они имеет в виду под справедливостью, а потом несколькими меткими вопросами показывает, что этот оратор имеет лишь очень расплывчатое и смутное представление о смысле слова «справедливость».
Так Сократ шел по Афинам, удивляясь, думая и ставя вопросы. В этот период своей жизни он сделал несколько своих предварительных выводов, которые были утверждениями, а не отрицаниями, и обнаружил, что их невозможно опровергнуть. Иногда Сократ даже формулировал их как свои твердые убеждения, хотя чаще отстаивал их косвенно, предлагая как гипотезы или задавая в форме вопросов.
Позднейшие писатели все единогласно приписывают Сократу высказывания: «Добродетель – это знание», «Добродетели – это одна добродетель», «Справедливый человек не вредит никому», «Лучше пострадать, чем совершить несправедливость» и «Мы будем лучшими людьми, если станем задавать вопросы, чем если не станем; в это я верю и за эту веру буду сражаться словом и делом»12. Все эти позитивные взгляды брали начало в его новом методе – творческом проникновении в суть человеческого «я» и гуманитарных ценностей.
Все эти идеи тесно связаны с открытием Сократа, что ценности делятся на внутренние и служащие средствами, а его сограждане обычно классифицировали их по этому признаку не так, как правильно, а как раз наоборот13. Внутренней ценностью обладают те свойства бытия, которые делают человека совершенным и счастливым. То, что можно использовать как средство для достижения этой цели, но можно использовать и иначе, – имеет ценность как средство, то есть ценится за то, что позже может быть каким-то образом использовано. Собственность, телесная красота и сила относятся к группе средств. Ни богатство, ни хорошее физическое состояние сами по себе не делают своего обладателя ни хорошим, ни счастливым человеком. А мудрость, чувство справедливости и мужество имеют внутреннюю ценность. Тот, кому знакомы эти добродетели, ценит их ради них самих, а не как средства для достижения какой-нибудь цели.
Сократ видел, что у обычного афинянина шкала ценностей была совершенно противоположная. Афинянин хвалил справедливость потому, что она была средством заработать хорошую репутацию, а репутация, в свою очередь, была средством для достижения успеха в денежных делах и политике, или говорил своим сыновьям, что они должны быть справедливыми потому, что иначе будут наказаны человеческим судом или богами. Целями, для достижения которых рекомендовали добродетель как средство, были как раз те, что на самом деле являются внешними по отношению к счастью и настоящей репутации, – деньги, красота, сила, почет и так далее. Сократ обнаружил, что причиной этой коренной ошибки в оценках является невежество – незнание истинной природы души и незнание о том истинном достоинстве, которое обретает человек, имеющий свой идеал, когда претворяет этот идеал в жизнь. Итак, Сократ был убежден, что «добродетель – это знание» и что «все добродетели – это одна добродетель». Каждый, кто знает, что такое добро в том смысле, который придавал этому слову Сократ, то есть знание, которое подразумевает умение по-настоящему оценить саму вещь, а не просто запомнить готовое суждение о ней, всегда выбирает добро. И в любой ситуации совершенство человека является результатом «знания», то есть умной оценки вещей.
Поскольку добродетель – это состояние внутреннего «я», а лишь человеческому «я» добро присуще внутренне, по природе, то мнение людей, что человеку можно причинить вред, лишив его имущества или уюта, – ошибка. Единственный настоящий вред, который возможен для человека, – это если случится что-то, что сделает его худшим человеком, а это может произойти только в результате неверного выбора, который заставит человека позабыть о своем достоинстве и поступать порочно. Следовательно, утверждал Сократ, если человек оказывается перед выбором – испытать на себе несправедливое обращение или поступить несправедливо самому, лучше выбрать несправедливость по отношению к себе.
Сократ считал, что единственной надеждой для Афин было устранить вредное воздействие невежества афинских государственных деятелей и их сторонников. События, произошедшие в Афинах за время его жизни, показали, что это было необходимо. Расширяя сферу своего влияния, Афины вошли в конфликт со Спартой и ее союзниками, и началась долгая Пелопоннесская война, которая тянулась много лет и в конце концов закончилась в 404 году до н. э. поражением Афин. Тогда к власти пришло правительство из тридцати временных диктаторов во главе с софистом Критием. Они изгнали лидеров демократической партии и на какое-то время установили в Афинах беспринципный режим террора14. Однако в 403 году до н. э. демократы захватили город и изгнали диктаторов. Лидер демократов Анит провел закон, по которому никого нельзя было преследовать по суду за поступки, совершенные до демократической реставрации, и демократическая власть попыталась укрепить свое шаткое положение и вернуть Афинам часть потерянной мощи и рынков торговли.
Первая встреча Сократа с правительством, желавшим заставить его молчать, произошла, когда у власти был Совет Тридцати. Вероятно, некоторые из его сравнений поступков Тридцати с поведением плохих работников вызвали гнев Крития и его коллег. Во всяком случае, Критий отвел Сократа в сторону и сказал ему, чтобы тот «дал отдохнуть» своим «плохим работникам и ослам», то есть перестал говорить. (Лично я предполагаю, что Сократ сравнил тридцать правителей с пастухами, занятыми только тем, что жарят овец, которых должны стеречь.) Предупреждение не подействовало, и вскоре правители, чтобы сделать Сократа своим соучастником, приказали ему помочь арестовать богатого человека, Леона с Сала-мина. Арест был несправедливый, Леон после него был убит, а имущество его конфисковано. Сократ спокойно ушел к себе домой, и только возвращение к власти демократов не дало ему погибнуть от рук диктаторов-олигархов.
Но Анит, несмотря на миролюбие, которое он проявил в своем законе о всеобщем прощении за прежние преступления, тоже посчитал Сократа опасным для общества и выдвинул против него обвинения в суде, чтобы Сократ, испугавшись, покинул Афины или перестал критиковать демократию. У Анита были некоторые основания чувствовать, что власть демократического правительства Афин была непрочной и что критика Сократа не была тем патриотизмом, слепым и нерассуждающим, которого хотел Анит15. Но совершенно ясно, что Сократ, который был убежден, что ум – единственная надежда в деле улучшения человечества, не мог уступить и отказаться от своего призвания ради полезных лишь на время идей правительства.
Анит сделал по отношению к Сократу ту же ошибку, которую делали и многие другие греки: он считал, что Сократ на самом деле не верил в то, что говорил. Афины были полны людей, говоривших как идеалисты, но действовавших так, чтобы получить больше богатства и уюта для себя. Однако Сократ на самом деле верил в то, что лучше пострадать от несправедливости, чем ее совершить. Он верил, что его вопросы имели первостепенную важность для общества и приносили обществу пользу и что он поступил бы плохо и неверно, если бы убежал или замолчал.
Поэтому Сократ вынес судебное разбирательство, был приговорен к смерти и был казнен. Платон в своих трех знаменитых диалогах «Апология Сократа», «Критон» и «Федон» описывает суд над Сократом и его смерть, и это – одно из величайших сочинений в античной литературе16. Платон записал речь Сократа на суде, в которой Сократ вместо того, чтобы приносить извинения и обещать исправиться, заявил, что он – благодетель общества. Об эпизоде с дельфийским оракулом Сократ рассказал, чтобы объяснить, почему он задавал вопросы так упорно и настойчиво и почему Анит и другие считали его вопросы такими оскорбительными. До нас дошла его заключительная речь, обращенная к судьям, в конце которой он заявляет о своем убеждении, что «никакое зло не может повредить хорошему человеку ни в этом мире, ни в загробном».
Наконец, в «Федоне» Платон описывает Сократа в последний день его жизни, беседующего с друзьями, которые пришли повидать его в тюрьме, о природе человеческой души и об очевидности ее бессмертия. Спокойный, критичный и дружелюбный, Сократ объяснял своим друзьям, как он пришел к пониманию того, что человеческая душа ценнее и сложнее, чем думают о ней поэты, ученые и практики. И он рассказал друзьям, почему он нашел основания надеяться на то, что душа, которая способна познать вечные истины и отразить в себе образ идеала, будет бессмертна. Как и доказательство Сократа, что люди в своем поведении должны руководствоваться уважением к справедливости, не полностью убедившее его друзей, эти абстрактные доводы, которые Сократ настойчиво просит друзей рассмотреть и критиковать, могут не убедить читателя, но диалог Платона убеждает каждого читателя, что Сократ бессмертен.
Когда солнце начало опускаться к горизонту на западе, Сократ выпил смертельный яд и умер. «Так умер наш друг, наилучший и самый справедливый из всех людей, которых я знал» – вот последняя фраза диалога «Федон». И суд истории, отменив приговор афинского суда, согласился с Платоном.
Платон
Порядок, факт и ценность
Платон – это философия, и философия – это Платон.
Два великих афинских ученых-творца, стараясь ответить и на тот вопрос, который интересовал Фалеса, и на тот, который тревожил Сократа, свели все интуитивные открытия, сделанные до них греками в философии и естественные науках, в две великолепные теоретические системы. Этими учеными были конечно же Платон и Аристотель.
Если основной характеристикой системы Платона может быть какая-то одна идея, то это идея Добра. Этот ценностный принцип в определенном смысле является целью всего философского умственного исследования и создает систему координат для Платоновой новой карты реального мира1.
На этой карте Платон разместил сделанные до него интуитивные открытия греческой мысли и опробовал полученную систему, применяя ее к различным проблемам и среди них – к тем вопросам, которые побудили его заняться философией: о природе человеческого «я» и об отношении этого «я» к обществу.
Деятельность Платона можно разделить на четыре периода в соответствии с этапами развития и изменения его мысли. Платон перешел от поэзии своих сократовских диалогов к практической деятельности, от практики к теоретизированию, от философского видения мира к точной проверке и критике.
Судьба его идей тоже сложилась интересно. Многие последующие философские разработки, которые имеют определенные общие черты, получили название «платонизм».
Однажды Уайтхед охарактеризовал западную философию как «ряд примечаний к Платону», и эта оценка вряд ли преувеличена. Платон с его даром теоретического видения дал Западу традицию, которая не прервалась до сих пор, и цель, которой Запад так и не достиг2.
Говоря о Платоне и Аристотеле, важно получить некоторое представление о тех общих моделях и основных темах, которые дали им возможность увидеть и изобразить все сущее и все знание в их великом разнообразии и сложности как одно упорядоченное целое. Дать это представление в сжатом виде трудно, и при этом остается слишком мало места для иллюстративных примеров, но, к счастью, и Платон и Аристотель взяли за точку отсчета ту историю философии, которую мы только что проследили, и, возможно, в предыдущих главах встречаются некоторые оценки, примеры и предположения, которые имеют отношение к Платоновой идее-форме и Аристотелеву понятию причинно-следственной связи.
После Сократа в афинской философии начались путаница и хаос. Сократ показал, что наука, послужившая источником для применявшейся раньше модели абстрактного теоретического мышления, не могла учесть составляющие человеческой жизни – связанные с понятием ценности, – которые играют в ней такую важную роль. Горгий и другие софисты показали, что теоретическая философия, по свидетельству самих же философов, приводит к противоречивым взаимоисключающим выводам и даже не способна дать такое описание мира фактов – своего предмета изучения, где бы последовательно проводился какой-то один принцип. Проблемы, накопившиеся за три века исследований и споров, никак не складывались в единую четкую и заслуживающую доверия схему. Даже имея перед собой мощнейший по силе пример – жизнь Сократа, философы испытывали искушение заменить философию какой-либо другой отраслью знания – риторикой, медициной или физикой – либо ограничиться исследованиями в области логики или этики. В этих узкоспециальных областях перед ними не вставала непосильная задача попытаться дать полный системный ответ на изучаемый вопрос.
Для синтеза старых идей и новых проблем был нужен гений – человек, который обладал бы тонкостью чувств поэта и способностью точно оценивать абстрактные построения, которая есть у математиков. Но тонкости чувств и дара точной оценки было недостаточно. Они одни могли бы породить лишь туманные восторги. В придачу к ним было необходимо безошибочное чувство совместимости и формы, способность увидеть, каким образом складываются друг с другом самые несоединимые компоненты. Гений Платона в такой окружающей среде, как Афины, отвечал всем этим требованиям и спас теоретическую философию от угрозы испытать пренебрежение, увязнуть в мелочах и банальностях или быть отвергнутой.
Стать философом Платона побудила казнь Сократа. Платон, в то время молодой аристократ, собирался быть политиком. Он отказался от этих честолюбивых планов и создал свои сократовские диалоги – серию блестяще написанных вымышленных разговоров и речей, где центральным действующим лицом является Сократ. Целей у Платона при этом было две: во-первых, защитить Сократа от приговора афинского суда и, во-вторых, продолжить дело Сократа – ставить вопросы, когда афинские политики надеялись, что прекратили это.
О жизни Платона до того, как ему исполнилось двадцать три года, мы знаем очень мало. Он был родом из семьи, уже давно занимавшей высокое положение в Афинах. Сократ был другом этой семьи, и Платон с детства был знаком с Сократом и восхищался им, хотя, вероятно, формально Сократ не был ни его учителем, ни его воспитателем. Отчим Платона, Пириламп, активно участвовал в политической жизни Афин в то время, когда там правил Перикл; два его других родственника, Критий и Хармид, возглавляли мощную консервативную политическую партию. Поэтому вполне естественно, что в юности Платон не мог представить себя в будущем никем, кроме политика. Это согласуется и с тем, как он описывает себя в «Седьмом письме». Рассказ о том, что у него была большая мечта писать стихи, трудно проверить, но, учитывая литературный талант Платона, это вполне может быть правдой. Он не обязательно должен был считать эти две цели несовместимыми.
Первая попытка Платона принять активное участие в политической жизни Афин относится к тому времени, когда закончилась Пелопоннесская война и Совет Тридцати установил свою диктатуру. Критий был главой этого совета, а Хармид членом, и молодой Платон получил приглашение стать одним из Тридцати. Но он решил немного подождать и посмотреть, что они будут делать, и отказался войти в этот совет, когда увидел, что из-за несправедливости и беззакония диктаторов годы войны кажутся людям счастливым временем. Когда Анит со своей демократической группой вернулся к власти, Платон посчитал это время подходящим для того, чтобы начать ту карьеру, о которой мечтал. Хотя Платон и был аристократом, он не был сторонником тех крайних идей, которых придерживалась антидемократическая группа; так что, когда Анит пришел к власти, Платон вполне мог надеяться, что может быть полезен в деле восстановления политического единства Афин.
Но как раз в это время Анит, напуганный той свободой, с которой Сократ высказывал свои взгляды, сфабриковал ложные обвинения, которые привели под суд и на казнь того, кто был для Платона горячо любимым старшим другом, и Платон снова отложил на будущее свои честолюбивые замыслы. Он был разочарован, возмущен и оскорблен, когда обнаружил, что в демократических Афинах так же, как в Афинах олигархических, несправедливость неразлучна с властью3. Является это необходимым следствием, вытекающим из самой природы общества, или может существовать общественный строй, при котором такой человек, как Сократ, был бы оценен по достоинству и люди уважали бы правосудие, – об этом Платон не переставал думать и писать все годы своей философской деятельности. Но независимо от того, как отвечала на этот вопрос теория, реальная политическая практика его времени убедила Платона, что он не может быть политиком, и больше он никогда не пытался сделать управление государством своей профессией4.
Видимо, сразу после казни Сократа Платон уехал из Афин и короткое время жил в Мегаре; тогда же он начал писать свои сократовские диалоги. Он был глубоко убежден, что Сократ был прав – прав относительно внутренней ценности справедливости, прав относительно важности вопросов, которые он ставил, прав в том, что людей необходимо заставить остановиться и серьезно задуматься над тем, кто они такие и куда они идут. Платон не хотел допустить, чтобы афиняне добились успеха и заставили Сократа замолчать, казнив его; Платон хотел доказать, что Сократ был, как тот сам говорил, благодетелем общества, а не преступником.
Эти воображаемые беседы – классические образцы литературно-философской драмы. Хороший пример этого – спор о природе умеренности в диалоге «Хармид»5. Сократ встречает Крития и Хармида и устраивает им допрос на эту тему. Оба не отличаются умеренностью, но каждый из них думает, что знает, что это такое. Предполагается, что читатель тоже убежден, что знает это, и что он соглашается по очереди с каждым. Сократ, с его страстью к выяснению истины через вопросы, показывает и читателю, и персонажам диалога, что очевидные понятия, которые они признают истинными, определены нечетко и не годятся для отстаивания в споре. В конце беседы Критий и Хармид действительно становятся, хотя лишь на время, более умеренными и мудрыми. В конце диалога они уходят от Сократа. А читатель знает из афинской истории, что эти двое организовали режим Тридцати с его разнузданным террором. Более яркой и драматичной картины взаимодействия идей, характеров и поступков нельзя себе представить.
Когда Платон сумел воссоздать в своих сочинениях сократовскую страсть к выяснению истины путем расспросов, он написал и литературный портрет Сократа, где подчеркнул то, о чем говорилось в предыдущей главе: жизнь самого Сократа доказала истинность его высказывания о том, что иногда люди поступают так, а не иначе, потому что следуют своим идеалам. Созданное Платоном описание суда над Сократом, времени, проведенного Сократом в тюрьме, и его последней беседы с друзьями в день казни показывает, что Сократ последовательно действовал согласно своим принципам: как справедливый человек, он не шел ни на какой компромисс, когда нужно было делать то, что он считал правильным. Поскольку некоторые афиняне, в том числе друг Сократа Ксенофон, не поняли, почему он так упрямо отказывался идти на компромисс с правительством, Платон поставил себе задачу разъяснить им это6.
У этих ранних диалогов Платона широкий круг персонажей и тем: Сократ разговаривает не только с политиками, но и с ведущими софистами того времени, с религиозным фанатиком, с мальчиками, с вышколенным по части светских манер, но пустоголовым юнцом, который только что закончил учебу у мастера-софиста Горгия, и со многими другими. Их дискуссии переходят от критики Гомера к теории языка и дальше к более распространенным темам мужества, мудрости, умеренности и определения человеческого совершенства в общем смысле слова7.
Эти диалоги зачаровывают своих читателей с тех пор, как были написаны. Эти образцы редко встречающегося сочетания красоты стиля и формы с дерзостью содержания постоянно кто-нибудь переписывал, переводил, комментировал и многие читали.
То, что Платон, выбирая форму для своих философских работ, остановился на диалоге, было гениально.
Как мы уже видели, на ранних этапах развития философии не было всеобщей договоренности о том, чтобы выражать свой взгляд на мир в той, а не иной литературной форме. Какую форму выбирал философ – эпическую поэму, короткое изречение или чертеж, – зависело, видимо, от того, какой аспект реальности он считал наиболее важным. Одновременно философы осмысливали изучаемое в таких объективных терминах, что Сократ мог обвинить их в том, что они забывали учитывать себя самих8. Ведь если реальность – это единая система, внутри которой находятся связанные между собой природа и человек, то философия и в форме и в содержании должна соблюдать «правильное расстояние» или «правильный баланс» между безличным внешним миром и индивидуальной реакцией наблюдателя на него.
По сравнению с работами самых первых философов диалоги Платона представляют собой новое слово в аргументации, доказательствах и объективности. В них нет присущего лекциям и книгам по технике бесстрастия, когда акцент сознательно делается только на излагаемой теме, а интересы людей, особенности их характеров, побудительные мотивы слушателей и сам автор оказываются вне поля зрения. В наше время в Америке все более широкое использование дискуссионных методов в преподавании и постоянное изучение работ Платона в качестве книг для чтения по философии, которое теперь начинается еще на уровне колледжа и продолжается в высшей школе, могут быть признаками того, что наше собственное представление о философии движется назад к какой-то более субъективной форме – от лекции снова к диалогу, в ходе которого мы все участвуем в поиске истины9.
Платон в своих диалогах – один из величайших писателей всех времен, а как изобретатель для своей Академии – первого в истории университета и новой организационной структуры – он один из великих первооткрывателей в образовании. Его вдохновляли несколько причин сразу: восхищение пифагорейской наукой, новая в то время идея, что, возможно, под «науку об обществе» можно подвести прочное основание, и понимание того, что если надо улучшать человеческое общество, то необходима какая-то организация для ведения исследований. Влияние его деятельности было огромным: каждый колледж, университет и научно-исследовательское учреждение на Западе – прямой потомок Академии Платона.
В возрасте чуть меньше сорока лет Платон снова покинул Афины и отправился в поездку в западную часть греческого мира. Он хотел побывать в двух городах – Таренте, который находился в Южной Италии, и Сиракузах на Сицилии (Египет уже почти потерял привлекательность как центр учености). Тарент остался центром пифагорейства. Политические перевороты, уничтожившие Пифагорейское братство, не затронули ни этот город, ни соседние с ним местности. Выборным главой Тарента был тогда Архит, пифагореец, который проделал большую работу в чистой математике и выполнил ее блестяще, имел очень четкое представление о том, как можно применить математику к этике и общественному строю, и был широко известен как ученый и как государственый деятель. Он казался Платону как раз таким человеком, с которым хотелось встретиться10.
И Платон не был разочарован. Поездка в Тарент дала молодому писателю и философу так много, как он надеялся: он на долгие годы стал другом Архита и в результате встречи с ним яснее понял, каким должно быть то учебное заведение нового типа, которое он надеялся основать по возвращении в Афины.
В Сиракузах вышло иначе. Под властью сменявших друг друга диктаторов жители этого города достигли невероятно высокого уровня жизни. Правители Сиракуз несколько раз подряд победили карфагенян и собрали при своем дворе лучших поэтов, скульпторов и ремесленников. Во времена Платона, при Дионисии Первом, Сиракузы были наверху своей славы, и Платона манили туда рассказы об этой великолепной столице, которая была одновременно ведущим культурным центром Запада и примером диктатуры в ее наилучшей и наиболее успешной форме11. До нас дошел рассказ, причем более ранний и более достоверный, чем большинство подобных рассказов, в котором говорится, будто бы Платону настолько не понравились роскошь и бесцельность придворной жизни и он так резко высказался по этому поводу, что Дионисий Первый в порыве гнева, нарушив и правила хорошего тона, и закон гостеприимства, отправил Платона на корабле в Эгину и приказал продать там в рабство. К счастью, там оказался друг Платона, который заплатил за него выкуп, и философ, как и планировал, вернулся в Афины. Этот рассказ может быть преувеличением, но нет никакого сомнения в том, что Платон считал аппарат шпионов и тайную полицию признаками болезни того государства, которое их имеет, и полагал, что при дворе сиракузского правителя царят упадок и вырождение, а самого правителя счел параноиком и пришел к выводу, что «только сумасшедший может выбрать себе жизнь тирана»12.
Мы, вероятно, правы, думая, что Платон вспоминал об Архите, когда позже писал о том, что правители должны быть философами; и, несомненно, он имел в виду Дионисия, когда сочинял свое полное убийственно едкой критики описание тоталитарного государства, порабощенного обезумевшим от власти диктатором13.
Вернувшись в Афины, Платон основал свою Академию. Это был новый тип школы – исследовательский и образовательный центр на уровне высшего учебного заведения. Хотя Архит в какой-то мере вдохновил его на это, Платон не собирался вслед за ним сводить все знания к математике: Сократ убедил Платона, что другие вопросы и методы тоже важны. Однако Платон искал способ выполнить программу Сократа – применять ум к этическим и политическим делам людей, и предположение Архита, что математика может служить моделью для науки об обществе, показалось ему привлекательным. Если бы можно было описать политические проблемы языком того объективного, четкого и точного дедуктивного анализа, каким оперирует геометрия, то, вероятно, можно было бы обнаружить ложные выводы и неоднозначности, которые лежат в основе этих проблем. Возможно, как раз этим путем удалось бы выработать разумную политическую линию вместо того шатания из стороны в сторону, которое происходило во времена Платона, когда решения в политике принимались на основе догадки или каприза.
Платон был убежден, что разработать новую науку о человеке можно, хотя и трудно. Чтобы сделать это, обществу было нужно какое-то объединение ученых, работающих вместе. В Пифагорейском братстве уже тогда признавали, что самым одаренным его членам необходимо образование выше начального и даже среднего уровня. Специалисты-медики уже какое-то время до Платона получали дополнительное образование повышенного типа, и, кроме того, необходимость такого сообщества естественным образом вытекала из того поиска новых видов компетентности, который вел
Сократ. Но во времена Платона эта идея все же не была признана всеми. Считалось само собой разумеющимся, что учебой для молодых людей должно являться реальное участие в торговых делах и политике. В ситуации, когда общество считало, что смелый замысел Платона бесполезен, не нужен и, вероятнее всего, неосуществим, Платону понадобились и большая сила, и дар убеждения, чтобы реализовать свой план создания Академии14.
Конечно, идея такой школы имела предысторию в более раннем прошлом Греции. От неформальных групп учеников при учителях в древнем Милете к общей этической и религиозной жизни пифагорейцев и дальше к афинской исследовательской группе Архелая развивалась традиция организованных групп, участники которых работали вместе над математическими и естественнонаучными проблемами. Сократ с его кружком друзей и софисты с их классами учеников расширили область применения этой практики, перенеся ее в философию и право. Но именно Платон первым ясно осознал, что исследования, необходимые для дальнейшего прогресса в познании, пойдут гораздо легче, если появится особое учреждение, специально предназначенное для ведения исследований, дискуссий и записей, чтения литературы и, возможно, постановки опытов15.
То, что Платон не только додумался до этой идеи, но быстро и умело начал ее реализовывать, характерно для него. Позднейшие критики и поклонники Платона часто проходят мимо этой его напряженной работы по практическому применению его мыслей.
Около Афин была широкая общественная дорога с деревьями по бокам и сад, названные в честь похороненного там героя Академа (иначе Гекадема). Платон основал свой образовательный центр рядом с этим местом, и именно по этой причине за созданием Платона закрепилось имя Академия16.
Выбирая и приглашая к себе помощников для своей новой школы, Платон старался, чтобы там были представлены все специализированные области знания. Он хотел этого из чувства системы, которым обладал; на его решение могло также повлиять то, что ранее пифагорейцы обнаружили одни и те же закономерности в искусстве и природе. Упорядоченное целое обычно нельзя освоить постепенно, часть за частью. Более того, любое движение вперед в какой-нибудь одной области или одном аспекте знания будет иметь последствия для всех остальных областей или аспектов. Если взять примеры из нашего времени, то новые открытия в психопатологии немедленно находят отклик в уголовном праве, новые исследования спиралей в стереометрии могут оказаться как раз тем, что поможет объяснить поведение молекул в органической химии. Итак, Академия должна была стать «университетом», маленькой копией той вселенной, для изучения которой была задумана. В этом случае замысел Платона тоже был разрывом с традицией: до него школы либо обучали профессии, как было в медицине и праве, либо скреплялись общей верой, совершенно не похожей на общую интеллектуальную цель, как Пифагорейское братство17.
Платон с самого начала планировал иметь в своей группе, кроме ученых-исследователей, и более молодых учеников. Академия должна была стать наследницей сократовского идеала исследования с помощью вопросов, и казалось желательным обеспечить преемственность в группе вопрошающих, сделав новую школу не только исследовательской, но и учебной. Вероятно, предполагалось, что эти молодые члены школы будут выполнять какую-то формальную работу в математике и естественных науках и что-то читать из поэзии и философии, но, видимо, их главной учебой было участие в обсуждении текущей работы и помощь в ее выполнении.
Кстати, интересно, что среди членов Академии были две женщины, то есть идея совместного обучения мужчин и женщин в университете родилась одновременно с самим основанием университета. Это так же, как другие новые идеи, нашедшие воплощение в школе Платона, несомненно, вызывало критику, потому что высшее образование для женщин противоречило традициям и казалось глупостью тогдашним горожанам.
Приятно узнать, что Академия имела огромный успех. Она быстро создала себе громкое имя во всем греческом мире и за его пределами. Через двадцать лет после ее основания научная слава Платона была так велика, что его приезд был почетом для сиракузского двора; было логично считать Академию самым подходящим местом для учебы необыкновенно талантливого сына врача из Македонии. Города, где пересматривали законодательство или составляли новые своды законов для колоний, просили Академию прислать консультантов. И – вот окончательное посвящение в знаменитости: тогда так же, как и сейчас, комические поэты высмеивали Платона и его школу в своих сатирах на известных интеллектуалов. Диоген Ааэрций в своем «Жизнеописании Платона» приводит целый ряд этих шуток (из не дошедших до нас комедий).
Примерно в это время Платон начал яснее представлять себе, как его идеи могут быть сгруппированы в новую философскую систему. Его восхищение идеализмом Сократа, его укрепленная встречей с Архитом вера в то, что природа представляет собой упорядоченный космос, его надежда, что научная работа, которую совместно ведут много специалистов-ученых, может привести к новым шагам вперед по пути прогресса, не только были ключевыми идеями в его методике работы в университете, но, казалось, давали ему и ключ к разработке проблем философии. В своих великих диалогах, написанных в этот период, – «Федоне», «Пире», «Государстве» и «Фед-ре» – Платон делился с читателем этими своими новыми мыслями. Итоговый вариант этой системы – набросок ее основных очертаний у Платона в «Государстве» – будет рассмотрен далее.
Получив, как ему казалось, новый, удовлетворительный ответ на вопросы о том, что такое действительность и человеческое «я», Платон не позволил себе самодовольства и праздности. Он и Академия начали проверять и критиковать эти новые идеи. Сочинения, созданные Платоном в этот поздний период («Тимей», «Парменид», «Теэтет», «Софист», «Государственный деятель», «Филеб», «Законы» и, вероятно, «Эпином»), как и следовало ожидать, в гораздо большей степени профессионально философские и аналитические, чем диалоги раннего и среднего периодов, фактически только в нашем веке стали находить читателей, способных оценить их в полной мере.
Со времени основания своей Академии (примерно 387 год до н. э.) до своей смерти в 347 году до н. э. Платон работал в своей школе – вел дискуссии, писал и проводил исследования. Единственный большой перерыв, вернее, ряд перерывов в этой научной деятельности, начался после получения приглашения из Сиракуз, которое побудило Платона во второй раз приехать в этот город. В свой первый приезд он подружился с братом Дионисия Первого Дионом, и после смерти Дионисия Дион пригласил Платона приехать ко двору сиракузских диктаторов и стать учителем его племянника Дионисия Второго, который унаследовал власть. На этот раз поездка Платона была государственным делом, и сиракузский двор считал его приезд честью для себя. Но вскоре молодой царь решил, что Платон и Дион готовят заговор, чтобы свергнуть его, и обоим пришлось бежать с Сицилии. Это произошло в 367–366 годах до н. э. В 361 году до н. э. Платон снова приехал в Сиракузы, чтобы попытаться стать посредником между продолжавшими враждовать Дионисием Вторым и Дионом; однако его усилия по примирению не имели успеха. В 359 году до н. э. Дион вопреки совету Платона захватил власть в Сиракузах и вынудил своего племянника бежать в Коринф, но в следующем году Дион был убит, и в Сиракузах начался политический хаос. Это было одно из немногих дел Платона, в которых он потерпел неудачу. Позже он написал два подробных «открытых письма» («Письма» VII и VIII) о своем участии в этих событиях18. Некоторые ученые считают, что этот опыт в значительной мере определил новый взгляд Платона на конкретное практическое применение политических теорий, которые в поздних работах Платона противопоставлены абстрактным принципам.
За исключением этого вмешательства в сиракузские дела, Платон, должно быть, с удовлетворением смотрел на то, что совершил за свою жизнь, но, как уже было сказано, был совершенно лишен самодовольства. К моменту своей смерти (а он прожил восемьдесят лет) он еще напряженно работал над монументальным сочинением «Законы» – подробно разработанным образцом свода законов для современных ему городов. Как велика роль Платона в истории западной мысли, можно очень приблизительно судить по тому, что Академия как учебный центр просуществовала до 529 года н. э., а платонизм до наших дней остается одним из главных направлений традиций западной философии.
В Книге VI своей работы «Государство» Платон объединяет различные пути познания и различные виды реальности, познаваемые на каждом из этих путей, в одной диаграмме19. Эта диаграмма, которая служит хорошим введением в систему Платона, создана на основе предположения, что все виды знания и вещей, известные в природе, связаны между собой и составляют одну огромную систему, скрепленную одной общей наивысшей идеей на самом верхнем уровне. Мы должны знать эту схему «уровней ясности знания», если хотим понять политическую теорию Платона. Когда он пишет, что единственная возможная надежда для человечества – отдать власть в руки ответственных интеллектуалов, он имеет в виду специалистов по особого рода «социологии» и «общей теории ценности», которые, как он надеялся, когда-нибудь будут созданы. Запад не создал их до сих пор.
TO AGATHON (Идея Добра)

«РАЗДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ» ПЛАТОНА
Возьмите линию и разделите ее на четыре отрезка… они будут находиться один к другому в таком же отношении, как относительные степени ясности четырех видов знания…
Государство VI, 511A
Виды знания расположены в порядке ясности – наименее ясный внизу, наиболее ясный вверху. Названия, которые Платон дал четырем отрезкам линии, помогали ему указать, какой тип методики и достоверности присущ, по его мнению, каждому из этих способов познания. Но эту же диаграмму можно прочесть и как платоновскую схему истории философии до Платона, поскольку эту историю он тоже считал движением вперед от стадии очень неясного донаучного фольклора к завершающему синтезу, который выполнил он сам. «Идея Добра», помещенная в вершину этой структуры, – то, что Платон считал своим собственным завершающим вкладом в эту историю. Это его способ объяснить, как четыре вида знания, несмотря на различие в методах изучения и в содержании предметов, совместились друг с другом и составили единое целое.
Диаграмма «Разделенная линия» интересна и сама по себе: это, вероятно, самая знаменитая и чаще всего рисуемая диаграмма за всю историю философии. В этом случае Платон явно применил пифагорейскую технику преподавания и исследования с помощью диаграмм20.
Платон использовал эту диаграмму в дискуссии о политической теории, чтобы показать, кого он называет настоящим ученым-политиком, в отличие от политика-практика, который использует совершенно иную методику и иной вид знания. Чтобы объяснить, что он имеет в виду, Платон расположил четыре степени «ясности знания» вдоль общей линии (смотрите приведенную ранее диаграмму).
Нижний отрезок линии называется эйказия, что иногда переводят как «догадка», или «угадывание». Это название означает своего рода «мышление картинками» – знание, которое представляет собой не более чем игру воображения и рассказ. Вероятно, это понятие лучше можно описать словом «молва», или, может быть, «догадка», но в том смысле, который глагол «догадываться» приобретает в американском разговорном языке, когда используется в значении «предполагать». Американец говорит «я догадываюсь, что это так» в значении «я считаю, что это так», когда имеет в уме какую-то мысль, но не может точно назвать причины, по которым она у него возникла.
Второй отрезок назван словом пистис, которое означает веру, или доверие, и выбрано для контраста с недостоверностью догадки. Это тот вид знания, которым обладает ремесленник или техник, достоверное знание, как. Выбор Платоном этого названия заставляет предполагать, что практическое «знание, как» имеет совершенно иную степень надежности и ясности, чем догадка. За открытиями, сделанными в ремеслах, стоит многолетний опыт людей, накопленный за века проб и ошибок, и каждому ремесленнику необходима долгая практическая учеба.
Третий вид знания назван «дианойя» – «понимание», или «знание, что». Дианойя превосходит пистис по ясности и достоверности, поскольку представляет собой знание не только о том, как вещи действуют, но и о том, что они такое. В наше время это знание студента-химика, который может, применяя обобщенные правила из периодической таблицы, предсказывать и объяснять реакции, в отличие от знания мальчика с набором реактивов, который заучил несколько их сочетаний, дающих в результате взрывы, невидимые чернила и странные запахи. Ученый того типа, к которому принадлежит студент-химик, – это человек, который открыл путем обобщения общие законы и виды вещей в той конкретной области, которую изучает, – классификацию чисел на четные и нечетные, закон всемирного тяготения или что-то еще, – и решает частные задачи, показывая, как эти общие правила применяются в конкретных случаях. (Платон, когда писал этот отрывок, считал, что математика в ходе развития уже вполне приобрела научную форму, естественные науки продвинулись вперед по пути к ней, но в политике и этике даже величайшие специалисты его времени не пошли дальше путаницы, состоящей из «знания, как» и «догадки».)
Однако над дианойей – «знанием, что» с его обобщениями и логическими выводами – Платон помещает еще один, более высокий уровень – ноэзис, или «знание, почему». Различие между «знанием, что» и «знанием, почему» – это разница между знанием одного набора правил и видов для какой-то конкретной области и знанием, как эти специализированные правила складываются в единое системное целое21. «Знание, почему», как указывает его греческое название ноэзис, – это знание с помощью того разума, который назывался по-гречески Нус и уже играл такую важную роль в греческой философии от Парменида до Анаксагора. Сам Платон описывает разницу между «знанием, почему» и «знанием, что» следующим образом:
1) «знание, что» довольствуется частичной систематизацией; «знание, почему» подразумевает целостные системы;
2) «знание, что» использует гипотезы, обобщения и таблицы, которые позволяют предсказывать результат; «знание, почему» поднимается выше уровня результативных гипотез на уровень проверенных теорий;
3) «знание, что» имеет целью точное описание; «знание, почему» (как предполагает термин «проверенные теории») добавляет к этой цели оценку.
Представление о Нусе как о силе, позволяющей проникнуть умом во внутреннюю природу и глубинный порядок вещей, не имеет близкого соответствия в обычных современных дискуссиях22. Однако Платон противопоставляет «знание, почему», рассматривающее целостные системы, более специализированному «знанию, что», которое довольствуется объяснением отдельных частей. Только на уровне «знания, почему» человек осознает, например, что существует большая несовместимость между материалистической философией и верой в бестелесную душу, принятой в теологии. Разум ставит перед нами задачу примирить то и другое или выбрать что-то одно. Но физик-материалист и теолог каждый внутри своих знаний могут быть вполне довольны теми объяснениями, – что такое атомы у одного и что такое души у другого, – которые они разработали на уровне «знания, что».
Другое направление, на котором Платон видит различие между этими двумя видами знания, – то, что разум, иначе «знание, почему», самокритичен и пытается исследовать свои предположения, а понимание, иначе «знание, что», удовлетворено, если может делать подтверждающиеся предсказания. В этом случае разница между двумя видами знания такая же, как между химиком-теоретиком, проверяющим и критикующим предположения, на которых основана периодическая таблица элементов, и студентом-химиком, который принимает эту таблицу как что-то само собой разумеющееся и доволен ею, раз может предсказывать и объяснять реакции.
Далее. «Знание, почему» учитывает соображения ценности, в то время как «знание, что» занимается только описанием фактов. Мы можем это понять лучше всего, если представим себе ученого или философа, сравнивающего несколько альтернативных гипотез, каждая из которых позволяет верно предсказывать результаты. Он должен оценить эти гипотезы и выбрать лучшую или составить из них новую теорию, которая будет лучше. В этом случае Платон верил, что то, как мы говорим, точно показывает, что суждение о ценности на завершающем этапе является необходимой частью мира фактов23.
Эти три различия в ясности между пониманием и разумом, «знанием, что» и «знанием, почему», прокладывают путь для завершающего перехода от разума еще выше, к тому понятию, которое находится на вершине линии, – к специальному знанию о добре.
На самый верх своей диаграммы «Разделенная линия» Платон помещает «Идею Добра». Этот взгляд восходит к представлению пифагорейцев о том, что ценность реализуется через порядок, по-гречески космос, и в небе, и в душе человека, и в обществе. Если бы различные аспекты реальности, существование которых признали философы, никак не соединялись один с другим, то существовало бы много «миров» и не было бы единой системы – космоса, – охватывающей все существующее.
Рассматривая связи, соединяющие различные виды и уровни того набора разрозненных «реальностей», который указан в приведенной ниже приблизительной схеме, мы обнаруживаем, что существует действительно только один мир, части которого системным образом связаны между собой. Для Платона это был тщательно аргументированный вывод. С его времени эта идея почти всегда существовала как неосознанное допущение, а не вывод в подтексте и нашего здравого смысла, и нашей научной, технической и философской мысли. В конце концов, в мире, где существует много видов знания и много видов реальности, которую нужно познать, какие у нас причины верить, что математика имеет что-то общее с объектами, существующими в пространстве и времени, а физика вообще имеет какое-то отношение к эстетическому миру религии и поэзии?
НОВАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОСТИ У ПЛАТОНА
I. История вопроса
Даже при беглом взгляде на основные контуры карты Древних Афин сразу становится видно, что она отображает совокупность многих не похожих один на другой «миров», у каждого из которых – свой особый вид реальности и своя область компетенции.
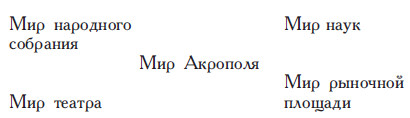
Платон унаследовал от живших до него греческих мыслителей исследования различных компонентов и видов реальности, которые все заслуживали внимания. Вот список тем этого философского наследия:
Физические объекты и процессы (милетцы, Анаксагор)
Неменяющиеся числа, формы и т. д. (пифагорейцы)
Социальные условности (софисты)
Изменяющийся поток, быстротечное существование людей (Гераклит)
Сложное человеческое «я» (Сократ)
Идеалы и цели (Сократ)
Наследие также включало в себя следующие предположения:
во Вселенной существует единый организующий ее порядок (пифагорейцы);
существует всего одна высшая реальность (Парменид);
идеалы выполняют функцию причины в жизни людей и в природе (Сократ);
вещи, какими мы их знаем, могут коренным образом отличаться от того, каковы они на самом деле (софисты, особенно Горгий).
II. Путь к решению: классификация
Платон к тому времени, когда начал писать свои диалоги среднего периода, разработал две классификации видов знания и видов вещей по неизменности, достоверности и полноте.
В диаграмме «Разделенная линия» суммировано содержание схемы, которая вылядит так:
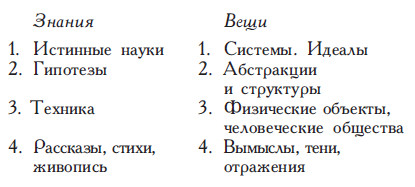
На этой стадии мы знаем, что эти восемь видов отличаются друг от друга; теперь задача в том, чтобы выяснить, есть ли между ними какая-либо систематическая связь.
III. Мысли и вещи: первый шаг
В «Государстве» Платон утверждает следующее: поскольку то, что кажется наиболее разумным человеку-исследователю, также является наиболее истинным в мире фактов, то не обязательно должно существовать резкое различие между человеческой мыслью и всем остальным миром. И наши умы, и внешний мир должны быть устроены согласно одному и тому же общему для них порядку. Если бы было иначе, тогда то, что вылядит наилучшим в плане мысли, не было бы наилучшим в применении к фактам. Таким образом, оказывается, что мысли и вещи организованы согласно одной и той же структурной модели и делятся на одинаковые виды.
IV. Причинно-следственные связи: второй шаг
Пифагорейцы показали, что существуют математические законы, которые применимы к миру физических объектов и технических приемов и объясняют его, и были убеждены, что в принципе эти законы применимы и для человеческих сообществ. Тот факт, что «обобщение» объясняет природу, указывает на существование причинно-следственной связи между уровнями 2 и 3 нашей приведенной выше схемы. То есть объекты ведут себя так, а не иначе именно потому, что неизменные типы и законы таковы, каковы они есть.
Но точно так же, как законы и объекты связаны причинно-следственной связью, ею же связаны объекты и их «образы» – отражения, тени, мгновенные снимки или еще что-то в этом роде. Различные зрительные варианты стола, которые я вижу, обходя вокруг него, связаны с ним системно: это виды стола. Искусство – это умение делать выбор среди таких ракурсов природы или общества: произведение художника «подражает» миру общества и природы. Таким образом, царство «вымыслов» объясняется как имеющее своей причиной царство объектов. Верно, что мы можем вести себя очень разборчиво, когда выбираем среди ракурсов объекта свои и очень оригинальным образом соединяем их снова, но в конечном счете человек искусства берет образцы для подражания именно из объективного мира.
Более того, существует возможность подняться выше отдельных специализированных объясняющих схем (гипотез) на уровень более крупных систем (наук), частными случаями которых являются эти схемы (например, теория чисел перерастает таблицу умножения, а психология пытается подняться над стандартными списками «типов аудитории» и «типов доказательства», которыми пользовались риторы-практики), и выяснить, почему возникли именно эти типы и почему таблицы срабатывают правильно. Эта возможность основана на причинно-следственной связи между первым и вторым уровнями таблицы: целостные науки включают в себя и объясняют те частные обобщения, которые служат исходными гипотезами.
Из этого следует, что если мы согласны с тем, что причинность транзитивна (то есть что если A – причина B и B – причина C, то A имеет причинно-следственную связь с C), то все четыре уровня линии связаны причинно-следственными отношениями.
Кроме того, хотя ни один из уровней не содержит человеческого «я», «трехчастная» душа, у которой три уровня, кажется, подходит как ответ для вопросов Сократа о природе человека.
V. Идея Добра: заключительный шаг
Объясним, почему существуют те системные связи между различными типами знания и реальности, которые мы видели. По мнению Платона, должна быть лишь одна идея, которая упорядочивает реальность. Это Идея Добра.
Окончательный результат показан ниже в виде диаграммы.

Между уровнями существует причинно-следственная связь, которая наглядно проявляется в том, что более высокий уровень дает нам объяснение более низкого (то есть ответ типа «потому что»). Идея Добра – наивысшая идея и причина: она действует как в наших мыслях, так и в мире фактов и придает действительности ее сложный системный порядок.
Итак, рассмотрим некоторые из подходящих в данном случае подтверждений тезиса о том, что существует только один мир. Первое и сразу бросающееся в глаза доказательство – связь между нашим человеческим способом мышления и объективным порядком фактов. Построение теорий методом обобщения естественно для человеческого ума: мы знаем что-то яснее, если находим какое-то одно общее правило или одну общую категорию, для которых те многие факты, которые мы хотим понять, являются частными случаями. Затем мы идем дальше: строим абстрактные теории, руководствуясь удачной догадкой, что простые, непротиворечивые и понятные теории и есть те, которые верно объясняют реальный мир. Это – смелое предположение, потому что реальный мир совершенно не зависит от особенностей нашей психики и наших предпочтений. Но выясняется, что мы правы: то самое объяснение, которое нам больше всего нравится, лучше всех остальных позволяет предсказывать результаты, когда его применяют к природе. Должна быть какая-то причина, по которой это происходит; легко можно представить себе мир, в котором человеческие предпочтения не имеют ничего общего с объективными фактами. Неупорядоченный хаотичный мир мифологии был бы как раз таким: раз он был полон непредсказуемых обитателей, которые все совершали какие-то действия, ни одна общая теория не могла бы оказаться настолько достоверной, чтобы ее можно было применить к нему на практике. Платон считал: причина нашей способности познать внешний мир в том, что те же простота и порядок, которые нравятся нам в наших мыслях, существуют и в объективном мире. Эти свойства мы используем как критерии при выборе наилучших теорий, и таким образом они являются стандартами ценности. Поскольку они действуют и в мире природы так же, как в мире мысли, простота и порядок, очевидно, руководящие и направляющие принципы природы. Добро как высочайшая ценность, включающая в себя порядок и простоту как частные виды, присутствует и в мысли, и в мире фактов24.
Короче говоря, то, что наши мысли находятся в таком отношении к миру – к миру природы и к миру идей, – есть первое доказательство, что существует всего один упорядоченный космос, в котором мысль и объект, идея и процесс, ценность и факт определенным образом соотносятся друг с другом. Вторым доказательством существования всего одной общей системы реальности, по мнению Платона, является очевидный, но труднообъяснимый факт: прикладные логика и математика, как ни странно, описывают то, что происходит с миром в пространстве и времени. Почему математика и логика, которые описывают отношения, существующие в не подверженном изменениям царстве структур, подходят и для мира физической реальности? Этот вопрос звучит наивно, но совсем не наивен. Пифагорейцы пытались избежать всякого деления математики на фундаментальную и прикладную как раз потому, что хотели объяснить, как именно формы и числа соотносятся с объектами и процессами, хотя в конце концов провели это разграничение. В этом случае существует причинно-следственная связь, которая приоткрывает системный аспект реальности. У Гераклита в его мире борьбы и течения, если бы не было логоса, руководящего постоянными изменениями, математика и логика не работали бы вообще. Математики-теоретики и логики могли бы существовать и в этом случае, но то, что они изучали бы, не имело бы ничего общего с тем, что происходило бы с ними и вокруг них. Платон попытался показать на простом примере, как его идеи соотносятся с физическими фактами. Логические соотношения идей сужают круг возможных причин и изменений. Например, идеи (то есть абстрактные понятия) «горячее» и «холодное» исключают одна другую. Физический огонь «участвует» в идее горячего (то есть быть горячим – его основное свойство), и, рассуждая по правилам формальной логики, мы можем сказать, что «холодный физический огонь» невозможно обнаружить в природе. В более общем случае таблицы и правила, которые делают возможным «знание, что», заставляют предположить, что те соотношения, которые являются формальными в науке, являются и фактическими соотношениями между объектами в природе. При исследовании соотношения между теми измерениями реальности, которые были по отдельности открыты философами до Платона, эта связь логики и математики с физическими причинами и процессами показывает, что формы пифагорейцев и материальные объекты милетцев связаны между собою, а не противоположны и не индифферентны по отношению друг к другу25.
Это – второй шаг философского аргумента Платона. Исходя из того, что существуют пять разных типов знания, которым соответствуют разные типы «вещей», Платон выясняет, каким образом они соединяются друг с другом в единую систему – мировой порядок. На первом шаге было показано, что наш субъективный «мир ума» системно связан с «миром фактов». На втором шаге, о котором мы говорим сейчас, Платон показал, что «мир неизменных структур», который мы называем «знание, что», системно связан с «миром природы». Третьим шагом будет выяснение того, есть ли подобные системные связи между «миром природы», общественным миром физики и техники и «частным миром» видимостей, «угадывания», воображения.
И действительно, связующее соотношение существует также между общественным миром «знания, как» и миром объектов, с одной стороны и «основанным на догадке» миром образов, намеков, воображения и мифа – с другой. «Картины», которые мы видим или воображаем, что видим, – это образы чего-то, так же как отражения в зеркале – это отражения какой-то другой вещи. Все не похожие один на другой «моментальные снимки», которые делает наше зрение, когда мы обходим крепостную башню кругом, отходим назад и возвращаемся обратно, четко связаны с самой башней. Ее видимый образ становится все меньше, когда мы удаляемся от нее, оказывается ярче или темнее в зависимости от того, на солнечной или теневой стороне мы стоим, и так далее. Когда мы можем соотнести эти мгновенные впечатления («моментальные фотографии») с объектом, который является их причиной, мы обнаруживаем систему в том, что иначе было бы похоже на альбом, в который вложены без всякого порядка разные маленькие мгновенные фотографии. Хотя для поэзии, мифа, воображения найти их происхождение и причину в мире природы или мире идей гораздо труднее, в этом случае тоже видно, что соотношение «объект – образ» имеет тот тип причинности, которого надо было ожидать26.
Остается рассмотреть еще два вида связи. Первый – соотношение между различными ценностями и какой-либо одной идеей ценности («добром»), которая выявляет им их общую природу. Когда мы называем «добром» и красоту, и истину, и духовное совершенство человека, и общественную справедливость, это не ошибка и не случайность, а вызвано тем, что во всех этих случаях ценность проявляется в результате одного и того же вида соотношений «часть– целое». У красоты, например, основное условие – такое расположение частей чего-то, при котором каждая из них составляет гармоничное целое с остальными. Истина, как мы уже видели, является свойством простого, связного, легко понятного целого – совокупности общих законов, в которой ни одна часть не противоречит ни одной другой и внутри которой мы обнаруживаем одиночные категории или законы, применимые к множествам случаев и единичных событий. Человеческая добродетель тоже представляет собой правильный порядок «частей» человеческого «я»: в хорошей человеческой жизни разум, честолюбие, влечения расположены в правильном порядке подчиненности друг другу, и каждому из них определено в ней правильное место. Потеря ценности, она же несправедливость, имеет место, когда часть уничтожила целое или целое раздавило одну (любую) из частей. Этот принцип гармонии исходит от формы добра, которая является источником всего хорошего – и того хорошего, что мы находим в красоте, и того, что находим в благородстве, и того, что находим в уме27.
Платон показал, что принцип гармонии указывает направление выбору и изменению. В физическом мире планеты и звезды постоянно изменяются согласно простому «музыкальному» плану. На гораздо меньшем по размеру уровне молекул «геометрически правильные тела» оказываются достаточно приемлемыми моделями потому, что сочетают в себе стабильность и симметрию. В мире животных чувство неполноты ведет к желанию быть бессмертным и этим создает инстинкт продолжения рода и жажду творчества. Инстинкт самосохранения тоже можно истолковать как тягу к реализации своих возможностей, а привлекательность идеала дает этой тяге направление. У человека, в отличие от животных, есть сознание, способное ставить вопросы о своей собственной природе и о своей чувствительности к идеалам. Короче говоря, направление природе дает не просто определенная структура, а системная структура, которая реализует полноту путем интеграции частей в более крупные функциональные целые.
Насколько наука и этика нашего времени согласуются с этим интуитивным прозрением Платона, а насколько противоречат ему, очень трудно оценить. Отчасти это трудно потому, что как внутри наших естественных наук и этики, так и на их стыке существует много различных теорий. Эволюционная теория описывает именно ту проявляющуюся во всей природе тенденцию к бессмертию и усложнению организма, существование которой предполагается взглядами Платона. В нашей философии истории многие несхожие между собой учения обнаруживают в процессе смены человеческих цивилизаций одно и то же – направленное движение вперед к ценности и порядку (Гегель, Шпенглер, Тойнби и другие). В современной химии нет точного соответствия идее о существовании элементарных частиц, имеющих «форму кристалла». Физика и астрономия не обнаружили в «эволюции» звезд и галактик такого сохранения ценности, которого, по мнению Платона, следовало ожидать. Однако естественные науки установили, что для каждого наблюдателя, независимо от того, находится он в покое или движении относительно других наблюдателей, верна одна и та же совокупность законов природы. В дискуссиях об этике центральной темой является свобода, а не самореализация. Философы, начиная с Канта и затем Сартра, в основном разделяли точку зрения Платона. Но из-за изменений, произошедших в языке и стиле, сейчас трудно оценить по достоинству составленное Платоном описание вершинной идеи его системы, которая дает порядок и направление этой системе как целому28.
Демонстрация того, что виды и уровни действительности системно связаны между собой таким образом, что более высокие уровни являются «объяснением» более низких, может показаться ненужной. С тех пор как Платон очертил контуры этой системы видов и уровней действительности, мы можем ясно видеть, что наш мир – это не четыре или пять отдельных измерений, существующих каждое само по себе. Но этот набросок системы был нужен для того, чтобы стал понятен смысл изучения и описания истории греческой философии до Платона. Если теперь мы читаем эту историю как открытие одного за другим новых уровней действительности по мере того, как мысль двигалась от мифа к завершающей философской системе, мы можем понять, в чем заключалась та кажущаяся непоследовательность, которую так легко было осмеивать софистам. В этом Платоновом истолковании точки зрения всех его предшественников содержали одну и ту же ошибку – часть ошибочно оказывалась принятой за целое. Получавшиеся в результате определения философии, в которых она отождествлялась с физикой, математикой, поэтическим парадоксом, техникой, работой по познанию самого себя, во всех случаях оказывались неполными.
Возможно, анализ истории философии от Фалеса до Сократа был нужен Платону для того, чтобы накопить данные, необходимые для создания его схемы реального мира. Мы можем использовать его «Разделенную линию» как основу для краткого итогового обзора этой истории философских открытий.
Таблица 1
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПО ПЛАТОНУ
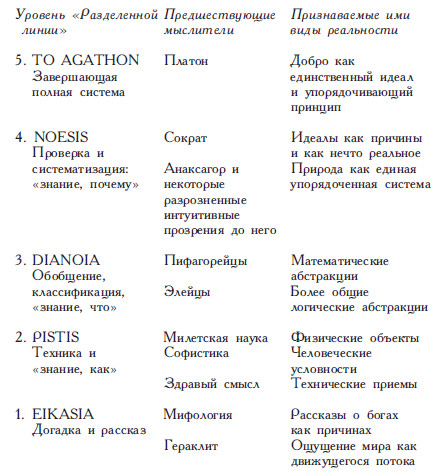
1. До возникновения науки жажда познания находила себе выражение только в поэзии и мифологии, на уровне «догадки» и «рассказа».
2. Милетцы, открывшие закономерности в природе и впервые начавшие использовать для объяснения явлений модели, осуществили переход на уровень «знания, как». Это же сделали и софисты, когда открыли, что путем соглашения между собой мы можем создать общественный мир постоянных неличностных стандартов и объектов. (Обратите внимание на то, насколько позже науки о природе наука об обществе и человеке поднялась, согласно этой истории, над самым низким уровнем.)
3. Пифагорейцы открыли царство математических абстракций и обнаружили тесную связь между этими вечными сущностями и миром природы. В частности, они разработали дедуктивный метод доказательства, который стал новой моделью «знания, что» для всех отраслей греческой мысли. Элейцы Парменид и Зенон расширили область применения этого метода, перенеся его с математических доказательств на рассуждения вообще.
4. Догадка Парменида о том, что существует одна высшая абстрактная идея для всей реальности, казалась Платону верным и глубоким интуитивным прозрением. Но Парменид не смог развить это свое интуитивное достижение в систему. Он не захотел признать существование степеней реальности, а из-за этого в его схеме строения вещей не осталось логического места для «видимости». Его единое бытие, хотя он называл его целым, было целым без частей, которые можно было бы соотнести одну с другой или гармонизировать. Пифагорейцы и элейцы занимают на линии Платона дианетический уровень – уровень «знания, что»; но эта дианойя у них дополнена частичным осознанием того, что для завершения их работы по изучению абстракций им нужна идея более высокого плана – космос или бытие.
Именно тогда внимание греческих мыслителей и людей искусства так резко переключилось с внешнего мира на человеческое «я».
(1) Туманные нечеткие понятия, которыми пользовались литература и обыденное сознание во времена Платона, вероятно, находились еще на самом низшем уровне – были только эйказией. (2а) Анаксагор и Архелай оба старались найти место ума в своих научных схемах строения вещей: оба определили человеческое «я» как часть природы и в результате делали «я» физическим. (2b) Софисты бросили им вызов в отношении этих взглядов, сами же считали, что человеческое «я» формируется общественным миром социальных условностей, а от природы обладает лишь влечением к удовольствию и безопасности. Такая точка зрения концентрировала внимание на том, что не интересовало сторонников научного подхода, – ситуациях, требующих выбора, привычках и мотивах. И наука и софистика толковали человеческое «я» еще эмпирически и операционно, так что тот вид знания, к которому они относятся, попадает на второй уровень линии Платона.
(3) Сократ своими исследованиями человеческого «я» поднял изучение этических проблем на новую ступень. Мы обнаруживаем, что он обобщал общепринятые понятия и получал в результате гипотезы, логически выводил следствия и отбрасывал как неудовлетворительные все предлагаемые ему предположения. Это критическое рассмотрение гипотез о человеческом «я» с применением технических приемов логики и науки перевело дискуссию на тот уровень обобщения, который имеет дианойя – «знание, что», – хотя Сократ не открыл какой-то готовой к употреблению «периодической таблицы элементов» нашего «я», которая давала бы удовлетворительные результаты. (4) Однако он открыл другое – что направляющей и унифицирующей частью «я» является идеал реализации своих возможностей, стремление осуществиться полностью, которое есть в каждом человеке. Для «я» существование – всегда погоня за чем-то ценным. Справедливость, мужество, мудрость и умеренность обладают «внутренней», то есть присущей им по их собственной природе ценностью оттого, что приводят в правильный порядок то сочетание вожделений, самолюбия и ума, которое характерно для человеческого «я». Этот ввод ценности в систему как реально существующей и действующей в природе силы притяжения – объяснение из числа таких, которые Платон поместил на четвертом уровне своей линии. Мы не знаем, в какой мере сам Сократ осознавал, что его интуитивное открытие в области этики позволило сложить из всех возникших до него понятий одну непротиворечивую схему. Однако Платон был уверен, что открытие его учителя это позволяло, и при случае даже пытался строить схемы сочетаемости, которые бы показывали, как мотивация и интуиция, взаимодействуя друг с другом, определяют тип личности. (5) В Платоновой истории философии завершающий шаг вперед сделан в результате распространения самим Платоном на весь реальный мир открытия, которое Сократ сделал в отношении человеческого «я», – что объект исследования может быть представлен как упорядоченная система сил, которые удерживаются вместе общей идеальной целью. Теперь все, что раньше казалось существующими порознь отдельными измерениями реальности, могло быть размещено в иерархическом порядке: одно выше, другое ниже. Каждый уровень этой иерархии относится к уровню, расположенному непосредственно под ним, как «одно к многому». Например, один материальный предмет является центром и источником многих своих видимостей, отражений и аспектов. Род живых существ, например «животное», – одна неизменная идея-форма, общая для многих физических объектов-животных, существующих в природе, которые «имеют долю» в этой идее, то есть участвуют в ней. Идеал – это идея системы, в которой какая-то позитивная ценность реализуется через соответствующую модель отношений «часть – целое» (например, красота, справедливость, истина и симметрия – идеи-формы, каждая из которых одна является общей для многих произведений искусства, общественных систем и научных теорий). И наконец, добро, «как солнце в полдень», – единственная наивысшая идея-форма, вершина этой иерархической структуры, общая причина всего добра, отраженного в идеалах; это оно делает реальность единой упорядоченной системой, где каждое измерение соответствующим образом подчинено тому, что находится над ним, и интегрировано в состав целого. Мы можем изобразить это с помощью схемы почти такой же универсальной, как сама Разделенная линия, – рисунка, где Платонова система показана в виде диаграммы, на которой представлены уровни единства и которая сходится в одной точке на самом верхнем уровне. Шелли было знакомо то религиозно-эстетическое чувство, которое символизирует эта диаграмма, когда он писал:
Единое остается неизменным, а те, многие, изменяются и проходят;
Свет небес постоянен, земные тени летучи,
Жизнь, как купол из разноцветного стекла,
Окрашивает белое сияние вечности.
Начиная с IV столетия после Рождества Христова христианские теологи встали на эту платоновскую точку зрения и считают мир иерархически упорядоченным и системно связанным в единое целое. Вместо идеи добра они помещают в вершину иерархии Бога.
Влияние христианства, иногда оставаясь на заднем плане, иногда действуя открыто, выработало в нас такое религиозное обыденное сознание, которое заставляет нас нерассуждающим чувством ощущать истинность Платоновой схемы «одно над многим».
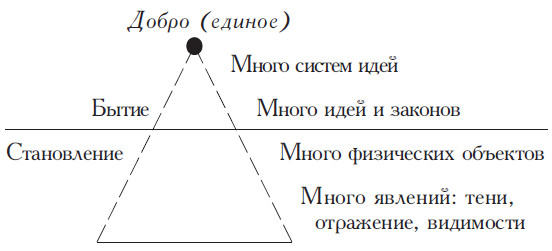
ЕДИНОЕ И МНОГОЕ
Платон не описывает эту схему в своих диалогах явным образом, но со времен Крантора, главы Академии на рубеже III века до н. э., такие треугольные диаграммы всегда использовались, когда надо было наглядно изобразить и объяснить платонизм студентам или читателям из стран Запада.
Треугольник, показанный на этой схеме, – другой способ изобразить те четыре уровня реальности, которые отмечены на «Разделенной линии». Но в отличие от однолинейной диаграммы, треугольная предполагает также, что мы движемся от множества к одному29. Таким образом, у одного физического предмета есть много внешних видов – «видимостей». Точно так же один тип или закон имеет много конкретных проявлений – например, у закона тяготения их столько, сколько существует физических тел, которые притягиваются одно к другому. А типы и законы, которых тоже существует много, в свою очередь, все являются частями одной и той же системы, где есть одна наивысшая идея30. Разные пути, которые ведут к истинному, справедливому, единому и прекрасному, все в конце концов приводят к добру31.
Это Платоново системное видение мира не угасло и не стало вышедшей из моды стариной. Уайтхед умело и систематически использовал модель Платона в своих интерпретациях науки и общества. И у нас в центре многих дискуссий, посвященных самым злободневным темам, уместны в определенных контекстах и располагаются в том же порядке те же самые измерения реальности, которые Платон выделил в своей великой схеме.
Идеи Платона и современные теории образования
Среди тех вопросов, которыми Платон проверял философские учения на истинность, был вопрос, есть ли от данного учения практическая польза. Обсуждение идеи добра в «Государстве» у него завершается «идеальной биографией» – практической схемой, составленной для обучения людей тому, как можно распознать эту наивысшую идею. Поэтому среди многих вопросов имеет смысл задать и такой: позволяет ли система Платона решить какие-нибудь сегодняшние неотложные практические проблемы. Попытаемся же в качестве проверочного примера сделать для идущих сейчас дискуссий об американском высшем образовании то, что сам Платон сделал в прошлом для дискуссий о реальности. Использовав Платонову системную диаграмму в качестве карты для своего случая, мы обнаруживаем, что Платонов чертеж позволяет яснее определить соотношения между школами и теоретиками и что в нем есть для нас программа того, как свести воедино их интуитивные открытия.
Слушая современную дискуссию о высшем образовании, мы различаем среди того, что слышим, аргумент, напоминающий об афинских дискуссиях времен Платона по поводу философии32. Чтобы показать значение философии Платона на примере того, «как она работает», я применю эту схему к анализу системы образования – не того, которое было в Афинах при Платоне, а того, которое дают в современных американских средних школах. Так же, как делал Платон в Афинах, я начинаю применять ее в тот момент, когда дискуссия в обществе находится в самом разгаре.
Среди групп, имеющих четкое представление о том, что нужно преподавать сегодня в наших вузах, есть формалисты (которых иногда объединяют всех вместе под названием «гуманитарии»), чье желание – чтобы центральным элементом образования было развитие ума путем выработки у студентов дисциплины и ознакомления их с самыми лучшими достижениями в области литературы, математики и философии. Как пифагорейцы, эти формалисты признают, что третий уровень Платоновой линии – дианойя – имеет значение для людей в их интеллектуальном поиске и взаимопонимании.
Но некоторые модные сейчас теоретики образования, которых мы можем отнести к разряду испытавших влияние экзистенциализма, имеют иную точку зрения. Они рассуждают о ценности любования формой, которое противопоставляют творению формы, поскольку не доверяют никаким условностям, заставляющим студента принять на себя определенную общественную роль. Для них главное – сделать так, чтобы каждый конкретный студент осознал свою неповторимость, свою свободу и возможность полностью стать самим собой. Похоже, они настаивают на том, что у эйказии, совокупности специфических для данного человека ярких образов, занимающей самый нижний уровень «Разделенной линии», должно быть место в теории и практике образования. Разумеется, этим они признают ту истину, которую знал Сократ: что без мотивировки, иначе говоря, без личной заинтересованности человек может запомнить какие-то знания, но не может ни учиться по-настоящему, ни заниматься интеллектуальным поиском. Иметь чистую форму без содержания недостаточно: сам Платон всегда даже свои собственные формалистические идеи окрашивал в яркую поэтичную форму с помощью мифа или конкретной характеристики. Систему, которая до сих пор господствует в американской теории и практике учебного процесса, мы можем назвать прогрессивным образованием. Теоретик-прогрессист верит, что образование должно научить студентов использовать идеи в качестве инструментов. По его мнению, значение слова или идеи определяется их применением, то есть цель высшей школы – дать студенту опыт, который научит его пользоваться этими инструментами. «Я» индивидуума во многом создается обществом, и навыки существования в обществе занимают одно из самых важных мест среди приемов, которыми студент должен овладеть по принципу «делай, как я» за то время, пока находится в школе. Некоторые современные прагматики восхищались греческими софистами и верили, что те во многом были предшественниками прагматизма. Как было отмечено в этой книге в главе о софистике, при сравнении практичного оппортунизма софистов с осторожным рационализмом прагматиков оказывается, что сходства между ними меньше, чем представляется на первый взгляд. Тем не менее прагматик с его определением знания как инструмента и сосредоточенностью на технических приемах и практических целях попадает на «Разделенной линии» туда же, куда и софисты. Основной вклад прагматиков в науку – вывод о том, что идея признается таковой только в случае ее применения на деле, и признание огромной роли навыков и условностей в поведении людей.
Для платоника интересна еще одна деталь: то, что мы вообще специально изучаем образование, стало возможным благодаря общему для всех этих групп идеализму. Все три группы желают полного раскрытия возможностей каждого отдельного человека, прогресса и справедливости в обществе и в далекой перспективе – выживания и улучшения рода человеческого. Такой общий идеал, несомненно, должен быть помещен на самый верхний уровень Платоновой линии. Поскольку эта цель одна и та же для всех групп, они могут корректировать свои верные, но слишком обобщенные конфликтующие между собой требования и выработать компромиссную позицию. А платоник вносит в их дискуссию свой вклад – напоминание о том, что такой идеал существует, что этот идеал важнее любого конкретного набора методов или учебных дисциплин, которые относятся к нему как средства к цели.
Симпатии Платона в философии, вполне естественно, на стороне формалистической традиции, а не материализма. Переходя от экспериментов с меняющимися вещами к узнаванию неизменных типов и законов, мы пересекаем черту, которая отделяет становление от бытия, существующий в пространстве и времени физический мир, где вещи стараются быть собой, но никогда по-настоящему собой не бывают, – от области бытия, мира неменяющихся точных форм-идей, где «каждая идея есть именно то, что она есть».
ПЛАТОНОВА ЛИНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
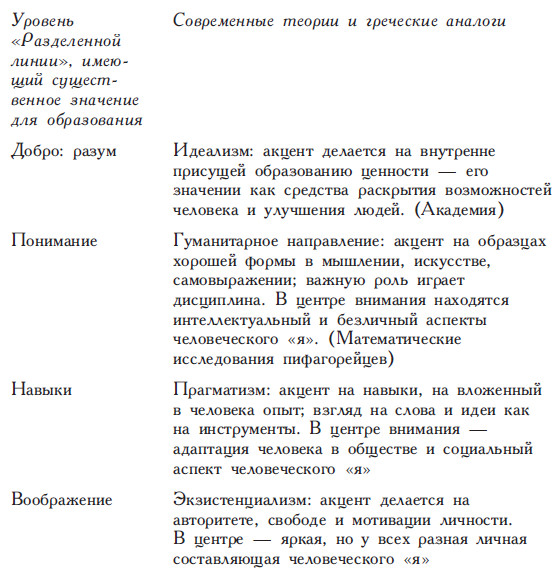
Примечание. Наблюдателю-платонику кажется, что каждая группа теоретиков, упомянутая здесь, открыла, насколько велика роль одной из многих сторон сложной действительности. Каждая группа права, подчеркивая, что эта сторона действительности необходима для достижения общего идеала, и каждая не права, поскольку ее взгляд на существующую ситуацию слишком узок, и она считает, будто ее программа противоречит всем остальным или исключает их. Идеализм, если он принимает форму хвалебных речей и не обращает внимания на технику достижения идеала, может быть таким же односторонним, как любая другая теория.
Универсальное научное знание возможно потому, что в самой действительности присутствует этот мир неизменных идей, устанавливающих границы и задающих направление процессов в том мире, который изменяется в пространстве и времени. Пифагорейцы в Платоновой истории философии представляют собой первый этап открытия человеком того, что существуют вечные сущности-идеи – треугольники, множества и соотношения, проявлениями которых являются окружающие нас многочисленные объекты. Как бы трудно ни было объяснить, каким образом частные случаи одной такой идеи «участвуют» в ней, именно открытие этого измерения действительности, по мнению Платона, сделало возможным научное толкование чего бы то ни было.
Платон: тесты и применения
Начиная с эпохи Возрождения и до XIX века все высоко оценивали Платона как абстрактного теоретика и недооценивали Платона как аналитика. Мы в XX веке начинаем понимать, сколько тонкости и изящества в том анализе, который Платон за последние двадцать лет своей жизни привнес в проверку своей философии на истинность и в придание ей большей ясности. Внимательно взглянув на свою философскую систему, Платон увидел три способа проверить ее истинность:
1) если она верна, то естественные науки могут быть сведены в одну систему, где все разрозненные данные займут свои места;
2) если она верна, она может быть в родстве с таким земным, но важным делом, как составление образцов законодательства для реальных современных Платону греческих городов;
3) если она верна, то позволит четко и логично сказать, что такое идея, участие, степени реальности, оценка и добро.
Проверкой первого утверждения является диалог Платона «Тимей» – энциклопедия современной ему науки, который, должно быть, стал итогом огромной исследовательской работы членов Академии. Второе проверено в монументальном диалоге «Законы», который Платон завершил лишь в общих чертах. Это тоже, видимо, был крупномасштабный проект, осуществленный Академией, – сбор и сравнение сводов законов и историй законотворчества. В свете практических потребностей и теоретических знаний того времени, когда жил Платон, можно полагать: он чувствовал, что научная и практическая применимость его теории доказана.
Но когда он попытался выполнить анализ, проверяющий его третье утверждение, результат оказался ближе к отрицательному. Серия узкопрофессиональных диалогов и большая публичная лекция о добре были элементами того поиска ясности, которым был занят Платон. Здесь нам стоит коротко подвести итоги – и для того, чтобы поставить вопросы, и для того, чтобы показать, в какой степени Платон чувствовал, что нашел ответы.
Идеи и участие легко можно посчитать не тем, что они есть на самом деле. В диалоге «Парменид» Платон показал, что мы не должны думать, будто идеи – это объекты, которые находятся в каком-то месте, и участие нельзя объяснить с помощью физической модели долевого участия. Отношение одного конкретного квадрата к идее квадратности не такое, как у одного из деловых партнеров к активам их общей фирмы.
В «Теэтете» Платон показывает, что знание нельзя считать только памятью и опытом: в знании есть уверенность и обобщенность, которые можно истолковать лишь как что-то, подобное узнаванию идеи. (Сравните с этим отношение «пистис» к «дианойе» на «Разделенной линии».) В «Софисте» Платон исследует логические трудности, возникающие перед тем, кто размышляет и говорит о небытии. Отделяя чистое «ничто» от видов непохожести, Платон поправляет Парменида так, что становится возможным доказательство существования не только абсолютной реальности, но и видимостей тоже. В «Государственном деятеле» Платон исследует техническую сторону процессов оценки и управленческой деятельности и вводит новое понятие «рабочее определение».
Лекция о добре посвящена доказательству того, что существует только одно добро, а если добро – единственная наивысшая идея, которая соединяет мир фактов и мир мысли, то положение «добро одно» – центр и основа доказательства этого. Платон и его сторонники с досадой и раздражением видели, что у них возникают трудности по следующей причине: идеи рассматриваются одновременно как идеалы, абстрактные классы и значения слов. Например, Платон пишет об идеях так, словно каждая из них является проявлением себя самой (скажем, «идея добра является доброй»). Это становится понятным, если рассматривать идеи как идеалы, вспомнив, что они ведут свою родословную от учения Сократа. В этом контексте «добро является добрым» значит не «идея добра участвует в свойстве доброты», а скорее «идея добра есть свойство доброты». Но если мы рассматриваем идеи как границы, классы или свойства, Платона не так легко оправдать. Если участвовать в идее означает иметь соответствующее ей свойство и если свойство никогда не бывает тождественно той вещи, которая участвует в нем, то ни одна идея не может быть проявлением себя самой. Рассмотрим свойство квадратности. Каждый квадрат квадратен потому, что участвует в этом свойстве. Но если по аналогии с «добро – доброе» сказать «квадратность – квадратная», возникает затруднение: возможны только два варианта значения этой фразы, и оба они плохи. Поскольку для идей этого типа свойство и участвующие в нем вещи – разное, должна существовать вторая идея квадратности, в которой участвует квадратность. Но эта вторая идея квадратности тоже должна участвовать в какой-то идее более высокого порядка, и так до бесконечности. Однако если отрицать, что квадратность квадратная, но утверждать, что объяснить вещь значит уловить умом ее идею, то для идей вообще невозможно найти никакие объяснения.
Еще одна трудность берет начало в том, что Платон понимал: значения, которые существуют в языке и мысли, должны быть общими для всех людей и не меняться. Язык создает формы, полностью отличающиеся и от определяющих свойств, и от четко определенных идеалов. Что именно я имею в виду, когда говорю «добрые люди несправедливы», совершенно ясно: я взял два слова или, если вы предпочитаете, два понятия и соединил их. Но на самом деле добро и несправедливость не связаны таким образом ни в том случае, если мы мысленно строим их как определения, ни тогда, когда конструируем в уме как идеалы. Если бы мы просто считали идеи развитием представлений софистов о значениях, идеи обладали бы подвижностью, то есть способностью отделяться и образовывать друг с другом сочетания, но идеи, понятые в любом из двух других смыслов, не могут быть подвижными.
Мне кажется, что Платон так и не нашел окончательного ясного ответа на этот вопрос. Он был уверен, что идея выполняет все эти функции – значения, определения, идеала, предела и цели – сразу. Однако ни он, ни его последователи за две тысячи лет не смогли объяснить на примере, как одна и та же вещь может играть настолько разные роли. Но даже если нам нужны более сложные формулировки или мы должны признать существование трех видов идей, это еще не значит, что Платонова теория идей ошибочна.
Платон установил важный факт: это из-за истинного в нашей собственной природе и из-за самой природы вещей, а не из-за условностей, как учили софисты, «смутное предугадывание чего-то» заставляет нас восхищаться истиной, красотой и благородством и высоко их ценить. В самом деле, действие этого врожденного чувства ценности заметно уже в религиозных мифах и в той вере в мировую справедливость, которая задолго до того, как возникла философия, уже вдохновляла людей на попытки изобразить мировой порядок, в котором человеческие ценности что-то значат33.
Перейдя от науки и метафизики к политике и этике, мы обнаруживаем, что одна из хороших сторон Платоновой системы – то, как в ней освещены человеческое «я» и отношение отдельного человека к обществу. Это те две центральные проблемы, которые Платон обещал исследовать в Академии. Как познание реальности поиск «я» был труден потому, что «я» – сложное образование, и его нельзя просто поместить на тот или иной уровень такой классификации, как «Разделенная линия».
В то, что человек отождествляет с собой, входит тело, в котором обитает и которое наделяет жизнью душа. Туда входят чувства и воображение с их яркими, но недолго существующими картинами мира и мимолетными впечатлениями. Туда входят честолюбие и свобода принимать решения. «Я» также обладает способностью познавать неизменные идеи и отзываться на идею добра как на собственный высший идеал. Для Платонова «я» так же, как для действительности, нужна карта. Такая карта может также служить диагностической таблицей студенту, изучающему этику, или физиологу, поскольку каждый раз, когда нарушается правильное расположение частей «я», космос справедливой упорядоченной души пропадает, и в результате возникает порок34.
Платон верил в то, во что не верят некоторые сегодняшние политические теоретики: что общество – это не просто совокупность составляющих его отдельных людей. Следовательно, он не мог отвергнуть требования, которые государство предъявляет к своим гражданам, как произвольные или целиком условные. Он рассматривал этот вопрос иначе: обязательно ли идеал общества и идеал самореализации человека должны быть несовместимы друг с другом? Такие конфликты, как столкновение афинской демократии с Сократом, – трагедии, но разве избежать их невозможно? Или эти два идеала связаны как-то иначе? К тому времени, как Платон закончил «Государство», он пришел к выводу, что эти две идеи не обязательно несовместимы. Ему казалось ясным, что даже такой передовой город, как Афины, должен будет изменить почти все свои традиционные правила жизни и общественные учреждения, чтобы стать государством, где социальная эффективность и индивидуальная добродетель будут совпадать. И пусть на уровне практики это было разочарованием, как философское открытие это обнадеживало: значит, теоретически может существовать общество, в котором такого человека, как Сократ, действительно признали бы в суде благодетелем, а не казнили как носителя прямой и явной угрозы35.
Платон был доволен своим анализом, разделившим сложное «я» на три составные части: рассудок, пыл (стремление к славе, чувство чести, воля) и вожделение. Рассудок знает, что человек – это частичная реализация не подвластных времени идеалов ценности и гармонии.
Пыл, или честолюбие, способен действовать в мире – это энергия, побуждающая соревноваться, творить и делать. Вожделение – инстинктивная постановка себя в центр, которая отражает привязанность души к удовольствиям и страданиям, ощущениям и ограничениям ее собственного тела. Человеку удается реализовать себя, когда эти три стороны «я» правильно и гармонично соотносятся между собой. Рассудок может определить, какие вожделения и проявления честолюбия будет хорошо удовлетворить, а какие следует подавить или направить в иную сторону. Честолюбие и вожделение, если их предоставить самим себе или позволить им властвовать над всей личностью, не имеют никаких критериев, кроме слепой жажды иметь больше – больше имущества, больше удовольствий, больше почестей, больше власти. Но поскольку иметь больше – цель недостижимая по определению (как бы много я ни имел сейчас, в данный момент я не могу иметь больше этого), человек расплачивается за неверную психологическую настройку этих частей своего «я» жизнью: он всем недоволен, тратит жизнь на погоню за призрачной целью, которая не становится и никогда не станет ближе, и не реализует внутренне присущие человеку достоинство и ценность36.
Этими рассуждениями Платон не отрицает того, что люди могут идти к реализации своих возможностей разными путями. Некоторые люди по своей природе склонны быть философами, другие воинами и атлетами, третьи – заниматься производительным трудом и торговлей. Эти различия вызваны разницей в относительной силе трех частей души и в силах тела, которое они оживляют. Во власти каждого человека действовать согласно своим интересам и использовать свои способности разумно, а не руководствоваться при этом слепой жаждой удобств или наград. (К примеру, Милон Кротонский, атлет, чьи спортивные подвиги стали легендой, в конце своей спортивной карьеры стал мужем дочери Пифагора и членом Пифагорейского братства. Платон мог рассчитывать, что его читатели вспомнят о том, что спортивная профессия не сделала величайшего спортсмена Греции ненавистником культуры или человеком низшего сорта.)
Платон часто говорит о человеческой душе, ее внутренних конфликтах и ее жизни после смерти на языке мифа: в своих книгах он нашел место и для своей собственной мифологии. Рассказы могут сделать ярче логический аргумент. Если читатели не принимают их ошибочно за научные объяснения, а Платон способен выбирать из рассказов только те, которые считает подходящими как философ, то мифы не вредны. Но, несмотря на присутствие у Платона этих мифов о душе, по его философии невозможно понять, в какой степени он верил, что душа бессмертна.
Во всяком случае, он, похоже, был убежден, что способность человеческого разума познавать вечные истины и бессмертные идеалы и восхищаться ими доказывает, что эта часть человеческого существа бессмертна или, по меньшей мере, участвует в бессмертии. И он чувствовал, что в мифах о последнем страшном суде воплощена глубокая интуитивная вера, более личная и живая, чем любое абстрактное диалектическое доказательство. В этих рассказах человек весь целиком – с его памятью, вожделением и честолюбием – предстает перед судом вселенской справедливости, которая, взяв за образец то, каким человеку следует быть, присуждает каждой душе счастливую или несчастную будущую жизнь в зависимости от того, в какой степени эта душа осуществила себя37. Желание быть бессмертным, несомненно, основной мотив человеческих поступков: при мировом порядке, который одновременно добр, справедлив и прекрасен, самыми правдоподобными рассказами, какие могли бы придумать люди, были бы рассказы, отражающие надежду на то, что души, которые заслуживают бессмертия, действительно достигнут его.
Платон глубоко изучил отношения отдельного человека с государством. Считая государство реальностью и так же, как Сократ, признавая, что у гражданина есть общественные обязанности, он все же ни в коей мере не считал, что государство – это организм, который может поглотить человека и всегда прав38. Государство для Платона является естественным в двух важных отношениях. Во-первых, оно – единственный для человека способ полностью реализовать свою человеческую природу, во-вторых, в природе существует идея государства, которая дает определение, цель и критерий оценки государств.
Но точно так же, как человек может сделать ошибочный этический выбор и принять то, что является лишь средством для ведения достойной жизни, за самодостаточную цель, так и государства могут принять – и обычно принимают – какую-либо ценность низшего порядка: богатство нации, мощь нации, возвышение правителя – за истинную цель, которой является добродетель каждого отдельного человека и общее благо39. Но Платон считал, что, если бы когда-нибудь появились государственные деятели, так хорошо обученные, что они бы ясно видели, что такое добро, под их властью были бы созданы общества, где были бы признаны заслуги такого человека, как Сократ.
Непосредственным поводом к созданию диаграммы «Разделенная линия» стало для Платона его желание определить, какое по содержанию и уровню образование необходимо для такой истинной государственной деятельности. Одной из надежд, которые Платон возлагал на Академию, была надежда, что она станет давать будущим поколениям такое образование.
Общества могут идти и по другому неверному пути. Если правитель ошибочно считает, будто человек – ничто, а государство – всё, то в обществе будет твориться несправедливость по отношению к людям при любом общем направлении политики40. Чтобы человек получил долю в бессмертии и чувствовал, что живет творчески, ему нужно осознавать себя ответственным членом человеческого сообщества – целого, которое долговечнее и больше, чем одна короткая человеческая жизнь. Лишить любого человека этого чувства – значит совершить несправедливость41. Возможность эффективного выполнения гражданских обязанностей, которое позволяло бы человеку еще и осуществить себя, в современных Платону городах была скорее исключением, чем правилом.
Высокое происхождение, богатство, образование и другие подобные условия создают случайный по структуре лабиринт из препятствий на пути наилучшего использования индивидуальных способностей и критериев. Здесь Платон, возможно, под воздействием настойчивого утверждения софистов, что большинство составляющих этот лабиринт обычаев и законов – всего лишь условности, предлагает радикальное решение: роли в обществе следует распределять только на основании способностей и интересов людей. Если бы это было сделано (Платон показал как), можно было бы добиться соответствия между потребностью общества в работниках, защитниках и учителях и различиями в дарованиях людей.
Никакого другого пути Платон не видел (это показано в приведенной ниже таблице). Он не ожидал, что эта его идея будет принята немедленно, но надеялся, что, может быть, в какие-нибудь иные времена, если не в Греции, то в какой-нибудь далекой варварской стране такое общество станет реальностью42.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ ПО ФУНКЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ
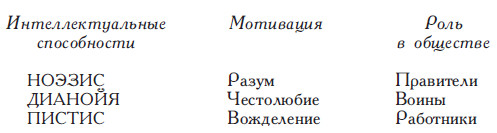
Но в этой схеме все три класса сбалансированы, хотя они не равны по возможностям интеллекта и по интересам, которые служат им побудительными мотивами. Если мы учтем нарушения баланса, список типов личности увеличится:

Таким же образом можно систематизировать виды государственного устройства, поскольку каждое государство ведет свою характерную для него политику и этим похоже на человеческую личность, только его масштаб крупнее.
В девятой книге «Государства» Платон приводит список из пяти видов государства, выделенных по этому принципу:
ПЯТЬ ВИДОВ ГОСУДАРСТВА

Сегодня мы живем согласно Платонову представлению о том, что общество должно предоставлять всем людям равные возможности реализовать себя. Наследственная аристократия уже не считается приемлемой моделью организации общества, рабство почти ушло в прошлое, и право голоса предоставляется не только наиболее состоятельным гражданам. Специалист по разрешению общественнных споров, который был почти единственным экспертом-консультантом по делам управления в греческом городе, в наиболее цивилизованных странах был постепенно заменен получившими специальное образование государственными чиновниками, которые могут применять свои профессиональные знания к сельскому хозяйству, образованию, международным техническим проектам, регулированию деятельности банков и обращения ценных бумаг.
Могут ли руководители, отвечающие за целую страну, вести такую, рассчитанную точно по науке, политику? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Мы и теперь еще не создали ту философскую науку об обществе, которую Платон считал необходимой предпосылкой для появления «правителей-философов». И даже если бы у нас была эта наука, есть причины – существование которых неоспоримым образом установил еще ученик Платона Аристотель – для сомнения в том, что такой беспристрастный научный подход к решению социальных вопросов вообще возможен43.
Интересно с исторической точки зрения и будет хорошим стимулом при рассмотрении наших современных проблем снова бросить взгляд на страницы «Государства» и посмотреть, как из многих исторических и теоретических нитей, обязательно присутствующих в структуре любой дискуссии на тему «общество и человеческое «я», Платон смог соткать теоретическую ткань, которой остался доволен. Философия и образование – вот ответ Платона на вопрос, который за двадцать лет до этого был порожден казнью Сократа44.
Со времен Платона на Западе были философы-платоники. Диапазон их идей очень широк – от богословия святого Августина до научных взглядов Уайтхеда. Каковы характерные черты платонизма? Мы можем назвать четыре его важных признака: 1) платоник считает, что задача философии – создать в итоге какую-то одну синтетическую систему. Он всегда стремится к полноте и завершенности толкований и идей; 2) платоник всегда придерживается какой-либо разновидности теории идей как сущностей, согласно которой обобщения являются объяснениями; 3) платоник считает, что реальность представляет собой единую непротиворечивую систему, которая не разделена на изолированные части, и поэтому склонен к попыткам переносить по аналогии интуитивные догадки или законы, верные для одной части мира, на другую его часть, обычно такую, которая в чем-то родственна первой; 4) и наконец, платоник всегда считает, что мир мыслей и фактов является иллюстрацией какой-то ценности. В любой платонической философии добро, истина и красота сходятся в одной, самой высшей точке мироздания, и эта точка является вершиной и для живого существа, и для мысли45.
В завершившем греческую философию формалистическом учении, которое разработал Платон, эта философия приобрела новое качество – стала системой согласованных между собой частей. Все стороны действительности, все технические достижения и интуитивные открытия греческой мысли до Платона были собраны воедино в этом упорядоченном многомерном «космосе». В этом Платоновом мире существовали и форма и поток, и Платон окончательно утвердил представление о важности формы и о зависимости факта от ценности. Идея («форма») добра придала единство его философской структуре примерно так, как Акрополь, возвышаясь над театром, собранием и Академией, объединял в одно целое Древние Афины.
Аристотель
Упорядочение всей действительности
Там я увидел учителя тех, кто знает…
К тезису Платона, что природой управляют универсальные законы, его великий ученик Аристотель добавил положение о том, что природа может быть познана с помощью рассуждений и понята вплоть до мельчайших подробностей. Это свое утверждение он подкрепил научными наблюдениями и опытами, которые поражают воображение своим количеством и разнообразием.
Модель из четырех «причин» служит структурным каркасом для всех видов реальности. Возникающая в результате этого система примиряет материализм и формализм, сводит вместе теорию идей-форм Платона и атомистическую теорию Демокрита.
Хотя труды Аристотеля по философии природы интересны и будят мысль благодаря тому месту, которое занимают в истории греческой и средневековой философии, сегодня не его натурфилософия, а его толкование этики, политики и поэзии в наибольшей степени ставит перед нами вопросы, требующие ответа.
«Причины» Аристотеля – это измерения или аспекты вещи, которые ответственны за ее существование и за то, что она именно такая, какая она есть.
Эти измерения таковы: материя – материальная причина; идея – формальная причина; создатель или родитель, благодаря которому вещь появляется на свет, – действенная причина; и применение или цель, для которых существует данная вещь (они есть у каждой вещи), – конечная причина.
Замечание Кольриджа, что «каждый человек рождается либо платоником, либо аристотелевцем», указывает на коренное различие между темпераментами, методиками мышления и достижениями этих двух великих людей, чьи учения были наивысшей точкой развития греческой философии. То, что Платон начал свои проиллюстрированные примерами рассуждения о природе и науке с математики и астрономии, а Аристотель с зоологии и медицины, точно характеризует обоих. Там, где Платон писал блестящие диалоги, наполняя их отвлеченными рассуждениями, Аристотель педантично составлял подробно спланированные профессиональные лекции. Платон, похоже, старался не пользоваться профессиональными терминами, по крайней мере до самых последних своих работ; Аристотель каждое из многих различий, которые требовала провести его философия, помечал отдельным, тщательно продуманным профессиональным термином1. Платон с недоверием относился к здравому смыслу, обычаю и эмпирике; Аристотель везде, где только мог, примирял взгляд обыденного сознания на вещи и на способы говорить о них («здравый смысл») с самыми трудными для понимания философскими воззрениями2.
Платон и Аристотель похожи удивительно широкой тематикой, жизнеспособностью и оригинальностью своих достижений. То, что Аристотель включил научные коллекции в структуру своей школы, Ликея (другое произношение – Лицей), – великое открытие в области образования; по важности и оригинальности оно лишь немного уступает созданию Платоном Академии. Настойчивые старания Аристотеля показать, что реальность всюду и во всем упорядочена согласно схеме из четырех «причин», дополнили Платоново доказательство важной роли идеи новым убеждением – верой в постижимость и упорядоченность природы. Эта попытка, несмотря на широту размаха, вылядела убедительно. Аристотель поставил себе задачу – не более и не менее – доказать, что весь реальный мир может быть упорядочен с помощью его четырех «причин». В его обширное литературное наследие входят объемистые трактаты по логике, которая в основном не изменилась за 2500 лет; труды по астрономии, химии и биологии, которые оставались образцовыми до эпохи Возрождения; трактаты по метафизике – «первой философии», как называл ее Аристотель, по «практическим наукам» – этике и политике и по поэтике, которые все до сих пор не устарели и остаются интересными3.
Этот гигантский замысел обнаружить и показать четыре «причины» во всей реальности вырос из возникшего раньше интереса к порядку. В начальные годы своей работы в Ликее Аристотель впервые систематизировал предметы (риторику, искусство спора, изучение логических ошибок), которые до него никогда не преподавались системно. С этой же целью был написан очерк по истории философии, с которого Аристотель начал свою «Метафизику». Его интерес к истории идей был постоянным, и по спискам и отрывкам его ранних работ видно, что он много лет готовился к написанию этой истории, сочиняя трактаты об учениях или ошибках отдельных философов и школ. Аристотель хотел показать, что мудрецы прошлого не признавали никаких «причин», кроме его четырех, а когда думали, что признают (похоже, это утверждали платоники и пифагорейцы), то на самом деле лишь неправильно говорили о «формальных причинах» Аристотеля. И – в границах того, что было известно науке во времена Аристотеля, – его доказательство удивительно близко к полному!
Один результат настолько интересен, что заслуживает подробного рассмотрения: Аристотелева философия природы больше несовместима с открытиями современной науки, а вот его интерпретации этики и политики, от которых можно было ожидать, что они устареют гораздо раньше, поскольку любое общество изменяется быстрее, чем виды животных или звезды, удивительным образом соответствуют современным требованиям и подсказывают нам такой способ подхода к нашим современным проблемам, который заставляет работать нашу мысль4. Почему получилось именно так? Мы обнаружим, что Аристотель применял причинно-следственное объяснение в этих двух областях совершенно по-разному. Коренным различием в путях их применения и объясняется то, что время смогло подтвердить правильность объяснений в одном случае, но опровергло их в другом.
У Аристотеля было три основных отличия от Платона. Во-первых, там, где Платон, похоже, всегда искал новые синтетические подходы, которые заставляли бы пересечься традиционные специализированные направления, Аристотель верил в структуру из частей – и применял такой подход и при чтении лекций в университете, и в научных исследованиях. Аристотель считал, что различные виды реальности имеют каждый характерные для него свойства: звезда, треугольник и государство, хотя и являются все частями бытия, имеют такие важнейшие отличия друг от друга, что Платонова попытка понять их по тому, в чем они формально похожи, вероятно, даст очень поверхностное описание, которое будет неточным. Следовательно, для научного познания мира необходимо каждый из разных видов вещей, которые нужно познать, исследовать по отдельности и иметь профессиональный словарь, чтобы отмечать имеющие какое-то значение типы и различия.
Во-вторых, Аристотель отличается от Платона своим отношением к материализму. Платон нигде не упоминает имя Демокрита, но, как можно судить по различным местам его сочинений, где он критикует материализм, Платон не считал, что атомистическая теория имеет какую-либо ценность как философское объяснение мира. Она должна была казаться ему профессиональной техникой – способом выяснить, как вещи работают, который позволяет определить в лучшем случае условия, но не причины.
Для Аристотеля же и материализм сторонников атомистической теории, и формализм Платона и Академии дают подлинные причинные объяснения. Он постоянно помнил о той философской проблеме, которую ставила перед ним история греческой мысли: какое научное объяснение мы должны считать верной картиной такого мира, в котором возможны одновременно идеализм и механицизм, формализм и материализм? Его синтез, где есть место для обоих этих видов причинно-следственных отношений, представляет собой мощный интеллектуальный инструмент: четыре «причины» Аристотеля устанавливают равновесие между материальным и формальным измерениями действительности.
Третье отличие Аристотеля от Платона – его мнение, что мир состоит из отдельных «субстанций», каждая из которых обладает собственной идентичностью. Мир не просто единая, скрепленная прочными связями система, в которой части подчинены господствующему над ними целому. Но он и не просто скопление огромного множества маленьких твердых частиц, как считали механицисты. Скорее мир – сообщество индивидуальностей: форма и материя, сочетаясь друг с другом, всегда дают в результате своего рода сплав – индивидуальную вещь. Правильная и здравая философия должна отдать должное и требованиям системного единства, и требованиям множественности независимых друг от друга вещей.
В результате всех этих принципиальных различий синтез Аристотеля оказался новаторским. Поскольку позже исторические перемены направили греческую мысль на другие предметы, этот синтез также стал последним словом древнегреческой отвлеченной философии5.
Форма диалога не подходила Аристотелю для выражения его философских мыслей. Работы, созданные Аристотелем в пору его творческой зрелости (из которых поразительно много дошло до наших дней), – не диалоги, а записи лекций. Вероятно, они аккуратно редактировались и хранились в библиотеке Ликея, чтобы быть под рукой для справок. Как все записи лекций, они написаны сжатым слогом и вначале читаются с трудом, а профессиональные различия и термины увеличивают эту трудность. Но когда читатель оценит задачу, которую поставил себе Аристотель, – завоевать разумом весь мир, – он начинает смотреть на эти сжатые конспекты по-новому: с волнением и интересом, и оказывается, что записи Аристотеля вполне стоят тех усилий, которые необходимы для их понимания6.
Аристотель советовал своим ученикам начинать работу с тематического плана. Такой план крайне полезен для того, чтобы следить за мыслью самого Аристотеля. Так что мы, следуя его совету, установим равновесие внутри этой главы с помощью следующего тематического плана:
I. Биография. Ранний период деятельности Аристотеля
A. Академия
B. Аристотель и Александр
C. Ликей
D. Изгнание Аристотеля из Афин
II. Причинно-следственные связи у Аристотеля
A. Определения четырех «причин» с примерами:
1) их применения к искусственным объектам
2) их применения к естественным объектам
III. Виды реальности у Аристотеля; его тезис, что одни и те же «причины» применимы всюду
VI. Теоретическая наука
A. Философия природы
1) биология
2) астрономия
3) химия
B. Математика
C. Метафизика
1) история метафизики
2) четыре «причины»
3) учение о первом двигателе
4) потенциал и сила
a) «односторонние» силы в природе
b) «двухсторонняя» сила, которую дает человеку его свобода
V. Практические и прикладные науки
A. Политика: ее «причины» и принципы
B. Поэтика: литературная критика и причинность
C. Этика: анализ человеческого «я»
D. Оценка
I. Биография
Главные этапы жизни Аристотеля: (A) долгие годы, которые он провел в Академии сначала как ученик, а потом как помощник Платона; (B) его жизнь в Пелле в качестве учителя Александра Великого; (C) его возвращение в Афины, чтобы основать собственный университет, конкурирующий с Академией; (D) его изгнание из Афин после смерти Александра. В своих сочинениях Аристотель сознательно ничего не писал о себе; нам известно, что он женился на царской дочери, которую звали Пифиада и которая умерла через несколько лет после свадьбы, и что он имел любовницу по имени Герпилида, которую упомянул в своем завещании. У него было двое детей – сын Никомах, названный в честь деда, и дочь. Но только несколько строк из стихотворения, посвященного смерти жены, чуть больше строк из стихотворения, посвященного смерти Платона, и завещание, которое сохранил для истории Диоген Ааэрций, позволяют нам немного представить личный опыт и переживания Аристотеля.
A. Аристотель был сыном македонского врача, придворного медика царей Македонии. Когда ему было семнадцать лет, он приехал в Афины, чтобы завершить свое образование в Академии. Можно с полной уверенностью сказать, что он был очень одаренным юношей: нет сомнения, что до приезда в Афины Аристотель уже начал интересоваться медициной и хорошо знал, как смотрят на мир врачи. Что-то от этого докторского взгляда на вещи оставалось у Аристотеля всю его последующую жизнь.
Афины и Академия, разумеется, вызывали восхищение у молодого студента с севера и были для него родными по духу. Аристотель провел в Академии двадцать лет сначала учеником, потом помощником в исследованиях, лектором и ученым-исследователем и не покидал ее, пока в 347 году до н. э. не умер Платон.
Трудно сказать, как надо понимать очень разрозненные отрывки текстов и сообщения различных источников, в которых отразились идеи молодого Аристотеля – члена Академии. Специалисты не имеют единого мнения даже о том, какие из позднейших текстов, где говорится об этом, являются цитатами из ранних работ Аристотеля, а какие нет7. Но из всего этого материала становятся ясны два факта. Первый – преклонение молодого Аристотеля перед Платоном: ранние философские сочинения Аристотеля были написаны в форме диалога и были вариациями на темы, которые разрабатывал Платон8. Второй факт – то, чем диалоги Аристотеля отличались от Платоновых образцов: Аристотель старался подтвердить абстрактные доводы Платона специальными экспериментами и наблюдениями. Например, в своих работах он упоминает известные по различным источникам случаи предвидения будущего как доказательства, которые, если они верны, помогли бы подтвердить истинность учения о бессмертии души. Эта склонность искать для абстрактных аргументов согласующиеся с ними конкретные факты и не успокаиваться, пока логика и эксперимент не дадут один и тот же результат, была характерна для Аристотеля в течение всей его деятельности и является одной из характерных особенностей его работ.
В. После ухода из Академии Аристотель уехал в Малую Азию, а вскоре его известность и семейная близость к македонскому царскому двору помогли ему получить место учителя при молодом македонском царевиче Александре. Такая связь между Александром Великим и Аристотелем, каждый из которых был в своем роде одним из величайших в истории людей, приводила в восторг последующие поколения9. Однако у нас нет подробной информации о характере этих отношений «учитель – ученик». Похоже, что Аристотель преподавал молодому царскому сыну литературу, поэмы Гомера, риторику и грамматику. Нам известны три очень коротких отрывка из трактатов на политические темы, предположительно написанных Аристотелем для Александра10. Александр во время своих военных походов собирал растения и животных и посылал их своему бывшему учителю в афинский Ликей. Это почти все фактические данные, которые нам известны. Еще один факт, который должен показаться интересным романисту или автору детективов, – что мать Александра, царица Олимпиада, обвиняла Аристотеля, будто бы великий философ убил ее сына, отравив ядом. Об этом рассказывает Плутарх в «Жизнеописании Александра». Во всяком случае, очевидно, что Аристотель не оказал на Александра большого интеллектуального влияния. Сам Аристотель, как политический мыслитель, всегда считал греческий город-государство нормальной и наиболее желательной формой политического устройства, а Александр мечтал создать всемирную империю. Аристотель полагал, что самая лучшая жизнь – та, которая прошла в поисках ответов на теоретические вопросы, а Александр считал наилучшей жизнь, проведенную в борьбе за почести и власть. Возможно, какое-то влияние Аристотеля сказалось в разумном решении Александра позволить странам, которые он завоевал, сохранить их религиозные верования и обычаи, но между делами Александра и идеями Аристотеля нет прямой причинно-следственной связи.
C. Когда после смерти Филиппа Александр стал царем, Аристотель вернулся в Афины и создал там свой собственный университет – Ликей. Аристотель любил вести беседы со своими учениками на ходу во время прогулок, и из-за этой привычки члены его школы получили прозвище «перипатетики» («те, кто прогуливается»), под которым известны до сих пор.
Самым важным нововведением среди особенностей Ликея был его «музеум» – первый музей, воплотивший в себе новое представление о том, какие научные коллекции должен иметь университет. Аристотель считал, что единственный путь к пониманию любого исследуемого предмета – это классификация и изучение относящихся к нему оригинальных материалов. Здесь, как и в других случаях, он проявил свой дар рассудительности и сочетания ранее противоположных взглядов.
Аристотель не был склонен считать, что знание – это просто накопленная информация, как когда-то до него считал Гиппий. Но он с недоверием относился и к принятой в Академии практике вычерчивать красивые исчерпывающие классификационные схемы и обращать мало внимания на то, действительно ли схема выявляет важные различия внутри предмета изучения.
В Аикее была зоологическая коллекция, которую помог пополнить Александр. Собрание, в которое входили основные законы 158 греческих и негреческих городов-государств, обеспечивало материалом для исследований проводившиеся в Аикее работы в области политической теории. Большое собрание книг делало возможным составление исторических обзоров-введений для каждой изучаемой дисциплины. Аристотель и сам обратился к истории философской науки, чтобы объяснить и защитить свое новое представление о причинности. Конспекты лекций Аристотеля выдавались желающим найти в них нужную информацию, дополнялись и исправлялись; о том, что в школе Аристотеля было принято вести дневниковые записи и отмечать в них полученные данные и возникающие проблемы, свидетельствуют четыре большие тетради – рабочие дневники такого рода, заполненные в Аикее11.
Более двадцати лет Аристотель руководил своей школой, осуществляя свой великий замысел показать подробно, что вся действительность по своей природе постижима человеком и упорядоченна; он вдохновил своих учеников на сочинение работ по истории, и они описали историю физики, астрономии, математики, музыки и медицины; он вел записи, где отмечал свои наблюдения: новые логические ошибки в аргументации, которые услышал в суде, новое в рассказах о повадках индийского слона и новые астрономические теории12.
D. Когда в 323 году до н. э. Александр умер и его империя распалась, у жителей греческих городов появились мысли о том, чтобы вернуть себе независимость, и в Афинах поднялась волна антимакедонских настроений. Аичные и семейные связи Аристотеля с Македонией и Александром сделали его удобной мишенью для нападок. Когда Аристотеля вызвали в суд по обвинению в «неблагочестии», он уехал в Эвбею, заявив на прощанье, что «не позволит афинянам два раза согрешить против философии». В следующем, 322 году до н. э. Аристотель умер.
Завещание Аристотеля – один из немногих документов, которые дают нам представление о том, что он был за человек. Своим имуществом он распорядился щедро и осмотрительно, проявив при этом внимание к другим людям и тактичность. Его любовница, которая пережила его, получила один из двух домов в Стагире по своему выбору; свою дочь Аристотель отдал под опеку Теофраста, который стал после него главой Аикея; прах своей жены Аристотель велел похоронить рядом с его собственным прахом, как она когда-то пожелала; о каждом рабе он подумал отдельно: некоторых завещал продать, некоторых оставить жить как прежде, а некоторых освободить.
II. Причинно-следственные связи у Аристотеля
Чтобы увидеть, какое место Аристотель занимает в истории греческой мысли, нам лучше всего взять за исходную точку его собственный анализ. Аристотель утверждал, что бытие имеет четыре измерения, то есть у каждой индивидуальной вещи есть четыре такие «причины», которые имеют для нас значение, если мы хотим понять, что такое эта вещь. «Причина» у Аристотеля – не совсем то, что мы понимаем под причиной сейчас: в понятии «причина» у Аристотеля чувствуется оттенок значений «ответственность» и «обязательство», которые соответствующее греческое слово имело в более ранние времена в юридическом языке. «Причины» вещи у него – это факторы, которые, объединившись в сочетание, совместно отвечают за то, что эта вещь является тем, что она есть, и за то, что она вообще чем-то является13. Мудрецы прошлого, пытаясь заниматься философией, никогда полностью не ошибались и никогда полностью не противоречили один другому. Их умозрительные ответы на философские вопросы были предварительными и неполными: каждый из этих философов имел склонность признавать только одно или два измерения реальности и считать, что их достаточно, а было нужно, по Аристотелю, иметь четыре14.
В Аристотелевой истории философии первый этап развития этой науки – противостояние материализма и формализма. Каждая реальная вещь, существующая в природе, имеет и материальную «причину» – вещество, из которого она сделана или рождена, и формальную «причину» – план, структуру, количество и порядок частей, которые становятся границами для этого материального вещества. Милетцы натолкнулись в своих поисках на материальную «причину», пифагорейцы – на формальную, и история философии начинается с этих двух явно противоположных друг другу школ. Аристотель полагал, что к его времени эти традиции развились в атомизм и платонизм. Он хотел примирить эти две философские школы15.
Аристотель начинает с перечисления четырех «причин», которые, по его мнению, искала философия, а он открыл. Наше современное представление о причине гораздо уже, чем то, которое было у Аристотеля: его «факторы, ответственные за то, что вещь есть то, что она есть», скорее можно назвать в переводе на наш язык «измерениями реальности»; поэтому мы можем назвать сердцевину его учения и по-иному – «теория о том, что реальность имеет четыре измерения». (Тут возможна некоторая путаница, но все будет в порядке, если мы станем помнить, что «измерение» здесь означает «вид бытия», а не область пространства и времени.) Все, что существует, обязано своим существованием и идентичностью материальной «причине» – веществу, из которого состоит, и формальной «причине» – плану или модели, которая делает это существующее тем, что оно есть. Соединяет эти два измерения третье измерение – действенная «причина», которой является либо создатель, либо предок. А чтобы понимать, что такое вещи, мы должны также искать у каждой из них конечную «причину» – цель ее существования.
Для искусственных вещей этой целью является применение, для которого они разработаны; для естественных вещей – раскрытие своих возможностей. Эта цель направляет естественное существо через разные стадии его роста к зрелости.
Для того чтобы показать, как эти положения применяются к искусственной вещи, удобным примером будет мой письменный стол. Он сделан из дерева. Дерево – его материальная «причина», его вещество. Аристотель, когда ему понадобилось слово, чтобы назвать такой материал-вещество, придал новое, более широкое значение слову «хюле», которое по-гречески означает «деловая древесина», то есть бревна или пиломатериалы. У моего стола есть четыре ножки, прямоугольная крышка и ящики. Это – формальная «причина» – структура, которую может передавать план-чертеж. Чтобы дерево приняло такую форму, нужна была действенная «причина»; в нашем случае создателем этого стола был столяр.
Причиной, по которой столяр сделал своего рода оттиск контура-формы в древесине-материале, было намерение сделать то, что служит определенной цели. Письменные столы существуют для того, чтобы быть хранилищем для бумаг, поверхностью, на которой пишут, и опорой для пишущих машинок. Это – конечная «причина» стола, его цель.
Описание с помощью четырех «причин» естественной вещи будет иметь несколько значительных отличий от того, которое приведено выше. Опишем, например, Джейсона, кота нашей семьи, который сейчас находится под моим столом16. Во-первых, у Джейсона материальная «причина» – вещество, из которого он создан, – гораздо сложнее: это система органов, а не просто набор расположенных определенным образом досок. Во-вторых, образец, воплощением которого он является, или его формальная «причина», – не план, а вид – разновидность вещей, которые мы обнаруживаем в природе: Джейсон – кот. По мнению Аристотеля, существует ограниченное количество таких «природных разновидностей», и каждое индивидуальное существо относится к одной из них. В-третьих, действенной «причиной» Джейсона были родители: он был рожден, а не изготовлен. И эти родители были существами того же вида: они тоже были кошками. И последнее: конечная «причина» Джейсона, его цель – не в том, чтобы служить моим целям. У него есть внутренняя природа, которая направляет его рост так, чтобы он вырос во взрослое существо вида кошка. Это дорастание Джейсона до зрелости происходит в несколько этапов: он учится видеть, ходить, бегать, хватать предметы лапами, то есть развивается так, как всегда развиваются кошки. Вид одновременно и разновидность вещей, экземпляром которой является Джейсон, и идеальный экземпляр этой разновидности, которым он старается стать.
То, что у животного и искусственного предмета, например письменного стола, структура причинно-следственных связей не одинакова, понять легко. Но труднее понять, что это различие структур существует между всеми естественными и всеми искусственными вещами вообще. Например, глыба мрамора – естественная вещь, звезда или планета – тоже, но ни у одной из этих трех вещей ее существование не направлено к определенной цели так явно, как направлена к цели жизнь животного. Аристотель, однако, считал (мы это обнаружим у него), что даже на уровне камней и на уровне звезд прослеживается склонность природы стремиться к определенной цели. Он разработал свою философию природы сначала на материале биологии, потом распространил ее на химию и астрономию. Таким образом, приведенный выше пример ясно показывает, в чем Аристотель применял свои причины к природному иначе, чем к искусственно созданному. И философия, и естественные науки занимаются выявлением «причин» вещей во всех четырех значениях слова «причина». По сути дела, тем же занимаются художественная критика и анализ языка, хотя эти две дисциплины исследуют «вещи» из другой области17.
Это представление об отличающихся одна от другой разновидностях вещей заставило Аристотеля ввести в его философию несколько важнейших различий. До него мыслители не только имели склонность выбирать лишь одну из причин на роль полноценного объяснения, но также отличались склонностью из всего многообразия вещей обращать внимание лишь на одну разновидность – ту, которую легче всего объяснить выбранной этими мыслителями причиной. Так, милетцы не занимались формами и числами, которые реальны, но не являются физическими объектами; пифагорейцы же проявляли сколонность забывать о тех свойствах, которые отличают естественные вещи от математических абстракций. Аристотель обнаружил, что эта тенденция сохранилась у атомистов и платоников.
Аристотелю казалось, что его четыре «причины» охватывали и объединяли все предшествующие открытия греческой философии. Прежде всего, признав существование формальных и конечных «причин» и наряду с ними – причин материальных и действенных, он объединил традиции материализма и формализма. Тем, что он использовал понятие конечной «причины», он признал роль идеалов в природе и искусстве и таким образом включил в свою систему одну из важнейших характерных черт платонизма. Конечно, Аристотель мог отождествить свое представление о материальных «причинах» с милетской физикой, а действенную «причину» – с понятиями насилия, силы, энергии, которые время от времени появлялись у предшествующих философов.
«Причины» – остроумная и мощная философская идея. Точки, где сходятся все четыре «причины», – это всегда конкретные индивидуумы, точно воспроизводящие тот тип, к которому принадлежат, так что типичной единицей реальности в философии Аристотеля является субстанция, или экземпляр типа. В каждой разновидности вещей «причины» уравновешивают друг друга по-своему. Чтобы выяснить, каков баланс «причин» в определенной области, нужно провести наблюдение за каждой индивидуальной вещью из этой области и сравнить ее с остальными вещами. Обобщение и классификация могут быть выполнены верно только после изучения и сбора фактов.
III. Система видов реальности по Аристотелю
Чтобы иметь возможность доказать, что четыре «причины» можно найти у всего, Аристотель сначала должен был провести различия между отдельными видами реальности и знания и составить исчерпывающие списки. Результатом этой работы стала схема, которая приводится ниже. Эта схема – одно из самых впечатляющих достижений Аристотеля; в ней видны гениальный дар классифицировать и умение Аристотеля включать в свою систему открытия предшественников.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРИСТОТЕЛЯ
(Прописными буквами указаны причины, звездочками отмечены несколько дополнительных элементов классификации, которых нет в явном виде у Аристотеля.)
ЗНАНИЕ бывает (1) инструментальным, (2) теоретическим, (3) практическим и (4) продуктивным (эти четыре вида знания находятся в однозначном соответствии с четырьмя «причинами»).
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ имеет предметом изучения язык. Оно изучает те формы языка, которые наиболее эффективно применяются в трех специализированных видах общения: доказывании, убеждении и поэзии: использование языка а) для доказывания утверждений – это предмет ЛОГИКИ, b) для убеждения – РИТОРИКИ, с) в поэзии – ПОЭТИКИ.
a) ЛОГИКА делится на три раздела – АНАЛИТИКУ, ДИАЛЕКТИКУ и СОФИСТИКУ. ТЕРМИНЫ объединяются в ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а предложения связываются в группы-СИЛЛОГИЗМЫ, по три предложения в каждой. Соединяя силлогизмы в цепочки, мы получаем в результате ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Их исходным пунктом 1) могут быть подлинные НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ, и в этом случае результат будет АНАЛИТИЧЕСКИМ (в том смысле, который придавал этому слову Аристотель, а не в современном его смысле); 2) доказательство может начаться с МНЕНИЯ, и в этом случае результат будет ДИАЛЕКТИЧЕСКИМ (опять-таки в том смысле, который придавал слову «диалектика» Аристотель); 3) рассуждение может состоять в том, что говорящий просто играет словами, их оттенками, то есть может быть чисто словесным, и в таком случае Аристотель называет его СОФИСТСКИМ;
b) РИТОРИКА – это использование СЛОВ и СУЖДЕНИИ с целью убедить кого-либо в чем-либо. В ней есть три основных фактора – оратор, слушатели и речь. В риторике используются не силлогизмы, а другой вид аргументов – энтимемы. Энтимема – это суждение, которое передает уже существующее у слушателей отношение к обсуждаемой теме. Она отличается от силлогизма только тем, что ее результат – не новое знание, а действие. Существуют три вида энтимем: СУДЕБНАЯ, СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ И ЭПИДЕЙКТИЧЕСКАЯ (ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ);
с) ПОЭТИКА включает в себя как одну из частей теорию поэтического языка. Мы должны классифицировать слова: 1) по сфере применения языка (обычный стиль, наукообразный стиль, высокий стиль и т. д.), 2) по РАЗМЕРУ и ЗВУЧАНИЮ, а также по тому, какие изменяющие их «поэтические вольности» допустимы в стихах (элизия, удлинение и т. д.).
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – это беспристрастное объективное изучение того, что существует. Основные области, на которые оно делится, соответствуют видам того, что может быть реально познано объективным научным путем. Это (а) ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ, которая изучает все, что движется или изменяется18; (b) МАТЕМАТИКА, которая изучает неменяющиеся абстрактные модели и структуры, и (с) ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ (МЕТАФИЗИКА), которая изучает взаимодействие материи и идеи-формы в мире, где существует упорядоченное последовательное изменение:
а) ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ, то есть изучение всего, что меняется, в свою очередь, делится на три части соответственно типам изменения. Эти части – АСТРОНОМИЯ, БИОЛОГИЯ и НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. (1) АСТРОНОМИЯ изучает объекты, которые движутся только по кругу, никогда не стареют и никогда не отступают от строго кругового типа движения. Аристотель коротко описывает ее как «изучение вечных способных чувствовать субстанций». (2) БИОЛОГИЯ изучает все, что растет, умирает и производит на свет других особей той же разновидности. (3) НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ изучает неживые объекты, которые движутся по прямым траекториям каждый к тому месту, которое ему полагается занимать в зависимости от характерной для него силы притяжения;
b) МАТЕМАТИКА изучает область неменяющихся структур, чисел и соотношений. Аристотель четко разделил эту область на (1) АРИФМЕТИКУ и (2) ГЕОМЕТРИЮ и до некоторой степени предвидел возникновение (3) ОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ, которая стала бы изучать более абстрактные модели, общие для этих двух дисциплин;
c) МЕТАФИЗИКА, о которой будет более подробно сказано дальше, изучает то, как неменяющиеся идеи-формы выполняют функции образцов и целей в изменчивом материальном мире. В этом исследовании Аристотель пытается средствами философии оправдать существование и материализма и формализма.
3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – это результат изучения мира с точки зрения человеческой жизни, человеческой природы и ценности человека. Его предмет – (а) привычки и решения, которые формируют индивидуальный характер человека (этика);
(b) условности и учреждения, которые различные общества создают для достижения общего блага, и
(c) сложные взаимоотношения между природным и условным, благодаря которым человек приобретает в обществе «вторую натуру», более или менее соответствующую его идеалу самореализации (политика).
4. ПРОДУКТИВНОЕ ЗНАНИЕ рассматривает вещи с точки зрения того, что из них можно составить или создать. Оно делится на два основных раздела в зависимости от того, (а) приносят ли производимые вещи пользу как инструменты или средства для чего-либо – в таком случае это произведения ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, или же (b) они красивы и сделаны ради себя самих – тогда это произведения ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ.
Некоторые особенности этой схемы заслуживают отдельного рассмотрения. Первая из них – то, как именно Аристотель извлек пользу из новых для его времени исследований языка, которые были начаты софистами. В его системе изучение слов четко отделено от изучения вещей; таким путем Аристотель избегает того наивного отождествления вещи и ее названия, которое было у греческих мыслителей в более ранние времена. Вторая особенность состоит в том, что он в своей теоретической схеме нашел место и для материалистической, и для формалистической традиции: у каждой из них по-своему увиденная картина мира и свой предмет изучения. Третья особенность – то, что Аристотель разделяет чисто описательное изучение мира и его исследование с точки зрения этики. До софистов философы строили свои философии на основе изучения мира, не обращая внимания на природу человека и на его попытки реализовать добро либо в собственном характере, либо в планах, которые он разрабатывает для человеческого сообщества.
IV. Теоретическая наука
A. Философия природы
Хотя философия природы у Аристотеля делится на три основных раздела, фактически он изучает эту дисциплину методами, принятыми в биологии19. Именно к биологии у него самого был особенно большой интерес, и восхищение тем, что сделал Аристотель как биолог, не угасает вплоть до нашего времени. Биология также была областью, где учение о четырех «причинах» заставляло искать способ, позволяющий объединить, с одной стороны, Эмпедокла и атомистов с их теориями естественного отбора и, с другой, Академию с ее теорией, где ценности являются «причинами».
Биология изучает живых индивидуумов, которые вырастают, воспроизводят свой род и умирают. Формальные «причины», которые изучает биолог, – повторяющиеся типы, иначе говоря, виды живых существ, обнаруживаемые в природе. Материальные «причины» – ткани, органы и силы, дающие определенной идее-форме возможность обрести жизнь в качестве конкретного существа. Каждое живое существо рождается от родителей, принадлежащих к тому же виду. Действенными «причинами» являются эти самые индивидуумы-родители20. Инстинкт сохранения вида – это космическая сила; он порождает желание произвести на свет потомство. Смертный индивидуум все же имеет долю в бессмертии тем, что дает жизнь бессмертному виду или разновидности.
Аристотель оставил после себя большую и блестяще написанную книгу заметок о классификации животных («История животных»), где он выявляет существующие в природе разные типы живых существ. То же самое он сделал для процесса воспроизводства животных (книга «О размножении животных») и в этом случае исследовал ту область причинно-следственных связей, благодаря которой вид остается бессмертным. Он также написал классическую работу о материальных «причинах» в биологии – труд по сравнительной анатомии различных родов и видов («О частях животных»). Во всех этих работах он предполагает, что взгляд с точки зрения конечной причинности, то есть направления и цели, вполне правомерен при поиске научных объяснений21.
Каждое единичное животное или растение имеет свои собственные, заданные природой направление роста и последовательность его этапов. Каждое из них «старается» реализовать свои возможности, то есть стать зрелой особью своего вида. Котенок, например, сначала учится видеть, потом ходить, дальше играть, а после этого охотиться. Его органы согласованно и последовательно развиваются таким образом, чтобы котенок имел возможность стать взрослым котом. Формальная «причина» здесь выполняет и функцию «причины» конечной: идея-форма полностью развившейся взрослой особи определенного вида действует как цель и идеал, направляя рост индивидуума по определенному предсказуемому жизненному циклу, при этом внутреннее влечение индивидуума к раскрытию своих возможностей и его внутренние «силы» совместно руководят его физическим ростом и поведением. Аристотель не видел препятствий для того, чтобы природа была одновременно и необходимой последовательностью физических изменений такого рода, и постоянной реализацией цели. Когда физические изменения уже произошли, им всегда можно подобрать объяснения из области механики. Но эти изменения – не случайная совокупность столкновений частиц. Они доступным для понимания образом нацелены на то, чтобы индивидуум рос, и поэтому, чтобы их понять, лучше всего считать их частями единого целенаправленного усилия, которое совершается всюду в природе. Таким образом, в теории Аристотеля находится место как для механистической биологии Эмпедокла и атомистов, так и для взглядов Анаксагора и Академии, которые наделяли природу большей целенаправленностью.
Я потому уделил здесь довольно много места обсуждению конечной причинности в биологии, что в этом случае взгляды Аристотеля противоположны нашим современным – по крайней мере, обычно считают, что противоположны. Несколько сделанных одно за другим достижений технического характера привели биологов нашего времени к убеждению, что не существует никаких загадочных «жизненных сил», действие которых нельзя было бы объяснить химическими и физическими процессами, и они часто полагают, будто это доказывает ненужность и ошибочность аристотелевского понятия конечной «причины». Но биологи ошибаются, когда считают, что такие успехи прогресса, как синтез органических веществ из неорганических компонентов, противоречат взглядам Аристотеля: Аристотель тоже был уверен, что любому физическому изменению после того, как оно произошло, можно дать нецелевое механистическое объяснение. Теория эволюции заставила нас пересмотреть взгляды Аристотеля на количество видов в природе и на их неизменность, но это не снимает с рассмотрения вопрос о цели – о том, почему направление, в котором эволюционировала жизнь, практически не менялось. Может быть, Аристотель проложил путь для синтеза противоположных точек зрения – таких, как взгляды Спенсера, жившего в XIX веке сторонника «чистого механицизма», и Бергсона, который начал ХХ век доводами в пользу «творческой эволюции», в ходе которой действует целенаправленная сила.

ЧЕТЫРЕ «ПРИЧИНЫ» АРИСТОТЕЛЯ В ЗООЛОГИИ (S означает единичную особь)
Свою работу в биологии Аристотель вел одновременно со своими попытками показать, что одна и та же схема причинно-следственных связей действует в астрономии и в химии, двух других больших разделах природы. По сути дела, он подошел к изучению звезд и камней так, словно и те и другие – частные случаи понятия «живой организм». Работы Аристотеля действительно показали, что эти явления можно системно объяснить на основе его причинно-следственной модели. Однако из-за своей ориентации на биологию Аристотель сделал несколько принципиальных ошибок в объяснении того, каковы основные различия между живым и неживым, смертным и вечным.
Некоторые существующие в природе различия выглядели достаточно очевидными. В астрономии вещи были «вечными и чувствующими» и были способны только на один вид изменений – движение по кругу. В химии вещи стремились попасть каждая на свое «положенное место». Они изменялись, либо изменяя свои свойства – становясь горячими, холодными, влажными или сухими, либо перемещаясь по прямой. На своих положенных местах они находились в состоянии покоя, причем «более тяжелые» вещи располагались ниже «более легких».
Здесь становится очевидным, что Аристотель по складу ума был прежде всего биологом: тяжесть и легкость он истолковывал как конечные «причины», что-то вроде желания или силы самореализации, которая заставляет камень «хотеть» упасть. В случае с небом и звездами Аристотеля не удовлетворяла ни чисто математическая астрономия Академии, ни чисто механистическая у атомистов. Он попытался соединить их вместе с помощью одного решительного шага: предположил, что веществом, из которого состоит небо, является «пятый элемент» – эфир (aither по-гречески). Этот aither отличался от земных элементов тем, что его природа – круговое движение. Из этого предполагаемого нового вещества Аристотель попытался построить физическую модель – «хрустальные сферы», которые в какой-то мере стали бы конкретным воплощением чисто геометрических конструкций Академии в объектах механики22.
Но теории Аристотеля в области астрономии и химии, хотя и господствовали в науке в конце Средних веков, не были ни так тщательно разработаны, ни так свободны от неувязок между компонентами, как его биология23.
B и C. Математика и метафизика
Аристотель связал свою трехчастную схему с проблемой причинности и использовал ее как план для изложения истории существовавшей до него научной мысли. Представители материалистической традиции, в том числе атомисты, имели склонность изучать только естественные субстанции и поэтому действительно считали, что сфера философии ограничивается физикой; формалисты имели склонность сосредоточивать свое внимание только на абстрактных измерениях и классификациях и поэтому на самом деле полагали, что вся философия концентрируется в математике. Ни одна из этих точек зрения не может объяснить, как материя соотносится с идеей-формой, поскольку у материалиста нет методики для анализа идей, а у формалиста нет в его теории места для материи. Аристотель предложил доказательство того, что философия третьего типа – его собственная – может объединить эти две науки.
В схеме Аристотеля философия природы включает в себя все индивидуальные вещи, имеющие свою природу, то есть внутреннюю направленность, которая реализуется в изменении – движении, росте и так далее.
Математика имеет дело с неменяющимися количествами – числами, фигурами, соотношениями, которые математик рассматривает так, словно они существуют сами по себе. Однако в действительности такие вещи, как квадрат, не существуют отдельно от других вещей: только с помощью мыслительной операции математик абстрагирует идеальный квадрат от различных известных ему конкретных квадратов. Этот квадрат он представляет себе не как физический объект, а в математическом пространстве, которое доступно для понимания.
Метафизика занимается теми вещами, которые представляют собой неменяющиеся, отдельные одна от другой субстанции, а не абстракции. Аристотель утверждает, что такие отдельные одна от другой неподвижные вещи должны существовать, поскольку они действуют в формальных и конечных причинно-следственных отношениях.
В своей «Метафизике» Аристотель после вводной части, где он излагает историю философии, переходит к анализу, цель которого – показать, что живое существо всегда представляет собой сплав идеи и материи, то есть что для его существования нужны и материя, и идея-форма. Действительно, жизнь любого существа – это движение к идее-форме и проявление скрытой в этом существе силы (материальной и действенной «причин»), а направление пути задает актуальная идея (формальная и конечная «причины»). Затем Аристотель коротко напоминает нам, что чистая материя и чистая идея, предоставленные самим себе, никогда не стали бы ни взаимодействовать, ни образовывать сочетания; даже если бы прошло бесконечно много времени, мир все равно остался бы разделенным на не смешивающиеся друг с другом, как масло и вода, океан «чистой материи» (похожий на «все вещи вместе» Анаксагора) и множество ни к чему не прикрепленных «чистых идей», которые не были бы идеями чего-то24. Резкое разграничение материи и идеи-формы порождает вопрос о том, каким должен быть мир, где мы живем, если в нем возможно то взаимодействие формы и материи, которое мы наблюдаем25.
Для единичных естественных вещей ответ на этот вопрос – действие конечных и действенных «причин». Действенная «причина» вначале заставляет определенную часть материи начать путь к полному принятию вида, определяемого сответствующей идеей-формой. Она запускает процесс роста, на каждом этапе которого существует сила для того, чтобы принять вид, соответствующий новой идее, и желание достичь этой идеи. Завершающая полная идея-форма является целью, то есть идеалом, который заставляет каждую вещь сохранять тот уровень совершенства, которого она достигла, и стремиться достичь большего.
Разнообразие действующих в природе идей не безгранично: существует строго определенный набор их разновидностей, которые повторяются или существуют в течение долгого времени. Эта точка зрения заставляет нас предположить, что Аристотель, если бы от него настойчиво требовали ответа, признал бы, что индивидуальные особи в каком-то смысле являются материалом для этих избранных идей.
Вид остается неизменным и бессмертным, но последовательно воплощается в сменяющих друг друга индивидуумах, которые один за другим проходят характерный для него жизненный цикл. Это ясно показывает, в чем заключается разница между Аристотелевой идеей-формой и простой абстракцией.
Похожая модель причинности верна и для всего мира как целого. По утверждению Аристотеля, действенной «причиной», заставляющей начаться реализацию сил, в этом случае является энергия, поступающая с неба, прежде всего от Солнца. Так обеспечивается постоянный приток энергии извне, который необходим, чтобы процесс реализации сил шел без остановки. Но для того, чтобы объяснить, почему небеса не перестают двигаться, а материя продолжает улавливать и сохранять в себе идею-форму, философы, по мнению Аристотеля, должны также признать существование конечной «причины», которую он назвал «первичным двигателем».
Первичный двигатель – не механическая сила, которая толкает или тянет предметы; скорее это тот, кто движет и является целью желания. Сохранение идеи-формы и постоянное направленное изменение в природе, которые мы наблюдаем, имеют место потому, что «все вещи желают Бога». Хотя Аристотель часто называет первичный двигатель Богом, а иногда говорит о своей первой философии как о теологии, позже критики часто подчеркивали, что это не тот Бог, которого почитают верующие. Это скорее научный закон сохранения актуальности, чем Бог религии26.
Та притягательность, которой Бог продолжает обладать для мира, и объясняет, почему небеса постоянно вращаются: они желают достичь конечного совершенства, чтобы обрести свое надлежащее место и покой; а поскольку все точки круга одинаковы, небеса никогда не достигнут этой цели.
Эта же притягательность Бога является и «причиной» бессмертия видов – того постоянного желания произвести потомство и раскрыть свои возможности, которое управляет каждым живым созданием. Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к далекой конечной «причине» всей природы, первичный двигатель должен быть совершенным, неменяющимся и чисто актуальным. Аристотель предполагает, что можно провести аналогию между первичным двигателем и «чистым разумом». Наши собственные способности к творческим озарениям тоже являются силами, но не физическими и не имеют протяженности во времени. Аристотель описывает их как мгновенные реализации (сравните это с мифами Платона, в которых знание – это припоминание).
При определении природы такого божественного разума возникают проблемы, и Аристотель исследует некоторые из них. Поскольку Бог не имеет тела, а значит, не имеет и органов чувств, он не может познавать конкретные материальные единичные вещи нашего мира. Аристотель считает это признаком высшего совершенства: временные и случайные вещи не стоят того, чтобы Бог их познавал. Божественная мысль – это «мысль, мыслящая сама себя», – описание, которое ставит читателя в тупик. Иногда это понимают как постоянное недифференцированное осознавание себя самого. Но Аристотель явно имел в виду что-то другое, поскольку осознавание себя самого по его определению – одна из операций нашего обыденного сознания, которого у Бога быть не может. Вечно бездействовать и не думать ни о чем совершенный разум тоже не может, «поскольку», спрашивает Аристотель, «что в этом достойного?». Более поздние замечания Аристотеля о «добре в природе», в которых он говорит, что оно «является и вождем, и порядком», заставляют предположить, что, возможно, Бог созерцает вечные идеи в их прекрасной системной взаимосвязанности. Это не противоречит словам «мысль, мыслящая самая себя», поскольку, если речь идет о нематериальных вещах, «мысль и вещь, о которой мыслят, – одно и то же». Не будет противоречить сказанному выше и предположение, что чистый разум может познавать идеи отдельно от их материальных «причин»: это иногда могут делать и наши человеческие умы.
В любом случае очевидно, что представление Аристотеля о Боге действительно далеко от более ранней наивной веры во многих богов, у каждого из которых человеческое тело и капризный нрав27. Аристотелево описание Бога, который может быть познан с помощью теоретической науки, конечно, оставляет открытым вопрос о том, что может прибавить к этому знанию религиозная вера, основанная на чем-то ином, чем теоретические исследования. И действительно, учение Аристотеля, который доказывает, что наука нуждается в Боге, но мало что способна узнать о Нем, может служить философским введением к трем различным религиям, каждая из которых утверждает, что заменила этот вывод древнего философа другим умозаключением, более подробным. В III веке н. э. такой религией был неоплатонизм, в XII – ислам, в XIII – христианство.
Однако у Аристотеля притягательная сила идеи-формы всегда действует специфически и избирательно. «Все вещи желают Бога» нужно понимать так: каждая вещь желает достичь совершенства, но совершенства в своем собственном роде. Плоский червь стремится раскрыть свои возможности, но все, на что он способен, и его единственная цель – стать идеальным взрослым плоским червем. Аристотель считал, что у каждой разновидности вещей есть своя конечная «причина» и что было бы безответственным уходом в поэзию говорить, будто у плоского червя есть какая-то неосознанная жажда выйти за пределы собственной природы и стать человеком или звездой28. Эта точка зрения Аристотеля отразилась в его астрономии, зоологии и метафизике. В астрономии «первичный двигатель» является конечной «причиной» для «первого неба» – самой внешней сферы, период обращения которой равен одному дню. Но все другие перемещения планет и Солнца, поскольку у них разные скорости и разные направления движения, должны были иметь другие конечные «причины»; количество этих «причин» было равно количеству независимых друг от друга движений составных частей неба. Основываясь на работе ученых Академии, Аристотель считал, что количество этих движущихся низших разумов равно «либо 47, либо 55». Но он не исследовал подробно различия между ними, возможно, потому, что не видел никакой возможности проверить такие рассуждения опытным путем.
В зоологии Аристотель создал учение о вечности видов. Он считал, что количество разновидностей живых существ задано раз и навсегда и что природа наделила каждую такую разновидность бессмертием. Было и еще одно положение, вытекавшее из его концепции конечных «причин». Поскольку особь определенной разновидности существ является частью общего порядка природы лишь потому, что имеет какую-то ценность, а каждый индивидуум старается наиболее полно реализовать себя, структуру своей разновидности, то мы можем сказать, что материалистическая, иначе описательная, наука пытается классифицировать вещи без учета целей и ценностей, а формалистическая, иначе платоновская, наука пытается классифицировать вещи по влекущим их к себе притягательной силой идеалам. Поскольку все, что существует, становится одновременно ограничением материи с помощью идеи и поиском ценности, в Аристотелевой философии природы уже не действует старая дихотомия ценности и факта.
В математике это дает следующий результат: природа предоставляет математику готовый пример симметрии, системы и порядка, и он руководствуется этим примером, когда исследует безграничную область возможных абстракций.
Понятию «сила» Аристотель придает расширенный смысл, включая в него возможность и потенциал, и помещает его определение непосредственно перед рассуждением о «первичном двигателе». Для этого толкования потребовалось ввести очень важное с философской точки зрения различие между видами сил. В природе существует два таких вида. Как правило, вещи имеют «одностороннюю» потенциальность: огонь обладает силой гореть, но не противоположной горению силой замерзать; желуди имеют силу развиться в дубы (если не помешает что-то извне), но не в особей какого-нибудь другого вида. Каждая разновидность животных имеет набор сил, которые заранее заданным образом развиваются в направлении, ведущем к специфической для этой разновидности цели. Каждая природная потенциальная возможность прочно связана с какой-либо одной формально-конечной «причиной», которая направляет и ограничивает ее «актуализацию»33.
Но человек в этом отношении является исключением благодаря своему уму, который наделяет его двухсторонней потенциальностью. Врач (возьмем один из тех примеров, которые часто применяет Аристотель) имеет силу не только лечить, но и убивать. Похоже, что на уровне человека ум всегда обладает такой свободой. Вследствие этого природа человека не всегда автоматически подсказывает ему единственную модель привычного или иного поведения, как это можно наблюдать у пчел и муравьев. Для человека естественно стремиться к очевидному благу. Конечная «причина» влечет его к себе. Но природа и поведение человека испытывают воздействие ошибок, несчастных случаев и ответственности за выбор и этим сильно отличаются от всей остальной реальности. Из этого Аристотель делает вывод, что такая наука об обществе, о которой мечтал Платон, невозможна29. Свобода возникает из-за особого места человека в метафизической картине мира. Это значит, что природа не командует развитием ума и душевного благородства. Каждый человек, чтобы развить в себе эти качества, сначала должен сам свободно решить, будет он это делать или нет. Человеческий ум может лишь в самых общих чертах представлять себе, какого рода привычки, какой тип характера и какие виды учебных занятий ведут к полному раскрытию возможностей человека. Вся остальная природа воплощает в себе закрытое множество идей, а свобода человека приводит к созданию множества новых идей – общественных институтов, нравственности и произведений изящных искусств. Эти созданные человеком идеи по природе и функциям похожи на формальные «причины» в теоретической науке, но изобретательность человека действует постепенно, и у идей-форм, которые она создает, идеальное не совпадает, как у природных видов, с актуальным. Конечная «причина» человека задана ему природой, но у его пути к ней есть много боковых ответвлений, из которых он может выбирать, и они проходят через разные идеи. То, что любой набор общественных институтов и законов, который могут разработать люди, обладает какой-то ценностью, создает для нас постоянную опасность упустить большее благо ради обладания тем, что всего лишь неплохо. Или же мы можем потерять благо, которое имеем, если уничтожим какую-то общественную идею, желая ее улучшить, а замену ей найти не сумеем.
Таким образом, практическая наука, то есть изучение человеческой природы и поведения людей, смотрит в неизвестное будущее, у которого может быть много вариантов, и не может знать его всегда и абсолютно точно. Тем не менее и практическая и теоретическая наука являются частями одного и того же реального мира и обладают четырьмя измерениями причинности.
Аристотель по-новому определяет роль философа. Дело философа – делать яснее методы других специалистов, начиная с астрономов и кончая конгрессменами и поэтами, но при этом, в свою очередь, признавать открытия каждого из этих специалистов истинными в той дисциплине, которую специалист изучил. Это вовсе не дает знатоку права прятаться за мелкие профессиональные особенности его данных и заявлять что-нибудь вроде того, что никто не может понять современную физику, если не научился пользоваться уравнениями квантовой теории. В любом мире, где теории имеют какую-либо объяснительную силу, каждая область научных исследований имеет несколько основных понятий, которые определяют ее предмет и используются для объяснения каких-либо черт того или иного явления путем логического вывода следствий из «причин». Эти «принципы» способен понять любой студент, достаточно подготовленный для гуманитарного образования30.
Лекции самого Аристотеля по сравнительной анатомии, дисциплине, которая, по тогдашним представлениям, имела дело с «отвратительными вещами» и не подходила для включения в состав гуманитарного образования, выразили своей тематикой выдающуюся мысль Аристотеля: если действительно вся природа упорядочена однотипно, то – делает он вывод – наука должна двигаться вперед по пути специализации и узкопрофессиональных исследований; но любая наука, смысл которой не затуманили своими произвольными действиями специалисты, не имеющие четко определенной методики, может изложить свои принципы на языке четких терминов, которые пригодны для общеобразовательных курсов, входящих в программу гуманитарного образования. И если исследования, проведенные Аристотелем (или их распространение на другие области в наше время), доказывают, как он полагал, что вся действительность состоит из одинаковых и одинаковым образом упорядоченных причинно-следственных связей, это требование четкого формулирования принципов должно оставаться в силе и теперь. Но оно должно быть скорректировано другим открытием Аристотеля – пониманием того, что лекции и дискуссии не могут заменить работу непосредственно с предметом исследования: одна диалектика не наполнит слова смыслом, это могут сделать только опыт и эксперимент31.
V. Практические науки
A. Политика
Начнем с причин, а для этого заглянем в труд Аристотеля «Политика». В политической теории, как и в философии природы, Аристотель обнаруживает два традиционных типа взглядов. С одной стороны, существуют формалисты и идеалисты, которые говорят только о формальных и конечных «причинах». Они делают вывод, что, поскольку отдаленная конечная «причина» – оттиск одинакова для всех обществ, различия в политике между обществами нереалистичны, и единственной задачей политической теории становится просвещение всех людей для того, чтобы они начали ясно видеть эту общую для них абстрактную цель32.
В этой точке зрения есть две коренные ошибки. Во-первых, отдаленная «причина» конкретизируется до пригодной для реализации степени лишь через посредство специфических промежуточных «причин». Например, всемирное братство свободных людей – идеал, приемлемый для большинства народов современного мира, – делается специфическим, когда приближается к реальному воплощению с помощью таких средств, как свободное частное предпринимательство, пролетарская революция, равенство возможностей, распределение потребительских товаров поровну, одна религия для всего мира и т. д.33 Каждое из этих средств может служить для достижения хорошей и приемлемой цели, но не может совмещаться с остальными, если рассматривается как конкретная социальная цель. Во-вторых, формалисты ошибаются, когда считают, что только формальные и конечные «причины» – идеалы и законы – являются реальными «причинами» общества. Формалист имеет склонность нереалистически основывать все на конституциях, договорах и законах. Он забывает, что устав, написанный на бумаге, – это еще неработающий общественный институт. Предположим, например, что какое-то сообщество людей посчитало свою конституцию (которой оно в высшей степени довольно) самой лучшей и стало экспортировать ее во все другие страны, которые желают достичь такого же уровня промышленного и культурного развития, как у этого сообщества. В результате государства в Соединенных Штатах и, скажем, в Республике Конго на бумаге будут одинаковыми – но лишь на бумаге. Например, те специфические формальные «причины», которые лучше всего действуют при высоком уровне образования, окажутся совершенно не способны обеспечить существование эффективно работающего представительного правительства там, где уровень образования низок. Слабость любой центральной власти, естественная для Древней Греции с ее горными хребтами, вероятнее всего, привела бы к катастрофе на огромных возделанных крестьянами египетских равнинах возле Нила. Договор Афин, скажем, с Персией не произвел бы на Аристотеля хорошего впечатления, если бы этот договор полностью противоречил интересам Персии и ее традиционному влиянию на побережье Малой Азии.
Он предсказал бы, что такое формальное соглашение, не учитывающее материальные «причины» и непригодное для эффективного претворения в жизнь, не сможет стать реальностью. Но Аристотель также знал о противоположной традиции в практической политике и политических дискуссиях и ее тоже критиковал. Политики-реалисты, начиная с абстрактных теоретиков-софистов и кончая практиками, определявшими политическую тактику греческих городов-государств, единогласно считали, что политика – это стремление к власти и выгоде. Для таких политиков утопии были только поэзией, и ничем больше, а ход истории определялся богатством народов, контролем над ресурсами и средствами производства и приходом к власти тех или иных людей. При этом подходе законы, конституции и идеалы не принимались в расчет, так как считались всего лишь условностями, которые умный человек может использовать, чтобы добиться преимущества для себя.
Такие взгляды не удовлетворяли Аристотеля, видимо, по причинам того же рода, что и причины, из-за которых Сократа перестала удовлетворять ионийская наука. Аристотель признавал, что и богатство и сила – необходимые составные части политических союзов. Но, утверждал он, реальные общественные институты и идеи, которые служат каналами для движения богатства и силы, тоже играют определенную роль как «причины». Афинская демократия и сиракузская тирания отличаются друг от друга только этими формальными сторонами общественного устройства – вот как много могут они значить.
Материальные богатство и сила не порождают автоматически ту или иную форму правления, а являются сырьем, из которого может быть (и было) построено много разных видов государства34. Из этого с очевидностью следует, что в политическом споре так же, как в философской дискуссии, последователь Аристотеля чутко реагирует на опасности, которые возникают, если дискуссия ведется на основании неполного анализа. Если один человек видит роль формальных и конечных «причин» и говорит лишь о них, а другой в ответ на это признает действительно значимыми только действенные и материальные «причины», этот спор будет продолжаться бесконечно.
Примером того, какое большое значение имеет этот анализ в нашей сегодняшней общественной ситуации, является аристотелевская роль Ричарда Маккейна в политических дискуссиях, особенно в дискуссии на симпозиуме ЮНЕСКО в 1953 году. На этом симпозиуме и западные участники, и участники-марксисты восхваляли демократию, но, когда их просили дать определение демократии, западная группа основывала его почти лишь на одних конституционных гарантиях и установленных законом правах, а марксистская излагала свою точку зрения почти только в терминах собственности на средства производства и свободы от формального классового угнетения35.
Женевские дискуссии по разоружению, происходившие за два года до того, как были написаны эти строки, – еще один пример, когда проявилась эта поляризация точек зрения. Советские делегаты, обсуждая всеобщее разоружение, говорили о нем в терминах потенциалов для производства оружия, а представители Запада – в терминах законодательства, позволяющего контролировать уже существующие оружие и базы. Вполне возможно, эта разница подходов частично была вызвана скрытыми мотивами, но играло роль и различие философских подходов к определению того, что такое настоящее разоружение. Эти два представления о разоружении были основаны на альтернативных неполных анализах причинно-следственных связей. Возникавшие в результате разногласия, не будь они правильно поняты, могли бы привести к взаимному недоверию и подозрительности, несмотря на самые лучшие намерения сторон.
Политическая теория у Аристотеля сложнее, поскольку государство, хотя оно явно не единичное живое существо, все же представляет собой что-то близкое к живому организму36. После того как идея начала существовать во времени и пространстве, она старается поддержать свое существование и, похоже, почти совершает действия в целях самосохранения. Государство – воплощение этой тенденции. Общественный институт имеет встроенную в него конечную «причину» – цель, для достижения которой он служит особенно хорошо. Более отдаленная конечная «причина» – благо и свобода людей – важнее, чем встроенная. Простое сохранение какого-либо общественного института может препятствовать осуществлению этой цели, но общественные институты не хотят расставаться с реальностью и цепко держатся за нее. Почти кажется, что они участвуют в желании бессмертия, которое есть у всех природных субстанций37. Государство в системе Аристотеля занимает свое собственное особое место. Оно – не истинный «организм», которым, по мнению Аристотеля, его делал Платон, в чем Аристотель упрекает своего учителя. Но государство и не условность, которая не существует отдельно от граждан, из которых состоит, как сказали бы софисты или Демокрит38. Политическая теория Аристотеля учитывает тот факт, что в политической истории есть и диалектическое развитие, и непредсказуемые изменения.
B. Поэтика
В поэзии и этике так же, как в политической теории, свобода человека делает возможным появление новых вещей – нового вида искусства, новой конституции, нового представления о духовном благородстве человека. Конечная «причина» в этих областях господствует меньше, чем в остальной природе, как ее представлял себе Аристотель, и допускает более чем одно направление, более чем одну форму своего выражения.
Произведения изящных искусств, законы и сам характер человека не являются природными в том строгом смысле этого слова, в котором оно применяется ко всему остальному миру от астрономии до химии. Однако то, что искусственные вещи реальны, придает и им тоже ту четырехмерность, которая понимается и объясняется с помощью «причин».
В 30-х годах XX века в Чикагском университете было сделано открытие, что история литературной критики может быть понята как постоянный перенос центра внимания с одной из четырех «причин» на другую при отсутствии сбалансированной точки зрения, при которой в центре было бы то произведение искусства, которое анализируется.
Критик может, например, сосредоточить свое внимание на выразительности, то есть на авторе как действенной «причине»; на стиле, то есть среде – носителе материальной «причины»; на идее, то есть на истине или сообщении как невоплощенной формальной «причине» (это платоновское представление о них) или на воздействии на аудиторию, то есть риторическом сведении художественного произведения к отдаленной конечной «причине». Объединяет все эти четыре аспекта само произведение.
Это имеет достаточно большое сходство со способностью природной субстанции фокусировать на себе и объединять четыре измерения причинности, каждую из которых другие критические теории анализируют отдельно от остальных. И художественное произведение настолько является существующим, что, как и в природе, конечная «причина» – истинное эстетическое удовольствие – кажется, встроена в само произведение и не зависит от случайной реакции аудитории39.
Этот подход к искусству прекрасен, если не забывать о двух вещах. Во-первых, у произведения есть значимые «причины» вне его. Во-вторых, метод, предлагаемый в «Поэтике», – критический, а не творческий. Равновесие четырех «причин» возникает после того, как творческая энергия, пластичная среда и фиксированная формальная структура откорректировали положения относительно друг друга и наконец достигли устойчивого состояния, при котором хорошо уживаются вместе. Может быть, эта «аристотелевская» тенденция в современных критических дискуссиях иногда заходит слишком далеко. Возможно, равновесие «причин» возникает при завершении любого произведения, но, как это равновесие создается, не говорят ни сам Аристотель, ни его последователи40. Впрочем, Аристотель не обещал сказать это, и его великое доказательство также не требовало от него это говорить. А вот положение Аристотеля о том, что художественное произведение достаточно похоже на субстанцию, чтобы иметь те же измерения причинности, верно: это подтверждают современные работы.
C. Этика: человеческое «я»
Этика – это изучение человеческой индивидуальности. Предмет исследования у нее тот же, что у политики, но центр внимания другой. В этике Аристотель исследует природу человеческого «я» и его развитие. Опираясь на открытия Сократа и Платона, он посвящает десять книг «Никомаховой этики» вопросам реализации человеком своих возможностей. В каждой книге к уже рассмотренным уровням самореализации добавляется еще один новый, и возможности человеческого «я» расширяются. Начиная с ядра «я» – субъективной чувствительности – мы развиваем наши человеческие силы и в конце концов доводим их до уровня родства человеческого «я» с космическим разумом – первичным двигателем. «Этика» – одна из немногих книг в своей области, в которых автор дает читателю советы по самосовершенствованию и сообщает некоторые технические приемы самооценки. Наше британско-американское представление о джентльмене выросло в основном из первой половины «Никомаховой этики».
Этика исследует человеческое «я». Деятельность человека находится где-то посередине между свойственным природе повторением типичных индивидов и непредсказуемыми процессами, породившими чудовищ у Эмпедокла. Это объясняется тем, что сам человек занимает в Аристотелевой Вселенной совершенно уникальное место. Если бы люди были звездами, у них не было бы ни проблем, ни решений: они вели бы себя одним и тем же предсказуемым образом, двигаясь виток за витком по круговой орбите, где нет точки покоя – места, которое было бы предназначено им природой и в котором они могли бы остановиться. Если бы люди были элементарными частицами, они бы сталкивались между собой и отскакивали друг от друга случайным образом под влиянием постоянной слепой жажды двигаться самым коротким путем к своему «положенному месту» в центре мира. Но человек – это сложная равновесная система из нескольких уровней инстинкта, привычки и ума; он имеет смутное интуитивное представление о том, в каком направлении находится его природная конечная «причина», но в его психику не встроен, как у муравьев и пчел, заранее заданный единственный путь к ней41. «Этика», в которой Аристотель прослеживает становление человеческого «я» до полной зрелости, еще раз показывает, что для раскрытия возможностей человека имеют значение все четыре «причины». Аристотель пытается с помощью аккуратного анализа и большого количества разграничений показать, как из накопленных привычек и стремления выйти за пространственно-временные рамки одной жизни может возникнуть личность42. Он начинает показом того, как повседневный язык с помощью похвалы или порицания обусловливает социальное поведение каждого человека, а кончает свой анализ рассмотрением того, как полностью раскрываются возможности человека, если он смотрит на мир под теоретическим углом зрения43.
Этапы имеют сложную структуру, и это заставляет Аристотеля для рассмотрения подробностей делать большие отступления от главной темы, что мешает видеть основную конструкцию его мысли. Кроме того, он нередко приводит слишком частные примеры для иллюстрации интуитивного открытия, которое можно сформулировать более обобщенно (например, когда иллюстрирует перечислением конкретных случаев свое знаменитое определение морального совершенства: наивысшее благородство в том, чтобы всегда быть посередине между крайностями вожделения или страсти). Но к началу третьей книги «Никомаховой этики» становится очевидной позиция самого Аристотеля. Даже наш обычный язык показывает, что мы восхищаемся «тем, что благородно», то есть конечной «причиной», не совпадающей ни с простым одобрением общества, ни с личным комфортом, но становимся мы тем, чем делают нас привычки, которые формируются внутри определенной культуры44.
Интерес наших современников к этике, политике и теории поэзии Аристотеля возник, я полагаю, оттого, что в результате внимательного наблюдения за фактами Аристотель признал: его четыре «причины» не диктуют вещам неизменное повторение типа в тех случаях, когда в предмете изучения присутствуют свобода и изобретательность. Без философского тезиса о четырех «причинах» труды Аристотеля в области практической науки и эстетики казались бы нам безнадежно устаревшими. Соблазнительно думать, что в определенном контексте этот тезис может оказаться верным, хотя сам Аристотель неправомерно применил его в астрономии, зоологии и остальной философии природы45.
D. Заключение
Аристотель с его гениальным даром структурирования и открытием, что реальность постижима в подробностях, написал для греческой философии подходящий для нее конец. Он был слишком большим оптимистом, когда думал, что разум после нового в то время открытия – разработки методов обобщения и дедукции – стал способен дать ответы на все вопросы, касающиеся фактов, и на все философские вопросы, и был слишком склонен доверять природе, когда считал, что она всегда точно следует типу и поэтому, проводя наблюдения, достаточно сделать их одно или два. Тем не менее то, что сделал Аристотель, может считаться одним из крупных достижений человеческого духа на пути к тому, что благородно.
Сегодня у нас может возникнуть ощущение, что Аристотель, возможно, был бы справедливее к жившим до него мыслителям, если бы проявил больше внимания к их неприглаженным мощным откровениям, выходящим за границы того обычного мира, сохранением и упорядочением которого занимался он сам. Темный космический поток Гераклита, пророческое ясновидение, путем которого Платон постиг, что идея добра всего одна, и восторг Эмпедокла по поводу естественного отбора следовало ослабить и приглушить, чтобы стало возможным классифицировать и аккуратно совместить идеи, составив из них единое целое46. Тем не менее открытие Аристотелем того, что классификация способна разгадать тайну многомерности всех, даже самых обычных вещей, и сочетание у него страсти, широкого кругозора в теоретических рассуждениях и точности делают его одним из величайших философов всех времен47.
Авторитет Аристотеля признан во всем мире; например, в XIII веке Жиль из Рима, автор трактата «Ошибки философов», начал свою книгу так: «И первым перед читателем пройдет Аристотель…» В нашем рассказе о возникновении философии в греческой мысли Аристотель прошел перед читателем последним. Это дает ему преимущество – позволяет сказать последнее слово перед тем, как параллельно с изменениями в обществе мыслители также изменились и стали проявлять интерес к другим темам и способам рассмотрения тем, ставшим характерными для эллинистической и раннехристианской мысли. По сути дела, в практических работах Аристотеля допущения и иллюстративные примеры взяты из эпохи, которая во время написания этих работ подходила к концу. Эта ирония судьбы вызвала к жизни замечание Гегеля: «Сова Афины вылетает в сумерках». Но завершающее слово Аристотеля, несмотря на устарелость своей иллюстративной части, сказано с высоким профессионализмом и большим мастерством. От своего времени до наших дней он был не только одним из трех или четырех наиболее изучаемых и вызывавших наибольшее восхищение философов, но и одним из тех мыслителей, которые сильнее всего повлияли на формирование нашего образа мыслей.
Заключение
После смерти Аристотеля в 322 году до н. э. философы отказались от честолюбивого намерения покорить мир и стали покорять себя. В послеаристотелевских Афинах существовали четыре школы, которые поддерживало государство, пока Юстиниан не закрыл их в 529 году н. э. Это были стоики, эпикурейцы, академики и перипатетики – школы, представлявшие четыре разные традиции1.
Общим для всех четырех школ было ощущение философии как утешения в мире, где человек чувствовал, что сам по себе мало значит. Философию занимало, как сохранить человеку его достоинство и примирить его с существующим устройством мира. Круг вызывавших любопытство тем, ранее широкий, сузился; исчезла дерзость мысли.
Если сравнить музей в представлении Аристотеля с Александрийской библиотекой или Академию Платона с библиотекой Адриана, то станет видно: что-то изменилось, и изменилось коренным образом2. Аристотель, хотя и был до мозга костей наблюдателем и собирателем, никогда не считал, что собирание само по себе имеет какую-то ценность. Его задачей было изучать и классифицировать для того, чтобы узнать, как основные типы и причинно-следственные связи проявляются в каждой изучаемой области3. Александрийская же библиотека была воплотившейся в образе учреждения идеей, что просто собирать – хорошо, поскольку накопление данных и источников для справок неизбежно улучшит понимание. Таким образом, исходная программа «собирать, классифицировать, объяснять» была сокращена до «со-бирать»4. Тем временем Академия стала центром философии скептицизма. Платон убедил своих последователей, что, если бы не было платоновских идей-форм, достоверное знание не могло бы существовать, но последователи не верили, что эти идеи доступны человеческому уму. Они отстаивали свой скептицизм частично как этическую позицию: человек может избежать страданий, если станет воздерживаться от суждений и не будет ожидать того, что в действительности может и не произойти, а также смешивать уверенность с вероятностью. Обратите внимание, как сильно эта точка зрения, в особенности ее центральное положение, что идеальная жизнь – та, в которой человек избегает страданий, отличается от более ранней греческой философии, которая высказывалась утвердительно и активно участвовала в жизни5.
По странной иронии стремление эллинистических школ к конкретности и практицизму дало в результате академичные и абстрактные взгляды на жизнь. Римский мир не был удовлетворен советом «смотреть на вещи философски». Вместо этого он обратился к новым формам религии, которые могли предложить человеку что-то более конкретное и близкое к жизни. В частности, христианство удовлетворяло эту потребность так, как этого не делала академическая философия. Став официальной религией Римской империи, а потом религией всего ее населения, христианство по-новому сориентировало философов6.
Но греческое представление о философии, а с ним пример и основные идеи великих философов Греции продолжали воздействовать на умы в течение всей истории Запада. То платонизм подсказывал богословию метод составления формулировок, то воскресший интерес к Аристотелю подсказывал альтернативную модель для философской мысли. Гуманизм Платона вдохновлял мыслителей эпохи Возрождения. Логика и диалектика Аристотеля вызывали восхищение у немецких философов-критиков и идеалистов. Атомистическая теория, которой не давали слова в Средние века, была возвращена к жизни в эпоху Возрождения и снова стала участвовать в споре наряду с более субъективными и умозрительными идейными си-стемами7.
В определенном смысле Аристотель завершил то, что было главным достижением мыслителей античной эпохи. Когда человеческий разум ясно представил себе как идеал систему, способную упорядочить многочисленные обобщения и концепции, которые человек строит на основе ощущений и воспоминаний, становится возможной попытка определить основной план, по которому может быть открыт или создан систематический порядок. В начале истории греческой мысли философы делали блестящие открытия интуитивно. Они начали видеть разные аспекты бытия – материю, форму, поток, субстанцию – и выражали свои новые мысли резко, отрывочно, ярко и оригинально. Их прозрения не сопровождались особенно ясным анализом, и они не проводили те различия, которые к нашим дням так прочно вошли в наш язык и наше повседневное мышление8.
Когда жившие позже мыслители продолжали исследовательскую работу этих первооткрывателей и закрепляли достигнутые ранее успехи, на передний план вышли четыре способа упорядочения понятий. И история философии от Древней Греции до наших дней, похоже, подтверждает ту точку зрения, что эти четыре способа – самые эффективные и самые устойчивые к воздействию времени по длительности и постоянству применения методов упорядочения большого количества понятий. Это 1) анализ – разложение на составные части; 2) синтез – построение из понятий формальных иерархических структур, сходящихся к какой-то вершинной точке – высшему закону или высшей идее; 3) интуитивное признание существования в природе непрерывно действующей творящей силы и непрерывного движения; и 4) классификация по принципу «тип – его единичные представители» независимо от размера отдельных единиц классификации и того, можно ли их собрать в одну общую иерархическую систему.
Этим четырем способам была суждена долгая жизнь: в течение всей последующей истории западной философии они возникали и возникают перед человеком всегда, когда он старается постичь своим разумом бытие во всем его объеме9.
А наши собственные умы, насколько они ушли вперед от исходной точки – встречи с вопросом о первооснове вещей? Мы признаем ряд очевидных различий, которые уже стали привычными, и видим перед собой мир факта разгороженным на отдельные участки. Вопрос вроде хайдеггеровского «Что такое бытие?» мы не можем понять без опосредования. Ответить на него напрямую, то есть через свою интуицию, тоже не можем.
Взгляд назад, на те времена, когда философия была молодой и наивной, не приводит нас к убеждению, что надо отказаться вообще от всех разграничений: это значило бы отказаться от одного из самых мощных инструментов мышления, разработанных людьми. Но мы осознаем, что фактически и сегодня думаем о мире так, как думали о нем древние греки. К такому выводу пришел Уайтхед в отношении науки, когда писал о ней, и этот вывод в достаточной степени справедлив также для нашей обычной некритической реакции на предметы и явления10.
Еще одну мораль рассказа о греческой мысли читатель должен сформулировать для себя сам, поскольку она касается темы, которая является одновременно деликатной и спорной. Я лишь старался, все время оставаясь как можно ближе к истории, проследить интересную обратную зависимость: чем более широкими по охвату становились представления философов о мире и чем больше было в них аккуратного порядка, тем дальше уходили философы от непосредственного личного выражения своих мыслей (в форме поэтического произведения или речи). Философы ушли с моря и поселились в городах, ушли с Агоры и стали хранителями Музеума, ушли из жизни, из своих домов в Афинах и остались жить лишь в виде написанных слов, свернутых в свитки и поставленных на соответствующие полки в огромной Александрийской библиотеке. Многие поколения людей тратили свою жажду познания на то, что устраивали допрос миру с позиции простодушного полностью объективного свидетеля. Им было достаточно постигать то, за чем люди могут наблюдать с интересом и удивлением; они не пытались заниматься одновременно с этим еще и наблюдением. Но вот парадокс: литературные формы, которые они выбирали для передачи своих мыслей, показывают, что в ту досократовскую эпоху философ не чувствовал себя отгороженным от жизни никакими преградами – ни языком, ни концепцией, ни обычаем. Хотя его учение и было твердокаменно объективным, форма выражения у философа, напротив, была полностью включена в жизнь общества с его заблуждениями. Идеалом философии на первых порах было что-то близкое к вдохновенному возвещению напрямую людям какого-то важнейшего интуитивного открытия, без контроля и экстраполирования, которых рассудок совершенно справедливо требует от вдохновенного озарения. Но возможно, на этапе перехода от поэмы к диалогу, а возможно, при переходе от диалога к лекции контроль, которого требовал рассудок, стал сильным (может быть, даже слишком сильным) и принес с собой осмотрительность и точность, не оставившие места для вдохновения11.
Однако западная цивилизация не только твердо придерживалась концепций, предполагавших расстановку компонентов и измерений мира по местам и дачу им определений; греческая философия всегда оставалась для нее манящим идеалом. Объединение всего знания и всего опыта в непротиворечивую упорядоченную картину мира продолжает оставаться вдохновляющей целью для западной мысли. Эта цель не всегда действует с максимальной эффективностью в самой философии (имеется в виду философия в узком смысле слова). Цель может воплотиться в идеале единства науки, в идеале слияния в единое целое частей человеческого «я» или в идеально уравновешенном общественном порядке.
Мы можем давать очень разные ответы на вопросы о том, насколько величайшие мыслители античности приблизились к этому идеалу для своего времени, и даже на более общий вопрос о том, в какой степени их системы имеют (и имеют ли вообще) значение для нас в нашей сегодняшней общественной ситуации. Но – словно история взялась доказать тезис Платона о том, что идеалы действуют в мире времени как причины, – мы обнаруживаем, что идеальная цель – системность, единство, непротиворечивость и простота умозрительной картины – постоянно ведет западную цивилизацию в ее «приключениях ума», которые направляют реальное «приключение» – жизнь этой цивилизации.
Примечания
Фалес
1 О разных взглядах на значение и оригинальность Фалеса и двух его преемников из Милета можно прочесть в тех работах по истории раннегреческой философии и греческой науки, которые перечислены далее в списке литературы.
2 Интересную реконструкцию Милета см. в книге K. F r e e m a n, The Greek City States (К. Фримен) New York, 1950, глава I. См. также работу Барнета (Burnet) и Гатри (Guthrie). Многие рассказы о Фалесе сохранил Диоген Лаэрций в своем «Жизнеописании Фалеса», написанном в III веке н. э., хотя некоторые были широко известны еще во времена Геродота и Платона.
3 Возможно, процесс эволюции идей таков, что переходные формы имеют какое-то внутренне присущее им одним свойство, которое делает их особенно трудными для восстановления по сохранившимся фрагментам.
4 Утверждение Фалеса цитируется по Аристотелю, «Метафизика», 983М7.
5 Сравните приведенные выше замечания об отсутствии в ионийском мире самых фундаментальных для современного человека различий.
6 F r a z e r J a m e s. The Golden Bough (Д. Фрэзер). Гатри объясняет это предположение и показывает, как оно применяется к греческой предфилософской мысли.
7 N e u g e b a u e г O. The Exact Sciences in Antiquity. У О. Нойгебауэра было показано, что естественные науки и математика Вавилона продвинулись вперед дальше, чем предполагали ученые, но это не вносит существенных изменений в итоговый вывод о самобытности греков. См.: S a m b u г s k y S. The Physical World of the Greeks (С. Самбурский); C l a g e t t M. Greek Science in Antiquity (М. Клэджетт). По поводу «оккультного знания» древних египтян, предположительно воплощенного в размерах Великой Пирамиды, см. забавную и точную третью главу статьи N o e l F. W h e e l e r.
Pyramids and their Purposes (Ноэля Ф. Уилера), C. M a c d o n a l d. Herodotus and Aristotle on Egyptian Astronomy (Макдональд).
8 С. Самбурский оценивает вклад Фалеса в науку с точки зрения ученого так: «Именно Фалес первым осознал принцип объяснения множества явлений с помощью небольшого числа гипотез, которые верны для всех многочисленных проявлений материи». Об утверждении современных экзистенциалистов, что основным вопросом философии является вопрос о конфронтации с бытием.
9 См. оценки Самбурского в примеч. 7 к этой же главе и другие, которые цитируются в книгах по истории философии и науки, перечисленных в списке литературы.
10 О магните, «имеющем душу, потому что он передвигает железо», сказано у Аристотеля, «О душе», 405a19 (DK A22); дополнение о янтаре появляется в DK AI (Диоген Лаэрций I, 24) и DK A3 (схолий к «Государству» Платона, 600A). Но янтарь был известен грекам и применялся у них в украшениях начиная еще с микенской эпохи: об этом свидетельствуют ожерелия, хранящиеся в Афинском национальном музее, так что упомиание Фалеса о нем вылядит вполне правдоподобно. См. следующее примечание.
11 «Все вещи полны души» тоже взято из труда «О душе» 405a19 (DK A22).
12 Если под «точностью» подразумевается строгое соблюдение определенных правил мышления (в частности, закона исключения третьего), то среди наших современников слово может взять (Vuia) O. Вуйя.
13 П л а т о н. Тэетет. 174A.
14 О предсказании затмения рассказывает Геродот в своей «Истории» (написанной в V веке до н. э.) I.74 (DK A5). Такое затмение наблюдалось в Малой Азии 23 мая 585 г. до н. э. Фалес, конечно, не мог предсказать этого затмения, возможно, он знал вавилонское правило, что если такие затмения происходят, то это бывает через число лет, кратное двадцати восьми. В таком случае он вполне мог сказать, что в том году должно было произойти затмение, и если оно произошло, то все посчитали, что Фалес его предсказал. Анаксагор тоже приобрел славу предсказателя похожим путем (см. ниже, глава XII): его астрономическая теория о том, что «в небе есть камни», приобрела некоторый вес в общественном мнении благодаря падению огромного метеорита в 467 г. до н. э., и позднейшие биографы Анаксагора писали, что он предсказал это падение.
15 Аристотель излагает этот рассказ о деловой операции Фалеса в «Политике», 1259 a6 (DK A10); в сильно приукрашенном виде этот рассказ повторяет Диоген Лаэрций.
16 Геродот (см. «История», I.75) был знаком с рассказом о том, что Фалес изменил течение реки Галис для Креза, но Геродот не верил в это. О политическом совете Фалеса малоазиатским городам сообщает также Геродот, там же, I.170.
17 Платон в «Государстве», 600A, упоминает о Фалесе как о великом изобретателе. О новом навигационном правиле Фалеса см.: DK AI (Диоген Лаэрций), А3а (Каллимах); едва ли это было открытие, про которое пишет Каллимах: что Малая Медведица вернее, чем Большая, указывает, где находится север, так как греческие моряки до того времени, когда жил Каллимах, продолжали определять север по Большой Медведице, имея на это две причины: во-первых, это правило было известно еще Гомеру, а во-вторых, «греческий метод» навигации Каллимаха непригоден для практического применения.
Анаксимандр
1 Даты жизни Анаксимандра и сведения о его отношениях с Фалесом см. в: K a h n C.H. Anaximander and the Origin of Greek Cosmology (Кан). О причинах, по которым можно начать историю «философии» (вероятно, философии как противоположности естественным наукам) с Анаксимандра, см., например: B u г c h G.B. Anaximander the First Metaphysician (Берч).
2 Барнет считал один найденный в Милете обломок скульптуры частью статуи Анаксимандра, вероятно воздвигнутой в его честь за его работу в колонии. Но анализ этого скульптурного фрагмента заставляет предположить, что это была статуя не мужчины, а женщины. D a г s o w W. Die Kore des Anaximanders (В. Дарсоу).
3 О солнечных часах в Спарте есть упоминание в ДК А1, А4; о карте – в ДК А1, А6; то, что Анаксимандр изготовил также что-то вроде глобуса неба, кажется вероятным (ДК А2, А6).
4 См.: ДК B1.
5 ДК А1, А9, А16.
6 О современном взгляде на материю как на «нейтральное вещество» см. в особенности W h i t e h e a d А.Ы. Science and the Modern World (А. Уайтхед).
7 О важной роли модели Анаксимандра см. цитируемую работу Самбурского, с. 13–16, 58. Карта мира и карта неба (если то, о чем упоминают позднейшие рассказчики, – именно такая карта) свидетельствуют о распространении концепции построения моделей на географию и описательную астрономию; карта не сохранилась до наших дней, но об ее основных характеристиках см. у Кана.
8 Об астрономической модели см.: ДК А10, А21, А11, А18, А22, А27; o затмениях – там же А11, А21, А22.
9 R e s c h e r N. Cosmic Evolution in Anaximander (Н. Решер).
10 Об этом см.: V l a s t o s G. Equality and Justice in the Early Greek Cosmologies (Г. Властос).
11 Отрывок 1 (ДК B1: тот, кто цитирует, – Симплиций – делает в этом месте замечание о «поэтическом способе выражения», а это доказывает, что он имел перед собой текст самого Анаксимандра). Интересный пример ошибки, которая заставляет думать, будто Анаксимандр сказал, что противоположности виновны в том, что вообще существуют, и расплачиваются за эту вину, обсуждается у Кана и Фримен. Этот случай достоин внимания еще и как предостережение против начетнического старания ни на йоту не отступать от дословного текста отрывков: идея расплаты за существование как за вину близка по духу Ницше и Гомперсу, но ее наличие у Анаксимандра неправдоподобно.
12 Об «эволюционных» взглядах Анаксимандра см.: ДК A11, абзац 6 и A30.
13 Мысль сделать ботанику моделью для философии науки – интересная идея. Перенос Анаксимандром его понятия «коры» в зоологию и астрономию – один из немногих примеров такого моделирования, которые я могу вспомнить. Чаще (мы это увидим у Платона и Аристотеля) отрасль знания, которая называется «философия науки», – это либо физика, математика плюс формальная логика (как у Платона), либо зоология плюс медицина (как у Аристотеля).
Анаксимен
1 См. у Барнета и Гатри. Основными в новом анализе изменений являются абзацы ДК A6 и B2; A5—A8, B1.
2 G a m o v G. The Birth and Death of the Sun (Г. Гамов).
3 О границах науки см. труды Сартра, Хайдеггера, Бергсона, Уайтхеда, а из более ранних мыслителей – Канта и Декарта.
4 См.: ДК B1—2. Но что означало слово аэр – например, считался ли он материальным или из него состояли «души», – требует дальнейшего обсуждения; этот вопрос будет рассмотрен ниже, с. 32 ff.
5 N o r t h r o p F.S.C. The Logic of the Sciences and the Humanities (Ф. Нортроп).
Пифагор и его школа
1 Это традиционное противопоставление милетцев, делавших основной упор на материи, и пифагорейцев, делавших такой же сильный упор на форме, восходит к Платону и Аристотелю. Такой метод описания философских направлений и тенденций этих двух групп мыслителей настолько хорош, что историки философии с тех пор пользуются только им, лишь внося в него небольшие поправки.
2 История формализма начинается с исследований Пифагора в области фундаментальной и прикладной математики; следующий шаг вперед по пути формализма сделали Парменид и Зенон, открыв и отточив формальную логику; за этим последовали вопросы Сократа, который поднял проблему применимости этой точки зрения к этике, и, наконец, «идеализм» Платона объединил все эти исследования с помощью новой умозрительной теории – учения об идее и ценности. О взаимодействии учений пифагорейцев и элейцев см.: R a v e n J.E. Pythagoreans and Eleatics (Рэвен).
3 В статье C. Seltman «The Problem of the Frist Italiote Coins» (Селтман) говорилось о том, что изменения в италийских монетах могли быть сделаны Пифагором. Это расходится с представлением современных читателей о Пифагоре. Они подсознательно считают его одиноким изгнанником, а Пифагора следует считать известным человеком, который на нескольких небольших ладьях переехал сам и перевез свою семью, своих слуг и свои вещи в город, где их ждали и были рады принять.
4 См. комментарий Платона, написавшего в «Государстве», 600A, что Пифагор прославился благодаря тому, что «создал определенный образ жизни». В большинстве работ по истории философии, логики и естественных наук проявляется тенденция подчеркивать то, что у этой школы было «научного», а религиозную сторону ее учения и жизни считать чем-то отдельным от науки и второстепенным. Гатри восстанавливает нарушенное равновесие и рисует перед читателем эту школу на ее религиозном фоне, но его интерпретацию полезно было бы дополнить более профессионально-научными рассказами о пифагорейцах, взятыми из работ по истории естественных наук, математики и астрономии.
5 То, что Аристотель занимал позицию посередине между формализмом и материализмом, заставило его очень часто упоминать о пифагорейцах в своих сочинениях, особенно в «Метафизике» (например, 995а23, 987a9.b2, 986a15, 1002a8, 1072b30, 1078b21 и многие другие места).
И тезис «числа – это вещи», и тезис «вещи – это числа» он часто упоминает как центральные постулаты этой школы, но существуют разные точки зрения относительно надежности этого свидетельства Аристотеля.
6 Очень ясно сформулированную оценку фундаментальной математики и ее открытия Пифагором см. в книге W h i t e h e a d A.N. Science and the Modern World. Работа Нойгебауэра (см. выше, глава I, пункт 7) немного изменяет наше мнение, что греки создали математику из ничего, но точка зрения Клэджетта и Самбурского, хотя эти двое должным образом учитывают новые открытия, как мне кажется, в основном совпадает с позицией Уайтхеда.
7 Heath Т. History (Т. Хит). См. также его издание «Элементов» Евклида в 3 томах. Во времена Платона уже существовали книги об «элементах геометрии», и Хит считает методы доказательства теорем I–V Евклида строго пифагорейскими. В этой и последующих главах греки показаны больше сделавшими для разработки формальной логики и больше ценившими аксиомо-дедуктивный метод формулирования доказательств, чем считали многие историки. Доводы против точки зрения, что до Аристотеля «логика» была примитивной и аморфной, как еще считают некоторые выдающиеся ученые нашего времени, см. в: S p r a g u e K.K. Plato's Use of Fallacy (К. Спрэг) и в моем кратком изложении аргументации Платона из его «Парменида» (Plato on the One).
8 Хотя пифагорейцы сознательно отрицали существование каких-либо четких границ между фундаментальной математикой, прикладной математикой, физикой и философией, они также иногда создавали достаточно впечатляющие и строго гипотетически-дедуктивные доказательства. Хорошим примером этого может служить сохраненное для потомства в общих чертах Аристотелем косвенное доказательство того, что квадратный корень из двух является иррациональным числом.
См. книгу H e a t h Т. Mathematics in Aristotle и History of Greek Mathematics I.
9 В современной формальной логике реальность абстрактных сущностей остается темой для споров (центром которых часто становится профессиональный терминологический вопрос о том, имеет ли по-настоящему смысл оперировать терминами «существования» («существует такой__ __, что__ _»), подставляя на места, отмеченные здесь чертой, названия абстрактных свойств или классов. См.: Quine W.V. Mathematical Logic (В. Квин) и Korner S. The Philosophy of Mathematics (С. Кернер).
10 Например, есть сведения о том, что в начальный период существования школы Пифагора пифагорейцы связывали геометрические формы известных им «правильных тел» со свойствами земли, огня и воды. Эта геометрическая молекулярная теория гораздо позже получила полное развитие у Платона. Но и мысль, что природа предпочитает симметрию, и мысль, что такие качественные различия, как те, которые существуют между землей и огнем, возможно, объясняются различием в форме частиц, – обе эти мысли могли возникнуть еще во времена самого Пифагора и иметь какое-то экспериментальное подтверждение. Ridgeway W. (У. Риджуэй) в статье What Led
Pythagoras to the Doctrine that the World was Built of Numbers? сопоставил свидетельства древних о том, что Пифагор сам был резчиком по драгоценным камням, и тот факт, что некоторые хорошо известные людям кристаллы по своей геометрической форме – правильные тела, и предположил, что форма этих кристаллов могла подсказать Пифагору его математический взгляд на природу. Конечно, это не может быть единственным и достаточным объяснением идей Пифагора, но связь между ними и формами кристаллов кажется вполне вероятной. Риджуэй упоминает о пирамидах и двойных пирамидах кварца, кубиках железного колчедана и свинцового блеска, двенадцатигранных кристаллах граната и шестигранных цилиндрических кристаллах берилла. Предположение, что эти случаи симметрии в природе были известны пифагорейцам и, возможно, повлияли на их взгляды, становится, по-моему, еще правдоподобнее, если вспомнить, что в число инструментов резчика по драгоценным камням могли входить увеличительные линзы из кристаллов.
11 Арифметика в том ее понимании, которое существовало в эллинистическую эпоху и в Средние века, находилась еще очень близко от этого пифагорейского подхода к числам; ср.: N i c o m a c h u s. Introduction to Arithmetics (Никомахус). Сложность оценки, которую Аристотель дает пифагорейской арифметике, не в том, что Аристотель плохо разбирался в математике (в случае необходимости он проявлял себя достаточно компетентным в этой области). Дело в другом: Аристотель, считавший, что математика должна быть только совокупностью технических приемов, применял эту свою точку зрения к более ранней эпохе, когда эту науку представляли себе совершенно иначе. Об этом см.: B г u m b a u g h R.S. Plato's Mathematical Imagination (Р. Брамбо).
12 Об этом представлении, что числа могут иметь качественные признаки, см.: Freeman. Companion. Даже сейчас, когда мы привыкли думать о числах просто как о знаках, которыми удобно пользоваться, когда выполняешь вычисления, некоторые поэты (и не только поэты) обладают «пифагорейской синестезией» – способностью ассоциировать некоторые качества с теми или иными числами (обычно эти ассоциации одинаковы у разных людей). Но этот подход быстро привел к экстравагантной «магии чисел», которая сродни скорее литературе, чем науке; тому, кто хочет увидеть пример этой магии, советую прочесть компиляцию из работ неопифагорейцев и неоплатоников в книге: T a y l o r T. The Theoretic Arithmetis of the Pythagoreans (Т. Тейлор).
13 То, что мысль «вещи – это числа» сама по себе не глупа (хотя Аристотель, кажется, иногда считал ее глупой), становится ясно из таких оценок, как точка зрения Самбурского.
14 А р и с т о т е л ь. Метафизика. 986a15.
15 О «музыке сфер» см. дискуссию у Гатри.
16 Очевидно, что стандартное для медиков того времени представление, по которому здоровье – это изономия, то есть равновесие в теле, очень хорошо совмещается со взглядами пифагорейцев. О Поликлете и некоторых новых предположениях по поводу странного Эврита см.: R a v e n J.E. Polyclitus and Pythagoreanism. О периодах обращения планет смотрите, например: H e a t h. Greek Astronomy (Хит).
17 Гатри коротко излагает содержание недавних исследований К. фон Фрица (von Fritz), Минара (Minar) и других по истории Пифагорейского братства и, добавив к этому кое-что из того, что сам знал об учении орфиков, дает очень впечатляющее описание религиозных мотивов и религиозного фона учения Пифагора. В конце концов Гатри приходит к выводу, что закат братства как политической силы был долгим, и через сорок лет после волны антипифагорейских восстаний во многих городах произошло усиление пифагорейства. Но пифагорейцы с очень ранних пор были децентрализованными: общины и мыслители разрабатывали свои идеи независимо друг от друга, так что не существовало единой официальной идеологии, общей для всех пифагорейцев, писавших о физике или геометрии. Барнет отстаивает точку зрения, что движение, направленное против пифагорейцев, было олигархическим и антидемократическим, но сопоставьте с этим то, что написано у Гатри.
18 Об этом смотрите то место в цитируемой работе Гатри, где обсуждаются религиозный фон учения орфиков, понятия посвящения и очищения и т. д. с его цитатами.
19 Пифагорейская идея космоса прекрасно рассмотрена в цитируемой работе Гатри.
20 В том, как изменяется оценка пифагорейцев у позднейших историков, есть интересная системная закономерность: Платон, Уайт-хед, Тейлор, Самбурский, Хит относятся к ним почти восторженно; Аристотель, Гатри и другие гораздо более критически.
21 О взаимосвязи критики пифагорейцев со стороны элейской школы и развитии пифагорейских идей см.: R a v e n J.E. Pythagoreans and Eleatics. В двух последующих главах читатель познакомится с двумя мыслителями, очень критически относившимися к пифагорейству, – Парменидом и Зеноном из Элеи.
Гераклит
1 О Гераклите говорить особенно трудно. Кажется неразумным подходить к изречениям гения, сочетавшего философию с поэзией и пророчествами, так же, как к выпискам из судового журнала. Но трудно и собрать единый рассказ из таких частей, как сухое изложение результатов научных исследований у Кёрка (K i r k G.S. Heraclitus. The Cosmic Fragments), поэтичная и чуткая критика Уилрайта (W h e e l w r i g h t P. Heraclitus. Princeton, 1959) и философский восторг О. Вуйя. Тем не менее я старался изложить точку зрения именно последнего из этих троих.
2 См. введение, цитаты и новый порядок отрывков в книге О. Vuia (О. Вуйя) Remonte'e aux Sources de la Pensee Occidentale: Heraclite, Parmenide, Anaxagore. Nouvelle presentation des fragments en grec et en frangais et leurs doxographies.
3 См. замечание Аристотеля о том, что многие двусмысленности у Гераклита возникли из-за неясностей в пунктуации. «Риторика», 1407bII.
4 О прорицателях и их способе высказываться см., например: D e m p s e y T. The Delphic Oracle (Т. Демпси).
5 Отрывки 49А (поток), 51 (два пути), 90 (обмен), 48 (имя лука – речь идет о луке-оружии).
6 Отрывки 121 (эфесцев следует повесить), 39 (похвала Биасу); в отрывках 105, 106, 42, 56, 57 Гераклит с жаром критикует поэтов, особенно Гомера и Гесиода, см. следующее примеч.
7 Против Пифагора и его последователей – отрывки 40 и 81; против современной ему религиозной практики – отрывки 5 и 14.
8 Отрывок 60. О значении слова логос: кажется, для него нет простого перевода; нет и всеобщего согласия относительно того, как его понимать.
9 Отрывок 60; ср. отрывок 59. Космологический цикл снова появляется в отрывке 76. В отрывке 31 описана трансформация огня в землю и огня в воду. В отрывке 90 сказано, что «огонь обменивается на все вещи, как золото на товары».
10 О «логосе» и «общем» см. отрывок 1.
11 Отрывок 94.
12 Отрывок 52.
13 О понятиях, которые Гераклит применяет в своей психологии, см. в особенности отрывки 62, 118, 77, 2, 27.
14 Сравните их разное расположение у Вуйя и Уилрайта, см. также цитируемую работу Кёрка и Рэвена.
15 Этому взгляду Аристотеля на Гераклита я дал короткую и ясную, хотя немного полемическую оценку в своей статье «Aphilosohical Frist Philosofy» Intl.
16 Чтобы получить общее представление о взглядах стоиков в области физики, рекомендую прочесть Диогена Лаэрция, книгу IX. Подробнее об отношении стоиков к Гераклиту написано в книге: K i r k G. Heraclitus, а о физике стоиков в: S a m b u r s k y S. Stoic Physics.
17 W h e e l w г i g h t P. Heraclitus. См. обзоры по этой теме у С. Мак-Клинтока (M с C l i n t o c k S. Classical Journal) и У. Брокера (B г o c k e г W. Gnomon).
18 Это утверждение Кёрка основано на вполне разумном признании того, что логос так же, как поток, занимает центральное место вмышлении Гераклита; но то, что Кёрк отверг «потоковую» интерпретацию как приписанную Гераклиту позже платониками, нашло мало сторонников. См., например, обзор Властоса; обзор работ Кёрка и Рэвена у Калоджеро, Gnomon, несогласие Гатри. Сюда относится также статья A. Wasserstein «Pre-Platonic Literary Evidence for the Flux Theory of Heraclitus» (А. Вассерштейн).
19 Особенно в «Кратиле»: см. мою книгу «Peatofoг the Modem Age» и цитируемую там литературу.
20 Существует целый ряд хороших антологий японских трехстиший-хайку в английском переводе, например: H e n d e r s o n H.G. An Introduction to Haiku (X. Хендерсон).
21 См., например, aletheia, techne, doxa в Introduction to Metaphysics Хайдеггера. Его перевод отрывков из Анаксимандра вызвал гнев Кранца в DK 1, с. 487–488. В какой степени сам Гераклит использовал игру слов и этимологию – этот вопрос до некоторой степени остается загадкой для его читателя. Последователи Гераклита, о которых говорит Платон в своем «Кратиле», стали закоренелыми сторонниками двусмысленности, игры слов и этимологии. Однако из 120 изречений самого Гераклита только пять явно относятся к этой категории (см.: F г e e m a n. Ancilla, примечания к переводу).
22 Отрывки 92, 93.
23 Здесь Аристотель (а за ним потом и Теофраст) поступает необычным для себя образом: пытается втиснуть Гераклита в свою историю параллельного развития материализма и формализма, как в прокрустово ложе. Это признано всеми.
24 Сопоставьте с этим работы Гатри, Кёрка и Рэвена.
25 Это одно из центральных положений Уилрайта в уже цитировавшейся работе, где идея «многозначности» используется как инструмент критика. Относительно более общего вопроса о «символизме» см.: L a n g e г S. Philosophy in the New Key (С. Лэнгер) и W h i t e h e a d Symbolism.
26 Имеется в виду не «энергия» в точном современном смысле этого слова (хотя наша идея, что материя – это застывшая энергия, подошла бы Гераклиту). Это и не energeia («актуальность») или dynamis (сила-мощность) в понимании Аристотеля. Возможно, к тому, о чем идет речь, ближе его «насилие» (bia); сопоставьте ДК III, с. 91.
27 Об отказе Уайтхеда от «субстанций» и «субъектов» и замене их на «события» и «суперъекты» (?) см. ясное и не перегруженное профессиональными терминами краткое изложение этого вопроса: L a w r e n c e N. и B r u m b a u g h R.S. Philosophers on Education (В.Н. Лоуренс и Р. Брамбо).
28 Архилох, ионийский поэт, чье имя Гераклит поставил рядом с именем Гомера в своих критических нападках в отрывке 105.
29 Отрывок 30.
Парменид
1 Отрывок 1. См. в работах Гатри, Кёрка и Рэвена упомянутые выше оценки того, какая часть всего объема оригинальной поэмы Парменида дошла до наших дней. Новое толкование ее пролога моим коллегой доктором Мурелатосом, а также его рассуждения по поводу равновесия в поэме оригинальны и интересны и повлияли на мой собственный перевод (например, я расставляю строки текста согласно его анализу того, в какой момент сияет ось и девы управляют лошадьми, в какой – Парменид подъезжает к гигантским воротам и в какой богиня приветствует Парменида).
2 Отрывок 3.
3 Это «интуитивное чувство бытия» представляет собой глубинное ощущение того, что вещи, хотя и представляются нам временными, в своей основе вечны. В логосе Гераклита, напротив, отражается контраст между видимой вечностью вещей и их реальной временностью. Парменид писал в поэтической форме; он мог, пытаясь выйти за пределы обычного языка, использовать в рассказе о своем интуитивном открытии метафорические и образные выразительные средства.
4 Отрывки 7, 8.
5 Отрывок 3. Уже много было сказано о том, каким твердым было намерение Парменида отождествить «мысль» и «бытие»; приведенный здесь барнетовский (Burnet) перевод этих терминов – самый худший из существующих. С философской точки зрения тут возможны три соотношения «бытия» и «мысли»: 1) то, что внутренне противоречиво, не может быть «подумано» вообще и не может относиться ни к бытию, ни к тому, что кажется; 2) непротиворечивая мысленная конструкция, например естественно-научное знание и математика пифагорейцев, могут казаться относящимися к бытию; структура такой конструкции понятна людям, хотя ее предпосылки могут при близком рассмотрении оказаться всего лишь «мнениями»; 3) строго говоря, думающий человек и его мысль не являются чем-то отдельным от единой неменяющейся реальности. Потом Парменид показывает, что требование непротиворечивости заставляет нас отказаться от варианта 1 в пользу варианта 2, привычного читателю, хотя и имеющего у Парменида более обобщенный характер, чем у прежних мыслителей, а после этого ради той же непротиворечивости мы должны отказаться от 2 в пользу 3.
6 О споре с законами противоречия и исключенного третьего см. в цитированной работе Вуйя цитаты из Хайзенберга, Гегеля, Лассаля, Хайдеггера. Эта тема интересует одновременно современных формалистов и экзистенциалистов; см., например: F i t c h F.B. Symbolic Logic (Ф. Фич) о современных работах, посвященных ссылке на себя и непротиворечивости при смягченном законе исключенного третьего. Аргумент Парменида в ясном и простом формализованном виде приведен в книге R a n u l f S. Der Eleatishes Satz vom Widerspruch (С. Рэнолф). Структурной основой этого аргумента является обобщенный вариант «косвенного доказательства», которое, несомненно, иногда применялось в пифагорейской математике: если верно либо p, либо не p, то из p следует p; если кроме этого из не p следует p, то истинно p.
7 См. раздел «Advaita Vedanta» в книге: R a d h a k r i s h n a n S. Philosophy Eastern and Western (С. Радхакришнан).
8 Конец ДK 8.
9 Более подробно об этой идентификации см.: R a v e n. Pythagoreans and Eleatics.
10 Особенно интересны интерпретации Корнфорда (C o r n f o r d. Plato and Parmenides), Хайдеггера и Бофре (Beaufret). Со времен Платона читатели Парменида всегда хотели придать «мнению» «промежуточную степень реальности», поместив «мнение» посередине между чистым «бытием» и чистым «ничто». Нам неспокойно даже от одного предположения, что все, что «существует» в обычном смысле этого слова, может быть логически абсурдным. Но, хотя это и ставит читателя в тупик, похоже, что Парменид сказал именно это.
11 Обратите внимание на то, какой широкий круг тем затронут в сохранившихся отрывках второй части: астрономия – DK 8, 10, 11, 12, 14, 15; любовь – 12, 13; язык – 19; генетика – 17, 18; физиология и психология – 16.
12 Таким образом, можно сделать вывод, что задача этой второй части поэмы – строгое применение косвенной формы доказательства к пифагорейской философии. Платон и Аристотель готовы согласиться с Гераклитом и Парменидом в том, что касается статуса видимости, и считать истиной эту часть их интуитивных озарений, но все же не превращают полностью в ничто мир «кажущегося».
13 F. S o l m s e n, Aristotle's Natural World (Ф. Солмсен); в главе I этой книги есть прекрасный анализ того, как рассуждения Парменида (в особенности его принцип «ничто не возникает из ничего») повлияли на последующую греческую философию.
Зенон элеискии
1 В основу этой главы положена лекция, прочитанная в Институте естественных наук и математики Афинского университета в апреле 1963 г.
2 Платон, который был не такого высокого мнения о Зеноне и его логике, как философы из соседнего с Афинами города Мегары, в своем диалоге заставляет Зенона сказать, что тот имел лишь одну цель – защитить Парменида, и потому его, Зенона, logoi только повторяет по-иному то, что уже установлено Парменидом. См.: П л а т о н. «Парменид», первая сцена и мои комментарии к ней в Plato on the One.
3 R a v e n. Pythagoreans and Eleatics; современную формулировку см. в книге: B l a c k M a x. The Nature of Mathematics. Я так же, как Рэвен, Гатри и Ли, считаю, что Зенон был намерен включить пифагорейцев в число объектов своей критики. Думаю, что описание пифагорейской школы у Гатри, где она показана в определенной степени децентрализованным сообществом, не имевшим единой «канонической» точки зрения на то, как соотносятся пифагорейские «точки» с непрерывными количествами, объясняет, почему Зенону понадобилось именно четыре парадокса движения. Рэвен четко анализирует этот аргумент, но, по-моему, делает историю более упорядоченной, чем она была на самом деле, когда высказывает предположение о существовании двух «канонических» представлений, из которых второе пришло на смену первому.
4 Анализ Рэвена в цитируемой работе показывает важнейшую роль допущения Зенона, что Парменид уже опроверг существование любой пустоты; поскольку «поздняя» позиция пифагорейцев, которую он рассматривает, была такова: непрерывное протяженное поле, само по себе не состоящее из точек, окружено точками. Но кажется вероятным, что это была одна из «раннепифагорейских» конструкций, объяснявших, почему «вещи – это числа», и похоже, что Зенон, составляя список возможных случаев, не почувствовал необходимости опровергать эту интерпретацию.
5 Далее я объединил вместе мое представление о смысле слов «пустоты нет» (примеч. 4 к этой главе), убеждение Хита (Heath), что «четыре парадокса связаны между собой и составляют единое целое», мнение Ли, что парадокс «Стадион» направлен против пифагорейцев, мысль Рэвена, что парадоксы – это деструктивная дилемма, и аналитические рассуждения о Зеноне А.Е. Тейлора в его переводе Платонова «Парменида» (T a y l o г A.E. Plato's Parmenides). Основное у Тейлора – его утверждение, что и для Зенона, и для его противников-пифагорейцев при тогдашнем состоянии математики возможны были, видимо, только два толкования понятия «точка»: либо точка не имела протяженности (т. е. была = 0), либо она имела какую-то однородную конечную протяженность (т. е. была = 1). Это прекрасное подведение итога.
6 Про современное представление о неоднородных пространстве и времени см.: P a l t e г R. Whitehead's Philosophy of Science (Р. Пэлтер), где обсуждается защита этой точки зрения Уайтхедом. Критики, предполагающие, что пространство и время имеют похожие структуры, совершенно не понимают двух первых парадоксов Зенона; см., например, то, как Аристотель ловко расправляется с парадоксом о делении на две части.
7 См. текст и перевод у Ли в уже упоминавшейся его работе. «Кинематографическое» движение, каким оно получается по теории «точка – элемент», хорошо рассмотрено в связи с парадоксом о стадионе. Об этом см. ДК 28, 29 и цитируемую работу Ли. Из-за разницы в прочтениях текста остается неясным, имел в виду Симп-лиций в своем рассуждении диаграмму только с одним телом на каждой из трех дорожек (это увеличило бы абсурдность утверждения, что единицы времени и скорости неделимы) или с тремя или четырьмя телами на каждой (это усилило бы результат измерения относительной скорости во столько раз, мимо скольких тел проезжает данное тело). Применение Зеноном термина онкос, по-моему, ясно указывает на то, что его «повозки», или «колесницы», можно считать пифагорейскими неделимыми минимальными частицами; сравните с этим применение того же термина Платоном в его адаптации парадокса о стадионе в «Пармениде», гипотеза VII (164B5 ff).
8. Зенон явно критикует сразу две разные точки зрения: форма парадокса позволяет показать, как нечетко и нестрого сформулирован взгляд на вещи «с точки зрения нормального здравого смысла»: профессионально-научные логические следствия из его четырех вариантов условия показывают, что «научная» точка зрения пифагорейцев в своем развитии приходит к внутренней противоречивости. Среди оценок, которые давали Зенону в последующие эпохи, наиболее интересно и важно принятие Генри Бергсоном парадокса о стреле со всеми следствиями из него. См., например, книгу: B e r g s o n Н. Introduction to Metaphysics.
Эмпедокл
1 См. ДК, раздел B. В замечании Аристотеля, что Эмпедокл «идет после» Анаксагора в своем философском творчестве, «после» означает, вероятно, «ниже по уровню», а не «позже», так что оно не позволяет датировать сочинения Эмпедокла. Монета с изображением Асклепия на реверсе, отчеканенная в 444 г. до н. э. в г. Селине, возможно, подтверждает традиционное мнение, что Эмпедокл в том году спас этот город от эпидемии; см.: H e a d B.V. и др. Historia Numorum.
2 Об отрывках и их делении на две большие группы см. цитируемую работу Гатри.
3 Отношение Аристотеля к Эмпедоклу – смесь интереса с таким раздражением, о котором говорят «выходить из себя», – чувствуется во всех разнообразных и частых случаях, когда Аристотель цитирует этого философа-врача.
4 Это представление о трех традициях в толковании понятий «видимость» и «реальность» принято не всеми и нуждается в тщательном и подробном рассмотрении, но мне кажется, что такая интерпретация не лишена смысла.
5 О скептицизме софистов см. далее посвященную им главу этой книги и интерпретации их взглядов в книге: V e г s e n y i. Socratic Humanism (Версеньи).
6 Это кажется очень странным с точки зрения современного здравого смысла, но Самбурский в уже упоминавшейся работе оценивает эту мысль Эмпедокла положительно. Он утверждает, что «Эмпедокл вводит понятие зависимости явлений от вселенских сил, действующих в космосе».
7 Отрывок 6,
8 Количественная детерминированность «элементов» выводится как вполне разумная экстраполяция из пифагорейского понятия минимальных точек и представления пифагорейцев о том, что формы огня, воды и т. д. соотносятся с «правильными телами» (если такое представление возникло в этой школе уже так рано). См. выше примеч. 10 к гл. IV этой книги.
9 См.: ДK 7.
10 ДK 84.
11 Против «пустого пространства» – отрывки 13 и 14.
12 Об «эксперименте» см.: ДК 100. Вообще обратите внимание на противоположность оценок места постановки опытов в греческой науке у Самбурского и у Клэджетта.
13 См.: ДK 13, 16, 109.
14 Начинается ненависть – ДK 26, 30, 35, 36. О космическом цикле см. цитируемую работу Кёрка и Рэвена.
15 Отрывки ДK 57, 53, 60, 61.
16 Чудовища появляются в греческом искусстве уже в эпоху неолита – на рисунках, украшавших вазы.
17 Ясную формулировку и критику идеи Эмпедокла о «естественном отборе» см. у Аристотеля, «Физика» II, 198b10 ff.
18 ДК A22; А р и с т о т е л ь. Поэтика, 1447b17.
19 См. у Аристотеля. «Физика» II.
20 Возвращение любви: ДК 27, 36.
21 Замечание о том, что слова «головы без тел» предполагают существование целых организмов, от которых эти головы были отделены, находится во второй книге «Физики».
22 Отрывок ДК 100.
23 F u г l e y D.J. Empedocles and the Clepsydra.
24 Все это видно в стихотворных отрывках, которые считаются фрагментами его второй поэмы «Очищение». Отдельно о том, что Эмпедокл заявлял, «что он бог» (ДК 112): отметьте, насколько противоположны интерпретация этих слов у Фримен и их толкование у Гатри в его цитируемой работе.
25 Например, Вуйя, пытаясь реконструировать философию, которая еще не подчинялась строгому порядку логики с правилом исключенного третьего и законом противоречия, оставляет Эмпедокла в стороне, предпочитая говорить о Гераклите, Пармениде и Анаксагоре (см. цитируемую работу Вуйя).
Демокрит и атомистическая теория
1 ДК A9, B116.
2 Огромное историческое значение атомистической теории вряд ли нуждается в подтверждающих его документах; см., например, в цитируемой работе Самбурского (там, правда, смешаны греческий и римский варианты этой теории).
3 О Левкиппе см. Кёрка и Рэвена, цитируемую работу; B a y l e y C. The Greek Atomists and Epicurus (Бейли); Левкипп в ДК B1, Bla, B2.
4 Книга X, где говорится об Эпикуре, была переписана Диогеном Лаэрцием с первоисточника, написанного во времена самого Эпикура; его характеристики эпикурейцев и стоиков достоверны и важны. Работа Эпикура «Письмо Геродоту», которую цитирует Диоген Лаэрций, – прекрасное изложение учения Эпикура в сжатом виде.
5 Здесь мы опять сталкиваемся с трудностями. На этот раз трудно решить, какова была в структуре этого учения пропорция между чистой теорией и экспериментированием или, по крайней мере, наблюдением. См. упомянутую выше работу и точки зрения Самбурского и Клэджетта, которые по этому вопросу расходятся во взглядах. Также см. ниже в конце этой главы рассказ о некоторых свидетельствах того, что тогдашняя техника давала возможность для тесного взаимодействия между теорией и непосредственным наблюдением.
6 ДК B9, ср.: J a m m e г M. Concepts of Space (М. Джеммер). О причинах, в силу которых атомы (кусочки чистого «бытия») не могут быть «разрезаны» (разделены) на части: сравните отрицание множественности у Парменида, см. выше.
7 А р и с т о т е л ь. Метафизика, 985b13; DK Левкипп, A10.
8 Все формы, бесконечное движение: Аристотель, цитируемое место.
9 Атомы души самые мелкие: А р и с т о т е л ь. О душе.
10 Эманационная теория восприятия: сравните «поры и частицы» у Эмпедокла, см. выше, гл. VIII этой книги.
11 В приведенной ниже таблице атомистическая теория древних греков реконструирована по отрывкам из работ Демокрита и свидетельствам о нем; римская версия – по «Письму» Эпикура, вошедшему в сочинения Диогена Лаэрция; современный вариант по своей структуре сборный: он составлен на основании единого мнения ряда источников и нескольких моих бесед с моими коллегами-физиками в Иельском университете.
12 Два из четырех следующих за этим критических замечаний приведены в современных формулировках, которые четче и убедительней, чем классические.
13 О возражении к высказыванию «не может быть теории» см. его изложение у Шталлькнехта (N.P. Stallknecht) в работе «Descartes», Stallknecht and Brumbaugh.
14 О возражении к высказыванию «нет второстепенных качеств» см. утверждение Уайтхеда.
15 Аристотелю уже ясно, что возражение насчет «пустого пространства» верно, см. его доказательство, что «пустоты» нет, которому он посвящает «Физику», IV 213A12 ff.
16 Об индийском атомизме см. рассказ о школе чарвака в цитируемой работе Радхакришнана.
17 Об этих раскопках и находках, сделанных во время них, см.: Guide to the Agora, издание 2-е, опубликованный в American School of Classical Studies in Athens.
18 А р и с т о т е л ь. Aristotle's Constitution of Athens, перевод с примечаниями К. фон Фрица (K. von Fritz) и Е. Каппа (E. Kapp).
Афины
1 В дополнение к более крупным по объему книгам общефилософской, общекультурной и общеисторической тематики, которые перечислены ниже в «Рекомендациях для дальнейшего чтения», особый интерес представляют Life Magazine; The Athenian Agora; Athens and Environs.
2 Напомню вам, что первый этап развития естественных наук и философии протекал одновременно в двух пограничных областях Греции. В V веке у жителей Афин была такая же тяга к новизне и рискованным предприятиям. Сравните с этим пять идей, определяющих собой цивилизацию, по мнению Уайтхеда: «истина, красота, дерзание, искусство и отсутствие войны».
3 См. ниже главу X.
4 См. ниже главу XII.
5 См. ниже главу XIII.
6 См. ниже главы XIV и XV.
7 Сравните с этим комментарии и замечания об античной технике в конце гл. IX этой книги.
8 См.: W h i t e h e a d A.N. Science and the Modern World, где прекрасно изложена эта тема.
9 См. примечание I P e r f e t o s N. The Ancient Agora and Acropolis of Athens (Н. Перфетос).
10 Впечатляющая выставка, на которой эти машины были показаны в музее «Стоя Аттала», кратко описана в книге The Athenian Agora. Кстати, не было обнаружено ни одного античного «меняльного столика», но классическим описаниям в точности соответствуют столики для обмена денег, за которыми работают современные менялы на улице Софокла перед Афинским национальным банком (а слово trapeza, означающее по-гречески «банк», первоначально значило «стол»).
11 Нужно упомянуть об имеющей важное значение новой статье S t a v г o p o u l u s Р. (П. Ставропулоса) Akademia (Platonos).
12 Чтобы почувствовать это централизующее влияние, нужно сравнить по фотографиям виды Акрополя со стороны театра, Агоры и Академии, виды Афин со всех четырех углов Акрополя и несколько фотографий, где видны сразу Акрополь и остальные Афины, снятые с более высоких точек – Ликабета или Гимета.
Анаксагор
1 Дилс (Diels), цитируемая работа, II, с. 5—14. См. также работы Клива (C l e v e F.M. Anaxagoras), Вуйя, Кёрка и Рэвена.
2 Несколько современных ученых согласны с этим объяснением; кажется, что действительно должно было произойти что-то вроде падения метеорита: иначе трудно объяснить, почему Перикл включил молодого ионийца Анаксагора в свой кружок.
3 Diels, A37; см. также работы Клива. Об Архелае речь пойдет в главе XII.
4 Так сказано в более ранних стандартных историях философии, но Барнет поставил здесь кавычки, чтобы показать, что это не дуализм, материя и разум в точном современном понимании этих слов.
5 История теории множеств могла бы стать темой для очень интересной книги. Профессор Властос предполагает, что Анаксагор заслужил место в истории математики. Работа профессора Е. Стаматиса, посвященная теории множеств в неоплатонизме, – первый шаг на пути к исследованию этой темы.
6 Отрывок 8 из Дилса.
7 Обратите внимание на сложность понятий, встретившихся в тех отрывках, где идет речь о смеси и материи: мы обнаруживаем в них «качества», «гомеомерии» (этого термина у Анаксагора нет, но есть понятие, которое сейчас так называют), «вещи», «порции», «смеси», «семена»; все эти термины появляются здесь и требуют пристального внимания. Самое лучшее на сегодняшний день обсуждение этих разнообразных терминов и идей содержится в цитируемой работе Кёрка и Рэвена.
8 Дилс, отрывок I. См. реконструкцию космологии Анаксагора в нескольких упомянутых выше работах; обратите внимание на то, что воздуха выделяется огромное количество.
9 В этом случае то место «Облаков» Аристофана, где воздух стал для его ученых сутью и пределом всего, оказывается понятнее, чем если предполагать, что Аристофан спародировал тут Диогена из Аполлонии. И это, возможно, объясняет, почему Архелай, поклонник и ученик Анаксагора, поставил на первое место в своей космологии «воздух». Если интересоваться прежде всего не метафизикой, а медициной или даже астрономией, из учения Анаксагора можно было вывести добротную ионийскую схему, начав с состояния мира после того, как воздух «выделился» из «первородной смеси».
10 В некоторых местах книги Барнета (Early Greek Philosophy) содержится хорошее описание этой «вихревой» теории; см. отрывки из Анаксимена, посвященные астрономии, а также свидетельства, приведенные у Дилса в цитируемой работе, I.
11 Эта трудность видна любому; несколько изменив форму, она снова возникла в астрономии Аристотеля.
12 Diels, A77, A113, A1.9. Там сказано, что поблизости от Немеи есть «большая скала, по форме похожая на льва». Я сам либо не видел такую скалу, либо не обнаружил ее сходства со львом. Но если Анаксагор имел в виду связь хорошо известного камня с легендой о льве, это замечание вылядит вполне правдоподобно.
13 Некоторые недавно появившиеся работы заставили нас по-новому взглянуть на значение Анаксагора для последующей греческой философии. См., например, мою книгу Plato on the One, где говорится о влиянии Анаксагора на Евдокса и Платона.
14 См. также у Кёрка и Рэвена короткий рассказ о суде над Анаксагором, где приведены все противоречащие друг другу версии и датировки этого события.
15 О дискуссиях на тему Процесс и реальность и о сложности употребляемой в ней лексики см.: L a w г e n с e M. Whitehead's Philisophical Development, а также C h г i s t i a n W. An Interpretation of Whitehead's Metaphysics.
Архелай
1 О том, что такое были «греческие школы», и о их большой роли в прогрессе науки см.: Клэджетт, цитируемая работа, с. 30–33. Мне эта тема кажется важной, и, по-моему, ее слишком часто обходят стороной в книгах по истории науки и философии. См. также главы XIV и XV этой книги об Академии Платона и Ликее Аристотеля.
2 F r e e m a n. Companion, цитирует DK A10.
3 Об отношениях Сократа и Архелая в том виде, как эти отношения можно представить себе по «Облакам» Аристофана и «Федону» Платона (Phaedo), см. примечания Барнета к его изданию «Федона» (P l a t o. Phaedo) и T a y l o r A.E. Socrates.
4 Это пусть будет моей собственной догадкой; она основана на опыте общения с молодыми учеными, которые не хотят ничего, кроме «истины», то есть самых новых теорий, и на том, как Архелай усекает учение Анаксагора, «отрезая» самые философские теоретические положения, чтобы сделать возможной более простую эмпирическую интерпретацию. В связи с этим обратите внимание на то, что сама мысль о том, чтобы изучать «историю» той или иной области знания как ключ к диалектическому познанию некоей «истины», была открытием ученых Ликея и полностью была признана только следующим после Аристотеля поколением (хотя Платон делал своих предшественников участниками вымышленных бесед, а Гераклит называл своих по именам, чтобы проклясть).
5 Так в цитируемой работе Кёрка и Рэвена.
6 Это поднимает очень общий философский вопрос о том, можно ли свести метафизическую гипотезу к доступной для проверки физической модели. Такое всегда возможно лишь в «атомистической» группе теорий. См. ниже в главе XIV этой книги об «участии» у Платона, а в главе XV о «причинности» у Аристотеля и о необходимости допустить существование «отдельных одна от другой, но неподвижных» субстанций. Это, разумеется, не значит, что «метафизические» теории не имеют следствий, которые видны в том, что знакомо нам по опыту, и могут подтвердить или опровергнуть истинность такой теории; но это значит, что «наш опыт» по своему диапазону шире, чем знакомство с одними «физическими» моделями.
7 П л а т о н. Федон. Об этом месте текста см. главу XIII этой книги и PMA. Это, во всяком случае, обычная интерпретация, см. Барнета и Тейлора. В отрывках из работы Диогена, которые содержатся в DK, действительно видно сочетание выбора воздуха в качестве главного принципа с использованием телеологии, которое соответствует идеям Сократа и насмешкам Аристофана. Но разве есть какая-то причина, по которой эти идеи не могут быть развитием более «эмпирического» варианта учения Анаксагора? Сократ, если верить его биографии, написанной Платоном, выводил телеологические следствия из представления Анаксагора о Нусе (а не из диогеновского понятия аэр). И в теории Анаксагора, если его учение об эволюции мира освободить от «метафизических» рассуждений, опустив на уровень, понятный лаборанту, говорится об огромном, преобладающем надо всем остальным количестве воздуха, когда он создается на первом этапе «выделения».
8 Сократ у Платона в Phaedo.
9 Там же.
10 Об этом прорыве греческой мысли к ясному сознанию того, что какое-то время уже скрыто присутствовало в ее развитии, см. главу XIII этой книги.
Софисты
1 Каждый английский или американский читатель вспомнит трактат Поттера «Умение жить, или Как выйти из положения, не делаясь полным занудой». Однако в завершающем эту книгу анализе «умения жить» в античную эпоху этот автор своим иллюстративным примером – описанием гонок на колесницах, взятым из «Илиады», – создает неверное впечатление, будто греки были изворотливы еще до того, как софисты предвосхитили и применили на практике некоторые из его открытий.
2 Здесь я не могу согласиться с доктором Versenyi, который считает, что греческое общество относилось к софистам, в общем, терпимо и с уважением, а не отвергало их активно. Напротив, мы видим огульные нападки на все их судебные методы со стороны консерватора-аристократа в «Облаках» Аристофана; полный отказ иметь дело с ними лидера демократов Анита у Платона в «Меноне»; эпизод, где носильщик Каллия, открывая дверь, толкает ее так, чтобы она ударила по лицу Сократа и его молодого друга, потому что решил, что это «еще два софиста!», – у Платона в «Протагоре». Все это вместе кажется мне яркими примерами враждебного отношения всего общества к софистам. Слова Протагора в названном его именем диалоге, что ему не стыдно называть себя софистом, звучат так, словно он защищается, а такой тон заставляет предположить, что большинству афинян это было бы стыдно.
3 Достоверность литературных портретов, созданных Платоном, много раз ставилась под сомнение. Но все их персонажи (кроме, может быть, Эвтидема) обладают убедительной для читателя индивидуальностью. Что же касается того, верно ли отражены их идеи в сочинениях критиковавшего их Платона, то стоит вспомнить замечание Бертрана Рассела (в его «Истории западной философии»): «Я бы предпочел, чтобы обо мне рассказывал мой худший враг-философ, чем друг, ничего не знающий о философии». Объем материала из других источников, с помощью которого мы можем проверить Платона, очень разный для разных реальных персонажей. См. также материалы в ДK и у Фримен.
4 Об этом см.: Companion Фримен, Диогена Лаэрция, а также сведения об огромном политическом влиянии Горгия как посла в Афинах, – свидетельства об этом есть, например, в книге: W i l l i a m s B.H.J. The Political Mission of Gorgias to Athens in 427 B.C. (Уильямс).
5 В качестве примера см. начало «Надгробной речи» Горгия, перевод которой на английский язык есть в: F г e e m a n. Ancilla, с. 130.
6 Г о р г и й. О Елене, там же; см. следующее примечание.
7 Аргументация такая: Елена, конечно, бежала в Трою по одной из следующих причин: 1) по внушенной ей воле кого-то из богов; 2) из-за принуждения со стороны человека, силой заставившего ее сделать это; 3) под влиянием убедивших ее слов, которым она не могла сопротивляться, или 4) из-за непреодолимой страсти. В случае (1) она, несомненно, уехала не по своей воле и, следовательно, невиновна. К такому же логическому заключению Горгий приходит и в каждом из остальных случаев. Формально получается A v B v C v D; A Z)~G; B Z)~G; C Z)~G; D Z)~G; следовательно, ~G. Сравните это с рассмотренной ранее системой из четырех парадоксов у Зенона.
8 По поводу великолепной речи «О природе вещей» см., кроме того, что сказано о ней у Фримен, сочинение «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии», которое раньше приписывали Аристотелю, а также цитируемую работу Калоджеро.
9 Здесь логическая структура вылядит так: если A, то либо B, либо ~B, но не оба сразу; по авторитетному мнению X, истинно B; но философ Y доказал истинность ~B; это противоречие заставляет нас отказаться от гипотезы A. Но еще интереснее как пример использования логики речь «В защиту Паламеда». Тут защитник утверждает, что Паламед, если бы был виновен, мог бы рассчитывать получить от своего преступления одну из трех выод: или A, или B, или C. Но преступление, в котором его обвиняют, противоречит всем трем выодам и делает их невозможными.
10 Помимо малой вероятности того, что автор речи «О природе вещей» мог с увлечением заниматься таким делом, как преподавание философии, посмотрите, как Платон изображает Пола и Менона, учеников Горгия, и их восторженного поклонника Калликла.
11 Мы считаем состязательность процесса в суде чем-то само собой разумеющимся, но греки так не считали. Этот принцип – одна из основных мишеней для насмешек Аристофана в «Облаках». В качестве достаточно неуклюжего примера подбора аргументов для обеих сторон судебного процесса можно привести Dissoi Logoi; см. о главных особенностях этой таблицы у Дилса и Кранца, II и ее перевод у Фримен.
12 Протагор, отрывок I (ДК B1).
13 Протагор, отрывок B2. Сравните отрывки из сочинений Крития.
14 Короткий мимолетный рассказ об этом человека, авторитетного в области античных классификаций «частей речи», см. в: B u c k L.D. Comparative Grammar of Greek and Latin (Л. Бак).
15 По поводу того, что Сократ не мог оплатить более дорогой курс, см. Продика в ДК B11 («Кратил», 384 B).
16 Горькая ирония, которой полны эти строки, не утратила своего значения до сих пор. «Александрийская ученость» не всегда бывает самым надежным путем к пониманию литературы – и любой другой области жизни тоже.
17 А р и с т о т е л ь. Опровержения софистов. 165b13.
18 Платон (если считать автором его), начало «Меньшего Гиппия».
19 Приписывается Платону (если предположить, что автор – какой-то другой член группы академиков), «Больший Гиппий».
20 Это резкое отличие «младших» софистов от «старших» видно уже у Платона в литературных портретах и признано всеми, хотя объясняют его по-разному.
21 Фразимах «яростно» врывается в разговор со своим решением этой проблемы, «Государство», I, 336b ff. Есть предположение, что книга I «Государства» первоначально была незавершенным «сократовским» диалогом под названием «Фразимах, или о справедливости»; это в достаточной степени правдоподобно, но на структуру книги I явно повлияла схема «степеней ясности знания», о которой говорится в книгах VI и VII «Государства», а это означает, что если такой ранний диалог и существовал, он был переписан по-иному при включении в более крупную структуру – «Государство». На вопрос
Сократа, может ли «сильный человек», который контролирует полицию и суды, совершить ошибку с точки зрения своих «настоящих интересов», Фразимах, отвергая наивное согласие своего молодого поклонника Клейтофона, переходит на профессионально-юридический язык: «сильный человек» общества как таковой в правовом смысле этого слова так же, как врач как таковой в правовом смысле этого слова, не совершает ошибок. На это Сократ возражает, что правитель как таковой определяется не размером его личного дохода, а тем, насколько умело он служит интересам своих подданных. Как только юридическая фикция «неошибающийся эксперт» перестает действовать, Фразимах, весь смысл доводов которого держался на этом фиктивном понятии, фактически проигрывает спор.
22 П л а т о н. Эвтидем. 293. О диалоге «Эвтидем» см. цитируемую работу R.K. Sprague и театрализованную адаптацию N e v i l l e R. Plato's Euthydemus: Jowett's Translation Adapted as a One-Act Play (Р. Нэвилл).
23 О том, как сбалансирована структура «Эвтидема», и о том, насколько эпилог о «посредниках» уместен в этом сочинении.
24 Раньше считалось, что Протагор был вынужден покинуть Аф ины в 418 г., но похоже, что этот рассказ не соответствует действительности; ср.: F r e e m a n. Companion и цитируемую работу Versenyi.
Сократ
1 «Клейтофон». Это та речь, которую Сократ «декламирует как трагический поэт» в платоновском (или написанном в Академии в начале ее существования, если автор не Платон) диалоге «Клейтофон». Диалог требует дальнейшего изучения, но эта речь вылядит достаточно верным изображением Сократа на Агоре.
2 Поскольку Сократ ничего не писал, хотя его влияние полностью изменило путь развития греческой философии, – о нем рассказывают многие источники, и их свидетельства не всегда согласуются друг с другом.
В последнее время ученые, кажется, окончательно остановились на той точке зрения, что наиболее достоверны, видимо, рассказы Платона (что они самые яркие и наибольшие по объему, никто никогда не отрицал), и достоверны они главным образом потому, что Платон имел талант философа, позволивший ему оценить то, чему учил Сократ, а, например, Ксенофон и Аристофан этого таланта не имели. Кроме того, рассказ Платона о Сократе, возможно, ближе к синтезу тех очень разнородных аспектов, которые «сократовскими» школами ставились в центр учения своего героя, чем рассказ о Сократе любой из этих школ. Эти источники рассматриваются в книге T a y l o r A.E. Socrates. Читателя могут заинтересовать два исторических романа, персонажем которых является Сократ, хотя они и не имеют прямого отношения к философии Сократа, – D e u t s с h B a b e t t e. Mask of Silenus и R e n a u l t M a r y. The Last of the Wine, или же толкование этого учения с точки зрения классовой теории в книге W i n s p e a r А. и S i l v e r b e r g T. Who was Socrates? может побудить читателя прочесть достаточно много первоисточников, чтобы проверить обоснованность их версии.
3 Все имеющие значение данные о зачаровывающих исследователя, но сложных и запутанных родственных связях «сократовских» школ с Сократом собраны в книге: Z e 1 1 e г. Socrates and Socratic Schools; интересную интерпретацию этого родства можно найти у L. Vereenyi в цитируемой работе.
4 Среди мнений о том, кем был Сократ, можно встретить такие разные, как изложенная в Philosophy East and West (ed. Radhakrishnan) точка зрения индийского философа, который считает, что ни один западный человек никогда не понимал Сократа по-настоящему, как мнение Кьеркегора, мнение Версеньи, позиция Уинспира и Сильверберга, мнение А.Е. Тейлора и точка зрения Гегеля. Если добавить к этому Бабетту Дейч и Мэри Рено, то получается уже слишком много версий. У добросовестного историка такое изобилие вызывает невыносимое для него замешательство.
5 О точке зрения, что для более сильного «естественно» господствовать над тем, кто слабее, см. «Отрывки из Крития», а также в сочинениях Платона – речь Фразимаха в книге I «Государства» и в диалоге «Горгий» речь Каллимаха (практичного человека, который восхищается Горгием). Тему, близкую к этой, можно найти у Гоббса, Макиавелли.
6 В «Облаках» высмеиваются в основном две идеи: вытеснение прежних религиозных взглядов «натуралистическими» объяснениями явлений природы и обучение молодых людей такому методу спора, при котором в судебном разбирательстве худший из противников вылядит лучшим, что переворачивало все старые обыденные представления о правоте и неправоте. А.Е. Тейлор (в «Сократе») говорит, что примерно в то же время существовали еще две не дошедшие до нас комедии, где главным действующим лицом был Сократ. Из этого Тейлор делает вывод, что к 423 г. Сократ уже имел в Аф инах большую известность местного масштаба.
7 П л а т о н. Парменид. Начиная с Барнета, ученые (находясь под сильным влиянием тейлоровских доводов в защиту исторического правдоподобия диалогов Платона, одним из примеров которой является то, как Тейлор рассматривает действующих лиц и даты написания этих диалогов в своей книге «Платон») предполагают, что основой для этого диалога послужила действительно имевшая место встреча. (Место, где она происходит, без сомнения, описано очень подробно; может быть, однажды эти подробности найдут подтверждение: в Керамике будет обнаружено дно чаши с надписью «Я принадлежу Питодору» или в фундаменте одного из домов квартала Мелита на северо-западном склоне Акрополя будет найден кусочек бронзы.) Но с другой стороны, хотя Сократ, несомненно, высоко ценил элейскую логику за ее точность, были и другие, не исторические причины, которые могли побудить Платона примерно в 367 г. сочинить вымышленную беседу между Парменидом, Зеноном и Сократом. Во-первых, у Платона Сократ – руководитель научной школы в Афинах, а такое положение подразумевает «международную» известность, и Сократ встречает своих именитых гостей как их хороший знакомый и равный им человек; во-вторых, чем больше интересовался Платон идеями пифагорейцев между 394-м и 384 гг. до н. э., тем больше они интересовали и его литературного Сократа. Вероятно, основные факты, по которым можно дать оценку этому параллельному усилению интереса к учению пифагорейцев у автора и персонажа, таковы: 1) то, что Платон включил в число присутствовавших при смерти Сократа двух пифагорейцев – Симмия и Кеба, учеников Филолая, которые в то время находились в Фивах, вероятно, не просто анахронизм; 2) в том месте диалога «Федон» («Федон», 100A ff), где Сократ, вспоминая прошлое, рассказывает свою интеллектуальную биографию, он упоминает среди вопросов, над которыми размышлял в молодости, и такой: «плоская ли земля или имеет форму шара», а это могло прийти ему на ум, только если он уже что-то знал о взглядах пифагорейцев; и, как показано в примечаниях Барнета, в остальной своей части рассказ Сократа – удивительно точный перечень проблем, которыми занималась наука, когда Сократ был молодым ученым.
8 Важная роль изучения собственного «я» с целью познать себя самого – тема, которая снова и снова возникает в философии; заявленная еще Гераклитом, в нашем ХХ веке она породила понятия «аутентичность» и «экзистенция». Как отмечал Руссо в своем «Эмиле», в образовательном процессе есть такой этап (он примерно соответствует старшим классам средней школы), когда каждому ученику становится интересно познать себя самого.
9 Неврология и психоанализ дают нам разные ответы на вопрос о том, что такое наше «я», и похоже, что ни один из этих ответов не может удовлетворить человека, который желает «отыскать границы души» (как назвал это Гераклит).
10 Одна из самых важных особенностей представления софистов о человеческом «я» – то, что их определение «я» нам приходится реконструировать с помощью логических умозаключений. «Я» у софистов – некий «икс» внутри человека, что-то, что желает славы и богатства и избегает того, что вызывает боль или страх; оно «природное», хотя общество и накладывает на него свой отпечаток посредством условных правил, принятых в какой-то конкретной местности. Это не «я» народной религии (см. об этом цитаты из Протагора и Крития в главе XII данной книги) и не «я» в естественно-научном понимании этого слова (см. Протагора и Горгия с их отказом от таких отвлеченных метафизических рассуждений в пользу более практического гуманизма).
11 Сократ рассказал это в своей защитительной речи на суде – сравните Платон, «Апология», 11A ff. Мы можем сравнить с этим платоновские портреты Сократа за работой: Сократ у него ставит вопросы перед чтецом Гомера («Ион»); перед знатоком религии, фундаменталистом, даже немного фанатиком («Эвтифрон»); перед выдающимся ритором, послом и адвокатом («Горгий»); перед видным государственным деятелем-демократом, как раз тем самым, чьими стараниями Сократ был осужден и казнен (Анит в «Меноне»; в «Апологии» сказано, что это его помощник Мелет должен был отвечать Сократу на перекрестном допросе во время суда); перед человеком, знаменитым своими обширными познаниями и знанием множества ремесел (Гиппий в «Меньшем Гиппии», если считать это сочинение работой Платона, но «Больший Гиппий» написан не Платоном»); перед двумя бывшими военачальниками, зашедшими в тупик в споре об образовании (Лахет и Никий в «Лахете») и так далее. Фактически Платону удается показать в этих встречах такую большую и разнородную группу собеседников Сократа, что в XIX веке Ф. Шлейермахер был убежден, что вся сократовская серия диалогов была написана по тщательно продуманному заранее плану.
12 О ценности постановки вопросов см., например, «Менон» 86B; о внутренней ценности справедливости – «Апология», 41Д и «Горгий» 509A ff.
13 Учение Сократа о том, что большинство вещей, ценимых его современниками, имело не внутреннюю, а лишь инструментальную ценность, хорошо известно. Платон развивает эту мысль как идею Сократа в «Лизисе», «Эвтидеме», «Государстве» и в других сочинениях; кажется, именно этот тезис Сократа помог киникам найти их путь (о киниках см.: Z e l l e г E. Socrates and the Socratic Schools (Е. Зеллер)).
14 Платон в своем «Седьмом письме» пишет, что диктатура Совета Тридцати «заставила людей, оглядываясь на прошлое, считать войну относительно счастливым временем».
15 В тех обстоятельствах этот страх был вполне обоснован; и если считать, как в некоторых гегельянских и марксистских теориях, что «сохранение государства» выше любых соображений, касающихся свободы отдельной личности и совершенствования человека, он будет прав. Интересный вопрос: в какой степени правовая доктрина наших Соединенных Штатов о «прямой и явной угрозе» применима к случаю с Сократом? См.: П л а т о н. Менон. 93E—95A.
16 Платон, тетралогия «Евтифрон» – «Апология» – «Критон» – «Федон».
Платон
1 См. издания и трактовки Платона и Аристотеля, указанные в данной главе.
2 Помимо того, что говорится о влиянии платонизма в работах по общей истории западной философии, некоторые направления этого влияния подробно прослежены в книге: K l i b a n s k y R. The Continuity of the Platonic Tradition (Р. Клибански), и интересная оценка платонизма содержится в книге: W h i t e h e a d A.N. Process and Reality.
3 В «Седьмом письме» Платон пишет о своем политическом честолюбии в молодости и о причинах своего отказа от этих мечтаний. Упомянутые здесь диалоги относятся к самой ранней группе сократовских: «Лизис», «Лахет», «Хармид», «Эвтифрон», «Апология» и «Критон».
4 Об отношении Платона в конце его жизни к тогдашней афинской политике см. «Седьмое письмо».
5 Диалог «Хармид» – это беседа с Сократом; кроме Сократа, в нем действуют Хармид (дядя Платона, ставший членом Совета Тридцати) и Критий (опекун Хармида и глава Тридцати). Хармид, склонный к робости и лени, считает умеренность чем-то вроде спокойного бездействия; Критий, агрессивный и самоуверенный, считает, что знает точную абстрактную формулировку того, что такое умеренность, и эта формула является ответом на вопрос Сократа. Интересное исследование этого диалога см. в книге: Dr. D e s j a r d i n s P a u l. The Form of Platonic Inquiry (П. Дехарден).
6 О суде над Сократом, его пребывании в тюрьме и казни Платон рассказывает соответственно в «Апологии», «Критоне» и «Федоне». По «Воспоминаниям» Ксенофона, которые доступны англоязычному читателю во многих переводах, видно, что автор этих мемуаров плохо понимает Сократа; Платон постарался исправить этот недостаток.
7 После диалогов, названных в предыдущем примечании, Платон занялся доказательством того, что Сократ совершенно не похож на софистов, с которыми его отождествляло афинское общественное мнение. Эта следующая группа произведений – довольно длинные беседы, главными участниками которых являются гости-знатоки. В эту группу диалогов входят «Меньший Гиппий», «Горгий», «Ион», «Протагор», «Кратил», «Эвтидем» и «Менон». Список тем составлен на основании как самых ранних диалогов, так и этой второй группы: критикой Гомера начинается беседа в «Меньшем Гиппии»; теории языка занимают центральное место в «Кратиле», а в центре остальных диалогов находится поиск определений для наивысшего благородства человека и для составной части этого благородства – «основных добродетелей».
8 Сам Платон («Софист», 246A ff) описывает предшествовавших ему философов словами «ионийские и сицилийские музы» и говорит, что каждый из них «рассказывал нам миф (mythos)». То есть, хотя у них и было вдохновение (что подразумевается словом «музы»), смысл их слов, несомненно, неясен читателям более позднего времени. То, что известно по этому вопросу, в упорядоченной и сжатой форме вылядит как такая таблица:
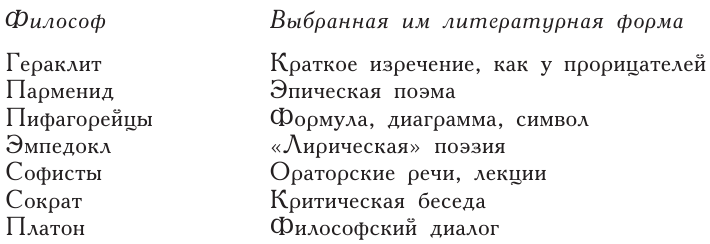
9 Сравните также формы, в которых находит свое выражение современная философская мысль, с таблицей из предыдущего примечания.
10 Об Архите см.: F r e e m a n. Ancilla и Companion.
11 О возвышении Сиракуз см.: B u r y. History of Greece. Знаменитая статуя возничего в Дельфах была изготовлена по заказу Гелона, первого из великих сиракузских диктаторов, в память его успехов в гонках на колесницах.
12 Сам этот рассказ подробно изложен у Диогена Лаэрция; более достоверным, чем большинство рассказов Диогена, его делает то, что об этом происшествии, несомненно, упоминает Аристотель в «Федоне», часть II. Платон описывает свою реакцию на этот случай крайне сдержанно в «Седьмом письме» и гораздо ярче – в своих описаниях типичного диктатора и типичного диктаторского правления в части IX «Государства».
13 «Царь-философ» описан в «Государстве» V–VI; тиран и его город – в «Государстве» IX.
14 Сатирическая оценка Аристофана – «лавка мыслей» в «Облаках» – отражает мнение консерваторов; речь против взрослых людей, которые еще изучают философию, произнесенная Калликлом в платоновском «Горгии», отражает радикальную точку зрения софистов.
15 См. цитируемую работу Клэджетта о возникновении «школ» и росте их роли в истории греческой науки.
16 См. статью П. Ставропулоса Akademias (Platonos) и монографию Перфетоса.
17 Традиционным образовательным методом было обучение по системе «учитель – ученик», хотя в медицине существовали «профессиональные» школы на острове Кос, в Кротоне и в других местах. Пифагорейское братство было ближе к более раннему типу сообществ – религиозной общине, объединявшей посвященных в религиозную мистерию, чем к позднейшей школе (об этом см. цитируемую работу Гатри). В конкурировавшей с Академией афинской школе практических наук, которую основал оратор Исократ, молодые политики должны были обучаться согласно прежним традициям специализированного профессионализма и ученичества; Исократ считал идею, на основе которой была создана Академия, слишком абстрактной и неприменимой на практике.
18 Новый перевод профессора Г. Морроу с его же примечаниями (M o r r o w G. Plato's Letters (Морроу), прекрасно подходит для чтения человеку, которого интересуют содержание «Писем VII и VIII» и вопрос об их принадлежности Платону.
19 См. мою работу Plato's Mathematical Imagination, где говорится и о линии, и в более широком смысле о применении Платоном диаграмм как инструментов для схематизации материала и как учебных пособий.
2 °Cравните оценки, которые платоновский Сократ дает видным государственным деятелям Афин в «Меноне» и других работах, и обратите внимание, с какой силой он в «Государстве» настаивает на том, что «настоящему» государственному деятелю нужны знания совсем иного рода, чем знания политиков его собственного времени.
21 «Разум» и «понимание» – часто используемые соответствия, подсказанные различием между Vemunft и Veretand у Канта в его великой критической философии. Если не брать в расчет убеждение Канта, что Идея, которую предлагает разум, недостижима, это уподобление ведет по верному пути.
22 Два первых различия сформулированы явно в «Государстве», книга VII; третье задано там же в неявной форме, поскольку следует из утверждения, что для понимания добра нужен ноэзис. Гораздо детальнее третье различие рассмотрено в «Пармениде» и «Государственном деятеле».
23 Лучшая современная работа, где утверждается нечто подобное, это W h i t e h e a d A.N. The Function of Reason.
24 «Государство», VI, 507 ff. На завершающее утверждение Сократа, что добро «находится за пределами и бытия, и познания и властвует», Главкон отвечает «О, Аполлон! Какое демоническое преувеличение!»
25 Яснее всего утверждение, что идеи являются границами, сформулировано в «Федоне», в том месте, где Сократ рассказывает о «новом методе», к которому он перешел, когда наука перестала его удовлетворять. «Федон», 100A ff.
26 Возможно, трудность с эйказией в том, что на этом уровне присутствует слишком много упорядочивающих структур, они наслаиваются одна на другую и в итоге становится почти невозможно отделить их друг от друга. О своеобразной «рационализации» мифа, которую проводили Платон и Аристотель, выясняя, что именно породили мифы, см.: «Федр», 299C ff.
27 Я пытался изложить это яснее и подробнее в своей книге Plato on the One.
28 Например, мы гораздо охотнее говорили бы о «принципе сохранения» или «законе энтропии», чем о «первом двигателе» или «наивысшей по ценности идее», но место и функции этих понятий, возможно, одни и те же.
29 Прокл в своем «Комментарии к «Тимею» Платона» (написанном в V веке н. э.) упоминает, что Крантор иллюстрировал ту часть этого диалога, где говорится о «слове-душе» (35A ff), диаграммой в форме буквы лямбда. То, что Платон сам часто использовал термины родословного древа при описании отношений между понятиями и строил достаточно сложные классификационные схемы путем многократного последовательного деления классов на пары подклассов, позволяет с очень большой вероятностью предположить, что диаграммы-треугольники применялись и в самой Академии. Подробнее об этом см. мою статью Logical and Mathematical Symbolism in the Plato Scholia.
30 Объединяющая «одна наивысшая идея» вылядит по-разному в разных дискуссиях. В «Пармениде» она названа «Одно», в «Пире» – «Прекрасное», в «Государстве» – «Добро», как на рисунке 1, в «Филебе» три «отличительных признака» Добра – «Истина, Симметрия и Красота» («Симметрия» здесь – нечто вроде определенного структурного единства, которое «Одно» придает идеям, участвующим в нем и в совокупности составляющим «Многое»). В конце своей жизни Платон прочел большую «Лекцию о добре», из которой сохранилось лишь несколько отрывков, записанных слушателями; она была профессионально-научной и математической (к разочарованию большей части слушателей), и одним из ее основных тезисов было то, что «существует только одно Добро». Конечно, по-другому быть не может, если «Добро, Истина и Красота» – одно и то же, что всегда утверждали платоники.
31 Эта четырехчастная структура рассказа о добре рассматривается в моей работе Plato for the Modern Age. Соотношение частей рассказа друг с другом и их адреса в книге показаны ниже:

32 Приведенный далее пример основан на главе II книги B r u m b a u g h R.S. and L a w r e n с e N.M. Philosophers on Education, где автор в первый раз применил таким образом «Разделенную линию» Платона.
33 Начиная с поздних сократовских диалогов («Горгий», «Менон» и др.), Платон включал в свои сочинения мифы. Видимо, он делал это по двум причинам: во-первых, миф может представить понятия более живыми и яркими, тогда как абстрактная аргументация на это не способна; во-вторых, похоже, что религиозная интуиция людей является свидетельством существования какого-то врожденного чувства, позволяющего людям «угадывать», что такое добро. (Таким образом, Платон, в противоположность софистам, считал, что религия, если она верно понята, интуитивно знает важные истины, и по этой причине в его философии должно было найтись место и для нее.) Тема «космической справедливости» занимает центральное место в завершающем диалог «Горгий» мифе о последнем суде и в мифе про Эра, которым завершается «Государство». Исследование того, как новейшие научные открытия совмещаются с общим принципом господства ценности над мировым порядком (это одна из тех важных проблем, которые рассматриваются в «Тимее»), является античным аналогом некоторых современных дискуссий о том, как соотносятся наука и религия или богословие (это обсуждает, например, Уайтхед в Science and the Modern World).
34 Перечень возможных видов нарушения равновесия человеческой души служит Платону чем-то вроде таблицы-определителя типов характера и личности. Эта таблица имеет разные варианты в разных контекстах: иногда Платон признает 3 типа структур души, иногда 5, иногда 9, иногда 12, а один раз заявляет, что, возможно, их 81 или 729. Но во всех случаях классификация проводится по двум признакам одновременно – мотивации (тому, какая из «трех частей души» является господствующей) и уму (тому, какого уровня ясности знания способна достичь данная душа). Одна из этих таблиц вылядит так:
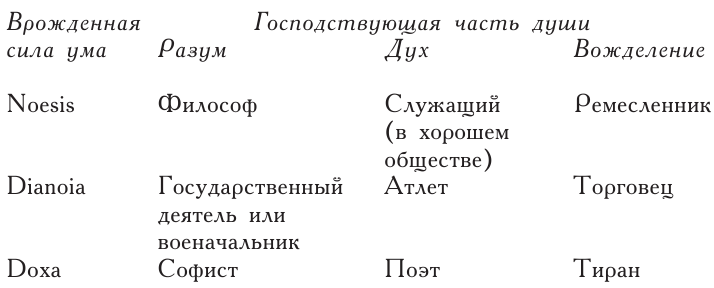
Другие подобные схемы сочетаемости даны в форме диаграмм и обсуждаются в моем PMI.
35 Эта разница между действующими стандартами и такой «добродетелью», которая нужна в хорошем обществе, несомненно, один из тех фактов, которые Платон хотел особо подчеркнуть в своем рассуждении (в книге V «Государства») о том, каким были бы отношения собственности, заключение браков, обучение детей и высшее образование, если бы все это осуществляли «такие хранители, как те, кого мы описали». Из всего «Государства» это место меньше всего относится к философии и больше всего обратило на себя внимание шокированных читателей. Даже сейчас не совсем ясно, какое намерение было у Платона, когда он писал это, и в какой степени, по его замыслу, читатель должен был принимать всерьез подробности этого описания.
36 В этой связи см. исследование «Государства», выполненное N.R.P. Murphy. Книгу IX Платон начинает заключением к той части своего труда, в которой он отстаивает внутреннюю ценность справедливости, а затем приводит доказательство того, что жизнь справедливого человека содержит больше удовольствия, чем жизнь несправедливого, так что ее следует предпочесть, даже если руководствоваться одной любовью к наслаждениям. Аргументы, которые выдвигает Платон в этом месте своего сочинения, приведены выше в тексте нашей книги.
37 См.: S t e w a r t J.A. The Myths of Plato (Стюарт) и другие работы о религии у Платона.
38 См.: K i t t o. The Greeks, где автор, рассуждая о Спарте, убедительно показывает: греки считали, что функция города – ставить человека в такие условия, чтобы он был гражданином определенного, заранее установленного типа. Эта же идея чувствуется в том периодически возникавшем требовании от граждан нерассуждающего патриотизма, которое отметил Фукидид в своей «Истории». К тому же самому заключению, хотя и на основе совершенно противоположных предпосылок, пришли софисты (Фразимах, Антифон, Критий и другие), для которых государство было «условностью», а «правосудие» – всего лишь осуществлением власти правителя.
39 По этому принципу классифицируются «типы государства» в книгах VIII–IX Платонова труда «Государство». Истинная аристократия (правление лучших) имела бы правильный идеал – общее благо, которое было бы целью образования и политики; тимократия (общество, в котором любят почет и которое находится под управлением военных руководителей) ставит себе целью мощь нации; олигархия (правление малочисленной экономической верхушки общества) заменяет верную цель другой – богатством общества и высоким уровнем жизни; демократия (под которой Платон имеет в виду народовластие афинского типа с общим собранием горожан и постоянным референдумом) не имеет постоянной политики, но в той мере, в какой ее действия последовательны, нацелена на увеличение свободы отдельного человека; и, наконец, тирания имеет целью исполнение личных желаний тирана (который ни за что не захотел бы стать тираном, если бы уже не был безумен).
40 Разумеется, совершенно невероятно, чтобы Платон, который начал заниматься политической проблемой «государство и человек» в связи со смертью Сократа, двадцать лет спустя отдал гражданина и как обладателя прав, и как живого человека в полную власть государству. В некоторых толкованиях его работы «Государство» подразумевается, что в ней Платон именно так и поступил, но при этом оказываются забыты роль «согласия управляемых» в определении умеренности из книги IV «Государства» и роль прав отдельного человека в принятии решения, что функции людей в обществе должны соответствовать их индивидуальным интересам и способностям, а это центральная тема книг II–VII «Государства».
41 Эту идею Платон развивает в «Пире» и, значительно подробнее, в «Законах».
42 Начиная с Гомера среди греков была распространена идея, что превосходство их аристократа над крестьянином или торговцем, которое они видели в окружавшей их жизни, имело своей причиной врожденные различия. Платон отрицает, что такая разница в наследственности существует всегда, но все же проявляет склонность недооценивать роль среды.
43 Этот вопрос будет рассмотрен подробнее в разделе «Практические науки» следующей главы.
44 Сегодня мы ведем спор, по сути дела, о том же самом, только ставим вопрос более конкретно: верно ли, что добрый человек всегда оказывается плохо приспособленным к жизни неудачником в современном городском обществе (некоторые критики этого общества, начиная с Руссо и кончая The Organization Man, утверждали, что это так), в капиталистической экономике (марксисты все как один уверены в этом), в американской общественной высшей школе и т. д.
45 См. книги и главу о платонизме в моем Plato the Modem Age.
Аристотель
1 По поводу профессиональной терминологии: обратите внимание на его настойчивое утверждение в «Категориях», что философия должна использовать «одноголосные термины»; что это означает с точки зрения количества необходимых различий, видно, например, по «философскому лексикону» Аристотеля («Метафизика», книга дельта). См. также аналитический указатель Р. Хоупа к его переводу «Метафизики».
2 Сочинение Аристотеля «Topics» открывается терминологическим описанием «диалектики». О некоторых ее проявлениях смотрите первые две книги его «Политики» и также первые две – «Никомаховой этики».
3 Что касается влияния Аристотеля, в любой стандартной истории греческой философии говорится о том, каким оно было в эллинистическую эпоху, а в любой стандартной истории средневековой философии сказано о том, как Аристотель был заново открыт и какую важную роль играл в XIII веке.
4 Для этой переоценки Аристотеля в ХХ веке, которая дальше будет рассмотрена подробнее, интересны и важны работы Росса (Ross) и Маккейна (McKeon).
5 Почти все историки философии, общества и науки, за немногими исключениями, считают смерть Аристотеля переломным моментом, когда круто изменились интересы философов и их отношение к миру. В сжатой форме об этом сказано в работе S t a l l k n e c h t and B r u m b a u g h. Spirit, гл. VI «After Aristotle», с. 177 ff.
6 О дошедших до нас работах Аристотеля как записях лекций см.: J a e g e г W. Aristotle: the History of His Development (В. Джегер). См. также введение Дж. Д. Росса к его изданиям «Физики», «Метафизики» и «Organon» (например, Metaphysics 1069b34 «meta tauta hoti»). Другим свидетельством того, что эти работы – записи лекций, являются встречающиеся в них повторы: это, видимо, те места, где курс лекций повторялся снова, но при несколько ином порядке подачи материала. Такие повторы хорошо видны в «Метафизике» (разделы А и M одинаковы, B и К дублируют друг друга, раздел E, возможно, составлен из двух вариантов). То же и в работах по этике: Eudemian Ethics имеет шесть общих книг с «Никомаховой этикой» (написанной позже и более аналитической). В «Этике III» и «Метафизике N» по тексту заметно, что рядом с лектором находится большой чертеж-схема, на который он указывает, читая лекцию.
7 Это – один из важных предметов изучения у тех, кто сейчас исследует творчество Аристотеля. «Классический» подход, такой, как у святого Фомы, – это концентрация внимания на системном единстве каждой отдельной работы. При эволюционном подходе, наиболее яркий пример которого дает нам Джегер, в центре внимания находится установление хронологического порядка работ с целью показать Аристотеля в развитии. Анализ Маккейна является классическим в том смысле, что акцент сделан на системном единстве, Росс занимает место посередине между этими двумя подходами. В этой главе предполагается, что независимо от того, как и когда Аристотель написал те или иные составные части своих работ, он внес в свои крупномасштабные планы лекционных курсов столько порядка, что их классический анализ полезен. Об этих ранних работах см.: A r i s t o t i l e. Selected Fragments. Некоторые ученые не вполне уверены в том, что набор посвященных математике отрывков, процитированный Ямвлихом, взят из Protrepticus Аристотеля.
8 Восхищение Платоном: просто посмотрите у Росса в его введении список ранних работ Аристотеля и обратите внимание на то, как много среди них вариаций на темы Платона, часто с теми же или похожими названиями. Эмпирика: для меня наилучшее свидетельство этого – то, что он добавил к платоновским абстрактным доказательствам бессмертия более конкретные аргументы, основывая их на подтвержденных свидетелями случаях предвидения людьми будущего, и аристотелевский двухуровневый вариант мифа о пещере, сохранившийся в уцелевших отрывках его труда «О философии».
9 Об отношениях Аристотеля с Александром см.: П л у т а р х. Жизнь Александра.
10 Кроме того, см. об этом недавно обнаруженные отрывки предположительно из работ Аристотеля, посвященных Александру, а возможно, и написанных для него («О колониях» и «О царском сане»).
11 Topks I, 105b12; также см. перевод в оксфордском издании, том VII: «Problemata», «Механика», «Об услышанном» и «О чудесах, про которые я слышал» включены в том VI «Малые сочинения»; «Экономика» вошла в том XI.
12 Огромное количество примеров из современной Аристотелю жизни, которые он разместил по всей «Этике», в «Опровержениях софистов» и особенно в «Риторике», характеризует Аристотеля как быстро реагирующего, всегда готового к действию наблюдателя и коллекционера судебных дел, заблуждений и способов убедить слушателей в своей правоте во время выступления перед публикой. (Например, книгу III «Никомаховой этики» оживляет, возможно, первое в истории судебное дело из разряда «не знал, что оно заряжено»: защищавшийся показывал своим друзьям, как надо стрелять из катапульты.) О коллекциях в Ликее см. оценку Клэджетта в его цитируемой работе.
13 О юридическом смысле слова aitia и его переносе на законы природы см. выше главу «Анаксимандр» и процитированную статью Г. Властоса.
14 Это тезис из той «истории философии», с которой Аристотель начинает свою «Метафизику» (книга A). Естественно, он отбирает и интерпретирует свой материал с этой точки зрения. См. в особенности: M c K e o n. Plato and Aristotle as Historians, Ethics LI.
15 Например, в De Generatione et Corruptione («О возникновении и упадке») и «О небе» мы видим, как Аристотель критикует оба направления – и платонистов и атомистов – за то, что они делают составные части физического мира слишком абстрактными и «слишком математическими». Аристотель задает себе вопрос: что они могут сделать с вторичными качествами – силами, весом и легкостью и т. д.?
16 См. рисунки ниже.
17 Один пример изумительной широты кругозора и последовательности, которые Аристотель проявляет, применяя понятие «причинного объяснения», приведен ниже; кроме того, посмотрите введение Маккейна к книге Basic Works of Aristotle.
18 Книги I и II «Физики» посвящены уточнению границ области действия «философии природы»; тема первых двух глав книги II – значение слова «природа».
19 См. цитируемые работы Самбурского и Сольмсена.
20 Эта одинаковость эффективных причин, которую Аристотель обычно иллюстрирует фразой «отец человека – человек», является теоремой в его логике («Вторая аналитика», 95a 10–96, a19) и играет важную роль в «Метафизике» (лямбда, эпсилон).
21 Как Аристотель защищает телеологию от Эмпедокла см.: «Физика» II 198 от b 10 ff.
22 А р и с т о т е л ь. О небе. I; сравните цитируемые работы Сольмсена и Клэджетта, а также H e a t h. Greek Astronomy. Аристотель думал, что «центр Вселенной», где происходят линейные изменения, очень мал по сравнению со всей системой; эта же мысль встречается у Платона в Epinomis. О божественности небес: С а м б у р с к и й, С о л ь м с е н. О небе и др.; противопоставление естественного движения вынужденному: «Физика» IV, 215a2 ff., «О небе» и цитируемая работа Сольмсена. См. также «Метафизика», лямбда, 1073a—1074b с примечаниями Росса к его изданию греческого текста (Aristotle's Metaphysics, edited with notes by W.D. Ross). Это деление философии природы на две отрасли науки – изучение тленной чувствующей субстанции и изучение вечной чувствующей субстанции – господствовало в астрономии до тех пор, пока не было отвергнуто современными учеными. Оно сочеталось с четким разграничением значений слов aer и aither; второе из них стало обозначать эфир – пятый элемент («квинтэссенцию»).
23 Главная логическая неувязка вот в чем: Аристотель дал «естественному» движению эфира определение «круговое»; он доказал, что противоестественное движение может быть только противоположным естественному (следовательно, «принуждение» может заставить его эфир двигаться только по кругу в противоположном направлении). Но он хочет, чтобы энергия, необходимая для поддержки процесса становления в «центре космоса», поступала на вход этого процесса с небес, и он предполагает, что тепло Солнца – не огонь, а «давление на воздух». А это глупо по трем причинам: 1) различение «плотного» и «разреженного» эфира, которое необходимо, если считать, что солнце и звезды состоят из чего-то вроде кристаллизованного пятого элемента, невозможно согласовать с определением и объяснениями «плотности» в других текстах Аристотеля; но 2) даже если не принимать во внимание (1), ни естественное, ни противоестественное движение эфира, как их определяет Аристотель, не могут передавать «давление» по прямой от периферии мира к его центру; более того, 3) если бы такое давление было передано, оно подействовало бы не непосредственно на воздух, а на зону огня, которая находится «над» ним. Олимпиодор в V веке н. э. написал комментарий к этому отрывку, но он пытался разъяснить только то, в каком смысле понимать слова, что «тепло» может быть создано давлением («трением»), а не огнем, все же остальное казалось ему адекватным. Истинная научная невозможность в этой схеме создается, конечно, возражением (2); (3) мы можем отбросить как ошибку или эллиптическое выражение, а (1) можем (хотя и неохотно) признать как дополнительную (пусть и непонятную гипотезу в описании системы. В общем, в «метеорологии» Аристотеля видна тенденция к тому, чтобы иметь восемь отдельных причин, а если он прав, их должно быть четыре.
24 Это очень важный ход мысли: согласно анализу Аристотеля, чистая идея-форма и чистая материя настолько отличаются друг от друга, что остались бы существовать отдельно одна от другой и не имели бы между собой ничего общего, если бы не вмешивались другие, динамичные силы – действенные и конечные «причины».
25 Обратите внимание, что при решении этой проблемы Аристотелю приходится использовать свои «причины» способом, который полностью противоположен обычному: вместо постепенного переноса внимания на центр, где сходятся линии причинности, он должен расширять рассматриваемую область, двигаясь по этим линиям к определенной границе. Результаты этого содержатся в книге VIII «Физики», в De Gen. et Corr. и в части лямбда «Метафизики».
26 Уайтхед в SMW открывает свою главу о Боге с обсуждения взглядов Аристотеля и приходит к выводу, что Бог Аристотеля «не очень пригоден для религиозных целей». См. также: R o s s. Aristotle.
27 О том, что Бог нематериален, см. аргумент в «Метафизике», лямбда, 1072b ff; о том, что Бог – «чистая мысль», см. «Метафизику», лямбда, 1075, a 15 ff. Интересный вопрос: в какой степени Аристотель, отрицая полное всеведение Бога, порывал с более ранней традицией. Платон в книге X «Законов» придерживается тех представлений, которые были у греческих поэтов и трагиков (хотя в его «Тимее» предполагается другая точка зрения). Христианские богословы вернулись к полному всеведению.
28 «Напряженность» конечной «причины» во всей природе ниже уровня человека четко и недвусмысленно утверждается в тех толкованиях, которые Аристотель дает силе и возможности, когда подробно анализирует их в части тета «Метафизики».
29 То, что человек имеет власть выработать у себя один из двух противоположных друг другу наборов привычек, является одним из важных вводных допущений в практических науках Аристотеля; кроме того, это обосновано в наиболее обобщенном виде в той же части тета «Метафизики». Близкая к этому мысль высказана в том месте «Никомаховой этики», I, где Аристотель напоминает своим слушателям, что они должны ожидать «точности» только в той степени, в какой это допускает предмет изучения: «в одинаковой степени глупо требовать необходимых доказательств от ритора и принимать лишь вероятные утверждения от математика». В «Политике», II, 1304a ff Аристотель говорит, что «чертеж» Платона четок, но слишком схематичен и априорен, чтобы соответствовать наблюдаемым историческим фактам.
30 О понятности принципов см. «Вторую аналитику», I, 71b 19–23.
31 Сравните C h e r n i s s H. F. Aristotle's Criticism of Plato and the Academy (Х. Уонис).
32 Politics, II, 1288b 22—1289a 25.
33 Сравните результаты симпозиума ЮНЕСКО по демократии, Democracy in a World of Tensions, ed. R.P. McKeon.
34 См. рассказ о «мелосском деле», а также главу XII этой книги о софистах.
Доктрина классиков, что «власть» сама по себе не плоха и не хороша и по сути дела она – ничто, – разумная точка зрения. Сравните с этим то, что говорит Платон о неопределенности свойств чистой, без примеси других чувств, тяги к тому, чтобы «иметь больше» (ее название у Платона «плеонексия») в своих «Горгии» и «Государстве» I, а также платоновский литературный портрет тирана из «Государства» IX, где неограниченная тяга тирана к власти рассматривается как «безумие», которое само себя обрекает на поражение. Некоторые современные теоретики не согласились бы с этим, но мне кажется верной точка зрения Аристотеля, что «власть» всегда следует определять как «власть сделать что-то».
35 R. M c K e o n. Democracy in a World of Tensions.
36 Я не обнаружил ни одного системного исследования того, как сам Аристотель применял свои «причины» в своих работах по политической истории. Одна из причин этого, возможно, в том, что способ, которым Аристотель их использует, вовсе не из тех, что понятны с первого взгляда. В разных случаях решающими для объяснения становятся разные «причины»: оскорбленная гордость, денежная реформа, несоответствие законов требованиям жизни и военная сила по очереди становятся ключами к истории в различных конкретных ситуациях. Аристотель, несомненно, посчитал бы, что такие историки, как Шпенглер или Гегель, частично правы, но слишком сильно привязали себя к какому-то одному измерению причинно-следственных связей.
37 См. в особенности анализ стабильности общества, революции и инерции в книге V «Политики».
38 Как указывает Маккейн в своем введении к книге Basic Works of Aristotle, мысль, что государство не является природным, если «быть природным» понимать как «быть организмом», является центральной темой критики Платона в книге II «Политики»; то, что государство является природным в ином значении этого слова, в том смысле, что оно необходимо человеку, чтобы он достиг самореализации – своей природной конечной «причины», является таким же центральным тезисом книги I «Политики».
39 M c K e o n R. Philosophic Bases of Art and Criticism. Modern Philology: гораздо более простую формулировку и применение см. в книге B r u m b a u g h R.S. Broad and Narrow-Context Techniques of Literary Criticism.
40 По моему мнению (и так же думает большинство людей искусства, с которыми я это обсуждал), разбросанные по всей «Поэтике» советы драматургам при внимательном рассмотрении доказывают, что
Аристотель не имел почти никакого понятия ни о чем из того, что входит в процесс художественного творчества. К несчастью, его критические суждения часто предлагают как образец писателям-художникам.
41 «Метафизика», тета, 1046b 5 ff.
42 Несколько подробнее это рассматривается в книге B r u m b a u g h a n d L a w r e n c e. Philosophers on Education, гл. III.
43 Сравните в «Никомаховой этике» описательный анализ в книге I того, какие поступки мы называем достойными похвалы или заслуживающими осуждения, и фразу «Будем же тогда богами!» в начале книги X.
44 Ключом к связи между первой и последней книгами может быть книга III «Этики», где становится ясно, что «мы хвалим то, что благородно».
45 Самое систематическое применение «четырех причин» в наше время, которое мне известно, я обнаружил в работах Маккейна. В дополнение к уже процитированным сочинениям см. его Freedom and History.
46 См., например, цитированное ранее «Введение» O. Вуйя к его исследованию досократовской философии, а также критические замечания А.Н. Уайтхеда, сведенные воедино в моем Preface to Cosmography.
47 Я не стал бы причислять Уайтхеда к поклонникам или последователям Аристотеля. Но я думаю, что он изменил бы свое мнение, если бы был убежден, что основное условие для возникновения современной науки – «вера в существование порядка в природе», причем порядка, действие которого распространяется вплоть до мельчайших деталей – видимо, имеет своим родоначальником непосредственно Аристотеля. Платон, которым Уайтхед восхищался за убежденность в том, что существуют общие для всей природы законы, был вовсе не уверен, что такие универсальные законы найдут для себя точную пространственно-временную реализацию или что каждое единичное событие, происходящее в пространстве и времени, может быть «понято», если проанализировать его как пересечение отдельных проявлений многих общих законов.
Заключение
1 Обзор эллинистической философии см. выше примечание 5.
2 Чтобы увидеть это в более крупном масштабе, сравните книги Z e l l e r E. Stoics, Epicureans and Skeptics и A History of Eclecticism с тем, что мы узнали о более раннем «эллинском» периоде. В меньшем масштабе эта разница становится видна, если мы сопоставим биографии и краткие изложения основ учения Платона, написанные в первые века н. э., с тем, как сам Платон истолковывал жизнь и идеи Сократа.
3 Об использовании Аристотелем коллекций см. выше гл. XIV, примечание 23.
4 Я бы коротко обозначил в общих чертах путь школы перипатетиков от Теофраста до 529 г. так: изучение текстов и история заменили собственный научный поиск во всех областях.
5 Д и о г е н Л а э р ц и й. Жизнеописания Пиррона, Архесилая и Карнеада.
6 Краткое изложение этого см. в «Stallknecht and Bnumbaugh», Spirit.
7 См. возрождение интереса к Эпикуру и защиту его у П. Гассенди, а также явно материалистическую основу мышления Гоббса.
8 Кант в своей «Критике чистого разума» делает вывод, что идея системы необходима для прогресса человечества, но недостижима.
9 Я полагаю: то, что очень не похожие друг на друга люди, изучая отвлеченную философию, видят одни и те же четыре типа философских систем, – не просто совпадение. См.: S t a l l k n e c h t and B г u m b a u g h. The Compass of Philosophy и др.
10 Чтобы увидеть, что такое современные тенденции, сравните Хайдеггера, Уайтхеда и A.J. Ayeг (Language, Truth and Logic) (А. Эйер). Достаточно немного подумать, чтобы убедиться, как много наших обычных слов, означающих понятия из области «здравого смысла», ведут свое начало через схоластику от профессионально-научных терминов и различий, которые ввел Аристотель: «материя», «вещество», «двигатель», «случайность», «свойство», «принцип», «элемент» и другие.
11 Высокопрофессиональное исследование того, каким образом допущения науки сделали ее слишком «сдержанной» и далекой от интуитивного вдохновения и каким образом эта «сдержанность» распространилась из науки на обыденное сознание, выполнил Уайтхед, критикуя «простую локализацию в главе III книги Science and the Modern World.