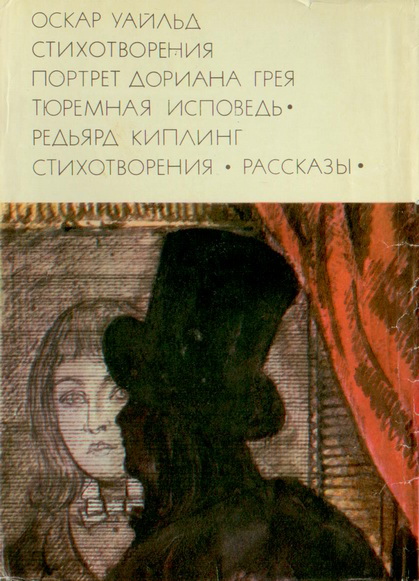
ОСКАР УАЙЛЬД
Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
Стихотворения. Рассказы
Составление, вступительная статья и примечания Д. Урнова
Иллюстрации Л. Зусмана
ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ ТАЛАНТА
Оба они, Оскар Уайльд (1854–1900) и Редьярд Киплинг (1865–1936), пользовались легендарной славой. Слава сохранилась до сих пор, сделавшись еще более легендарной. Это уже только легенда, потому что ныне, когда в Англии Уайльд и Киплинг переиздаются редко, имена продолжают жить сами по себе.
Из классики этих имен никто, разумеется, не вычеркивает. Если раньше каждое слово «блистательного Оскара» ловили на лету, каждая страница «железного Редьярда» притягивала к себе, как магнит, то теперь их книги приходится разыскивать. Справедлив ли приговор истории, оставившей жить осиротелую славу, оболочку без тела, литературные явления без книг?
Они принадлежали одной и той же эпохе. Разрыв всего в несколько лет иногда разграничивает современников глубоко, делая их принадлежностью разных времен, но Уайльд вошел в литературу сравнительно поздно, а Киплинг обратил на себя внимание совсем молодым и как бы сравнялся по времени со старшим собратом. Правда, он и пережил его намного, застав совсем другие времена, но с началом нового века и в особенности после первой мировой войны Киплинг уже не воспринимался как величина «современной» литературы. Он писал, он печатался, он создал в свой поздний период некоторые вещи, достойные своего расцвета, но все же в сознании читателей остался «за гранью прошлых дней», все там же, на рубеже веков.
Эта полоса, 80-90-е годы прошлого столетия, которую «концом века» так и называют, находится по отношению к нам в совершенно особом положении, далеком и близком одновременно. Сто лет тому назад — конечно, давно! А ведь это и начало нашего века — истоки. Многое, что сейчас составляет примету «современности», наметилось именно тогда, во времена Уайльда и Киплинга. А сами они в глазах своих современников являлись носителями небывалой новизны, и за этим виделось будущее.
В самом деле, трудно сейчас отыскать писателя, который бы чем-нибудь, — признает он это или нет, — не был Уайльду и Киплингу обязанным. Не только стиль, не одни приемы, а самый тип человека, занятого писательской деятельностью, обрел в Уайльде и Киплинге выражение «современное». Учителя, предшественники и сверстники очень влиятельные у них были, а все-таки трудно указать другой, столь же яркий, пример «персональной» власти над публикой, какой обладал «блистательный Оскар». А Киплинг — человек с пером в руке, не пользующийся для контакта с читателями никакими другими средствами, кроме написанных и напечатанных слов. Несмотря на всю его славу, мало кто представлял себе, каков он, «железный Редьярд». Одному читателю-почитателю повезло: он видел его, но эта встреча как исключение подтвердила правило — не обращая никакого внимания на окружающих, Киплинг писал.
Уайльд — громоздкий и вместе с тем артистически изящный. Киплинг-малютка, по контрасту со своей огромной славой он поражал внешним видом. Творчески также, кажется, сходства никакого: утонченность, изыск, «зеленые гвоздики» и — «железо», казарма, солдатский жаргон.
Когда Киплинг выпустил свои первые рассказы, Уайльд, уже прославившийся, отозвался о них и, как нарочно, подчеркнул в этих рассказах все, что было противоположностью его вкусам, его собственному творчеству. Такой ценитель, как Уайльд, не мог не заметить такого таланта, как Киплинг. Уайльд не мог не видеть, что новый автор не так уж прост, как предполагает заглавие «Простые рассказы». Вместе с тем Уайльд не мог понять, зачем тратить силы на низменный быт. И, уж конечно, он не замечал ни малейшего сходства между собой и новичком, хотя на первых порах Киплинг, подобно многим своим сверстникам, находился под обаянием Уайльда и подражал ему. Киплинг со своей стороны, правда, уже совсем в поздние годы, отозвался об Уайльде свысока, так, будто сам он к его школе никакого отношения не имел. Время позволяет рассудить их, и особенно интересно увидеть, насколько они все-таки похожи, не в смысле повторения, а как выразители одной эпохи.
Когда над Уайльдом уже нависала угроза суда и тюрьмы, благожелатели советовали ему все-таки не забывать о «приличиях». «Приличия?! Я поставил своей целью довести ваши «приличия» до неприличия, но если этого мало, я доведу их до преступления», — так отвечал Уайльд. Возможно, он еще не верил в реальность угрозы, однако он вполне верил своим словам и говорил, что хотел сказать. То же самое выразил он и другими словами: «Нужно заставить прописные истины кувыркаться на туго натянутом канате мысли ради того, чтобы проверить их устойчивость». Проверку устойчивых истин на свой лад предпринял и Киплинг. Он хотел укрепить их, Уайльд — расшатать окончательно, доведя буржуазные «добродетели» если не до преступления в самом деле, то уж до полного парадокса.
При расхождении целей они тем не менее двигались в русле одного течения, называемого неоромантизмом. Связь этого подновленного романтизма с романтизмом, развернувшимся на рубеже XVIII–XIX веков, условна. Тот прежний и, можно сказать, великий романтизм, выдвинувший столько выдающихся фигур, имел глубокую философскую основу, разработанную эстетику и, наконец, творческие достижения мирового значения во всех жанрах, — высокий перевал от старого к новому времени. Неоромантизм — скромнее по масштабам. Преемственность между ними все-таки осуществлялась, причем через некоторых писателей, заставших ту и другую эпоху. «Ненависть к современной цивилизации», — так определял пафос неоромантизма один из первых английских социалистов, писатель и художник, Вильям Моррис. В границах анти-«современных» устремлений были разные лагери. Антибуржуазность Уайльда выражалась в культе Красоты, в отрицании узкой «пользы», даже «ложь» была им провозглашена как принцип вопреки прозаическому практицизму. У Киплинга — доблести солдатские, отвага, стоическая выносливость как вызов торгашам и канцелярским крысам.
Во времена Уайльда и Киплинга Англия по-прежнему считалась «первой державой мира». «Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготовляющая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти все виды спорта… Страна мудрого и бессердечного эгоизма, железной англосаксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно жестокой колониальной политики», — так в статье о Киплинге наш писатель Александр Куприн передал распространенные представления современников о «владычице морей». Британская империя по-прежнему опоясывала мир, и в ее владениях все еще не заходило солнце. Однако соперничество Соединенных Штатов за океаном, а на европейском континенте — Германии становилось для нее все более опасным. Войны, начиная еще с Крымской и кончая англо-бурской, обнаруживали все большее неблагополучие в британской армии, служившей оплотом могущества страны. Те, кто помнил, как бесславно сложили англичане в Крыму свою кавалерию, и те, кто своими глазами видел, чего стоила борьба до зубов вооруженной британской армии с зулусами, не могли не чувствовать грозных, предупреждающих перебоев в гигантской машине, все еще производившей «лучшую в мире сталь». Райдер Хаггард, друг и единомышленник Киплинга, известный писатель, совсем молодым человеком тянувший служебную лямку в «дебрях Африки», тогда же на основе личного опыта пришел к выводу: «Еще одно-два поколения — и англичане уже не увидят своей страны в ее нынешней горделивой позиции».
Внутри страны в ту пору, когда поднялась и закатилась звезда Уайльда и когда завоевал славу Киплинг, Англия также переживала перемены, отличавшиеся двойственностью. Признаки прогресса: жалкая бедность, детский труд, одним словом, многое, о чем с дрожью в голосе в свое время писал Диккенс, отходило в прошлое; убогое батрачество, прозябание деревни, составлявшие фон романов Томаса Гарди, в свою очередь, становились принадлежностью «былого», — общество, казалось, очень чутко реагирует на призыв к переменам. Письма Уайльда о тяготах тюремной жизни довольно скоро вызвали практические последствия, несмотря на то что писавший уже лишен был прежнего авторитета. Значительно поднимается грамотность, ширится распространение книг. Появляются издания массовые, достигающие уже вполне современных тиражей в сотни тысяч экземпляров. Безусловно растет уровень жизни «среднего человека». Раньше переход из одного общественного слоя в другой напоминал путешествие во времени, из одной исторической эпохи в другую, от «цивилизации» к «дикости». Тот же Райдер Хаггард после поездки не в Африку, а по сельским районам Англии с горечью писал, что ему казалось, будто он побывал у первобытных племен. Но уже лет десять спустя такого написать было нельзя. Перемены совершались буквально на глазах. Однако те же самые перемены поднимали такие кризисные вопросы, что на них, — как вспоминал Герберт Уэллс, формировавшийся в ту же эпоху, — ответов предпочитали не доискиваться.
Впечатление современников от бесед с Уайльдом может служить символом в этом плане. Разговор, предпочтительно застольный, был особым и чуть ли не самым сильным жанром «блистательного Оскара». Тот, кто слышал Уайльда, свидетельствует, что написанное им — это лишь тень его неотразимо выразительной беседы. Уайльд произносил преимущественно монологи и нуждался лишь в репликах, которые бы ему подбрасывали, как топливо в огонь. Однако на известном пределе, когда вопрос ставился остро, чересчур остро даже для «короля остроумия», Уайльд вдруг терял всякий видимый интерес к своим слушателям или же переходил на другую тему.
Что касается символов, то одним из них Герберт Уэллс называет… челюсть Киплинга, большую нижнюю челюсть маленького человека, воинственно выдвинутую вперед. Считалось, что такая челюсть говорит о решительности, сознании государственного долга, политической твердости и мудрости.
«Но в глубине его холодного сердца был страх», — сказано у Киплинга про огромного, двухметрового, ядовитого змея, сказано в истории детской, заключающей, уж как водится, взрослую мораль. И очень часто в глубине, в основе не только вполне взрослых, но лучших произведений «железного Редьярда» запрятан под видом бронированной уверенности тот же, ему самому ведомый, страх.
Уайльд свою позицию определил как «пир с пантерами». Иными словами, крайний риск, предпринимаемый, однако, не от избытка сил, а лишь как единственный шанс.
Это не было только личным состоянием Уайльда, Киплинга. Таково было состояние страны, империи, общества, эпохи: накопление и вместе с ним рост проблем, на которые смотрели тем взглядом, который Киплинг передал в одном из своих рассказов, взгляд тоскливо-тревожный в сторону моря, туда, за Ла-Манш. «Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Ушентом штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия подернулась холодной, серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира; а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек». Рассказ — сравнительно поздний («Они»), написанный Киплингом, потерявшим ребенка в годы англо-бурской войны, Киплингом, несколько дрогнувшим (возмездие!). В том же рассказе между прочим говорится «о жестокости христианских народов… рядом с которой простое языческое варварство негра с Западного Берега выглядит чистым и безобидным», — говорится автором «Бремени белых», создателем целой идеологии, утверждавшей «цивилизующую» миссию европейцев. Но, в сущности, не говорится ничего, что не было бы сказано и раньше тем же Киплингом. Разница лишь в том, что в позднюю свою пору Киплинг прямее выдавал чувства, которые ему изначально были ведомы, но которые прочесть в его глазах было трудно, должно быть, из-за сильно выдвинутой вперед челюсти.
«Между мной и моим веком была символическая связь», — сказал Уайльд. Современник-свидетель вспоминает, как Уайльд буквально рыдал от горя, сознавая, что ему, судя по состоянию здоровья, не удастся встретить нового столетия (по другим воспоминаниям, он говорил о том же шутя). И действительно, связь символическая переросла в физическую: в точности на пороге наступившей эпохи Уайльд скончался. Киплинг пережил свой век намного, однако новых времен не желал замечать. «Он продолжал твердить свое, — говорит современник, — так, будто ничего не произошло, хотя на самом деле произошло все, просто упразднившее самый повод для его призывов». А людям другой эпохи со своей стороны представлялось, что вместе с «концом века» ушли в прошлое Уайльд и Киплинг. В особенности резко заявляли об этом те, кто прошел первую мировую войну и своей кровью подписал приговор имперскому «патриотизму», воспетому Киплингом. Что же касается «блистательного Оскара», то его «бунт» и его «блеск» выглядели в глазах новых поколений всего лишь поверхностной бравадой.
В прошлое ушла Англия, по отношению к которой занимали они позиции, хотя и разные, но одинаково небезразличные. Нет бастиона былой буржуазной «благопристойности», который штурмовал Уайльд, нет уже той империи, оплот которой помогал укреплять Киплинг: не с чем сражаться, не за что бороться, — а эти двое значительную долю своей незаурядной энергии отдавали полемике «за» и «против». Объект, на который энергия была направлена, перестал существовать, нет опоры (или преграды), и, кажется, сила, заключенная в их страницах, тратится впустую. Сила, державшаяся сопротивлением и борьбой. Но сила это все-таки сила. Ведь когда Эрнест Хемингуэй говорил об основных писательских свойствах и, подводя итоги, сказал — талант, он добавил: «Как у Киплинга». Среди оголтелых энтузиастов-киплингианцев он не был, он был ранен на том итальянском фронте, куда для поднятия солдатского духа приезжал «железный Редьярд», и про все такое, о чем людям младшего военного поколения «просто противно было слушать», Хемингуэй написал «Прощай, оружие!». И все-таки рядом со словом «талант» поставил имя Киплинга. А Ричард Олдингтон, посмеявшийся над Уайльдом как над кумиром ушедшей эпохи — «Душка Оскар, до чего остроумен и ах, как одет!» («Смерть героя»), — потом написал предисловие к его избранному, где отдал должное его остроумию, его блеску.
Уайльд и Киплинг принадлежали не только одной эпохе, но и одинаковой среде. Отец Уайльда — врач, а также собиратель старины, опубликовал несколько книг об ирландском фольклоре. Отец Киплинга — естествоиспытатель и рисовальщик, хранитель научного музея, автор фундаментального труда «Человек и зверь в Индии». Мать Уайльда — поэтесса, активная общественно-литературная деятельница, обладала широким кругом артистических знакомств. На свадьбе родителей Киплинга присутствовал, по выражению биографа, «литературный Лондон», по крайней мере, в лице «львов», наиболее в ту пору известных поэтов и художников. Прежде всего были представители так называемого «Прерафаэлитского братства» — родственники и друзья со стороны невесты. Те же родственники и друзья Алисы Киплинг были друзьями Джейн Уайльд, среди них — выдающийся художник Эдвард Бёрн-Джонс, пионер того направления в искусстве, которое получило название «эстетизм». Киплингу Бёрн-Джонс приходился родным «дядей, а Уайльду — одним из духовных «отцов». Правда, Уайльд родился и рос в Ирландии, Киплинг — в Индии, но и тут в их положении есть сходство: в Англию, а затем и в английскую литературу оба явились как бы со стороны. И они обновили, освежили взгляд своих современников на них самих, внеся неожиданную точку зрения для самокритики — Уайльд оригинальной парадоксальностью, Киплинг небывалой экзотикой.
В одних и тех же журналах печатались, в одних и тех же редакциях бывали, находились в литературном мире друг от друга совсем близко, но так и не виделись. Иногда их встрече мешали обстоятельства: Киплинга приняли в клуб писателей (первый литературный клуб!), а Уайльда отвергли, хотя, разумеется, не по литературным причинам. В то же время их положение, особенно в начале пути, все-таки было не одинаково. Уайльд по воспитанию и образованию претендовал быть духовной элитой. Его отец значился врачом королевским, получил за выдающиеся медицинские заслуги дворянское звание, Уильям Уайльд-старший — среди основоположников современных методов лечения глазных и ушных болезней; сам Оскар имел за блестящие успехи золотую медаль в школе, золотую медаль в колледже, золотую медаль в университете — Оксфордском, где слушал даже не обычных квалифицированных лекторов, а Рескина и Уолтера Патера — мыслителей, властелинов дум не одного поколения; за свои студенческие стихи получил он особую награду — и, явившись в Лондон, был признан Профессором Эстетики. Киплинг между тем рос у «чужих людей», образование получил хотя и добротное, но только среднее, и в то время, когда Уайльд отправился в лекционное турне по Америке, когда его прическу и покрой брюк обсуждала «большая» пресса, Редьярд Киплинг редактировал в Лахоре провинциальную газету.
Однако с выходом первых, достойных внимания книг соотношение их стало быстро уравниваться. О «Простых рассказах» (1888) Киплинга Уайльд отозвался свысока, но чем тогда держался его собственный авторитет? Уайльд заставил о себе говорить до того, как его стали читать. Он судил о новом имени тоном мэтра, а между тем сам в том же 1888 году испытал фактически первый читательский успех, принесенный ему «Счастливым принцем». Так получилось, что признание авторское Уайльд завоевал уже в одно время с новой, быстро растущей величиной — Киплингом. Это признание подняли «Портрет Дориана Грея» и три пьесы за три года (1892–1895), а Киплинг вообще выпускал книгу за книгой, поднимаясь после каждой все выше по шкале широкой популярности.
В год позорного судилища, когда Уайльд просто утратил социальный статус (1895), Киплинг завершил «Книгу Джунглей», пронизанную, как нарочно, идеей о законе и подчинении. В одно и то же время, когда Уайльд, сидя за решеткой, писал исповедь, пытаясь осознать и объяснить свое становление, подъем и падение, Киплинг выпустил «Отважных капитанов» — тоже о формировании характера. «Баллада Редингской тюрьмы» (1898) и «Бремя белого человека» (1899) стали событиями дня почти одновременно. Выход в свет уайльдовской исповеди (посмертно, 1905) и присуждение Киплингу Нобелевской премии («за идейную силу и мастерство стиля», 1907) — события одной эпохи. Все время они по видимости символически противостоят друг другу, но все же не напрасно имелись у них общие знакомые, вкусу и суждению которых они доверяли. Их корни вели к однородным источникам, и, стало быть, деятельность их, столь при первом сравнении контрастная, должна где-то питаться общим пафосом.
«Я сам погубил себя», — вынес окончательный приговор Уайльд в своей исповеди. С точки зрения фактической, это, как все утверждения Уайльда, нуждается в проверке и поправках. Однако если учесть, что автобиография была для Уайльда родом творчества, что он творил свою жизнь как сюжет, который потом на бумаге он не только записывал, но и дописывал в соответствии с замыслом, если это учесть, то, безусловно, Уайльд здесь сказал, что хотел сказать, а именно — «Я сам»… И то же хотел сказать Киплинг. «Страна, гордо пишущая местоимение «Я» с большой буквы», — отметил Куприн в статье о «железном Редьярде», под пером которого особенность орфографическая выросла в житейскую философию. Но в чем основа самосознания, каков фундамент, на котором хочет возвыситься горделиво-надменное «Я»?
Бунт против буржуазной безликости был изначальным импульсом этого широкого, охватившего не одну Англию, движения умов. В «Прошлом и настоящем» Карлейль с пафосом, поистине пророческим, воззвал к людям живым, к сердцам и душам, не уничтоженным погоней за чистоганом. Далеко не последовательно, не всегда доказательно, очень часто вообще невразумительно и даже вопреки фактам вещал он и — встретил сочувственный отклик хотя бы потому, что невозможно было отрицать саму проблему, эту относительность преимуществ «настоящего». Своих современников, влекомых движением времени, Карлейль побудил, хотя бы ценой реакционного сопротивления, оглянуться и задуматься. «Посмотрите, душа убывает! Все становится «добропорядочнее», но пошлее», — подхватил его мысль либеральный публицист и философ Джон Стюарт Миль.[1] Как широкое, хотя и разнохарактерное по составу, направление формировалась эта «ненависть к современной цивилизации», и утопический социалист Моррис питал ее, и какой-нибудь упрямый консерватор-тори.
«Ату, на них!» (то есть на «новых», на преуспевающих «выскочек») — раздался призыв Эверарда Ромфри, Сэра Эверарда, родовитого, но понесшего под натиском «настоящего» сильный урон, аристократа — из романа Джорджа Мередита.
А члены «Прерафаэлитского братства», поэты и художники, не склонны были что-либо кричать, они, напротив, хотели тихо уйти, устраниться, чтобы вовсе не связываться с этой «толпой». Куда уйти? К далеким временам, к той красоте и простоте, что изгоняется «современной цивилизацией», к средним векам — еще до Рафаэля! — когда процветали ремесла, когда люди работали руками, а не машинами, и каждая скамья или стул были своего рода произведениями искусства.
Оскар Уайльд писал за столом Карлейля, доставшимся ему то ли через аукцион, то ли «по знакомству» (с Карлейлем дружна была его мать). Глашатаев «чистого искусства» слушал он в Оксфорде. В Лондоне, куда явился он во всеоружии классической образованности, Оскар уже сам старался выступать Эстетом с большой буквы.
Редьярд Киплинг формировался вдали от столичных творческих кругов, но те же влияния коснулись и его. «Прошлое и настоящее» было одной из первых серьезных книг, которые усвоил он в колледже. Прочел он Патера и Рескина, которым Уайльд внимал в Оксфорде. Рисунки и картины Эдварда Бёрн-Джонса говорят о том, что Редьярд учился и у своего «дядюшки Эди», учился практически — владеть карандашом, учился и духовно.
Но из влияний, испытанных сообща, Уайльд и Киплинг извлекли разные уроки. Заветы и намеки учителей Уайльд подхватил, развил, довел до блеска — до афоризма, по его собственным словам, вполне справедливым. Киплинг той же традиции воспротивился, но не отбросил ее вовсе. Он не стал подражать «дяде Эди» в изображении каких-то условно-средневековых дев, одежд, лестниц, башен, но это от него он воспринял жесткость линии.
Взявшись за восстановление «старины» и «простоты», художники-эстеты не замечали или не хотели замечать, что стулья и покрывала, изготовленные ими в самом деле с тонким искусством, попадают в руки богатых коллекционеров и становятся предметами роскоши, — Энгельс иронизировал над этим. У Киплинга достало здравого смысла и зоркости усмотреть тот же парадокс и не заниматься «хорошенькими вещицами». Однако мир вещей, созданных одухотворенным рукодельем, он ценить научился. Он понял «душу» паровоза или корабля — первый в литературе понял! — благодаря тому, что с детства рос среди любовно сшитых, тисненых, разрисованных переплетов, которые скорее отвлекали от самой книги, чем заставляли читать ее но, как и в рисунках дяди-эстета, взял он принцип — мастерство, труд.
Эстетство было реакцией на бездушный механицизм, стандарт, «стереотипный мир», по выражению Патера. «Лишь грубый глаз, — говорил он, — может счесть, будто некие два лица, предмета или ситуации совершенно похожи». Он учил наблюдать, двигаться, успевая за жизнью и всей ее многокрасочностью. Понятно, что по меньшей мере полстолетия тянувшаяся к искусству («подлинному искусству»!) молодежь вдохновлялась его идеями. Но вот один, особенно внимательный и восторженный, читатель ощутил вдруг какую-то странную пустоту за этими пламенными советами. Он стал еще вчитываться, он увиделся, наконец, с самим мэтром и — понял: да в нем нет настоящей жизни! Это — бессилие проповедовало силу, мертвечина учила чувствовать. Так вот почему «чувства», о которых говорится так пылко, имеют все же странный, бесчувственный оттенок![2] И это был изъян всего эстетства. В борьбе за индивидуальность, «лица необщее выражение», увлекались они вместо лиц масками.
На это Уайльд ответил бы каскадом ошеломляющих парадоксов и — отвечал, доказывая остроумно и содержательно, что, в сущности, не реальность воздействует на искусство, а искусство на реальность. Он развивал мысль Рескина (из «Современных художников») о том, что это живописцы заставили заметить туманы Лондона. Конечно, обратная и действенная связь искусства с жизнью играет огромную роль в отношении людей к окружающему, но ведь когда критики, и совсем не узколобые критики, упрекали Уайльда в том, что в книгах у него не люди, а куклы, он опять-таки отшучивался, всего лишь отшучивался, доказывая по-прежнему с блистательной изобретательностью, что куклы интереснее живых людей, однако это был уже только ход в игре, уловка — возразить по существу было нечего. Дело не в том, что можно изготовить занимательную куклу, а в том, что Уайльду удавались только куклы, а он, не замечая или не желая замечать прямого адреса болезненных критических уколов, предлагал принять эти манекены за живых людей.
Искусство с исключительной силой воздействует на жизнь, но лишь тогда, когда само идет от живых источников. По картинам эстетов-художников, о которых восторженно говорил Уайльд, можно с особенной наглядностью убедиться в том, как они, стремясь вернуть в «стереотипный мир» красоту и духовность, совершают усилие, и оно, усилие, так и остается усилием: ответом на бездушие оказывается изысканно-холодный расчет, то же бездушие. И это, разумеется, не было секретом для Уайльда, не могло быть, хотя бы потому, что он, пусть по-своему, жил живой жизнью и даже еще с умноженной силой, чего нельзя сказать, например, об учителях его, о том же Патере: тот просто обделен был самой природой, и целый мир чувств оставался вовсе закрыт для него; он «чувства» вычитал из книг и затем поместил их обратно в книги. Уайльд был сильнее! И тем не менее он ограничился отделкой, полировкой полемических передержек, дразня ими «толпу».
«Сам погубил себя» — верно, только он не сознавал, или не хотел, или не мог осознать, чем же именно? Все, что произошло с ним — его падение с пьедестала, — совершилось не из-за того, что он сделал, но из-за того, чего он не мог сделать. С ним разыгралась трагедия в жизни, потому что он оказался не способен написать ее на бумаге. Он взялся эстетизировать жизнь, будто бы слишком бедную для его фантазии, а на самом деле фантазии не хватило! Это, разумеется, сравнительно — соответственно задаткам и замыслам, с которыми явился в литературу «блистательный Оскар», блистательный без кавычек, без скидок.
Явился, заставил говорить о себе, прославился по обе стороны Атлантики и… очутился без копейки. Это не случайно, а принципиальный парадокс: именно тогда писатели, если они в самом деле писали и их действительно читали, начали получать гонорары «по-современному», с опорой на закон и порядок, так что известный автор… Но в том и загвоздка, что он, уже сделавшись литературной знаменитостью, фактически еще не был автором! За что же ему платить? За колебания воздуха, в котором носились его имя, его остроты? Что ж, у каждого свой жанр, в памяти людской сохраняются имена и судьбы тех, кто мыслил и рассуждал вслух, но не писал — о них писали. (Что осталось от Сократа?) А Оскар Уайльд после того, как принесли ему успех три пьесы, говорил, что стоит ему захотеть — и он напишет таких хоть шесть. Он даже говорил — шесть в год. И не написал больше ни строчки (в жанре драмы). Когда много лет спустя, уже в наше время, на доме в Лондоне, где он жил, поставили мемориальную доску, на ней он даже не назван писателем. Отчеканено — «Ум», сам по себе Ум, стремительный и сверкающий Ум. Впрочем, добавлено: …и драматург, хотя, конечно, в пьесах — куклы, и это все тот же, только распавшийся на реплики, монолог «блистательного Оскара».
На первых страницах тюремной исповеди, которые долго находились под спудом, Уайльд нарисовал портрет своего друга-недруга, лорда Альфреда Дугласа. Прежде чем признать «сам погубил себя» (так это читали по первым, неполным изданиям исповеди), Уайльд обличает Дугласа. Мы вправе читать это письмо не как личное послание и документ, а как литературное произведение, и потому можем видеть в портрете мнимого «друга» не конкретное лицо, а тип. Тот же, в сущности, тип, что выведен, только с другими оттенками, в «Портрете Дориана Грея». Но если все-таки поинтересоваться реальной стороной дела, то факты скажут иное. И когда Дуглас, загнанный в угол, пустил факты в ход, то даже благожелателям Уайльда пришлось признать его правоту.[3] Действительно, Дуглас, судя по всему, был чудовищем, но только не ничтожеством, — и это лучше, чем кто бы то ни было, знал Уайльд. («В самом деле, — спохватился один из благожелателей, — если Дуглас был столь мелок, то почему же Оскар находился под его влиянием?») Но принципиально важны тут два момента: первое, что Уайльд, умалив своего «злого гения», упростил себе задачу; во-вторых, это воплощенное зло и одновременно несомненная одаренность побили его в ответ его же собственной логикой. Дуглас напомнил Уайльду (посмертно, после того как стала ходить по рукам первая часть исповеди), он напомнил, как в действительности было дело. Уайльд утверждает, что время, проведенное в обществе мнимого друга, было для него в творческом отношении потерянным, Дуглас сказал: ничуть не бывало! В это самое время Уайльд работал успешно, как никогда, он создал свои лучшие вещи… Верно, как ни парадоксально! А это значит, что жизнь — над ней так остроумно и свысока иронизировал Оскар, — только жизнь, какая бы она там у него ни была, давала реальные силы его Уму, который был сам по себе до того подвижен и изобретателен, что, казалось, мог бы обойтись и безо всякой «подсказки».
После того как появилась тюремная исповедь, а следом за ней «Баллада Редингской тюрьмы», один из самых искренних друзей Уайльда, прилагавший в свое время все силы, чтобы спасти его от суда, осознал: «И это дала ему тюрьма!» Тюрьма — та же жизнь, напомнившая Уайльду о себе тем более грубо, что он, «пируя с пантерами», позволял себе шутить над ней. Испытание, пройденное Уайльдом, было страшнее какого-то экспериментально подстроенного риска. Но Уайльд — Ум, проницательность и тонкость как они есть, не мог он заведомо не сознавать, что «пир с пантерами» — только поблажка самому себе, очередной парадокс, уловка, отговорка, уход от проблемы при неспособности решить ее, но уход, совершаемый с видом превосходства, подобно тому как обещал он, если только захочет, писать по шесть пьес каждый год. Так что это была месть материала, с которым совладать он не мог, но делал вид, будто просто не хочет с материалом считаться.
Удар был силен, сокрушителен, и, конечно, лишь об истинной силе ума и таланта говорит результат искуса, который Уайльд выдержал и выдержал как человек творческий, как само воплощение Творчества.
Тюремные произведения Уайльда вызвали глубокое впечатление, но судили о них по-разному. «Другой Уайльд!», «Так вот он каков! Только теперь мы узнали его». А Бернард Шоу сказал: «Он совсем не переменился. Он вышел из заключения таким же, каким он туда попал».
Шоу хорошо знал Уайльда. Ценил его по достоинству. Сам эпохальный собеседник и острослов, он вспоминал об Уайльде: «Я любил с ним встречаться. В его присутствии я мог помолчать, потому что он говорил лучше меня». Шоу знал и того Уайльда, который единственным представителем духовной «элиты» откликнулся на его просьбу подписать воззвание в защиту бастующих рабочих.[4] А почему бы и нет? Такого Уайльда видели и колорадские шахтеры, которым он читал лекцию о Ренессансе. Но они поражены были, когда этот тип с дамской прической и в детских штанишках, морочивший их целый час какими-то непонятными словами, потом, не дрогнув, спустился с ними в забой — на подземный банкет! — и оказалось, что он свой в лаву парень. Шахтеры остались все-таки удивлены, как бывали на свой лад удивлены и озадачены многие, встречавшие «другого Уайльда», не утонченно-изысканного «Оскара». Шоу знал, что за всеми масками — одно лицо. Вот почему, когда после «Баллады» и исповеди заговорили о «другом», «трагическом» Уайльде, Шоу увидел в этом упущение, даже снижение случившегося. «Меня беспокоит, — говорил он в частном письме, — что все дело низводится на уровень сентиментальной трагедии». В исповеди Уайльда Шоу прочел комедию в том смысле, конечно, как понимал он сам силу и значение комического, силу уничтожающую и очищающую. «Несгибаемость его духа замечательна, — писал Шоу под впечатлением от исповеди, — он держится своего и без смущения всю вину возлагает на общество, кидая обратно те обиды и оскорбления, какие ему самому пришлось вынести». Взглядом артиста, художника, драматурга Шоу отмечает: «Реплика, которую после нескольких блистательных и видимо беззлобных страниц он бросает в сторону, между прочим, говоря, что последнее время его стали лучше кормить, неотразима». Шоу оценил истинный артистизм Уайльда, пронесенный им через все испытания.
Творческая диалектика «поэзия — правда», которую, буквально ложась костьми, в начале века доказывали на своем опыте романтики, была подправлена и расширена на протяжении века по законам реалистического изображения «как в жизни». В полемике с эпигонами правдивости, которые жизнь как таковую путали с творчески создаваемой жизненностью, эстетизм различных оттенков занялся поисками секретов «искусства как искусства». У этого течения, в сущности, было мало серьезных сторонников, потому что за вычетом полемических уточнений сразу же становилась видна бесплодная односторонность самой идеи. Уайльд ушел вместе с веком, как бы подчеркнув, что по линии «чистого» противопоставления искусства и действительности больше сказать нечего.
Был Уайльд совсем молодой человек, который, с волосами до плеч и в панталонах до колен, толковал колорадским шахтерам о Бенвенуто Челлини, со временем он вырос в «блистательного Оскара», гарцующего над «толпой», — его Уайльд сделал своим собственным героем. Но был, как мы уже знаем, парень, который после лекции спустился запросто в забой — опять Уайльд, однако, чтобы написать о нем, нужен был другой автор. Мы знаем также, что сам Оскар вроде бы стал «другим». Наблюдатели поверхностные думали, что именно так обстоит дело. Люди понимающие видели — «все тот же»… Некоторые критики в последних произведениях Уайльда нашли… подражание Киплингу, но, в сущности (увидели критики более проницательные), тут была одна, по-разному решаемая, проблема.
Киплинг и оказался тем автором, который делал ставку на парня, способного с интеллектуальных высот спуститься «в забой», в гущу жизни. Однако Киплинг понимал, что отыскать такого парня нелегко.
Киплинг, как и Уайльд, сосредоточил внимание свое на личности, которой или уж просто все дано, или, по крайней мере, открыт простор для инициативы: в таком положении находились люди их поколения, их среды. Если сравнить страницы тюремной исповеди Уайльда, где дан портрет молодого друга-недруга, с балладой Киплинга «Мэри Глостер», — прошедший суровую школу жизни отец отчитывает баловня-сына, — то мы услышим разную речь об одном и том же. «Дорогой Бози», изобличаемый Уайльдом как лицо обобщенное, а не конкретное, есть тот же самый изнеженный Дикки, которому у Киплинга достается от умирающего морехода-отца.
Ведь тебе уже за тридцать, и я знаю, что ты за тип.
Школа Гаррер да Троицын колледж! Надо было отправить тебя в море…
Но я дал тебе образование, а ты что дал мне взамен?
То, что считал я как благодарность достойным, ты мне не возвернул,
А то, что я считал пакостью, для тебя было образом жизни.
Ты погряз в картинах и книгах, в китайском фарфоре, гравюрах и веерах,
Твои комнаты в колледже были сплошным паскудством — будто жила там потаскуха, а не мужчина.
Каждая деталь в этом обличении играет свою роль, вот почему читателю, который дальше, в книге, найдет стихотворный перевод баллады, здесь стоит присмотреться к буквальному пересказу: «Гаррер» — это папаша, научившийся держать штурвал и считать золотые, прежде чем выводить хотя бы свое имя, — таким путем произносит трудное для него название Гарроу — школа из школ; в Гарроу учился Байрон, Лорд Байрон. Колледж Троицы есть в университете Дублинском (в нем учился Уайльд), есть в Кембриджском, — также марка совершенно особого интеллектуального отличия. Бози и Дикки — люди с одной улицы, с Кромвель Роуд, напоминающей названием своим о буржуазной революции, возглавленной, как известно, Кромвелем, — район новоявленного аристократизма.
А теперь послушаем, что говорил узник из ее величества Редингской тюрьмы, камера № 33, о своем недобром друге:
«Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения — у тебя были одни лишь прихоти. Намерение — это сознательное стремление… Ты бездельничал в школе и хуже чем бездельничал в университете… Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу, вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал… Ты взял меня измором. Это была победа мелкой натуры над более глубокой. Это был пример тирании слабого над сильным, — «той единственной тирании», как я писал в одной пьесе, которую «свергнуть невозможно»…»
Перед нами, как видно, одно лицо или, по крайней мере, два лица очень похожих. Но в ситуациях есть разница.
Изобличив «дорогого Бози», узник № 33 говорит: «Я сам погубил себя», — и затем рисует свой собственный портрет — в сущности, тот же тип, только осложненный дарованием, натура более крупная, как он сам уже сказал и — вполне справедливо. В исповеди Уайльда перед нами развертывается борьба двух сластолюбцев, двух баловней, двух, если угодно, «детей». Хотя между ними внушительный возрастной разрыв, оба — «дети» по своему положению.
У Киплинга баловню-выродку претензии предъявляет сознающая себя сила, другого закала, другого поколения. Если в исповеди Уайльда из двоих старший говорил о себе, в сущности, то же, что им было сказано о младшем — «все дано», то Сэр Антони Глостер (он же произносит «возвернул» и затрудняется выговорить мудреное название привилегированной школы, где учился сын) взял от жизни своими руками все, что ему было нужно.
За счет опыта, почерпнутого на окраинах империи, Киплинг вроде бы нашел ту позицию, которой у «блистательного Оскара» не было, так что, пользуясь «туго натянутым канатом» острословия, тот вынужден был гарцевать, балансировать над толпой и «пировать с пантерами» ради проверки устойчивости истин своей среды. Киплинг, если уж на то пошло, видел пантер реальных, во всяком случае, совсем не далеко был от них, ото всех невыдуманных опасностей, на передовом, хотя и от столицы далеком, крае борьбы за благополучие, достающееся Дикки и Бози. Двадцатитрехлетний работник провинциальной газеты с уверенностью власть имущего вторгся в столичный литературный мир; сам волшебник Стивенсон, прочитав Киплинга, произнес — «гм-гм»; он сказал о нем так: «Наиболее сильное из молодых дарований, появившихся с тех пор, как — гм-гм — появился я». Бывали ранние подъемы и расцветы, но этот новичок обладал особенностью, редкой даже для большого дарования, — сразу заговорил как человек зрелый.
Он говорил не столько даже от своего лица и равных себе по возрасту. Он говорил — и убедительно говорил — от лица солдат-ветеранов, бывалых офицеров, тертых колониальных чиновников, которые где-то там трудились и умирали на «благо Империи». «Что знают англичане об Англии, если они знают одну только Англию?» — спрашивал он, прямо намекая на далекие источники английского процветания, довольно грубо намекая, по-солдатски грубо, и — к нему прислушались. После того как Уайльд позволил себе что-то там высокомерно сказать в связи с Киплингом о вульгарности «англичан индусского происхождения», ему пришлось объясняться, фактически извиняться перед новым автором и его читателями: Киплинг получил поддержку тех, от лица которых он говорил и к кому в первую очередь обращался.
Да, говорил, как и Уайльд. В прямом смысле Киплинг, в отличие от своего блистательного современника-острослова, почти никогда не говорил с читателями, однако он, как и Оскар, сохранял разговорность в самом стиле. Только совсем иную разговорность, не для ушей тех, кто восхищался афоризмами Уайльда. Тут казарменная ругань, бюрократический жаргон, действительно вульгарная болтовня колониального «света», и в то же время чувствуется жесткая литературная рука, вгоняющая в послушный слог весь этот неприбранный, грубо звучащий и плохо пахнущий материал. Потомок эстетов, грезивших о стерильной чистоте средневековых линий! Они рисовали каких-то непорочных дев и старались передать в поэтической строке пение ветра, а у него в стихах (!) сквернословили солдаты, в рассказах свистел пар из четырехтактного двигателя. Впрочем, в стихах тоже мог быть пар, мог быть целый паровой котел, типографский станок, молотилка, барабан — вообще все, что угодно. «Магия! Это была форменная магия», — вспоминал позднее читатель-ветеран свои ранние впечатления от Киплинга. «Литература! Вот она Литература!» — торжествовал еще в то время один опытный редактор, через руки которого прошло немало молодых дарований с большим будущим. Как обычный читатель, так и литературный эксперт, оба почувствовали в книгах Киплинга чисто писательское умение справляться с любым жизненным материалом. Теперь, когда многие киплингианские чары развеяны временем, видно, насколько не широки были границы, ему подвластные, но тем отчетливее видно, что — было, была эта «магия» или умение заставить говорить пантеру и раскрыть «душу» корабля.
Отчетливый, хотя и не всегда приятный, привкус правды, которую хотел донести до своих читателей Киплинг, содержал столь же последовательно вносимую «приправу» — социально-политическую тенденцию. Каждый слон говорил у Киплинга о том, о чем нужно было ему, Киплингу. Считается, что талант Киплинга возобладал над тенденцией. Нет, талант проявился именно в той степени, насколько удалось Киплингу провести сквозь все преграды свою идею, в самом деле свою, отличавшую его от прочих бардов и политических доктринеров, взывавших общим хором «Правь, Британия, морями!». Не был Киплинг настолько наивен, чтобы не видеть, какими в самом деле изображает он «слуг» и «детей» Империи. Не он ли вместо «края чудес», куда заманивали «приключениями» и «сокровищами», рисовал колонии с их лихорадками, тоской одиночества, убийственной жарой. Насмотрелся он трусости и тупости «цивилизаторов», пока рос и работал в Индии! В том-то и суть, что на какую-либо безликую «машину» и тенденцию Киплинг надежд не возлагал. У него каждый кочегар — это человек, понимающий в своем деле толк, хотя, конечно, были такие проблемные рубежи, дальше которых Киплинг не хотел идти, были вопросы, на которые в ответ он выпячивал челюсть и — только. Но даже искушенные ценители, вроде Уайльда, поначалу не вполне поняли его, когда находили, что, «к сожалению», он при всем таланте «вульгарен» или «груб». Не «к сожалению», а во имя сознательно преследуемой задачи стремился он проверить читателей на своего рода выносливость. «От англичан индусского происхождения к туземцам, от туземцев к бравым английским солдатам, от бравых английских Томми — к четвероногим, от четвероногих к рыбам, от рыб к паровым машинам и болтам», — критик, читая Киплинга, говорил это хронически, а Киплинг всерьез и всеми силами стремился создать впечатление, что готов спуститься в любой «забой», взять в руки всякий болт и писать о каких угодно «Томми» ради разговора начистоту.
«Нынешние декаденты, — записывал в дневнике 90-х годов Толстой, — говорят, что для поэзии нужны крайности добра и крайности зла. Что без этого нет поэзии. Что стремление к одному добру уничтожает контрасты и поэтому поэзию. Напрасно они беспокоятся. Зло так сильно — это весь фон, — что оно всегда тут для контраста. Если же признать его, то оно все затянет, будет одно зло, и не будет контраста. Даже и зла не будет — будет ничего. Для того чтобы был контраст и чтобы было зло, надо всеми силами стремиться к добру».
Точку зрения «зла», сознательно и сочувственно вводимую, можно найти у Оскара Уайльда, причем это не просто заигрывание с «пантерами», в котором он будет каяться на страницах своей тюремной исповеди. По той же исповеди можно судить, насколько все было глубже экспериментально-демонстративного риска. По-своему замечательную, классическую картину взаимомучительства дает исповедь. Как воплощение зла прежде всего обрисован, конечно, «дорогой Бози». Но ведь автор исповеди не только отвечал когда-то, он по-прежнему, хотя бы из-за решетки, старался ответить другу-недругу тем же. Среди его реплик в сторону, которые так высоко оценил Шоу, одна в этом смысле особенно выразительна. Вспоминая унизительные оскорбления, которые наносил ему Бози, узник № 33 со своей стороны не упрекает его в безнравственности или бесчеловечии. Он говорит о «бедности воображения» своего мучителя! Он держится все той же «эстетической» точки зрения на «добро» и «зло».
Такого рода «эстетизм» Киплингу не был свойствен. Ради декоративного контраста, для встряски ему зла не требовалось. Он согласился бы до известного пункта с Толстым, что зла и так предостаточно. Но у Киплинга есть убеждение, подсказанное ему опытом, о некоей безграничности зла, и противопоставить этому можно, с точки зрения «железного Редьярда», также одно только зло, разве что еще более злое и изворотливое. Ради империи? Нет, тут уж не до империи, когда само зверство четвероногое или двуногое готовится напасть на тебя. Критики не раз отмечали, что Киплинг, вначале вроде бы пометив идеалы, ради которых шпион шпионит, морской пират преследует добычу и т. п., затем вдруг обо всем забывает, увлекшись чисто «профессиональной» стороной любого неблаговидного дела. Киплинг хотел, чтобы и читатель забыл об этом, чтобы и читатель почувствовал жестокую метафизику борьбы.
В таких случаях Киплинг занимает позицию поистине рискованную по отношению к той мысли, которую ему все-таки хотелось бы провести. Он оказывается последователен и правдив чересчур с точки зрения собственной цели и замысла. Уэллс вспоминал, как резанули по нервам читателей рассказы Киплинга, где изображалась жестокость детей, воспитанников пансионата. Относительно стихотворения «Добыча», исполненного в стиле солдатской песни с припевом «Грр-абь! Грр-абь! Грр-абь!», критик, ставивший Киплинга очень высоко, вынужден был написать: «Эти стихи просто отвратительны, они заставляют комментатора краснеть, когда он пытается истолковать их». Один из самых стойких ценителей Киплинга, англо-американский поэт и критик Т. С. Элиот объяснял дело так: «Киплинг, несомненно, чувствовал, что кадровый служака и его командиры недооцениваются своими мирными соотечественниками, находящимися у себя дома, и что в отношении к солдатам и демобилизованным проявляется все же социальная несправедливость, однако сам он стремился сказать о солдатах правду, а не идеализировать их. Ему надоел сентиментализм точно так же, как недооценка и небрежение, поскольку они стоят друг друга». Не приходится спорить с тем, что Киплинг хотел освободиться от сентиментальных иллюзий во имя реальных представлений, однако возникает вопрос, на чем же он хотел остановиться. Элиот в этом пункте отделывается, по своему обыкновению, молчанием. Вернемся к «Мэри Глостер», едва ли не лучшей балладе Киплинга, маленькой поэме, выражающей в основном взгляд на главные человеческие проблемы, которые занимали писателя.
По сравнению с конфликтом между Оскаром и Бози разница в самом деле сразу видна, потому что у Киплинга — отец и сын, разные поколения, разные жизненные школы и позиции. Сэр Антони Глостер так и остался основным героем Киплинга — в поисках фигуры, способной возложить себе на плечи «бремя белого человека», лучшего он не нашел. Баллада о «Мэри Глостер» написана Киплингом в начале пути — в дальнейшем он мерил людей все той же мерой, сопоставляя своего Сэра Антони с такими, как международного масштаба авантюрист Сесиль Родс или американский президент Теодор Рузвельт — с обоими его связали близкие отношения. Однако никуда не мог он уйти и от правды, той правды, что художественно запечатлена в его же собственных стихах. Глостер-старший ведь не только разуверился в сыне. Этот удар судьбы получил он как итог собственной жизни. Бессилие сына есть лишь теневое, контрастное отражение силы отца, проявлявшейся также в «паскудстве», только по-иному: у сына — изящные безделушки, доставшиеся ему на отцовские средства, у папаши — пароходы, доставшиеся ему за счет того, за счет чего они ему достались — сам знает! Не только открывшаяся через сына-баловня бесперспективность всех усилий, но и осознание их изначальной неправедности, — с этим умирающий Сэр Антони, который, заплатив за все, по-прежнему говорит Гаррер вместо Гарроу, просит «отвезти его до места» и выбросить, как положено, за борт.
Это все написано Киплингом, все в том смысле, что, при видимой простоватости своих героев, сам-то автор эстетски обдумывал каждую запятую, желая сказать то, что сказал, что мог сказать.
Пораженный, даже ослепленный читатель послушно следовал за Киплингом и в пустыню, и в джунгли, и в морской простор. «Железный Редьярд» представлялся проводником, отлично знающим дорогу до конца.
Но вот Толстой, поздний Толстой, под впечатлением от раннего Киплинга отметил — «растрепан». Таково было первое впечатление (1892), оставшееся у Толстого постоянным. Однако поздний Толстой поднимал, как известно, руку на самого Шекспира, и потому его отзыв о Киплинге вроде бы можно отнести если не к причудам, то к заблуждениям или же просто недоразумениям.
В самом деле, «растрепан» расходится со стойким, фактически единодушным, мнением о Киплинге — чеканном, блистающем отделкой. Едва ли не в первом же предисловии, знакомившем русских читателей с Киплингом (1895), проводилась мысль о законченности его формы. В дальнейшем то же мнение укрепляется: что бы там о Киплинге ни думать, как ни воспринимать дух его творчества, пишет он — «железно».
И вот потребовался почти целый век для того, чтобы современные, уже нам современные, исследователи усмотрели в прозе Киплинга некую «растрепанность», о которой тогда еще заговорил Толстой…
Было бы глубоко неверно думать, будто о Киплинге прежде судили поверхностно и лишь теперь добрались до сути. Напротив, у нас, например, с самого начала в оценке Киплинга звучала в передовой печати трезвая нота. Произведено было основательное разграничение между киплинговской установкой на «правдивость» и действительной мерой в раскрытии или же утаивании Киплингом подлинной правды. В Киплинге отделили крупное дарование от этого «маленького человечка с большой челюстью», трубившего во славу империи! Выработана была объективная, неодносторонняя точка зрения, выразившаяся и в прекрасной, не потускневшей до сих пор, статье Куприна, и в том, что позднее, используя купринский «ключ», писал о Киплинге Паустовский.
Однако в самом деле потребовалось время, и немалое, чтобы на поверхность выступила «растрепанность», когда-то замеченная Толстым. «Киплинг подчас оставляет читателя как бы ни с чем, вдруг бросая его на полдороге», — таково мнение новейшего исследователя. Оно явно не согласуется с представлениями прежними, когда читателю казалось, будто от начала и до конца чувствует он «железную» руку Редьярда. А ведь исследователь, автор «официальной» биографии, уж наверное, не ставил своей задачей ниспровержение Киплинга. Он просто признал то, чего уже, как видно, нельзя не признать. Читатель и сам это почувствует, когда возьмется за рассказы, включенные в предлагаемый том.
И это — не только на уровне слога, стиля, сюжета. Это «ни с чем» — позиционное, пронизывающее насквозь установку писателя: вид-то воинственный, а в глубине сердца — страх. В свое время требовательный «старик» это, быть может, потому и почувствовал, что «совсем еще молодой человек» (так критики называли Киплинга) был им читан в пору собственного саморазбора — до глубин, до первооснов социально-творческой позиции художника. Для себя самого решал Толстой фундаментальные вопросы («что такое искусство»?), и тут ему попалась книжка нового английского писателя, а он очень ценил, даже второстепенных, английских писателей за профессионализм, и он прочел и увидел — «растрепан».
Увидел читатель, который не терпел компромиссов и от искусства требовал ответов на важнейшие запросы жизни; уловил художник, при собственной, видимой «растрепанности», не знавший устали в поисках гармоничного соединения слова, мысли и дела в творческую правду. Именно на переходе от репортажной достоверности, стилистической точности, одним словом, правдоподобия («Выдумка его полна правдоподобия» — устойчивое и основательное мнение о Киплинге), на этом переходе — к большой правде усмотрел Толстой у Киплинга творческий промах.
Теперь, когда итоги давним спорам о Киплинге подведены самой историей, видно: в «растрепанности» сказывалась нестойкость идейных основ, на которых Киплинг пытался воздвигнуть свою «крепость». Пытался, развивая свойственную многим англичанам философию «семейного очага», дома-крепости и притом — с садом.
«Наша Англия — сад», — писал Киплинг в стихах, будто бы вторивших самому Шекспиру. Но у Шекспира возделанный «сад» — наследие трудовых поколений. Киплинг, как мы уже знаем, по-своему не терпел белоручек. «Сад тружеников» воспевал он, включая, однако, в понятие о «труде» и всю «грязную работу» по защите захватнических, имперских интересов. А в итоге, в глубине, как Сэр Антони, понявший, что не обиду от сына, а возмездие за дела рук своих получил он, так и Киплинг, хотя бы временами, испытывал покаянно-просветляющее чувство исторической вины.
Киплинг самому себе предъявил суровый счет. Когда Королевское общество литературы присудило ему золотую медаль, он, отклонявший после получения Нобелевской премии многие литературные, ученые и даже государственные почести, эту медаль принял и по случаю произнес речь. «Все пишут, — в таком духе говорил он, — надеясь на бессмертие, а что остается?» Он вспомнил гигантов, например, Свифта, Властелина Иронии, чьи сарказмы сотрясали устои, а в горниле вечности все им сделанное сжалось, в сущности, до размеров маленькой книжки. «Это все равно, — сказал Киплинг, — как если бы с помощью вулкана зажигать светильник над кроваткой ребенка». Но выводом Киплинга была все же не мысль о тщете даже очень больших усилий. Он говорил о требовательности самой истории, о нагрузке веков, под которую, как под пресс, ложатся книга за книгой, а там, что останется! «Пока пишешь, — говорил Киплинг, — окружающий мир берет у тебя лишь столько правды или удовольствия, сколько ему в данный момент требуется. А со временем остаток приплюсуется к общему результату, и, может быть, получится такой итог, о котором писатель даже не мечтал».
Но вот уже в самое последнее время, у нас на глазах, англичане вновь вспомнили Англию «конца века», ту самую, о которой еще Ричард Олдингтон говорил: «Совсем другая и, однако, на удивление та же, в чем-то неправдоподобная, бесконечно далекая от нас, а во многом — такая близкая, до ужаса близкая, сегодняшняя Англия…» Ныне соотношение далеко — близко еще даже усугубилось. Почти столетняя проверка выявила, что, собственно, к нашим дням приблизилось, что — отдалилось. Стало видно, что не приметы прошлого приближаются, а развилось «современное», уже намечавшееся в «далеком». Поэтому картина прежней эпохи стала активно перестраиваться усилиями историков и критиков. Имена, несравненно уступавшие Уайльду и Киплингу в прижизненной популярности, вышли на первый план. Те, о ком тогда говорили разве что в литераторских кругах, причем преимущественно говорили — не читали, во веком случае, не читала публика, знавшая наизусть Киплинга, те, если судить по мнениям нам современной критики, вышли вдруг на первый план как фигуры более значительные. Но это, понятно, аберрация.
Как ни трудно в самом деле восстановить картину ушедшего времени с основными его приметами, одной ошибки все-таки можно избежать, надо только не путать в прошлом самого прошлого и — намеков на будущее. Это уже к нашему времени намеки выросли в общепонятные и общепризнанные высказывания, это время как бы «дописало», прояснило их для нас. Кроме того, оценки новейшей английской критики отличаются какой-то нарочитой противопоставленностью вкусам читателей. «Возрождая» старых, некогда не вполне понятых или непризнанных писателей, критика превозносит их «серьезность», «сознательно-рассчитанное мастерство», однако одаренности, настоящей творческой энергии нет в этих свойствах. Одаренности, которая в произведениях и Уайльда и Киплинга била через край. Конечно, десятки киплинговских книг под прессом лет сжались до одного-двух томов. Из того, что написано Уайльдом, отстоялась книга, которую даже трудно зачислить в какой-либо жанр, ее так и называют «Ум Уайльда». Но уж это в самом деле выдержало проверку нелегкую и — будет жить дальше.
Д. УРНОВ
ОСКАР УАЙЛЬД[5]
СТИХОТВОРЕНИЯ[6]
VITA NUOVA[7]
На берегу стоял я в час прилива,
Дождем летели брызги на меня,
И рдели блики гаснущего дня
На западе, и ветер выл тоскливо.
К земле умчались чайки торопливо.
«Увы! — вскричал я. — Жизнь моя темна.
Ни колоска не даст мне, ни зерна
Лежащая в бесплодных корчах нива!»
И был истерзан ветхий невод мой,
Но снова в море из последних сил
Его забросил я в душевной муке.
И тут — о, чудо! — вдруг передо мной
В волнах возникли трепетные руки,
И я все беды прошлого забыл.
IMPRESSION DU MATIN[9]
Пейзаж был сине-золотой,
Но утром Темза серой стала;
Две баржи с сеном от причала
Отплыли; желтый и густой
Туман с мостов стекал, как с гор,
И вдоль фасадов расползался;
Огромным пузырем казался
Повисший в воздухе собор.
Потом, стряхнув ночную тишь,
Вдруг стало утро шевелиться;
Жизнь пробуждалась; даже птица
Запела на одной из крыш.
А женщина, бледна, тускла,
Медлительными шла шагами
Под газовыми фонарями
И в сердце боль свою несла.
IMPRESSIONS[11]
1
LES SILHOUETTES[13]
Легли на гладь залива тени,
Угрюмый ветер рвет волну
И гонит по небу луну,
Как невесомый лист осенний.
На гальке черною гравюрой —
Баркас; отчаянный матрос,
Вскарабкавшись на самый нос,
Хохочет над стихией хмурой.
А где-то там, где стонет птица
В невероятной вышине,
На фоне неба, в тишине
Жнецов проходит вереница.
LA FUITE DE LA LUNE[14]
Над миром властвует дремота,
Лежит безмолвие вокруг,
Немым покоем скован луг,
Затихли рощи и болота.
Лишь коростель, один в округе,
Тоскливо стонет и кричит,
И над холмом порой звучит
Ответный крик его подруги.
Но вот, бледна, как неживая,
В испуге, что светлеет ночь,
Луна уходит с неба прочь,
Лицо в туманной мгле скрывая.
QUIA MULTUM AMAVI[15]
Когда священник пылкий, молодой
Из тайны тайн вкушает первый раз
Плоть Бога — узника гармонии святой —
И с хлебом пойло пьет, войдя в экстаз,
Нет, даже он не в силах испытать,
Что было в ночь, когда глаза мои
Метались на тебе, и протоптать
Я пред тобой колени мог свои.
О, если б я чуть меньше был влюблен
И если бы чуть больше был любим
В те дни, под звон веселья, ливня звон, —
Лакей Страданья — я не стал бы им.
Но счастлив, что я так тебя любил,
Хоть голос боли до сих пор жесток.
Подумай, сколько сменится светил,
Чтоб сделать голубым один цветок.
МОЙ ГОЛОС
В наш суетливый, в наш тревожный век
Мы насладились жизнью — я и ты,
А ныне просто жалок наш ковчег,
Наш груз иссяк, и трюмы так пусты.
Вот почему бледнее мертвеца
Я стал так рано, и от слезных рек
Сошла вся краска с юного лица,
И Гибель входит шторой в мой ночлег.
Но для тебя вся жизнь в толпе людской —
Не более, чем прелесть лир, виол,
Иль гул уснувшей музыки морской, —
Ракушечное эхо вечных волн.
TAEDIUM VITAE[17]
Ножами юность заколоть, ходить
В твоей ливрее, худший из веков,
Дать всякой мрази красть из тайников
И в петли женских прядей угодить, —
Да просто за конюшнями ходить
В лакеях у Фортуны! Не таков!
Все это жалче пенных гребешков,
Чертополошин: близко подходить
Не собираюсь к своре дураков,
Что, зло смеясь, пускают гнусный слух,
Меня не зная вовсе. Батраков
Приют — он лучше, чем возврат в тот сброд,
Охрипший в спорах, где мой белый дух
С грехом впервые целовался в рот.
ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ[18]
Ты знаешь все. А я всерьез
Ищу — в какую почву сеять, —
Но ей милей пырей лелеять,
Без ливня и без ливня слез.
Ты знаешь все. Я — слепота,
Я — немощь, сидя жду, как снова
Мне за последней мглой покрова
Впервые отопрут врата.
Ты знаешь все. Слепец, увечность —
Я льщусь мечтой не жить напрасно,
Вот все, что знаю я прекрасно:
Опять мы встретимся, где вечность.
IMPRESSIONS[19]
1
LE JARDIN[20]
Увядшей лилии венец
На стебле тускло-золотом.
Мелькает голубь над прудом,
На буках — тлеющий багрец.
Подсолнух львино-золотой
На пыльном стержне почернел,
Среди деревьев и омел
Кружится листьев мертвый рой.
Слетают снегом лепестки
С молочно-белых бирючин.
Головки роз и георгин —
Как шелка алого клочки.
2
LAMER[21]
На вантах ледяной покров,
Морозный прах окутал нас.
Луна — как злобный львиный глаз
Под рыжей гривой облаков.
Стоит угрюмый рулевой,
Как призрак, в сумраке седом,
А в кочегарке чад и гром,
Слепит машины блеск стальной.
Свирепый шторм утих везде,
Но все вздымается простор;
Как рваный кружевной узор,
Желтеет пена на воде.
ДОМ ШЛЮХИ[22]
Мы услыхали танца вскрик,
Качнулся в небе лунный лик,
Плясали гости в доме шлюхи.
И музыканты, захмелев,
Вертели Штрауса напев,
Порой звенели оплеухи.
Как арабесковый кошмар
Роился танец странных пар,
За тканью штор скользили тени.
Визжали скрипки, ныл фагот,
Кружился рваный хоровод,
Как черных листьев мельтешенье.
Марионеток хриплый рой,
Расплывчатых скелетов строй
Во власти медленной кадрили.
Две куклы из нелепых снов,
Как две фигурки из часов,
Игрушечно обнявшись, плыли.
Зловещий, призрачный герой
Курил в раздумье, как живой,
У покосившейся веранды.
Вдруг смех и брань оборвались,
Все чинно за руки взялись
Под звуки мерной сарабанды.
И я сказал любви моей:
«Бал мертвецов среди огней,
Кружится пепел с пылью тленной!»
Но ты, но ты ушла, смеясь,
Крикливой похотью пленясь,
И дверь захлопнулась мгновенно.
Оркестр фальшивил все сильней,
Вальс фантастических теней
Стал прерываться. Гасли свечи…
По длинной улице пустой
В тунике с золотой каймой
Заря несмело шла навстречу.
ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ С АУКЦИОНА ЛЮБОВНЫХ ПИСЕМ ДЖОНА КИТСА[23]
Вот письма, что писал Эндимион,[24] —
Слова любви и нежные упреки,
Взволнованные, выцветшие строки,
Глумясь, распродает аукцион.
Кристалл живого сердца раздроблен
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка, холодный и жестокий,
Звучит над ним как погребальный звон.
Увы! не так ли было и вначале:
Придя средь ночи в фарисейский град,
Хитон делили несколько солдат,[25]
Дрались и жребий яростно метали,
Не зная ни Того, Кто был распят,
Ни чуда Божья, ни Его печали.
СИМФОНИЯ В ЖЕЛТОМ[26]
Ползет, как желтый мотылек,
Высокий омнибус с моста,
Кругом прохожих суета —
Как мошки, вьются вдоль дорог.
Покинув сумрачный причал,
Баржа уносит желтый стог.
Как шелка желтого поток,
Туман дома запеленал.
И с желтых вязов листьев рой
У Темпла пасмурно шуршит,
Мерцает Темза, как нефрит,
Зеленоватой желтизной.
БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ[27]
1
Гвардейца красит алый цвет,
Да только не такой.
Он пролил красное вино
И кровь лилась рекой,
Когда любимую свою
Убил своей рукой.
Он вышел на тюремный двор,
Одет в мышиный цвет,
Легко ступал он, словно шел
На партию в крикет,
Но боль была в его глазах,
Какой не видел свет.
Но боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
То синий и таинственный,
То серый без прикрас.
Был час прогулки. Подышать
Нас вывели во двор.
Гадал я, глядя на него:
Вандал? Великий вор?
Вдруг слышу: «Вздернут молодца,
И кончен разговор».
О боже! Стены, задрожав,
Распались на куски,
И небо пламенным венцом
Сдавило мне виски,
И сгинула моя тоска
В тени его тоски.
Я понял, как был легок шаг —
Шаг жертвы — и каким
Гнетущим страхом он гоним,
Какой тоской томим:
Ведь он любимую убил,
И казнь вершат над ним.
Любимых убивают все,
Но не кричат о том.
Издевкой, лестью, злом, добром,
Бесстыдством и стыдом,
Трус — поцелуем похитрей,
Смельчак — простым ножом.
Любимых убивают все,
Казнят и стар и млад,
Отравой медленной поят
И Роскошь, и Разврат,
А Жалость — в ход пускает нож,
Стремительный, как взгляд.
Любимых убивают все —
За радость и позор,
За слишком сильную любовь,
За равнодушный взор,
Все убивают — но не всем
Выносят приговор.
Не всем постыдной смерти срок
Мученье назовет,
Не всем мешок закрыл глаза
И петля шею рвет,
Не всем — брыкаться в пустоте
Под барабанный счет.
Не всем молчанье Сторожей —
Единственный ответ
На исступленную мольбу,
На исступленный бред,
А на свободу умереть —
Безжалостный запрет.
Не всем, немея, увидать
Чудовищный мираж:
В могильно-белом Капеллан,
В могильно-черном Страж,
Судья с пергаментным лицом
Взошли на твой этаж.
Не всем — тюремного Врача
Выдерживать осмотр.[28]
А Врач брезгливо тороплив
И безразлично бодр,
И кожаный диван в углу
Стоит как смертный одр.
Не всем сухой песок тоски
Иссушит жаждой рот:
В садовничьих перчатках, прост,
Палач к тебе войдет,
Войдет — и поведет в ремнях,
И жажду изведет.
Не всех при жизни отпоют.
Не всем при сем стоять.
Не всем, пред тем, как умереть,
От страха умирать.
Не всем, на смерть идя, свою
Могилу увидать.
Не всех удушье захлестнет
Багровою волной,
Не всех предательски казнят
Под серою стеной,
Не всех Кайафа[29] омочил
Отравленной слюной.
II
И шесть недель гвардеец ждал,
Одет в мышиный цвет,
Легко ступал он, словно шел
На партию в крикет,
Но боль была в его глазах,
Какой не видел свет.
Но боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
То розовый и радостный,
То серый без прикрас.
Рук не ломал он, как иной
Глупец себя ведет,
Когда Отчаянье убьет
Надежды чахлый всход, —
Он тихим воздухом дышал,
Глядел на небосвод.
Рук не ломал он, не рыдал,
Не плакал ни о чем,
Но воздух пил и свет ловил
Полураскрытым ртом,
Как будто луч лился из туч
Лекарственным вином.
Мы в час прогулки на него
Смотрели, смущены,
И забывали, кем и как
Сюда заключены,
За что, насколько. Только мысль:
Его казнить должны.
Мы холодели: он идет,
Как на игру в крикет.
Мы холодели: эта боль,
Какой не видел свет.
Мы холодели: в пустоту
Ступить ему чуть свет.
В зеленых листьях дуб и вяз
Стоят весной, смеясь,
Но древо есть, где листьев несть,
И все ж, за разом раз,
Родится Плод, когда сгниет
Жизнь одного из нас.
Сынов Земли всегда влекли
Известность и успех,
Но нашумевший больше всех,
Взлетевший выше всех
Висит в петле — и на Земле
Прощен не будет Грех.
Весною пляшут на лугу
Пасту́шки, пастушки́,
Порою флейты им поют,
Порой поют смычки.
Но кто б из нас пустился в пляс
Под пение Пеньки?
И мы дрожали за него
И в яви и во сне:
Нам жить и жить, ему — застыть
В тюремной вышине.
В какую тьму сойти ему?
В каком гореть огне?
И вот однажды не пришел
Он на тюремный двор,
Что означало: утвержден
Ужасный приговор,
Что означало: мне его
Не встретить с этих пор.
Два чёлна в бурю; две судьбы
Свел на мгновенье Рок.
Он молча шел, я рядом брел,
Но что сказать я мог?
Не в ночь святую мы сошлись,
А в день срамных тревог.
Две обреченные души —
Над нами каркнул вран.
Бог исцеляющей рукой
Не тронул наших ран.
Нас Мир изгнал, нас Грех избрал
И кинул в свой капкан.
III
Тут камень тверд, и воздух сперт,
И в окнах — частый прут.
Глядел в глухой мешок двора
И смерти ждал он тут,
Где неусыпно сторожа
Жизнь Смертника блюдут.
И лишь молчанье да надзор —
Единственный ответ
На исступленную мольбу,
На исступленный бред,
А на свободу умереть —
Безжалостный запрет.
Продумали до мелочей
Постыдный ритуал.
«Смерть — натуральнейшая вещь», —
Тюремный врач сказал,
И для Убийцы капеллан
Из Библии читал.
А тот курил, и пиво пил,
И пену с губ стирал,
И речь о каре и грехе
Презрением карал,
Как будто, жизнь теряя, он
Немногое терял.
Он смерти ждал. И страж гадал,
Что́ происходит с ним.
Но он сидел, невозмутим,
И страж — невозмутим:
Был страж по должности молчун,
По службе нелюдим.
А может, просто не нашлось
Ни сердца, ни руки,
Чтоб хоть чуть-чуть да разогнуть
Отчаянья тиски?
Но чья тоска так велика?
Чьи руки так крепки?
Оравой ряженых во двор,
Понурясь, вышли мы.
Глупа, слепа — идет толпа
Подручных Князя Тьмы.
Рукой Судьбы обриты лбы
И лезвием тюрьмы.
Мы тянем, треплем, вьем канат
И ногти в кровь дерем,
Проходим двор и коридор
С мочалом и с ведром,
Мы моем стекла, чистим жесть
И дерево скребем.
Таскаем камни и мешки —
И льется пот ручьем,
Плетем и шьем, поем псалмы,
Лудим, паяем, жжем.
В таких трудах забылся страх,
Свернулся в нас клубком.
Спал тихо Страх у нас в сердцах,
Нам было невдомек,
Что тает Срок и знает Рок,
Кого на смерть обрек.
И вдруг — могила во дворе
У самых наших ног.
Кроваво-желтым жадным ртом
Разинулась дыра.
Вопила грязь, что заждалась,
Что жертву жрать пора.
И знали мы: дождавшись тьмы,
Не станут ждать утра.
И в душах вспыхнули слова:
Страдать. Убить. Распять.
Палач прошествовал, неся
Свою простую кладь.
И каждый, заперт под замок,
Не мог не зарыдать.
В ту ночь тюрьма сошла с ума,
В ней выл и веял Страх —
Визжал в углах, пищал в щелях,
Орал на этажах
И за оконным решетом
Роился в мертвецах.
А он уснул — уснул легко,
Как путник, утомясь;
За ним следили Сторожа
И не смыкали глаз,
Дивясь, как тот рассвета ждет,
Кто ждет в последний раз.
Зато не спал, не засыпал
В ту ночь никто из нас:
Пройдох, мошенников, бродяг
Единый ужас тряс,
Тоска скребла острей сверла:
Его последний час.
О! Есть ли мука тяжелей,
Чем мука о другом?
Его вина искуплена
В страдании твоем.
Из глаз твоих струится боль
Расплавленным свинцом…
Неслышно, в войлочных туфлях,
Вдоль камер крался страж
И видел, как, упав во мрак,
Молился весь этаж —
Те, чей язык давно отвык
От зова «Отче наш».
Один этаж, другой этаж —
Тюрьма звала Отца,
А коридор — как черный флер
У гроба мертвеца,
И губка с губ Его прожгла
Раскаяньем сердца.
И Серый Кочет пел во тьме,
И Красный Кочет пел —
Заря спала, тюрьма звала,
Но мрак над ней чернел,
И духам Дна сам Сатана
Ворваться к нам велел.
Они, сперва едва-едва
Видны в лучах луны,
Облиты злой могильной мглой,
Из тьмы, из глубины
Взвились, восстали, понеслись,
Бледны и зелены.
Парад гримас и выкрутас,
И танца дикий шквал,
Ужимок, поз, ухмылок, слез
Бесовский карнавал,
Аллюр чудовищных фигур,
Как ярость, нарастал.
Ужасный шаг звенел в ушах,
В сердца вселился Страх,
Плясал народ ночных урод,
Плясал и пел впотьмах,
И песнь завыл, и разбудил
Кладбищ нечистый прах:
«О! мир богат, — глумился Ад, —
Да запер все добро.
Рискни, сыграй: поставь свой рай
На Зло и на Добро!
Но шулер Грех обставит всех,
И выпадет Зеро!»
Толпу химер и эфемер
Дрожь хохота трясла.
Сам Ад явился в каземат,
Сама стихия Зла.
О кровь Христа! ведь неспроста
Забагровела мгла.
Виясь, виясь — то возле нас,
То удалясь от нас,
То в вальс изысканный пустясь,
То нагло заголясь,
Дразнили нас, казнили нас —
И пали мы, молясь.
Рассветный ветер застонал,
А ночь осталась тут,
И пряжу черную свою
Скрутила в черный жгут;
И думали, молясь: сейчас
Начнется Страшный суд!
Стеная, ветер пролетал
Над серою стеной,
Над изревевшейся тюрьмой,
Над крышкой гробовой.
О ветр! вигилии твоей
Достоин ли живой?
Но вот над койкой в три доски
Луч утра заиграл,
Узор решетчатый окна
На стенах запылал,
И знал я: где-то в мире встал
Рассвет — кровав и ал.
Мы в шесть уборкой занялись,
А в семь порядок был…
Но в коридорах шорох плыл
Зальделых белых крыл —
То Азраил из тьмы могил
За новой жертвой взмыл.
Палач пришел не в кумаче,
И в стойле спал Конь Блед;
Кусок пеньки да две доски —
И в этом весь секрет;
Но тень Стыда, на день Суда,
Упав, затмила свет…
Мы шли, как те, кто в темноте
Блуждает вкривь и вкось,
Мы шли, не плача, не молясь,
Мы шли и шли, как шлось,
Но то, что умирало в нас,
Надеждою звалось.
Ведь Правосудие идет
По трупам, по живым.
Идет, не глядя вниз, идет
Путем, как смерть, прямым;
Крушит чудовищной пятой
Простертых ниц пред ним.
Мы ждали с ужасом Восьми.
Во рту — сухой песок.
Молились мы Восьми: возьми
Хоть наши жизни, Рок!
Но Рок молитвой пренебрег.
Восьмой удар — в висок.
Нам оставалось лишь одно —
Лежать и ждать конца.
Был каждый глух, и каждый дух
Был тяжелей свинца.
Безумье било в барабан —
И лопались сердца.
И пробил час, и нас затряс
Неслыханный испуг.
И в тот же миг раздался крик[30]
И барабанный стук —
Так, прокаженного прогнав,
Трещотки слышат звук.
И мы, не видя ничего,
Увидели: крепит
Палач доску и вьет пеньку
И вот Ошейник свит.
Взмахнет рукой, толкнет ногой —
И жертва захрипит.
Но этот крик и этот хрип
Звучат в ушах моих,
И ураганный барабан,
Затихнув, не затих:
Кто много жизней проживет,
Умрет в любой из них.
IV
В день казни церковь заперта,
Молебен отменен;
Несчастный, бродит капеллан,
Людей стыдится он,
И главное, нет сил взглянуть
На божий небосклон.
Нас продержали под замком
До сумерек; потом,
Как спохватившись, принялись
Греметь в дверях ключом
И на прогулку повели
Унылым чередом.
Мы вышли старцами во двор —
Как через сотню лет,
Одеты страхом; на щеках
Расцвел мышиный цвет,
И боль была у нас в глазах,
Какой не видел свет.
Да, боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
Все видевший воочию
И серый без прикрас.
Был час прогулки. Но никто
Не смел взглянуть на Твердь:
Все видит совесть, а суды —
Слепая пустоверть.
Он жизнь убийством осквернил,
А мы — притворством — смерть.
Две казни намертво связав,
Он мертвых разбудил —
И встали в саванах они,
И те, кто их убил, —
И кровь на кровь взглянула вновь,
Ударив из могил!
Мы — обезьяны и шуты —
Угрюмо шли двором,
За кругом круг, за кругом круг
Мы молча шли кругом,
За кругом круг, за кругом круг
В молчанье гробовом.
Мы шли и шли за кругом круг
В рыдающих рядах,
Не в силах Ужаса унять,
Стряхнуть не в силах страх;
Ревела Память в грозный рог,
Рок волком выл в сердцах.
Мы шли, как стадо, — пастухи
Пасли овец своих —
В парадной форме, в орденах,
В нашивках послужных.
Замызганные сапоги
Изобличали их.
Заделан был вчерашний ров,
Залатан впопыхах —
Осталась грязь на мостовой
И грязь на сапогах,
Да малость извести сырой
Там, где зарыли прах.
Зарыт он в известь навсегда —
До Страшного суда,
Зарыт, раздетый догола
Для вящего стыда,
И пламя извести сырой
Не стихнет никогда!
Пылает пламя, пламя жжет —
И кость, и мясо жрет:
Жрет мясо нежное с утра,
А ночью — кость жует,
Жрет мясо летом, кость — зимой,
А сердце — круглый год!
Три долгих года не расти
Над известью цветам,
Три долгих года не закрыть,
Не спрятать этот срам,
Три долгих года будет лыс
Незалечимый шрам.
Решили: землю осквернил
Убийца и злодей!
Но божьей милостью Земля
Мудрее и добрей:
Здесь алым розам — цвесть алей,
А белым — цвесть белей.
Из уст его — куст алых роз!
Из сердца — белых роз!
Когда, к кому, в какую тьму
Решит сойти Христос,
Дано ль узнать? —
Смотри, опять
Цветами жезл пророс!..
Ни алых роз, ни белых роз
Не сыщешь днем с огнем
В тюрьме, где камень и асфальт
Посажены кругом,
Чтоб человека извести
Неверьем и стыдом.
Ни белых роз, ни алых роз
Не сыщешь ты окрест;
Лишь грязь, да известь, да асфальт —
Растенья здешних мест,
И непонятно, за кого
Христос взошел на крест…
Но пусть в геенну брошен он
И в пламени зарыт,
И дух больной в ночи святой
Из тьмы не воспарит,
И может лишь в глухую тишь
Кричать, что в скверне спит, —
Он мир обрел — уже обрел
Иль скоро обретет:
Туда, где спит, не ступит Стыд
И Страх не добредет —
Бессолнечная тьма вокруг,
Безлунный небосвод…
Как зверя, вешали его,
Зверьем над ним дыша,
Не в реквиеме прах почил
И вознеслась душа.
Как будто тронули его
Проказа и парша.
Полуостывший страшный труп
Швырнули в ров нагим,
Глумясь над мертвенным лицом,
Над взором неживым,
Любуясь жадной суетой
Мух, вьющихся над ним.
На этой тризне капеллан
Не спел за упокой,
Не помахал своим крестом
Над известью сырой, —
Но ради грешников взошел
Христос на крест мирской!
И пусть мучения земли
Он знает наизусть,
И пусть он проклят, и забыт,
И не оплакан — пусть!
Есть грусть — но не земная грусть,
А грусть Небес — не грусть.
V
Есть неизбывная вина
И муки без вины, —
И есть Закон, и есть — Загон,
Где мы заточены,
Где каждый день длинней, чем год
Из дней двойной длины.
Но с незапамятных времен
Гласит любой закон
(С тех пор, как первый человек
Был братом умерщвлен),
Что будут зерна сожжены,
А плевел пощажен.
Но с незапамятных времен —
И это навсегда —
Возводят тюрьмы на земле
Из кирпичей стыда,
И брата брат упрятать рад —
С глаз Господа — туда.
На окна — ставит частый прут,
На дверь — глухой запор,
Тут брату брат готовит ад,
Во тьме тюремных нор,
Куда ни солнцу заглянуть,
Ни богу бросить взор.
Здесь ядовитою травой
Предательство растят,
А чувства чистого росток —
Задушат и растлят,
Здесь Низость царствует, а Страх,
Как страж, стоит у врат.
Здесь тащат хлеб у тех, кто слеп,
Здесь мучают детей,
Здесь кто сильней, тот и вольней,
Забиты, кто слабей,
Но Разум нем, здесь худо всем —
В безумье бы скорей!
Любой из нас в тюрьме завяз,
Как в яме выгребной,
Здесь бродит Смерть, худа, как жердь,
И душит крик ночной,
Здесь вечный смрад, здесь и разврат —
Не тот, что за стеной.
Здесь пахнет плесенью вода
И слизью лезет в рот,
Любой глоток, любой кусок
Известкой отдает,
Здесь, бесноватый, бродит сон
И кровь людей сосет.
Здесь Голод с Жаждой — две змеи
В змеилище одном,
Здесь души режет Хлеборез
Заржавленным ножом,
И ночью злобу и тоску
Мы, как лампаду жжем.
Здесь мысли — камня тяжелей,
Который грузим днем;
Лудим, паяем, жжем, поем
Унылым чередом;
Здесь и ночная тишина
Гремит страшней, чем гром.
Здесь человеческая речь —
Нечеловечья речь,
Здесь глаз в глазке и хлыст в руке
Спешат стеречь и сечь;
Забитые, убитые,
Мы в гроб готовы лечь.
Здесь Жизнь задавлена в цепях,
Кляп у нее во рту;
Один кричит, другой молчит —
И всем невмоготу,
И не надеется никто
На божью доброту.
Но божий глас дойдет до нас —
Бог разобьет сердца:
Сердца, что камня тяжелей,
Сердца темней свинца, —
И прокаженным мертвецам
Предстанет Лик Творца.
Затем и созданы сердца,
Что можно их разбить.
Иначе б как развеять мрак
И душу сохранить?
Иначе кто б, сойдя во гроб,
Мог вечности вкусить?
И вот он, с мертвенным лицом
И взором неживым,
Все ждет Того, кто и его
Простит, склонясь над ним, —
Того, кем Вор спасен, Того,
Кем Человек любим.
Он три недели смерти ждал, —
Так суд постановил, —
И три недели плакал он,
И три недели жил,
И, скверну смыв и грех избыв,
На эшафот вступил.
Он плакал, кровь смывая с рук, —
И кровью плакал он —
Ведь только кровь отмоет кровь
И стон искупит стон:
Над Каина кровавой тьмой
Христос — как снежный склон.
VI
Есть яма в Редингской тюрьме —
И в ней схоронен стыд;
Там пламя извести горит,
Там человек лежит,
В горючей извести зарыт,
Замучен и забыт.
Пускай до Страшного суда
Лежит в молчанье он.
Пускай ни вздохом, ни слезой
Не будет сон смущен:
Ведь он любимую убил,
И суд над ним свершен…
Любимых убивают все,
Но не кричат о том, —
Издевкой, лестью, злом, добром,
Бесстыдством и стыдом,
Трус — поцелуем похитрей,
Смельчак — простым ножом.
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ[31]
ПРЕДИСЛОВИЕ
Художник — тот, кто создает прекрасное.
Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.
Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.
Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.
Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.
Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они не безнадежны.
Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.
Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.
Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана,[32] увидевшего себя в зеркале.
Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.
Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств.
Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.
Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.
Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.
Мысль и Слово для художника — средства Искусства.
Порок и Добродетель — материал для его творчества.
Если говорить о форме, — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.
Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.
Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.
И кто раскрывает символ, идет на риск.
В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.
Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.
Пусть критики расходятся во мнениях, — художник остается верен себе.
Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.
Всякое искусство совершенно бесполезно.
Оскар Уайльд
ГЛАВА I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.
С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, — и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.
Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд,[33] чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.
Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.
— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор[34]. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.
— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.
Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.
— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.
— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет… Я вложил в него слишком много самого себя.
Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.
— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.
— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты… Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.
— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки… Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.
— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.
— Да. Я не хотел называть его имя…
— Но почему же?
— Как тебе объяснить… Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?
— Нисколько, — возразил лорд Генри, — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.
— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.
— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.
Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.
Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.
— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.
— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.
— Ты отлично знаешь какой.
— Нет, Гарри, не знаю.
— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.
— Я и сказал тебе правду.
— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!
— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.
Лорд Генри расхохотался.
— И что же это за тайна? — спросил он.
— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.
— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.
— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри… И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.
Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.
— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.
Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза… Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.
— Ну, так вот… — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.
В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин… во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут… не знаю, как и объяснить тебе… Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря…
— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.
— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь… Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!
— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.
— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.
И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.
— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она — либо рассказывает о них самое сокровенное, — либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.
— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.
— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?
— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик… мы с его бедной матерью были неразлучны… Забыла, чем он занимается… Боюсь, что ничем… Ах да, играет на рояле… Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.
— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.
Холлуорд покачал головой.
— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.
— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.
— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?
— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».
— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?
— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.
— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмурив брови.
— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.
— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.
Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.
— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков… Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?
— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.
— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.
— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы… Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня… Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет… ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.
— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!
Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.
— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.
— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.
— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.
— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.
— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.
— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?
Художник задумался.
— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.
— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости… Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!
— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.
— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.
Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.
В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».
Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!
Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.
— Знаешь, я сейчас вспомнил…
— Что вспомнил, Гарри?
— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.
— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.
— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде,[35] и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, — во всяком случае, добродетельные женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.
— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы вы познакомились.
— Не хочешь, чтобы мы познакомились?
— Нет.
— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.
— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.
Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.
— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.
Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.
— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибельно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!
Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.
— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.
ГЛАВА II
В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».
— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.
— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.
— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел л���а Генри и поспешно встал, порозовев от смущения, — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.
— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!
— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.
— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчепельский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.
— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.
— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь. Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!
— Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.
Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:
— Гарри, мне хотелось бы окончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?
Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.
— Уйти мне, мистер Грей?
— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?
— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.
Холлуорд закусил губу.
— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.
Лорд Генри взял шляпу и перчатки.
— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.
— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!
— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.
— А как же мое свидание в клубе?
Художник усмехнулся.
— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.
Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:
— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?
— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, — безнравственно с научной точки зрения.
— Почему же?
— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами. Между тем…
— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.
— А между тем, — своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знавал его еще в Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда…
— Постойте, постойте! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать… С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов… Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать… Впрочем, лучше не думать об этом!
Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.
До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали слова! Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?
Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?
Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..
Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.
— Бэзил, я устал стоять, — воскликнул вдруг Дориан, — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!
— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах… Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.
— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.
— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом… и хорошо бы с земляничным соком.
— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.
Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.
— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.
Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.
— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.
Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.
Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзилом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.
— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри, — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.
— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.
— Для вас это очень важно, мистер Грей.
— Почему же?
— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.
— Я этого не думаю, лорд Генри.
— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться… Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном… Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно… Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам… Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракитник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!
Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.
Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.
— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее… А пить вы можете и здесь.
Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.
— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.
— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.
— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.
Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.
— Если так, пусть наша дружба будет капризом, — шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмостки и стал в позу.
Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршанье кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.
Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго, на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.
— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.
Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.
— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души, — сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.
Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.
— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.
— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.
— За это надо благодарить меня, — вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей?
Дориан, не отвечая, с рассеянным видом, прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.
При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце.
— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятным молчанием Дориана.
— Ну конечно, нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.
— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.
— А чей же?
— Дориана, разумеется, — ответил художник.
— Вот счастливец!
— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день… Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это… за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!
— Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Тяжела тогда была бы участь художника!
— Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлуорд.
Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.
— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.
Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.
— Да, да, — продолжал Дориан. — Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.
Холлуорд побледнел и схватил его за руку.
— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!
— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!
Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.
— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью.
Лорд Генри пожал плечами.
— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.
— Неправда.
— А если нет, при чем же тут я?
— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.
— Я остался по твоей же просьбе, — возразил лорд Генри.
— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями… Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.
Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей, — видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!
Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.
— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что убийство!
— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад, — сказал художник сухо, когда опомнился от удивления, — А я на это уже не надеялся.
— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.
— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.
Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.
— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?
— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне очень хочется.
— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».
— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.
— А на меня не обижайтесь, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.
— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.
— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.
В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюдца, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.
Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.
— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение… Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.
— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — Терпеть не могу фраки!
— Да, — лениво согласился лорд Генри. — Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.
— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!
— При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?
— И при том, и при другом.
— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, — промолвил Дориан.
— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?
— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.
— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.
— Как я рад!
Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.
— А я останусь с подлинным Дорианом, — сказал он грустно.
— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой?
— Да, именно такой.
— Как это чудесно, Бэзил!
— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь, — со вздохом сказал Холлуорд. — А это чего-нибудь да стоит.
— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и все.
— Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Останьтесь у меня, пообедаем вместе.
— Не могу, Бэзил.
— Почему?
— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.
— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.
Дориан засмеялся и покачал головой.
— Умоляю вас!
Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.
— Нет, я должен идти, Бэзил.
— Как знаете. — Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?
— Непременно.
— Не забудете?
— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.
— И вот еще что… Гарри!
— Что, Бэзил?
— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!
— А я уже забыл, о чем именно.
— Смотри! Я тебе доверяю.
— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довезти вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.
Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.
ГЛАВА III
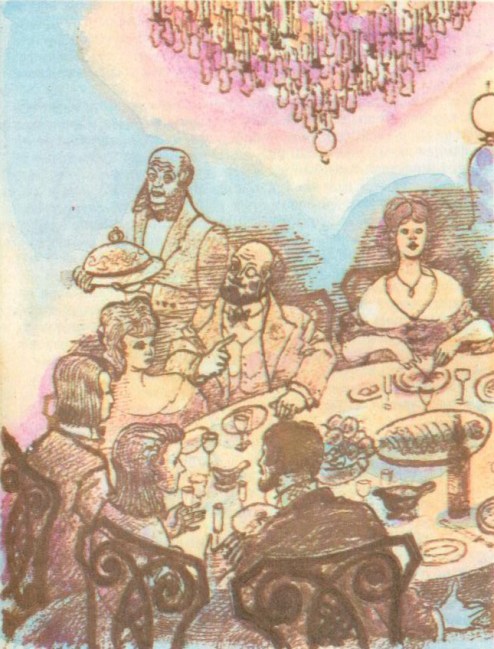
На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермера, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермер охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермера состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было.[36] Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермер уделял некоторое внимание своим угольным копям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, — в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.
В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.
— А, Гарри! — сказал почтенный старец. — Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.
— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.
— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермер с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все.
— Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, — они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, — и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.
— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Синей книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знания тебе только во вред.
— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, — небрежно заметил лорд Генри.
— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.
— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, — так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересует.
— Внук Келсо! — повторил старый лорд. — Внук Келсо… Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой, — он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя… понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу, — и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.
— Да, очень красивый, — подтвердил лорд Генри.
— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермор. — Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?
— Этого я не знаю, — отозвался лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого… Так вы говорите, его мать была очень красива?
— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногого стоили, но женщины, ей-богу, были замечательные… Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним… Да, кстати о дурацких браках, — что это за вздор молол твой отец насчет Дартмура, — будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?
— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.
— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.
— Ставка нынче только на американок.
— Я слышал, что их ненадолго хватает, — буркнул дядя Джордж.
— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.
— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Они у нее вообще имеются?
Лорд Генри покачал головой.
— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое, — сказал он, вставая.
— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?
— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.
— А его американка, по крайней мере, хорошенькая?
— Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом — секрет их успеха.
— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.
— Так оно и есть. Потому-то они, подобно праматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.
— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?
— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протеже.
— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.
— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.
Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.
Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.
…Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка…
А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат, — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями.
…К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, — замечательный тип… или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..
А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает… Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!
Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно…
И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, — собственно, он уже наполовину этого достиг, — и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!
Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.
— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.
Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого права и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной — сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.
Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.
— Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?
— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.
— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, следовало бы помешать этому!
— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, — с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрдон.
— А мой дядя утверждает, что свининой, сэр Томас.
— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.
— Американские романы, — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.
Герцогиня была озадачена.
— Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно.
— Когда была открыта Америка… — начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.
— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она. Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!
— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, — заметил мистер Эрскин. — Она еще только обнаружена.
— О, я видела представительниц ее населения, — неопределенным тоном отозвалась герцогиня. — И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.
— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных острот.
— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.
— В Америку, — пробормотал лорд Генри.
Сэр Томас сдвинул брови.
— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я изъездил ее всю вдоль и поперек, — мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны, — и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.
— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.
Сэр Томас махнул рукой.
— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.
— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит — предавать интеллект.
— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас, побагровев.
— А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.
— Парадоксы имеют свою прелесть, но… — начал баронет.
— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался… Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.
— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.
— А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.
— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.
— Я сочувствую всему, кроме людского горя. — Лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.
— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Томас, качая головой.
— Несомненно, — согласился лорд Генри. — Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.
Старый политикан пристально посмотрел на него.
— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он.
Лорд Генри рассмеялся.
— Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.
— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.
— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.
Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.
— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.
— Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.
— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.
— Только в молодости, — возразила она. — А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!
Лорд Генри подумал с минуту.
— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклонясь к ней через стол.
— Увы, и не одну!
— Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.
— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня. — Непременно проверю ее на практике.
— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.
— Да, — продолжал лорд Генри. — Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.
За столом грянул дружный смех.
А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давильни, на котором восседает мудрый Омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.
То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как завороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.
Наконец Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.
— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?
— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, — сказал с поклоном лорд Генри.
— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, — воскликнула почтенная дама. — Так помните же, мы вас ждем. — И она величаво выплыла из комнаты, а за ней — леди Агата и другие дамы.
Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.
— Ваши речи интереснее всяких книг, — начал он. — Почему вы не напишете что-нибудь?
— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.
— Боюсь, что вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли… Теперь, мой молодой друг, — если позволите вас так называть, — я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все то, что говорили за завтраком?
— А я уже совершенно не помню, что говорил. — Лорд Генри улыбнулся. — Какую-нибудь ересь?
— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь стрясется, все мы будем считать вас главным виновником… Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.
— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.
— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум. В этот час мы обычно дремлем там.
— В полном составе, мистер Эрскин?
— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы.
Лорд Генри расхохотался.
— Ну а я пойду в Парк, — сказал он, вставая.
У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.
— Можно и мне с вами?
— Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?
— Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы.
— Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри. — Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.
ГЛАВА IV
Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клордиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»[37] в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.
Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.
Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.
— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.
— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался высокий и резкий голос.
Дориан поспешно обернулся и вскочил.
— Простите! Я думал…
— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.
— Будто уж семнадцать, леди Генри?
— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.
Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.
— Вероятно, на «Лоэнгрине», леди Генри?
— Да, на моем любимом «Лоэнгрине». Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?
Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.
Дориан с улыбкой покачал головой.
— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.
— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка… Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает… Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиной такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что, — не помню, что именно, и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях… впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.
— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад, — сказал лорд Генри, поднимая томные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уордор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.
— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась как всегда, неожиданно и некстати. Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?
— Очень возможно, дорогая, — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.
— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек.
— Почему, Гарри?
— Они ужасно сентиментальны.
— А я люблю сентиментальных людей.
— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.
— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.
— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.
— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей. Лорд Генри пожал плечами.
— Довольно банальное начало.
— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.
— Кто же она?
— Ее зовут Сибила Вэйн.
— Никогда не слыхал о такой актрисе.
— И никто еще не слыхал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.
— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премило. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.
— Помилуйте, Гарри!..
— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «rouge»[38] и «esprit»[39] считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе… Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?
— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.
— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?
— Недели три назад.
— И где?
— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри! В сущности, не встреться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаясь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отрава была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений… И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе тысячу вещей… Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, — ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!
— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. Grande passion[40] — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.
— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.
— Наоборот, глубоко чувствующим.
— Как так?
— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей, — это попросту доказательство бессилия… Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет… Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.
— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия, как на дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.
— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы!
— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?
— Ну что-нибудь вроде «Идиот» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дольше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, les grand-peères ont toujours tort[41].
— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст отсебятину и был в самых дружеских отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем исступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть глаза — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться… Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по Арденнским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме — коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?
— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.
— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.
— Не презирайте крашеные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.
— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!
— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне поверять все.
— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.
— Такие, как вы, Дориан, — своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь, — не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите… Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю… Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибилой Вэйн?
Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.
— Гарри! Сибила Вэйн для меня святыня!
— Только святыни и стоит касаться, Дориан, — сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе. И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?
— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением, — наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского…
— Вполне возможно.
— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.
— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену.
— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману, — сказал Дориан со смехом. — Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект, — однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.
— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь… Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибилой Вэйн?
— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула… По крайней мере, так мне показалось… А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел… Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?
— Нет, ничуть не странно.
— А почему же, Гарри?
— Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.
— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас «Прекрасный Принц».
— Клянусь честью, мисс Сибила умеет говорить комплименты!
— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.
— Встречал я таких… Они на меня всегда наводят тоску, — вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.
— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.
— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.
— Меня интересует только сама Сибила. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все — совершенство, все божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.
— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.
— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день — либо завтракаем, — либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу, — удивленно возразил Дориан.
— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.
— Что поделаешь! Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.
— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?
Дориан покачал головой.
— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.
— А когда же она бывает Сибилой Вэйн?
— Никогда.
— Ну, тогда вас можно поздравить!
— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее: я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибилу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!
Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.
Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.
— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.
— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года, — впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.
— Ну, это вряд ли, милый мой!
— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.
— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?
— Сейчас соображу… Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.
— Отлично. Встретимся в восемь в «Бристоле». Я привезу Бэзила.
— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.
— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?
— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку… Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне добрые советы.
Лорд Генри улыбнулся.
— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!
— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.
— Видите ли, мой друг, Бэзил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знавал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.
— Не знаю, верно ли это, Гарри, — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. — Должно быть, верно, раз вы так говорите… Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.
Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.
Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере его созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранникам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства, — ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.
Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, чем все кончится, какая судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.
Душа и тело, тело и душа — какая это загадка! В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — отупеть. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал Джордано Бруно, тело заключено в духе? Расставание души с телом — такая же непостижимая загадка, как их слияние.
Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.
Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено чисто чувственными инстинктами юности, самому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности, — и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.
Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.
Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибилой Вэйн.
ГЛАВА V
— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. — Я так счастлива, — повторила Сибила. — И ты тоже должна радоваться!
Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.
— Радоваться? — отозвалась она. — Я радуюсь, Сибила, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги…
Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.
— Деньги? — воскликнула она. — Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.
— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибила. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен…
— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной, — сказала девушка, вставая и подходя к окну.
— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он, — ворчливо возразила мать.
Сибила откинула голову и рассмеялась.
— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.
Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.
— Я люблю его, — сказала Сибила просто.
— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, унизанных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.
Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибила на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.
Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибила не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.
Мудрость между тем переменила тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки… Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке… Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибилы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.
Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.
— Мама, мама, — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою… А все-таки, — не знаю отчего, — хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю Прекрасного Принца?
Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.
— Прости, мамочка! Знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!
— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости… Впрочем, если окажется, что он богат…
— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!
Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.
Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.
— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила, — сказал юноша с шутливым упреком.
— Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибила. Ты — угрюмый старый медведь! Она подскочила к брату и обняла его.
Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.
— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.
— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене, — ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.
— А почему не говорить, раз это правда, мама?
— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет… Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.
— «Хорошее общество», подумаешь! — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно! Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!
— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!
— Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В Парке гуляет только шикарная публика.
— Глупости, Джим! — шепнула Сибила, поглаживая рукав его потрепанного пальто.
— Ну, ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее.
Сибила выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затопотали где-то наверху.
Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:
— Мама, у тебя все готово?
— Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вэйн бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.
Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпеж. Тогда она пустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.
— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис Вэйн. — Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.
— Не терплю контор и чиновников, — отрезал Джеймс. — Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!
— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.
— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?
— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы… Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат, — он посылает Сибиле чудесные цветы.
— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.
— Нет, не знаю, — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. — Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.
Джеймс Вэйн прикусил губу.
— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво. — Смотри за ней хорошенько!
— Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибила может сделать блестящую партию. И они будут прелестной парой, — он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.
Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибила.
— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она. — В чем дело?
— Ни в чем, — сказал Джеймс. — Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.
— До свиданья, сын мой, — отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.
— Поцелуй меня, мама, — сказала Сибила. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.
— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.
— Ну, пойдем, Сибила! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.
Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Род. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.
По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели, — чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибила же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены… Или нет, не надо никаких золотых приисков, там ужас что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он — в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег.
— Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь… Да смотри же, пиши мне с каждой почтой! И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.
Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибиле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди! Он был аристократ — и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.
Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу.
— Да ты совсем меня не слушаешь, Джим! — воскликнула вдруг Сибила. — А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее. Ну, скажи же что-нибудь!
— Что мне сказать?
— Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас, — сказала Сибила с улыбкой.
Джеймс пожал плечами.
— Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила.
Сибила покраснела.
— Почему ты так думаешь, Джим?
— Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет.
— Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю.
— Господи, да тебе даже имя его неизвестно! — возразил Джеймс. Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать.
— Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я… я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, — играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой. Играть для него! Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг! Любовь возносит человека над самим собой… Этот бедный Урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой Прекрасный Принц, моя чудесная любовь, бог красоты! Я так жалка по сравнению с ним… Ну, так что же? Пословица говорит: нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето… Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом.
— Он — знатный человек, — сказал Джеймс мрачно.
— Он — принц! — пропела Сибила. — Чего тебе еще?
— Он хочет сделать тебя своей рабой.
— А я дрожу при мысли о свободе.
— Остерегайся его, Сибила!
— Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал — верит ему.
— Сибила, да он тебя совсем с ума свел!
Сибила рассмеялась и взяла брата под руку.
— Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне… Вот два свободных места, давай сядем и будем смотреть на нарядную публику.
Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.
Сибила настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибилу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице.
Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы: мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей.
Сибила вскочила.
— Он!
— Кто? — спросил Джим.
— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.
Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку.
— Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть!
Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко.
— Уехал! — огорченно прошептала Сибила. — Как жаль, что ты его не видел!
— Да, жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь богом, я отыщу и убью его.
Сибила в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала.
— Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибила. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею.
Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех.
— Ты дурачок, Джим, настоящий дурачок и злой мальчишка — вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь! Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова!
— Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю! Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой.
— Полно, Джим! Ты точь-в-точь как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его — это такое счастье! Не будем ссориться! Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю, — правда, Джим?
— Пока ты его любишь, пожалуй, — был угрюмый ответ.
— Я буду любить его вечно, — воскликнула Сибила.
— А он тебя?
— И он тоже.
— Ну, то-то. Пусть только попробует изменить!
Сибила невольно отшатнулась от брата. Но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик.
У Мраморной Арки они сели в омнибус, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Род, где они жили. Был уже шестой час, а Сибиле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен.
И они простились в комнате Сибилы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибила обвила руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез.
Внизу дожидалась мать. Она побранила его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кебов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты.
Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право знать. Если правда то, что он подозревает, — мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вэйн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масла в огонь.
— Мама, я хочу задать тебе один вопрос, — начал он.
Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.
— Скажи мне правду, я имею право знать: ты была замужем за моим отцом?
У миссис Вэйн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила, — и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки! Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.
— Нет, — отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.
— Значит, он был подлец? — крикнул юноша, сжимая кулаки. Мать покачала головой.
— Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да, да, он был знатного рода.
У Джеймса вырвалось проклятие.
— Мне-то все равно, — воскликнул он. — Но ты смотри, чтобы с Сибилой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, «джентльмен знатного рода»?
На одно мгновение миссис Вэйн испытала унизительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками.
— У Сибилы есть мать, — прошептала она. А у меня ее не было.
Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее.
— Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно, — сказал он. — Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай! И помни: теперь тебе надо заботиться об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь!
Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вэйн по душе, они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком… Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вэйн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана была эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.
ГЛАВА VI
— Ты, верно, уже слышал новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.
— Нет, Гарри. А что за новость? — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. — Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке.
— Дориан Грей собирается жениться, — сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда.
Холлуорд вздрогнул и нахмурился.
— Дориан! Женится! — воскликнул он. — Не может быть!
— Однако это сущая правда.
— На ком же?
— На какой-то актриске.
— Что-то мне не верится. Дориан не так безрассуден.
— Дориан настолько умен, мой милый Бэзил, что не может время от времени не делать глупостей.
— Но брак не из тех «глупостей», которые делают «время от времени», Гарри!
— Так думают в Англии, но не в Америке, — лениво возразил лорд Генри. — Впрочем, я не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он собирается жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я собирался это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было.
— Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан, как он богат, какое положение занимает в обществе! Такой неравный брак просто-напросто безумие!
— Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Бэзил! Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений.
— Хоть бы это оказалась хорошая девушка! Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься.
— Хорошая ли она девушка? Она — красавица, а это гораздо важнее, — бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. — Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да, да, и в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него… Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор.
— Ты все это серьезно говоришь, Гарри?
— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас.
— Но неужели ты одобряешь это, Гарри, — продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. — Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение.
— А я никогда ничего не одобряю и не порицаю, — это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хотя бы на Мессалине — от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно, и что бы ни говорили против брака, — это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его.
— Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь, если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.
Лорд Генри расхохотался.
— Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги, в надежде что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм… Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру — значит, только портить ее. Ну а что касается женитьбы Дориана… Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их… А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.
— Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. — Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.
Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.
— Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан, — сказал Холлуорд. — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы известили.
— А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете все по порядку.
— Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орландо просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья — бледную розу. А ее игра… ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека… После спектакля я пошел за кулисы и говорил c нею. Мы сидели рядом, и вдруг в ее глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались… Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибила вся трепетала, как белый нарцисс на стебле… И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться… Помолвка наша, разумеется, — строжайший секрет, Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдли, наверное, ужасно разгневается. Пусть сердится, мне все равно! Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать что хочу. Ну, скажите, Бэзил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.
— Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — с расстановкой отозвался Холлуорд.
— А сегодня вы с ней виделись? — спросил лорд Генри.
Дориан Грей покачал головой.
— Я оставил ее в Арденнских лесах — и встречу снова в одном из садов Вероны.
Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.
— А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?
— Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир — ничто в сравнении с ней!
— Женщины в высшей степени практичный народ, — пробормотал Генри. — Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда напомнит ему об этом…
Холлуорд жестом остановил его.
— Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной.
Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.
— Дориан на меня никогда не сердится, — возразил он. — Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.
Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.
— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу — и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.
— Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.
— Ну, о жизни, о любви, о наслаждении… Вообще все ваши теории, Гарри.
— Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение, — медленно произнес лорд Генри своим мелодичным голосом. — Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.
— А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Бэзил Холлуорд.
— Да, — подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по-вашему, хорош, Гарри?
— Быть хорошим — значит, жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. — А кто принужден жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. Своя жизнь — вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерило своего времени ни в коем случае не следует, — это грубейшая форма безнравственности.
— Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой, — заметил художник.
— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков — в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия богатых.
— За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.
— Чем же еще, Бэзил?
— Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями… сознанием своего морального падения.
Лорд Генри пожал плечами.
— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, — но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.
— Я теперь знаю, что такое наслаждение, — воскликнул Дориан Грей. — Это — обожать кого-нибудь.
— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, — отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. — Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество — к своим богам: они нам поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то.
— По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам, — сказал Дориан тихо и серьезно. — Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать ее от нас.
— Вот это совершенно верно, Дориан! — воскликнул Холлуорд.
— Есть ли что абсолютно верное на свете? — возразил лорд Генри.
— Да, есть, Гарри, — сказал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.
— Возможно, — согласился лорд Генри со вздохом. — Но они неизменно требуют его обратно — и все самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.
— Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!
— Вы всегда будете меня любить, Дориан… Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, коньяк и папиросы… Впрочем, папирос не нужно: у меня есть. Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать?.. Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.
— Вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.
— Я все изведал и узнал, — возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни. Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кебе.
Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.
Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними…
Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.
ГЛАВА VII

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда, испытывая чувства влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок.
— И в таком месте вы нашли свое божество! — сказал лорд Генри.
— Да, — отозвался Дориан Грей. — Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую — это люди из той же плоти и крови, что и я.
— Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке.
— Не слушайте его, Дориан, — сказал художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю, — она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибилу Вэйн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна.
— Спасибо, Бэзил, — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом… Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.
Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»
Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.
Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты:
Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей,[42] —
как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.
Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.
Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, — это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.
Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:
Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью, —
она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:
Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман,
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся… —
она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.
Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.
Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.
— Она очень красива, Дориан, — сказал он. — Но играть не умеет. Пойдемте!
— Нет, я досижу до конца, — возразил Дориан резко и с горечью. — Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.
— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова, — перебил его Холлуорд. — Мы придем как-нибудь в другой раз.
— Хотел бы я думать, что она больна, — возразил Дориан. — Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня — только самая заурядная средняя актриса.
— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.
— И любовь и искусство — только формы подражания, — сказал лорд Генри. — Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души… Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой, — так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает… Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?
— Уходите, Гарри, — крикнул Дориан. — Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?
К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.
— Пойдем, Бэзил, — промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.
Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.
Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.
Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.
Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:
— Как скверно я сегодня играла, Дориан!
— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!
Девушка все улыбалась.
— Дориан. — Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. — Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?
— Что тут понимать? — спросил он с раздражением.
— Да то, почему я так плохо играла сегодня… И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.
Дориан пожал плечами.
— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.
Сибила, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.
— Дориан, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, — а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, отчего это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.
Дориан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван.
— Вы убили мою любовь, — пробормотал он, не поднимая глаз.
Сибила удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.
— Да, да, — крикнул он, — вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, — теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь все это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, чем вы были для меня… О господи, да я… Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.
Сибила побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле:
— Вы ведь не серьезно это говорите, Дориан? Вы словно играете.
— Играю? Нет, играть я предоставляю вам, — вы это делаете так хорошо! — едко возразил Дориан.
Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул:
— Не трогайте меня!
У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как затоптанный цветок, лежала она на полу.
— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — шептала она с мольбой. — Я так жалею, что плохо играла сегодня. Это оттого, что я все время думала о вас. Я попробую опять… Да, да, я постараюсь… Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцеловали… если бы мы не поцеловались тогда… Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу… Не бросай меня! Мой брат… Нет, нет, он этого не думал, он просто пошутил… Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дориан, — мне не следовало забывать, что я артистка… Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не уходи!..
Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова и слезы Сибилы казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его.
— Ну, я ухожу, — сказал он наконец спокойно и громко. — Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали.
Сибила тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице.
Он шел, едва сознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов.
На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированным мостовым еще безлюдных улиц медленно громыхали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за возами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинной вереницей мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на Пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.
Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма и лиловатой лентой вилась в перламутровом воздухе.
В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзилом Холлуордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности — что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое, — в складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!
Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления.
Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить?
Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза.
Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей, тогда еще впервые осознанной, юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает! Страшно даже и думать об этом. А между тем — вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ.
Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибила. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок, вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан, зачем ему дана такая душа?..
Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь, уж во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибилу навек — но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин.
К чему же тревожить себя мыслями о Сибиле Вэйн? Ведь она больше для него не существует.
Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту, — неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно?
Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — просто сумасшествие.
Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту…
Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет, — все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями. И больше не встречаться с лордом Генри — или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Бэзила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного.
И Дориан решил вернуться к Сибиле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибиле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибилой будет чиста и прекрасна.
Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.
— Какой ужас! — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его.
Он вышел в сад, на лужайку, и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибиле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.
ГЛАВА VIII
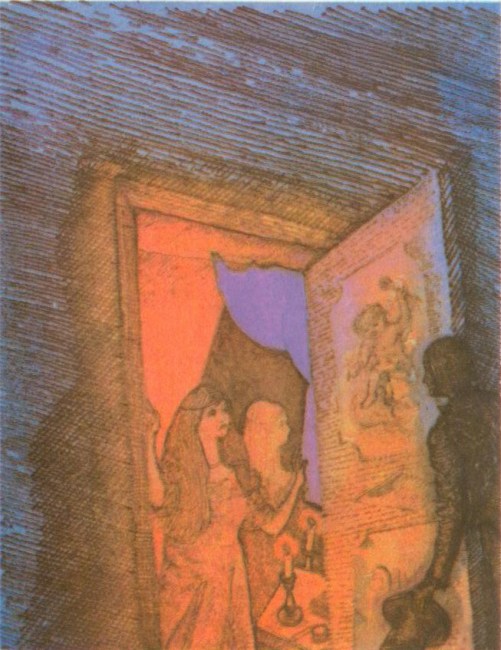
Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню — посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.
— Вы сегодня хорошо выспались, мосье, — сказал он с улыбкой.
— А который час, Виктор? — сонно спросил Дориан.
— Четверть второго, мосье.
— Ого, как поздно! — Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее — обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого (счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку), было и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.
Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспоминалось это смутно, как сон.
Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым.
Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, — и он вздрогнул.
— Мосье холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. — Не закрыть ли окно?
Дориан покачал головой.
— Нет, мне не холодно.
Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его изрядно позабавит!
Однако как живо помнится все! Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду.
Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча.
— Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор, — сказал он наконец со вздохом. Лакей поклонился и вышел.
Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи с тисненым, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика Четырнадцатого. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни.
Что же — отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, — так незачем и беспокоиться.
Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Бэзил непременно захочет… Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз — и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности.
Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор! Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой.
Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.
Позднее Дориан часто и всякий раз с немалым удивлением — вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, — а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?
Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет.
Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн. Исправить это еще не поздно. Сибила станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Бэзилом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть и всеми людьми — страх перед богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами — видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу.
Пробило три часа, четыре. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибиле, Дориан уже чувствовал себя прощенным.
Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри.
— Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же! Что это вы вздумали запираться?
Дориан сначала не отвечал и не трогался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным.
Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь.
— Ужасно все это неприятно, Дориан, — сказал лорд Генри, как только вошел. — Но вы старайтесь поменьше думать о том, что случилось.
— Вы хотите сказать — о Сибиле Вэйн? — спросил Дориан.
— Да, конечно. — Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. — Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите… вы после спектакля ходили к ней за кулисы?
— Да.
— Я так и думал. И вы поссорились?
— Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток! Но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло, — это помогло мне лучше узнать самого себя.
— Я очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.
— Через все это я уже прошел, — отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой. — И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самое божественное в нас. И вы не смейтесь больше над этим — по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.
— Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан! Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?
— С женитьбы на Сибиле Вэйн.
— На Сибиле Вэйн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве глядя на Дориана. — Дорогой мой, но она…
— Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать: какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибилу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.
— Вашей женой? Дориан! Да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.
— Письмо? Ах да… Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски.
— Так вы ничего еще не знаете?
— О чем?
Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.
— Дориан, в письме я… не пугайтесь… я вам сообщал, что Сибила Вэйн… умерла.
Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.
— Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне!
— Это правда, Дориан, — сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибилы? Это очень важно.
Дориан некоторое время не отвечал — он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом:
— Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Сибила… Ох, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте скорее! Скажите мне все!
— Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что: когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра — кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.
— Боже, боже, какой ужас! — простонал Дориан.
— Да… Это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным… Я читал в «Стандарде», что Сибиле Вэйн было семнадцать лет. А на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с нею приедут несколько эффектных женщин.
— Значит, я убил Сибилу Вэйн, — сказал Дориан Грей словно про себя. — Все равно что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать… Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила!.. Знает ли она все, может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер — неужели он был только вчера? — когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно… но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что… не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил дурно… А теперь она умерла… Боже, боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!
— Милый Дориан, — отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара. — Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом: надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо, — это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унизительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, — я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.
— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и беспокойно шагал из угла в угол. — Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.
— Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета.
— Гарри, — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. — Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?
— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь.
Дориан нахмурил брови.
— Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой! И все же — то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня — как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем — жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души.
— Это любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот как: частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота эта — подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычайность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, — таких было не очень много, но они были, — упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они — меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны.
— Придется посеять маки в моем саду, — со вздохом промолвил Дориан.
— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки — это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута: она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить, — на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшайр моей соседкой за столом оказалась эта самая дама, и она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платья цвета mauve[43] или в тридцать пять лет питает пристрастие к розовым лентам: это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях — и это служит им великим утешением. Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно — самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешения в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта — так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами… Да, да, счету нет утешениям, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном…
— О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.
— Ну, как же! Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как непохожа была Сибила Вэйн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни! В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться.
— Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете.
— Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться… Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны! И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь… тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы, и этим все объясняется.
— Что я сказал, Гарри?
— Что в Сибиле Вэйн вы видите всех романтических героинь. Один вечер она — Дездемона, другой — Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.
— Теперь она уже не воскреснет, — прошептал Дориан, закрывая лицо руками.
— Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии семнадцатого века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Турнера. Эта девушка, в сущности, не жила и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но не лейте напрасно слез о Сибиле Вэйн. Она была еще менее реальна, чем они все.
Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски.
Немного погодя Дориан Грей поднял глаза.
— Вы мне помогли понять себя, Гарри, — сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. — Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание — вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.
— У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного.
— А если я стану изможденным, старым, сморщенным? Что тогда?
— Ну, тогда, — лорд Генри встал, собираясь уходить. — Тогда, мой милый, вам придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.
— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?
— Кажется, двадцать семь. Она в бельэтаже, и на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.
— Право, я не в силах, — сказал Дориан устало. — Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.
— И это еще только начало нашей дружбы, — подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свиданья. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поет Патти.
Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается.
Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя: а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом.
Бедная Сибила! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибила эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь будет всегда для него святыней. Сибила, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибилы, об ее пленительной живости и застенчивой грации Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.
Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него — жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха — все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора — вот и все.
На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал — вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль!
Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого, — так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться?
Но… Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом — разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом — стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?.. Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?
Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе-прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.
Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом, и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.
ГЛАВА IX
На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.
— Очень рад, что застал вас, Дориан, — сказал он серьезным тоном. — Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали… Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глоба», который попался мне под руку в клубе… Тотчас поспешил к вам, да, к моему великому огорчению, не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье! Понимаю, как вам тяжело… А где же вы вчера были? Вероятно, ездили к ее матери? В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-Род? Но я побоялся, что буду там лишний, — чем можно облегчить такое горе? Несчастная мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?
— Мой милый Бэзил, откуда мне знать? — процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. — Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина! И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы… Она не одна, у нее есть еще сын, и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?
— Вы… были… в опере? — с расстановкой переспросил Бэзил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. — Вы поехали в оперу в то время, как Сибила Вэйн лежала мертвая в какой-то грязной каморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!
— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слушать! — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.
— Вчерашний день для вас уже прошлое?
— При чем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами.
— Дориан, это ужасно! Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас… Не понимаю, что на вас нашло! Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это — влияние Гарри. Теперь мне ясно…
Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду.
— Я обязан Гарри многим, — сказал он наконец. — Больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.
— Что же, я за это уже наказан, Дориан… или буду когда-нибудь наказан.
— Не понимаю я ваших слов, Бэзил, — воскликнул Дориан, обернувшись. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну, скажите, что вам нужно?
— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, — с грустью ответил художник.
— Бэзил, — Дориан подошел и положил ему руку на плечо, — вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой…
— Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? — ахнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.
— А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно, нет! Она лишила себя жизни.
Художник закрыл лицо руками.
— Это страшно! — прошептал он, вздрогнув.
— Нет, — возразил Дориан Грей. — Ничего в этом нет страшного. Это — одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они — примерные мужья или примерные жены, — словом, скучные люди. Понимаете — мещанская добродетель и все такое. Как непохожа на них была Сибила! Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо оттого, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти — весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота… Однако не думайте, Бэзил, что я не страдал. Вчера был такой момент… Если бы вы пришли около половины шестого… или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту весть — не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я то же чувство переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся — и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — я забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать, он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у вас в мастерской мне попалась под руку книжечка в веленевой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение: consolation des arts[44]. Право, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили к Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это доставляет столько удовольствия! Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни — это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик, сейчас я — мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим, однако я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменился, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе! Не оставляйте же меня, Бэзил, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть, — ничего с этим не поделаешь.
Холлуорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства!
— Ну, хорошо, Дориан, — промолвил он наконец с грустной улыбкой. — Не стану больше говорить об этой страшной истории. И хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?
Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое.
— Моя фамилия там никому не известна, — пояснил он.
— Но девушка-то, наверное, ее знала?
— Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах.
— Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас.
— Никогда больше я не буду вам позировать, Бэзил. Это невозможно! — почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него.
— Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то недостает.
— Мой лакей тут ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня — и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил: в этом месте слишком резкое освещение.
— Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть.
И Холлуорд направился в тот угол, где стоял портрет.
Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холлуорда, он стал между ним и экраном.
— Бэзил, — сказал он, страшно побледнев, — не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели.
— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.
— Только попытайтесь, Бэзил, — и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы только тронете экран, между нами все кончено.
Холлуорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо Дориана побелело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.
— Дориан!
— Молчите, Бэзил!
— Господи, да что это с вами? Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть, — сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико — запрещать мне смотреть на мою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен, — так почему бы не сделать этого сейчас?
— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни? Немыслимо! Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?
— Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им.
Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.
— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите! Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения — просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку, — вы это, конечно, помните? И Гарри вы говорили то же самое.
Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя: «Если хотите провести презанятные четверть часа, заставьте Бэзила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». Ага, так, может быть, и у Бэзила есть своя тайна! Надо выведать ее.
— Бэзил, — начал он, подойдя к Холлуорду очень близко и глядя ему в глаза, — у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?
Художник вздрогнул и невольно отступил.
— Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остаетесь вы, — я смогу всегда видеть вас. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы.
— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил, — настаивал Дориан Грей. — Мне кажется, я имею право знать.
Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлуорда.
— Сядемте, Дориан, — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?
— Ох, Бэзил! — вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.
— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, — и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда, ни единым словом не обмолвился об этом — ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным, — пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги душе опасны. Не знаю, что страшнее — власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, — роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот… Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, — но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну, да это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав… А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его…
Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну а теперь я вижу, что вы правы, портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться — вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри.
Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит! Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли и он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души? К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное, — и только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже?
— Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете, — сказал Бэзил Холлуорд. — Вы и вправду это заметили?
— Кое-что я заметил. И оно меня сильно поразило.
— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?
Дориан покачал головой.
— Нет, нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко.
— Так, может, потом когда-нибудь?
— Никогда.
— Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы — единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам… если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал!
— Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэзил? Только то, что вы мною слишком восхищались? Право, это даже не комплимент.
— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами.
— Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания.
— Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще что-то другое?
— Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите — это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями.
— У вас есть Гарри, — сказал Холлуорд уныло.
— Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил.
— И вы опять будете мне позировать?
— Нет, этого я никак не могу!
— Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит.
— Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью… Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.
— Для вас, пожалуй, даже приятнее, — огорченно буркнул Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, да что поделаешь! Я вас вполне понимаю.
Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины! И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга! После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность — все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.
Он вздохнул и позвонил лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда! Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.
ГЛАВА Х
Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже.
Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двоих рабочих.
Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия?
Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.
— От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя! Никак нельзя!
— Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лиф. Мне только ключ нужен.
— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали — со дня смерти его светлости.
При упоминании о старом лорде Дориана передернуло: у него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде.
— Пустяки, — ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ.
— Вот, возьмите, сэр. — Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно!
— Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. — Спасибо, Лиф, можете идти.
Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что но всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалось на глаза атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом, — великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, — привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет! Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изгложут его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно.
При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), — чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман[45], и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся.
Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом как ничтожны были укоры Бэзила, как пусты и ничтожны! С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.
С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей.
— Люди здесь, мосье.
Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек!
И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого.
— Передайте лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда.
Через две-три минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов — художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него.
— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная флорентийская — должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!
— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.
— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство? Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр?
— Вот она, — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске.
— Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?
— Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.
Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.
— Груз немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину.
— Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз.
Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская, потом, когда подрос, — классная комната. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменилось. Так же стоял здесь громадный итальянский сундук — cassone — с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями, в нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее!
Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость — и этого довольно.
Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, — тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?..
Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, — безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь!
— Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете.
— Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр?
— Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо.
— Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр?
Дориан вздрогнул.
— Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, — сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами.
— Не за что, мистер Грей, не за что! Я всегда к вашим услугам, сэр!
Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним — его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.
Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор.
Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — третий выпуск «Сент-Джемской газеты». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета… Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева…
При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, верно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе.
Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее:
«Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Бэлл-Тэверн на Хокстон-Род участковым следователем, мистером Дэнби, произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вэйн, последнее время выступавшей в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирелл, производивший вскрытие тела Сибилы Вэйн».
Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом: ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык.
Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает… А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вэйн? Ему бояться нечего — он ее не убивал.
Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.
Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.
То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.
Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.
Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом.
— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день.
— Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая.
— Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.
— Ага, вы уже поняли разницу? — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.
ГЛАВА XI
В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, — цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.
Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил.
В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью, — страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, — впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.
Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить бесчестившим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.
Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом.
Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, — Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу, думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его.
Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой — раза два в месяц, а в остальное время года — каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было (особенно среди зеленой молодежи) людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, — сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир.
И, несомненно, для Дориана сама Жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и Моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэлл-Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.
Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона». Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой «arbiter elegantiarum»[46], у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений.
Культ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их, и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к Красоте.
Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «падение», от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.
Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.
Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью? Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвещает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.
Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.
Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри, — и тогда ему хотелось верить, что это в самом деле «panis caelestis», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии страстей господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.
Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных! Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия.
Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.
Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты: лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные, худощавые индийцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет, — в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен, — им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за три лье; и «тепонацли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеца, Бернал Диац, так живо описавший жалобные звуки этого барабана.
Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.
Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера», и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.
Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн-де-Жуайез, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин. Это увлечение длилось много лет, — даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков.
Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Clericalis Disciplina»[47] упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что покоритель Эматии видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками».
В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».
По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.
Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце аравийского оленя, — чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит.
В день своего коронования король цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец». На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золота.
А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся.
Когда герцог Валентинуа, сын Александра Шестого, приехал в гости к французскому королю Людовику Двенадцатому, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда Второго был плащ, весь покрытый лалами, — он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха Восьмого, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов». Фаворитки Иакова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард Второй подарил Пирсу Гэйвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих Второй носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.
Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.
Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, — а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, — он чуть не с горестью замечал, как разрушает Время все прекрасное и неповторимое.
Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хилперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбудившие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, — словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «Madame, je suis tout joyeux»[48], и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак (четырехугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.
Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».
Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика Четырнадцатого были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля, Яна Собеского, стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.
В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.
Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни пресвятой девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.
Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.
Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены Страсти Господни и Распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узором из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.
Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам повесил на стену роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт-Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.
Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.
Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет, — так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, — разве кто поверит?
И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме на Ноттингемшайре принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?
Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вестэндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчиллклуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.
Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.
Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.
Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и опасного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценят гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, — самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразие человеческой личности.
Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.
Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?
А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?
Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.
Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса.
А второй лорд Бикингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтонхаузе. На груди его сверкает орден Подвязки…
Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах, — думал Дориан. — Как все это любопытно!»
А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами… Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел.
А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорный требованиям мозга и влечениям страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло — столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью.
Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличье Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, taedium vitae, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец Гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.
Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппе, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла Второго и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «Формозус», то есть «Прекрасный»; его тиара, стоившая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мария Висконти, травивший людей собаками; когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его гетера. Цезарь Борджиа на белом коне — с ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста Четвертого, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности; он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, — он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; по преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джанбаттиста Чибо, в насмешку именовавший себя Невинным, тот Чибо, в чья истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римини, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре д'Эсте поднес яд в изумрудном кубке; он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага бога и людей сожгли в Риме. Карл Шестой, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви; когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой пьяцце Перуджии, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его Аталанта благословила его.
Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.
ГЛАВА XII
Это было девятого ноября и (как часто вспоминал потом Дориан) накануне дня его рождения, когда ему исполнилось тридцать восемь лет.
Часов в одиннадцать вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саус-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Бэзила Холлуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.
Но Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.
— Дориан! Какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался… А вы-то разве не узнали меня?
— В таком тумане, милый мой Бэзил? Я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен… Очень жаль, что вы уезжаете, я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?
— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну, да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.
— Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом.
При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлуорд посмотрел на часы.
— У меня еще уйма времени, — сказал он. Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, — рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории.
Дориан посмотрел на него с улыбкой.
— Вот как путешествует известный художник! Ручной саквояж и осеннее пальтишко! Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить.
Холлуорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.
— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?
Дориан пожал плечами.
— Кажется, женился на горничной леди Рэдля и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англомания в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то невзлюбил… Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор… Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка.
— Спасибо, я ничего больше не буду пить, — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. — Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста, — этак мне очень трудно будет говорить.
— Ну, в чем же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого.
— Нет, именно о вас, — сказал Холлуорд суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.
— Полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.
— Не так уж это много, Дориан, и разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.
— А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.
— Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение — еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, — вы его знаете, но называть его не буду, — пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно — наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло, — у этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан… Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас — клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и оттого, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стэйвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде… За столом кто-то упомянул о вас — речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стэйвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы — мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, — ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, — а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию… Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Пертский? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?
— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что мне о нем все известно, а вовсе не потому, что ему известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет такая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке — при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распущенности» знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, — они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.
— Ах, Дориан, не в этом дело! — горячо возразил Холлуорд. — Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. А вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жаждой наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули! Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться как ни в чем не бывало, — вот как улыбаетесь сейчас… Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри — неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.
— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!
— Я должен сказать все, — и вы меня выслушаете. Да, выслушаете! До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в Парке? Даже ее детям не позволили жить с нею… И это еще не все. Много еще о вас рассказывают, — например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть так! Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным! Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, — как я могу это знать? — но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но, чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу…
— Увидеть мою душу! — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.
— Да, — сказал Холлуорд серьезно, с глубокой печалью в голосе. — Увидеть вашу душу. Но это может один только господь бог.
У Дориана вдруг вырвался горький смех.
— Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами! — крикнул он и рывком поднял со стола лампу. — Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.
Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал.
— Да, — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда. — Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только господь бог.
Холлуорд вздрогнул и отшатнулся.
— Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить! Какие ужасные и бессмысленные слова!
— Вы так думаете? — Дориан снова рассмеялся.
— Конечно! А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.
— Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеете сказать.
Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, — как он, должно быть, страдает!
Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.
— Я жду, Бэзил, — сказал Дориан, резко отчеканивая слова.
Художник обернулся.
— Мне осталось вам сказать вот что: вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца, — я вам поверю. Скажите это, Дориан! Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек!
Дориан Грей презрительно усмехнулся.
— Поднимитесь со мной наверх, Бэзил, — промолвил он спокойно. — Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу.
— Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.
— Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.
ГЛАВА XIII
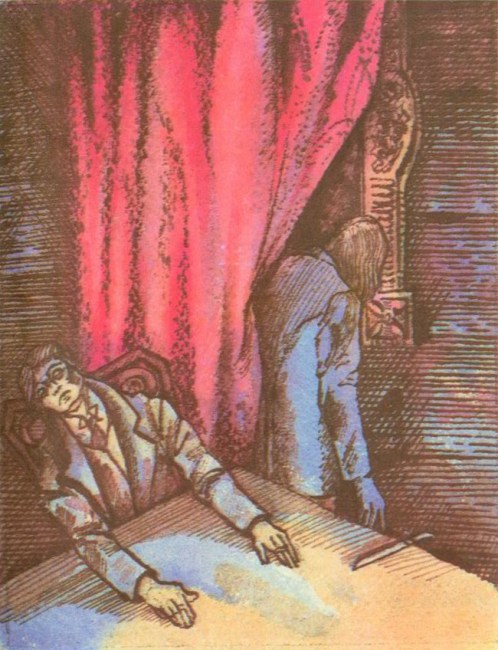
Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бэзил Холлуорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла.
На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол, и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.
— Так вы непременно хотите узнать правду, Бэзил? — спросил он, понизив голос.
— Да.
— Отлично. — Дориан улыбнулся и добавил уже другим, жестким тоном: — Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы и не подозреваете, Бэзил, какую большую роль сыграли в моей жизни.
Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал.
— Закройте дверь! — шепотом сказал он Холлуорду, ставя лампу на стол.
Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени.
— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу.
В голосе его звучала холодная горечь.
— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись.
— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. — Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.
Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи… Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.
Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал…
И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал — и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?
Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.
А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо — только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает.
— Что же это? — вскрикнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.
— Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, — я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, — я высказал желание… или, пожалуй, это была молитва…
— Помню! Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть… Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество… Да, да! А то, что вы вообразили, невозможно.
— Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.
— Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!
— Это неправда. Он уничтожил меня.
— Не могу поверить, что это моя картина.
— А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дориан с горечью.
— Мой идеал, как вы это называете…
— Нет, это вы меня так называли!
— Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира.
— Это — лицо моей души.
— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..
— Каждый из нас носит в себе и ад и небо, Бэзил! — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния.
Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.
— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!
Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.
Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.
— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!
Ответа не было, от окна донеслись только рыдания Дориана.
— Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение… Отпусти нам грехи наши… Очисти нас от скверны…» Помолимся вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны.
Дориан медленно обернулся к Холлуорду и посмотрел на него полными слез глазами.
— Поздно молиться, Бэзил, — с трудом выговорил он.
— Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы… Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег».
— Теперь это для меня уже пустые слова.
— Молчите, не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрешили в жизни. О господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?
Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни.
Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож, он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести.
Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом.
Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож… Холлуорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.
Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.
Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол; его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул.
Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кеба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.
Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.
Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все.
Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы… Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума.
Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал… Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов.
Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Бэзила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было сорок минут второго.
Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле…
Однако какие против него улики? Бэзил Холлуорд ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит…
Париж!.. Да, да, все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше.
Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал.
Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить.
Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей.
— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас, — сказал Дориан, входя, — я забыл дома ключ. Который час?
— Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, сонно щурясь на часы.
— Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело.
— Слушаю, сэр.
— Заходил вечером кто-нибудь?
— Мистер Холлуорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.
— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Он что-нибудь велел передать?
— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.
— Ладно, Фрэнсис. Не забудьте же разбудить меня в девять.
— Не забуду, сэр.
Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кэмпбел — Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152». Да, вот кто ему нужен сейчас!
ГЛАВА XIV
На другое утро слуга в девять часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.
Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо, и наконец Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость весела без причин, — в этом ее главное очарование.
Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае.
Постепенно события прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.
А ведь мертвец все еще сидит там наверху! И теперь, при ярком солнечном свете. Это ужасно! Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем…
Дориан почувствовал, что заболеет или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать, — своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил.
Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз переменил кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.
Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходившего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. Одно сунул в карман, другое отдал лакею.
— Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, сто пятьдесят два. А если мистера Кэмпбела нет в Лондоне, узнайте его адрес.
Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Бэзилом Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать, и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости.
Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были «Эмали и камеи» Готье в роскошном издании Шарпантье на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы — и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции:
В волненье легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется, розово-бела.
Соборы средь морских безлюдий
В теченье музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.
Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.[49]
Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, Кампаниллы или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад… Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя:
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.
Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон, а для подлинной романтики фон — это все или почти все…
В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!
Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать стихи Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле… Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивает с голосом контральто и называет дивным чудовищем, monstre charmant — об изваянии, которое покоится в порфировом зале Лувра.
Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога!
Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кэмпбел — никогда.
Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры, о химии же имела представление весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.
Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем, музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку.
Полтора года длилась эта дружба. Кэмпбела постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кэмпбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменился, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку: на концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.
Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодны, как лед.
Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно, фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски.
Затем Время внезапно остановилось. Да, это слепое медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло Время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.
Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. Дориан уставился на него мутными глазами.
— Мистер Кэмпбел, сэр, — доложил слуга.
Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.
— Просите сейчас же, Фрэнсис!
Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал.
Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбел, суровый и очень бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.
— Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры.
— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы написали, что дело идет о жизни или смерти…
Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана.
— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Садитесь.
Кэмпбел сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.
После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбела угадать, какое впечатление производят его слова:
— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад… Сидите спокойно и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что…
— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, — мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны, они меня больше не интересуют.
— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, — так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся, — нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.
— Вы с ума сошли, Дориан!
— Ага, наконец-то вы назвали меня «Дориан»! Я этого только и ждал.
— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!
— Алан, это было самоубийство.
— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?
— Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?
— Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!
— Алан, это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.
— Убийство?! Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться.
— Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность, и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.
— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасать вас. Вся эта история меня совершенно не касается.
— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх… Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан!
— О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло.
— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал…
— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.
— Так вы не согласны?
— Нет.
— Алан, я вас умоляю!
— Это бесполезно.
Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.
Кэмпбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.
Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.
— Мне вас очень жаль, Алан, — сказал он шепотом, — но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить — вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия.
Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.
— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее приступайте к нему!
У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца, — казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.
— Ну же, Алан, решайтесь скорее!
— Не могу, — машинально возразил Кэмпбел, точно эти слова могли изменить что-нибудь.
— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!
Кэмпбел с минуту еще колебался. Потом спросил:
— В той комнате, наверху, есть камин?
— Да, газовый, с асбестом.
— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.
— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет.
Кэмпбел нацарапал несколько строк, промакнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти.
Стук двери, захлопнувшейся за лакеем, заставил Кэмпбела нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.
Куранты пробили час. Кэмпбел обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана.
— Вы подлец, гнусный подлец! — сказал он тихо.
— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.
— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете.
— Ах, Алан. — Дориан вздохнул. — Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.
Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад.
Кэмпбел ничего не ответил.
Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железных скобы очень странной формы.
— Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кэмпбелу.
— Да, — ответил за Кэмпбела Дориан. — И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?
— Харден, сэр.
— Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых… нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.
— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?
Дориан посмотрел на Кэмпбела.
— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости.
Кэмпбел нахмурился, прикусил губу.
— Часов пять, — ответил он.
— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис… А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны.
— Благодарю вас, сэр, — сказал лакей и вышел.
— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы — все остальное.
Дориан говорил быстро и повелительным тоном.
Кэмпбел покорился. Они вместе вышли в переднюю.
На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.
— Алан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он.
— Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Кэмпбел.
Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.
Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол, — ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.
Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет.
Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбел внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Бэзилом Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?
— Теперь уходите, — произнес за его спиной суровый голос.
Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбел смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.
Было уже гораздо позднее семи, когда Кэмпбел вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.
— Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.
— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду, — сказал Дориан просто.
Как только Кэмпбел ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.
ГЛАВА XV
В тот же вечер, в, половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять бога и все, что священно для человека! Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение.
В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного — только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его.
Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода.
«Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, — говаривала она, — и ради вас забросила бы свой чепец через мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?»
В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, — как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, — совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга.
— Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны, — шепотом жаловалась леди Нарборо. — Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга, — но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы! Встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать.
Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Хорроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственное поведение; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и премило картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.
Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:
— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.
Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло.
Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, — жажда мучила его все сильнее.
— Дориан, — сказал наконец лорд Генри, когда подали заливное из дичи. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи.
— Влюблен, наверное! — воскликнула леди Нарборо. И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!
— Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю — с тех пор как госпожа де Феррол уехала из Лондона.
— Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной! Это для меня загадка, право, — заметила старая дама.
— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой, — вмешался лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.
— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована.
— Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной, — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.
— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.
— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите — третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?
— Именно так, леди Нарборо!
— Ни за что не поверю.
— Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга.
— Мистер Грей, это правда?
— По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.
— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — trop de zèle![50]
— Вернее trop d'audace![51] Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.
— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.
— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарборо ударила его веером.
— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.
— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях.
— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой.
Лорд Генри на минуту стал серьезен.
— Просто возмутительно, — сказал он, — что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые… безусловно верны.
— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол.
— Надеюсь, что это так, — воскликнула, смеясь, леди Нарборо. — И послушайте — раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды.
— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри. — Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.
— Нарборо был не так уж безупречен, — заметила старая леди.
— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум… Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.
— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.
— Fin de siecle![52] — проронил лорд Генри.
— Fin du globe![53] — подхватила леди Нарборо.
— Если бы поскорее fin du globe! — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.
— Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным — это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?
— Я ему всегда это твержу, леди Нарборо, — сказал лорд Генри с поклоном.
— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.
— И укажете их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.
— Обязательно укажу, — конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы.
— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.
— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрью. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.
— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым, — ответил лорд Генри. — Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество.
— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.
Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:
— Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу.
— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее.
— Ради бога, не надо, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри. — Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир.
Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.
— Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна, — сказала она, выплывая из столовой.
— Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся, — крикнула леди Нарборо с порога.
Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.
Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.
— Ну, что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?
— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.
— Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.
— Да, она обещала приехать двадцатого.
— И Монмаут приедет с нею?
— Ну конечно, Гарри.
— Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.
— Давно она замужем? — спросил Дориан.
— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью… А кто еще приедет в Селби?
— Виллоуби и лорд Рэгби — оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон, — словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.
— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.
— Погодите радоваться, Гарри, — еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло.
— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его… Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера, — еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?
Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.
— Нет, Гарри, — не сразу ответил он. — Домой я вернулся только около трех.
— Были в клубе?
— Да… То есть нет! — Дориан прикусил губу. — В клубе я не был. Так, гулял… Не помню, где был… Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.
Лорд Генри пожал плечами.
— Полноте, мой милый, на что мне это нужно! Пойдемте в гостиную к дамам… Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса… С вами что-то случилось, Дориан! Скажите мне что? Вы сегодня сам не свой.
— Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.
— Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.
— Постараюсь, — сказал Дориан, уходя.
Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.
Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев… Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом…
Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как завороженный, — казалось, шкаф его и привлекал и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания… Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа.
Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно-тяжелым запахом.
Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы… Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.
Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кеб с хорошей лошадью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес.
Тот покачал головой.
— Это слишком далеко.
— Вот вам соверен, — сказал Дориан. — И получите еще один, если поедете быстро.
— Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте.
Дориан сел в кеб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.
ГЛАВА XVI

Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко-мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.
Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана.
«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения!..
Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть.
И Дориан твердо решил забыть, вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть.
Кеб тащился все дальше и, казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума, в горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся — и кучер почему-то притих.
Казалось, езде не будет конца. Сеть узких уличек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко.
Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавший кеб залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом.
Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кеб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери, в другом месте двое мужчин погнались за кебом и пробежали ярдов сто. Кучер отогнал их кнутом.
Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих аппетитов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения Искусства и грезы, навеваемые Песней. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний.
Вдруг кучер рывком остановил кеб у темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям.
— Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло.
Дориан встрепенулся и окинул улицу взглядом.
— Да, здесь, — ответил он и, поспешно выйдя из кеба, дал кучеру обещанный второй соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош.
Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого, грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.
Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.
— Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают, — с хохотом сказала одна из женщин проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал.
В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой.
— Вы здесь, Адриан?
— Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.
— А я думал, что вы уехали из Англии.
— Дарлингтон палец о палец не ударит… Мой брат наконец уплатил по векселю… Но Джордж тоже меня знать не хочет… Ну, да все равно, — добавил он со вздохом. — Пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много.
Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя.
— Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания.
— На верфь?
— Да.
— Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.
Дориан пожал плечами.
— Ну что ж! Мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.
— Да нет, такое же.
— Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться.
— А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан.
— Все равно, пойдемте.
Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.
Одна из женщин криво усмехнулась.
— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.
— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать.
Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.
— Ни к чему это, — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо.
— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.
— Может быть, и напишу.
— Ну, пока, до свиданья.
— До свиданья, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке.
Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.
— Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она, икая.
— Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ.
Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед:
— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?
Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони.
Дориан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана. На минуту глаза его приняли печальное выражение. Но он тотчас же встряхнулся.
Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг погашенным.
Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха (или того, что люди называют грехом) так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их — либо молчит, — либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж.
Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с оскверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, — сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло.
Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно увидел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.
— Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь.
— Стойте смирно! — скомандовал тот. — Только шевельнитесь — и я вас пристрелю.
— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?
— Вы разбили жизнь Сибилы Вэйн, а Сибила Вэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал — ведь не было никаких следов… Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас — только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь богу, потому что вы сейчас умрете.
Дориан Грей обомлел от страха.
— Я ее никогда не знал, — прошептал он, заикаясь. — И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший.
— Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете, это так же верно, как то, что я — Джеймс Вэйн.
Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.
— На колени! — прорычал Джеймс Вэйн. — Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все.
Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда…
— Стойте! — воскликнул он. — Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!
— Восемнадцать лет, — ответил моряк. — А что? При чем тут годы?
— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом. — Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!
Джеймс Вэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю.
Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, — его было достаточно, чтобы Джеймс Вэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибила много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.
Джеймс Вэйн выпустил Дориана и отступил на шаг.
— Господи помилуй! А я чуть было вас не застрелил!
Дориан тяжело перевел дух.
— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, — сказал он, сурово глядя на Джеймса. — Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя отмщения, это дело господа бога.
— Простите, сэр, — пробормотал Вэйн. — Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре — и они навели меня на ложный след.
— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.
Джеймс Вэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.
— Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо. — Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.
— Он не тот, кого я ищу, — ответил Джеймс Вэйн. — А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил, не то были бы у меня руки в невинной крови.
Женщина горько засмеялась.
— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас.
— Лжешь! — крикнул Джеймс Вэйн.
Она подняла руку.
— Богом клянусь, что это правда.
— Клянешься?
— Чтоб у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменился… Не то что я, — добавила она с печальной усмешкой.
— Значит, ты клянешься?
— Клянусь! — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. — Но ты меня не выдавай, — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И дай мне деньжонок — за ночлег заплатить.
Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице не было.
ГЛАВА XVII
Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и назавтра ожидали еще гостей.
— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?.. Это замечательная мысль.
— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.
— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»… или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам… Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.
— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.
— Принц Парадокс, — сказал Дориан.
— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.
— И слышать не хочу о таком имени, — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.
— Короли не должны отрекаться, — тоном предостережения произнесли красивые губки.
— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?
— Да.
— Но я провозглашаю истины будущего!
— А я предпочитаю заблуждения настоящего, — отпарировала герцогиня.
— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.
— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.
— Я никогда не сражаюсь против Красоты, — сказал он с галантным поклоном.
— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.
— Полноте, Глэдис! Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.
— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня. А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?
— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.
— Значит, вы не любите нашу страну?
— Я живу в ней.
— Чтобы можно было усерднее ее хулить?
— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?
— Что же там о нас говорят?
— Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.
— Это ваша острота, Гарри?
— Дарю ее вам.
— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.
— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.
— Они — люди благоразумные.
— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.
— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.
— Нам их навязали, Глэдис.
— Но мы с честью несли их бремя.
— Не дальше как до Фондовой биржи.
Герцогиня покачала головой.
— Я верю в величие нации.
— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.
— В нем — залог развития.
— Упадок мне милее.
— А как же искусство? — спросила Глэдис.
— Оно — болезнь.
— А любовь?
— Иллюзия.
— А религия?
— Распространенный суррогат веры.
— Вы скептик.
— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.
— Да кто же вы?
— Определить — значит ограничить.
— Ну, дайте мне хоть нить!..
— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.
— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.
— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.
— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.
— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.
— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.
— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.
— А за что же она на вас сердится, герцогиня?
— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.
— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.
— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.
— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.
— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой. — А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы, мужчины, любите глазами… Если только вы вообще когда-нибудь любите.
— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, — сказал Дориан.
— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.
— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри. — Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.
— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.
— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.
Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.
— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.
Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой.
— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.
— Даже когда он не прав?
— Гарри всегда прав, герцогиня.
— И что же, его философия помогла вам найти счастье?
— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.
— И находили, мистер Грей?
— Часто. Слишком часто.
Герцогиня сказала со вздохом:
— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.
— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня, — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.
— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.
— Если бы не это, так не было бы и борьбы.
— Значит, грек идет на грека?
— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.
— И потерпели поражение.
— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.
— Эге, вы скачете, бросив поводья!
— Только в скачке и жизнь, — был ответ.
— Я это запишу сегодня в моем дневнике.
— Что именно?
— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.
— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.
— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.
— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.
— А вы знаете, что у вас есть соперница?
— Кто?
— Леди Нарборо, — смеясь, шепнул лорд Генри, — она в него положительно влюблена.
— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.
— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!
— Нас учили мужчины.
— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.
— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.
— Вы — сфинксы без загадок.
Герцогиня с улыбкой смотрела на него.
— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.
— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.
— Это было бы преждевременной капитуляцией.
— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.
— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.
— Подобно парфянам?
— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.
— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.
Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.
— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.
— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.
— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.
Он пошел к себе переодеваться.
За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.
ГЛАВА XVIII
Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце.
Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.
И, наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия! Брат Сибилы не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вэйн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.
Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время пиров, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга! Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления.
Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.
Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти — либо убивают, — либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.
Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.
После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.
На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона, — он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.
— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя.
— Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.
Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сени золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое щелкание ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить.
Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул:
— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!
— Что за глупости, Дориан! — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.
— Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри. — Какой это осел полез под выстрелы! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких. — Человек ранен!
Прибежал старший егерь с палкой.
— Где, сэр? Где он?
И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.
— Там, — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику. — Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.
Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви.
Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей.
Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.
— Дориан, — промолвил лорд Генри. — Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.
— Ее бы следовало запретить навсегда, — ответил Дориан с горечью. — Это такая жестокая и противная забава! Что, тот человек…
Он не мог докончить фразы.
— К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дориан.
Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом:
— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!
— Что именно? — спросил лорд Генри. — Ах да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того, — мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.
Дориан покачал головой.
— Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное… Быть может, со мной, — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли.
Лорд Генри рассмеялся.
— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.
— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что, счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?
Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.
— Да, — сказал он с улыбкой, — вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы развинтились, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.
Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.
— Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он вполголоса.
Дориан сунул письмо в карман.
— Скажите ее светлости, что я сейчас приду, — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.
— Как женщины любят делать рискованные вещи! — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание.
— А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее.
— А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару.
— Вы сплетничаете, Гарри! И сплетничаете без всяких оснований.
— Основание для всякой сплетни — вера в безнравственность, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу.
— Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!
— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.
— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.
— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам.
— Я не могу вам ничего рассказать, Гарри, — ответил Дориан уныло. — И, наверное, все — просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде.
— Какой вздор!
— Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделать. Ага, вот и герцогиня! Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.
— Я уже все знаю, мистер Грей, — сказала герцогиня. — Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение!
— Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил… Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история…
— Досадная история, — поправил его лорд Генри. — И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, — как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!
— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистеру Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет!
Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.
— Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня… Что такое Гарри опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.
Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами.
— Вы сильно в него влюблены? — спросил он.
Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину.
— Хотела бы я сама это знать, — сказала она наконец.
Лорд Генри покачал головой.
— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным.
— Но в тумане можно сбиться с пути.
— Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному.
— К чему же?
— К разочарованию.
— С него я начала свой жизненный путь, — со вздохом отозвалась герцогиня.
— Оно пришло к вам в герцогской короне.
— Мне надоели земляничные листья.
— Но вы их носите с подобающим достоинством.
— Только на людях.
— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!
— А они останутся при мне, все до единого.
— Но у Монмаута есть уши.
— Старость туга на ухо.
— Неужели он никогда не ревнует?
— Нет. Хоть бы раз приревновал!
Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то.
— Чего вы ищете? — спросила герцогиня.
— Шишечку от вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили.
Герцогиня расхохоталась.
— Но маска еще на мне.
— Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее, — был ответ.
Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода.
А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств.
В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью.
Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу.
— Пусть войдет, — буркнул он после минутной нерешимости. Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой.
— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон? — спросил он, берясь уже за перо.
— Так точно, сэр, — ответил егерь.
— Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? — спросил Дориан небрежно, — Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?
— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить…
— Не знаете, кто он? — рассеянно переспросил Дориан. — Как так? Разве он не из ваших людей?
— Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр.
Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло.
— Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос?
— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка… и все такое…
— А нашли вы при нем что-нибудь? — Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря. — Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?
— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос.
Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.
— Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть.
— Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье.
— На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь… Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее.
Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее. Деревья призрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.
Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду.
Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое — либо вернет ему покой, — либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел.
На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.
Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников.
— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть, — сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры.
Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вэйн!
Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен!
ГЛАВА XIX
— И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. — Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.
Дориан покачал головой.
— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела.
— А где же это вы были вчера?
— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.
— Милый друг, в деревне всякий может быть праведником, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да, да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели.
— Культура и разврат, — повторил Дориан. — Я приобщился к тому и другому, и теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился.
— А вы еще не рассказали мне, какое это доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.
— Этого я никому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот… Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май — чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась… Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее…
— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан? — перебил лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.
— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцвета.
— И плакать о неверном Флоризеле, — докончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, чтобы ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почем вы знаете, — может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?
— Перестаньте, Гарри, это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина… Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану… Ну, довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе.
— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.
— А я думал, что им это уже наскучило, — бросил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина.
— Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца, — на такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой развод, самоубийство Алана Кэмпбела, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!
— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом.
— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться, — это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.
— Почему же? — лениво спросил младший из собеседников.
— А потому, — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые и в нашем, девятнадцатом, веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость… Давайте перейдем пить кофе в концертный зал, — хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая существенная часть нашего «я».
Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил:
— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?
Лорд Генри зевнул.
— Бэзил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же было бы его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.
— Я очень любил Бэзила, — с грустью сказал Дориан. — Значит, никто не предполагает, что он убит?
— В некоторых газетах такое предположение высказывалось. А я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.
— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?
Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри.
— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность — преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники — всегда люди низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.
— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!
— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, — со смехом отозвался лорд Генри. — Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда… Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами Сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли… Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет значительно слабее первых.
Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.
— Да, — продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок, — картины Бэзила стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что сталось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Бэзил его закончил… А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства… А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.
— Не помню уже, — ответил Дориан, — Вероятно, объявлял. Ну, да бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»… Постойте, как же это?..
Словно образ печали,
Бездушный тот лик…
Да, именно такое впечатление он на меня производил.
Лорд Генри засмеялся.
— Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу, — отозвался он, садясь в кресло.
Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.
— Словно образ печали,
Бездушный тот лик… —
повторил он.
Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век.
— А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет… как дальше? Да: если он теряет собственную душу?
Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, уставился на своего друга.
— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?
— Милый мой. — Лорд Генри удивленно поднял брови. — Я спросил, потому что надеялся получить ответ, — только и всего. В воскресенье я проходил через Парк, а там у Мраморной Арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность… В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки… Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода, — и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.
— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.
— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?
— Совершенно уверен.
— Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел! Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменились, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнения о чем-нибудь, что произошло только вчера, — и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали… Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство! Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я — внимающий вам Марсий… У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым… Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали, всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.
— Нет, Гарри, я уже не тот.
— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где родятся мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов «белая сирень», — и я вновь переживаю один самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы — тот человек, которого наш век ищет… и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты.
Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.
— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!
— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле… Не хотите играть? Ну, так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться, — это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.
— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь.
— Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.
— Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.
— Только ко мне не переменитесь, Дориан! Мы с вами всегда останемся друзьями.
— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри, — этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.
— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека, — напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые «безнравственные» книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бренксам. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.
— Вы непременно этого хотите, Гарри?
— Конечно. Парк теперь чудо как хорош! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.
— Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри.
Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать. Но только вздохнул и вышел из комнаты.
ГЛАВА XX

Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платьице и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.
Придя домой, Дориан отослал спать лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом вошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.
Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было гибельно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?
О, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека справедливейшему богу.
На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, — совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, — и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил! Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила.
Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вэйн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, — и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это… А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбел? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?
Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала, — вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно.
Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да, да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.
Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.
Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри? Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползлось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни… Кровь была и на ногах портрета — не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?
Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены, — он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом… Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть бог, и он требует, чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении… Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..
Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал.
А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная — и то слабая — улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.
Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.
Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.
Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие на площади, остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.
— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.
— Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский.
Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона.
А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.
Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, — задвижки были старые.
Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.
ТЮРЕМНАЯ ИСПОВЕДЬ
(DE PROFUNDIS[54])
EPISTOLA: IN CARCERE ET VINCULIS[56]
Тюрьма Ее Величества, Рединг.
Дорогой Бози![57]
После долгого и бесплодного ожидания я решил написать тебе сам, и ради тебя, и ради меня: не хочу вспоминать, что за два долгих года, проведенных в заключении,[58] я не получил от тебя ни одной строчки, до меня не доходили ни послания, ни вести о тебе, кроме тех, что причиняли мне боль.
Наша злополучная и несчастная дружба[59] кончилась для меня гибелью и позором, но все же во мне часто пробуждается память о нашей прежней привязанности, и мне грустно даже подумать, что когда-нибудь ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее некогда любви; да и сам ты, я думаю, сердцем поймешь, что лучше было бы написать мне сюда, в мое тюремное одиночество, чем без разрешения публиковать мои письма или без спросу посвящать мне стихи,[60] хотя мир ничего не узнает о том, в каких выражениях, полных горя или страсти, раскаяния или равнодушия, тебе вздумается отвечать мне или взывать ко мне.
Нет сомнения, что мое письмо, где мне придется писать о твоей и моей жизни, о прошлом и будущем, о радостях, принесших горе, и о горестях, которые, быть может, принесут отраду, — глубоко уязвит твое тщеславие. Если так, то читай и перечитывай это письмо до тех пор, пока оно окончательно не убьет в тебе это тщеславие. Если же ты найдешь в нем какие-нибудь упреки, на твой взгляд незаслуженные, то вспомни, что надо быть благодарным за то, что есть еще провинности, в которых обвинить человека несправедливо. И если хоть одна строка вызовет у тебя слезы — плачь, как плачем мы в тюрьме, где день предназначен для слез не меньше, чем ночь. Это единственное, что может спасти тебя. Но если ты снова бросишься жаловаться к своей матери,[61] как жаловался на то, что я с презрением отозвался о тебе в письме к Робби,[62] просить, чтобы она снова убаюкала тебя льстивыми утешениями и вернула тебя к прежнему высокомерию и самовлюбленности, ты погибнешь окончательно. Стоит тебе найти для себя хоть одно ложное оправдание, как ты сразу же найдешь еще сотню, и останешься в точности таким же, как и прежде. Неужели ты все еще утверждаешь, как писал в письме к Робби, будто я «приписываю тебе недостойные намерения!». Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения — у тебя были одни лишь прихоти. Намерение — это сознательное стремление. Ты скажешь, что «был слишком молод», когда началась наша дружба? Твой недостаток был не в том, что ты слишком мало знал о жизни, а в том, что ты знал чересчур много. Ты давно оставил позади утреннюю зарю отрочества, его нежное цветение, чистый ясный свет, радость неведения и ожиданий. Быстрыми, торопливыми стопами бежал ты от Романтизма к Реализму. Тебя тянуло в сточную канаву, к обитающим там тварям. Это и стало источником тех неприятностей, из-за которых ты обратился за помощью ко мне, а я так неразумно, по разумному мнению света, из жалости, по доброте взялся тебе помочь. Ты должен дочитать это письмо до конца, хотя каждое слово может стать для тебя раскаленным железом или скальпелем в руках хирурга, от которого дымится или кровоточит живая плоть. Помни, что всякого, кого люди считают глупцом, считают глупцом и боги. Тот, кто ничего не ведает ни о законах и откровениях Искусства, ни о причудах и развитии Мысли, не знает ни величавости латинского стиха, ни сладкогласной эллинской напевности, ни итальянской скульптуры или советов елизаветинцев, может обладать самой просветленной мудростью. Истинный глупец, кого высмеивают и клеймят боги, это тот, кто не познал самого себя. Я был таким слишком долго. Ты слишком долго был и остался таким. Пора с этим покончить. Не надо бояться. Самый большой порок — поверхностность. То, что понято, — оправдано. Помни также, что если тебе мучительно это читать, то мне еще мучительнее все это писать. Незримые Силы были очень добры к тебе. Они позволили тебе следить за причудливыми и трагическими ликами жизни, как следят за тенями в магическом кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень живых людей, тебе было дано видеть лишь в зеркальной глади. Сам ты разгуливаешь на свободе среди цветов. У меня же отняли весь прекрасный мир, изменчивый и многоцветный.
Начну с того, что я жестоко виню себя. Сидя тут, в этой темной камере, в одежде узника, обесчещенный и разоренный, я виню только себя. В тревоге лихорадочных ночей, полных тоски, в бесконечном однообразии дней, полных боли, я виню себя и только себя. Я виню себя в том, что позволил всецело овладеть моей жизнью неразумной дружбе — той дружбе, чьим основным содержанием никогда не было стремление создавать и созерцать прекрасное. С самого начала между нами пролегала слишком глубокая пропасть. Ты бездельничал в школе и хуже, чем бездельничал в университете. Ты не понимал, что художник, особенно такой художник, как я, — то есть тот, чей успех в работе зависит от постоянного развития его индивидуальности, — что такой художник требует для совершенствования своего искусства созвучия в мыслях, интеллектуальной атмосферы, покоя, тишины, уединения. Ты восхищался моими произведениями, когда они были закончены, ты наслаждался блистательными успехами моих премьер и блистательными банкетами после них, ты гордился, и вполне естественно, близкой дружбой с таким прославленным писателем, но ты совершенно не понимал, какие условия необходимы для того, чтобы создать произведение искусства. Я не прибегаю к риторическим преувеличениям, я ни одним словом не грешу против истины, напоминая тебе, что за все то время, что мы пробыли вместе, я не написал ни единой строчки. В Торки, Горинге, в Лондоне или Флоренции — да где бы то ни было, — моя жизнь была абсолютно бесплодной и нетворческой,[63] пока ты был со мной рядом. К сожалению, должен сказать, что ты почти все время был рядом со мной.
Помню, как в сентябре 1893 года — выбираю один пример из многих — я снял квартиру исключительно для того, чтобы работать без помех, потому что я уже нарушил договор с Джоном Хейром:[64] я обещал написать для него пьесу, и он торопил меня. Целую неделю ты не появлялся. Мы — что совершенно естественно — разошлись в оценке художественных достоинств твоего перевода «Саломеи», и ты ограничился тем, что посылал мне глупые письма по этому поводу. За эту неделю я написал и отделал до мелочей первый акт «Идеального мужа», в том виде, как его потом ставили на сцене. На следующей неделе ты вернулся, и мне пришлось фактически прекратить работу. Каждое утро, ровно в половине двенадцатого, я приезжал на Сен-Джеймс-сквер, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и куря бесчисленные сигареты, пока не подходило время везти тебя завтракать в «Кафе-Рояль» или в «Беркли». Ленч, с обычными «возлияниями», длился до половины четвертого. Ты уезжал на час в клуб. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к обеду. Ты обедал со мной либо в «Савойе», либо на Тайт-стрит. И расставались мы обычно далеко за полночь — полагалось завершить столь увлекательный день ужином у Виллиса. Так я жил все эти три месяца, изо дня в день, не считая тех четырех дней, когда ты уезжал за границу. И мне, разумеется, пришлось отправиться в Кале и доставить тебя домой. Для человека с моим характером и темпераментом это положение было и нелепым и трагическим.
Должен же ты хоть теперь все это понять? Неужели ты и сейчас не видишь, что твое неумение оставаться в одиночестве, твои настойчивые притязания и посягательства на чужое время и внимание всех и каждого, твоя абсолютная неспособность сосредоточиться на каких-либо мыслях, несчастливое стечение обстоятельств, — хотелось бы считать, что это именно так, — из-за которого ты до сих пор не приобрел «оксфордовский дух» в области интеллекта, не стал человеком, который умеет изящно играть идеями; ты только и умеешь, что навязывать свои мнения, — притом все твои интересы и вожделения влекли тебя к Жизни, а не к Искусству, все это было столь же пагубным для твоего культурного развития, как и для моей творческой работы? Когда я сравниваю нашу дружбу с тобой и мою дружбу с еще более молодыми людьми, — с Джоном Греем и Пьером Луисом,[65] мне становится стыдно. Моя настоящая, моя высшая жизнь — с ними и с такими, как они.
Я не стану сейчас говорить об ужасающих последствиях нашей с тобой дружбы. Я только думаю о том, какой она была, пока она еще длилась. Для моего интеллекта она была губительной. У тебя были начатки художественной натуры, но лишь в зародыше. Но я повстречал тебя либо слишком поздно, либо слишком рано, — сам не знаю, что вернее. Когда тебя не было, все у меня шло хорошо.
В начале декабря того же года, о котором я пишу, когда мне удалось убедить твою мать отправить тебя из Англии, я тут же снова собрал по кусочкам смятое и изорванное кружево моего воображения, взял свою жизнь в собственные руки и не только дописал оставшиеся три акта «Идеального мужа», но и задумал и почти закончил еще две совершенно несходные пьесы «Флорентийскую трагедию» и «La Sainte Courtisane».[66] Как вдруг, нежданный и непрошеный, при обстоятельствах роковых, отнявших у меня всю радость, ты возвратился. Я уже не смог взяться за те два произведения, которые остались недоработанными. Невозможно было вернуть настроение, создавшее их. Теперь, опубликовав собственный сборник стихов, ты сможешь понять, что все, о чем я пишу, чистая правда. Впрочем, поймешь ты или нет, все равно эта страшная правда угнездилась в самой сердцевине нашей дружбы. Твое присутствие было абсолютно гибельным для моего Искусства, и я безоговорочно виню себя за то, что позволял тебе постоянно становиться между мной и моим творчеством. Ты ничего не желал знать, ничего не мог понять, ничего не умел оценить по достоинству. Да я и был не вправе ждать этого от тебя. Все твои интересы были сосредоточены на твоих пиршествах и твоих прихотях. Ты всегда хотел только развлекаться, только и гнался за всякими удовольствиями — и обычными и не совсем обычными. По своей натуре ты в них всегда нуждался или считал, что в данную минуту они тебе необходимы. Я должен был запретить тебе бывать у меня дома или в моем рабочем кабинете без особого приглашения. Я всецело беру на себя вину за эту слабость. Да это и была только слабость. Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем круглые сутки с тобой. В сущности, в любое время моей жизни ничто не имело ни малейшего значения по сравнению с Искусством. А для художника слабость не что иное, как преступление, особенно когда эта слабость парализует воображение.
И еще я виню себя за то, что я позволил тебе довести меня до полного и позорного разорения. Помню, как утром, в начале октября 1892 года, мы сидели с твоей матерью в уже пожелтевшем лесу, в Брэкнелле. В то время я еще мало знал о твоем истинном характере. Однажды я провел с тобой время от субботы до понедельника в Оксфорде. Потом ты десять дней жил у меня в Кромере, где играл в гольф. Разговор зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоем характере. Она говорила о главных твоих недостатках — о твоем тщеславии и о том, что ты, как она выразилась, «безобразно относишься к деньгам». Ясно помню, как я тогда смеялся. Я не представлял себе, что твое тщеславие приведет меня в тюрьму, а расточительность — к полному банкротству.
Я считал, что некоторая доля тщеславия украшает юношу, как изящный цветок в петлице; что же касается расточительности — а мне показалось, что она говорила именно о расточительности, — то осмотрительностью и бережливостью ни я, ни мои предки никогда не отличались. Но не прошло и месяца с начала нашей дружбы, как я понял, что именно подразумевала твоя мать. Твое настойчивое желание вести безудержно роскошную жизнь, непрестанные требования денег, уверенность в том, что я должен платить за все твои развлечения, независимо от того, делил я их с тобой или нет, все это привело меня через некоторое время к серьезным затруднениям, и, по мере того как ты все настойчивее захватывал мою жизнь, это безудержное расточительство становилось для меня все более докучным и однообразным, потому что деньги, в общем, тратились исключительно на еду, на вино и тому подобное. Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал.
Если я тебе скажу, что с осени 1892 года до моего ареста я истратил на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря о счетах, оплату которых мне пришлось брать на себя, то ты хоть отчасти поймешь, какую жизнь ты непременно желал вести. Тебе кажется, что я преувеличиваю? За день, который мы с тобой проводили в Лондоне, я обычно тратил на ленч, обед, развлечения, экипажи и прочее от двенадцати до двадцати фунтов, что за неделю, соответственно, составляло от восьмидесяти до ста тридцати фунтов. За три месяца, что мы провели в Горинге, я истратил (включая и плату за квартиру) тысячу триста сорок фунтов. Шаг за шагом, вместе с судебным исполнителем, мне приходилось пересматривать все мелочи своей жизни. Это было ужасно. «Скромная жизнь и высокие мысли», конечно, были уже тогда идеалом, который ты ни во что не ставил, но такое мотовство унижало нас обоих. Вспоминаю один из самых очаровательных обедов с Робби, в маленьком ресторанчике в Сохо, — он нам обошелся примерно во столько же шиллингов, во сколько фунтов мне обходился обед с тобой. После одного обеда с Робби я написал самый лучший из всех моих диалогов.[67] И тема, и название, и трактовка, и стиль — все пришло за общим столом, где обед стоил три с половиной франка. А после наших с тобой лукулловских обедов ничего не оставалось, кроме ощущения, что съедено и выпито слишком много. Мои уступки всем твоим требованиям только шли тебе во вред. Теперь ты это знаешь. Это делало тебя очень часто жадным, порою беззастенчивым и всегда — неблагодарным. Почти никогда я не испытывал ни радости, ни удовлетворения, угощая тебя таким обедом. Ты забывал — не скажу о светской вежливости и благодарности: эти фамильярности вносят неловкость в близкие отношения, — но ты совершенно пренебрегал и теплотой дружеского общения, прелестью задушевной беседы, тем, что греки называли τερπνòν καλóν,[68] забывал ту ласковую теплоту, которая делает жизнь милее, она, как музыка, аккомпанирует течению жизни, настраивает на определенный лад и своей мелодичностью смягчает неприветность или безмолвие вокруг нас. И хотя тебе может показаться странным, что человек в моем ужасающем положении еще пытается найти какую-то разницу между одним бесчестием и другим, но мое банкротство, откровенно говоря, приобретает оттенок вульгарной распущенности, и я стыжусь того, что безрассудно тратил на тебя деньги и позволял тебе швыряться ими, как попало, на мою и на твою беду, и мне становится вдвойне стыдно за себя. Не для того я был создан.
Но больше всего я виню себя за то, что я из-за тебя дошел до такого нравственного падения. Основа личности — сила воли, а моя воля целиком подчинилась твоей. Как бы нелепо это ни звучало, все же это правда. Все эти непрестанные ссоры, которые, по-видимому, были тебе почти физически необходимы, скандалы, искажавшие твою душу и тело до того, что страшно было и смотреть на тебя и слушать тебя; чудовищная мания, унаследованная от твоего отца, — мания писать мерзкие, отвратительные письма; полное твое неумение владеть своими чувствами и настроениями, которые выливались то в длительные приступы обиженного и упорного молчания, то в почти эпилептические припадки внезапного бешенства, — обо всем этом я писал тебе в одном из писем, которое ты бросил не то в отеле «Савой», не то где-то еще, а потом адвокат твоего отца огласил его на суде, — письмо, полное мольбы, даже трогательное, если в то время тебя что-либо могло тронуть, словом, все твое поведение было причиной того, что я шел на губительные уступки всем твоим требованиям, возраставшим с каждым днем. Ты взял меня измором. Это была победа мелкой натуры над более глубокой. Это был пример тирании слабого над сильным, — «той единственной тирании»,[69] как я писал в одной пьесе, которую «свергнуть невозможно».
И это было неизбежно. Во всех жизненных взаимоотношениях человеку приходится искать moyen de vivre.[70] В отношениях с тобой надо было либо уступить тебе, либо отступиться от тебя. Другого выхода не существовало. Из-за моей глубокой, хоть и опрометчивой привязанности к тебе, из-за огромной жалости к недостаткам твоего характера и темперамента, из-за моего пресловутого добродушия и кельтской лени, из-за того, что мне как художнику были ненавистны плебейские скандалы и грубые слова, из-за полной неспособности обижаться, столь характерной для меня в те времена, из-за того, что мне неприятно было видеть, как уродуют и портят жизнь теми мелочами, которые мне, чей взор всегда был устремлен на другое, казались слишком ничтожными, чтобы уделять им какое бы то ни было внимание хотя бы на миг, — по всем этим несложным с виду причинам я всегда уступал тебе; как и следовало ожидать, твои притязания, твои попытки захватить власть, твои требования становились все безрассудней. Самые низкие твои побуждения, самые пошлые вкусы, самые вульгарные увлечения стали для тебя законом, и ты хотел подчинить им жизнь других людей, а если понадобится, был готов принести в жертву без малейших угрызений совести. Ты знал, что, устраивая мне сцену, всегда добьешься своего, и, как мне верится, сам того не сознавая, доходил в грубости и вульгарности до непозволительных крайностей. И в конце концов ты сам терял представление о том, чего ты добивался, чего ты от меня хотел. Завладев моим талантом, моей волей, моим состоянием, ты, в слепоте ненасытной алчности, хотел взять у меня абсолютно все. И ты все отнял. В ту трагическую, роковую пору моей жизни, перед тем как я совершил нелепейший шаг, меня, с одной стороны, стал преследовать твой отец, оставляя в моем клубе отвратительные записки, а с другой — ты начал преследовать меня не менее безобразными письмами. Ничего не могло быть хуже того твоего письма, которое я получил утром, перед тем как позволил тебе затащить меня в полицию и потребовать дурацкий ордер на арест твоего отца, — ты никогда не писал так гадко и по такому постыдному поводу. Из-за вас обоих я совсем потерял голову. Здравый смысл мне изменил. Все вытеснил ужас. Могу сказать откровенно, что я не видел никакой возможности избавиться от вас обоих. Я подчинился, я шел слепо, как вол идет на убой. Я сделал непростительный психологический промах. Я всегда считал, что уступать тебе в мелочах — пустое и что, когда настанет решающая минута, я смогу вновь собрать всю присущую мне силу воли и одержать верх. Но ничего не вышло. В самую важную минуту сила воли изменила мне окончательно. В жизни нет ничего великого или малого. Все в жизни равноценно, равнозначно. Моя привычка, поначалу вызванная равнодушием, — уступать тебе во всем — неощутимо сделалась моей второй натурой. Сам того не сознавая, я допустил, чтобы эта перемена наложила постоянный и пагубный отпечаток на мой характер. Вот почему Уолтер Патер в тонком эпилоге первого издания своих статей[71] говорит: «создавать себе привычки — ошибка». Когда он это написал, скучные оксфордские ученые решили, что это только свободная перифраза порядком наскучившего текста Аристотелевой «Этики», но в этих словах скрыта потрясающая страшная истина. Я позволил тебе подорвать силу моего характера, и, превратившись в привычку, это стало для меня не просто Ошибкой, но и Гибелью. Мои нравственные устои ты расшатал еще больше, чем основы моего творчества.
Когда тебе обещали ордер на арест отца, ты, разумеется, стал распоряжаться всем. В то время как мне следовало бы остаться в Лондоне, посоветоваться с умными людьми и спокойно рассудить, каким образом я позволил поймать себя в такую ловушку — в капкан — как до сих пор выражается твой отец, — ты настоял, чтобы я повез тебя в Монте-Карло — самое гнусное место на белом свете, где ты день и ночь играл в казино, до самого закрытия. А я — поскольку баккара меня не привлекает, — я был оставлен в полном одиночестве. Ты и пяти минут не хотел поговорить со мной о том положении, в которое я попал из-за тебя и твоего отца. Мне оставалось только оплачивать твой номер в отеле и твои проигрыши. Малейший намек на тяжкие испытания, ожидавшие меня, нагонял на тебя скуку. Очередная марка шампанского, которую нам рекомендовали, интересовала тебя куда больше. По возвращении в Лондон те из моих друзей, кто по-настоящему тревожился о моем благополучии, умоляли меня уехать за границу и уклониться от этого неслыханного судилища. Ты приписывал им подлые мотивы и обвинял меня в трусости за то, что я выслушивал их советы. Ты заставил меня остаться и, если выйдет, отвести от себя все обвинения бесстыдным и неправдоподобным лжесвидетельством на суде. Разумеется, в конце концов меня арестовали, и твой отец стал героем дня — нет, не только героем дня: теперь твоя семья попала в сонм Бессмертных, ибо из-за шутовских, хотя и мрачных прихотей истории — ведь Клио самая несерьезная из Муз — твой отец теперь навсегда останется среди добрых и благомыслящих героев книжек для воскресных школ, тебе будет отведено место рядом с отроком Самуилом, а я окажусь в самой глубокой трясине «Злых щелей», между маркизом де Садом и Жилем де Ретцем.[72]
Конечно, я должен был избавиться от тебя. Конечно, я должен был бы вытряхнуть тебя из своей жизни, как вытряхивают из одежды ужалившее насекомое. В одной из лучших своих драм Эсхил рассказывает о вельможе, который вырастил в своем доме львенка,[73] λέοντος ίνιν,[74] и любит его за то, что тот, радостно блестя глазами, прибегает к нему и ласкается, выпрашивая подачку, — φαιδρωπòς ποτί χείρα, σαίνων τε γαστρòς άνάγκαις.[75] Но зверь вырастает, в нем просыпается инстинкт его породы, ηυος τó πρóυε τοκήων,[76] уничтожает и вельможу, и его семью,[77] и все, что им принадлежало.
Чувствую, что и я уподобился этому человеку. Но моя ошибка была не в том, что я с тобой не расстался, а в том, что я расставался с тобой слишком часто. Насколько я помню, я регулярно каждые три месяца прекращал нашу дружбу, и каждый раз, когда я это делал, ты ухитрялся мольбами, телеграммами, письмами, заступничеством твоих и моих друзей добиться, чтобы я позволил тебе вернуться. После того как в конце марта девяносто третьего года ты уехал из моего дома в Торки, я решил никогда больше с тобой не разговаривать и ни в коем случае не допускать тебя к себе, настолько безобразной была сцена, которую ты мне устроил вечером накануне отъезда. Ты писал и телеграфировал мне из Бристоля, умоляя простить тебя и повидаться с тобой. Твой воспитатель,[78] который остался у меня, сказал, что временами ты бываешь совершенно невменяем и что многие педагоги в колледже св. Магдалины того же мнения. Я согласился встретиться с тобой и, конечно, простил тебя. Когда мы возвращались в Лондон, ты попросил, чтобы я повел тебя в «Савой». Эта встреча оказалась для меня роковой.
Три месяца спустя, в июне, мы были в Горинге. Несколько твоих друзей по Оксфордскому университету гостили у нас с субботы до понедельника. В то утро, когда они уехали, ты устроил мне сцену настолько дикую, настолько гнетущую, что я сказал, что нам надо расстаться. Я отлично помню, как мы стояли на ровной крокетной площадке, вокруг зеленел чудесный газон, и я старался объяснить тебе, что мы портим жизнь друг другу, что ты мою жизнь губишь совершенно, а я тоже не даю тебе настоящей радости, и что единственное мудрое, логическое решение — расстаться окончательно и бесповоротно. Позавтракав, ты уехал с мрачным видом, оставив для меня у привратника одно из самых оскорбительных писем. Но не прошло и трех дней, как ты телеграфировал из Лондона, умоляя простить тебя и позволить тебе вернуться. Дом был снят ради тебя. По твоей просьбе я пригласил твоих собственных слуг. Меня всегда страшно огорчало, что из-за своего ужасного характера ты становишься жертвой таких диких вспышек. Я был очень привязан к тебе. И я разрешил тебе вернуться и простил тебя. А еще через три месяца, в сентябре, начались новые скандалы. Поводом был мой отзыв о твоем переводе «Саломеи», когда я тебе указал на твои ученические ошибки. К тому времени ты уже настолько знал французский, что и сам мог бы понять, насколько этот перевод недостоин не только тебя как оксфордского студента, но недостоин и оригинала, который ты пытался передать. Тогда ты, конечно, этого не признал, и в одном из самых резких писем по этому поводу ты говорил, что «никаким интеллектуальным влиянием» ты мне не обязан. Помню, что, читая эти строки, я почувствовал, что за все время нашей дружбы это была единственная правда, которую ты мне написал. Я понял, что человек духовно менее развитый соответствовал бы твоей натуре гораздо больше. Говорю об этом без горечи, — просто в этом сущность всякого содружества. Ведь, в конечном счете, любое содружество, будь то брак или дружба, основано на возможности беседовать друг с другом, а такая возможность зиждется на общих интересах, тогда как у людей совершенно различного культурного уровня общие интересы обычно бывают самого низменного свойства. Тривиальность в мыслях и поступках — очаровательное качество. Я построил на нем блистательную философию моих пьес и парадоксов. Но вся накипь, вся нелепость нашей жизни часто становились мне в тягость; мы с тобой встречались только в грязи, на самом дне, и какой бы обольстительной, слишком обольстительной ни была единственная тема, к которой сводились все твои разговоры, мне она в конце концов стала приедаться. Порой мне становилось смертельно скучно, но я терпел и это, как терпел твое пристрастие к мюзик-холлам, твою манию бессмысленных излишеств в еде и питье, как и все неприятные мне черты твоего характера: с этим приходилось мириться — это была часть той дорогой цены, которую надо было платить за дружбу с тобой. Когда я, после Горинга, поехал на две недели в Динар, ты страшно рассердился на меня за то, что я не взял тебя с собой, непрестанно устраивал мне перед отъездом неприятнейшие сцены в отеле «Альбемарл», а потом послал несколько столь же неприятных телеграмм в имение, где я гостил несколько дней. Помнится, я тебе сказал, что твой долг — побыть некоторое время со своими родными, так как ты все лето провел вдали от дома. Но на самом деле, буду с тобой совершенно откровенен, я ни в коем случае не мог допустить тебя к себе. Мы пробыли вместе почти три месяца. Мне необходимо было передохнуть, освободиться от страшного напряжения в твоем присутствии. Мне непременно нужно было остаться наедине с собой. Отдых был мне интеллектуально необходим. Сознаюсь — тогда я решил, что то твое письмо, о котором я говорю выше, послужит отличным предлогом прекратить роковую дружбу, возникшую между нами, — и прекратить ее без всякой горечи, что я уже и пытался сделать в то солнечное утро, в Горинге, три месяца назад. И надо сознаться, что один из моих друзей, к которому ты обратился в трудную минуту, объяснил мне, какой обидой, более того — каким унижением для тебя было получить свой перевод обратно, словно школьную работу; мне было сказано, что я предъявляю слишком высокие требования к твоему интеллекту, и что бы ты ни писал и ни делал, все равно ты безраздельно и безоговорочно предан мне. Я не хотел мешать тебе в твоих литературных опытах, не хотел обескураживать тебя. Я отлично знал, что ни один переводчик, если сам он — не поэт, никогда не сможет в должной мере передать ритм и колорит моего произведения; но мне всегда казалось, да и до сих пор кажется, что нельзя так легко швыряться столь прекрасным чувством, как преданность, поэтому я вернул и перевод и тебя. Ровно через три месяца, после целого ряда скандалов, окончившихся совершенно безобразной сценой, когда ты явился в мой рабочий кабинет с двумя или тремя приятелями, я тут же, на следующее утро, буквально бежал от тебя за границу, под каким-то нелепым предлогом, которым я пытался успокоить свою семью, и оставил своим слугам фальшивый адрес, боясь, что ты бросишься вслед за мной. Помню, как в тот день, когда поезд уносил меня в Париж, я думал, в какой немыслимый, ужасный и абсолютно бессмысленный тупик зашла моя жизнь, когда мне, всемирно известному человеку, приходится тайком бежать из Англии, чтобы избавиться от дружбы, совершенно губительной для меня как в моральном, так и в интеллектуальном отношении; причем тот, от которого я бежал, был не какое-то исчадие помойных ям или зловонных трущоб, возникшее среди нас и ворвавшееся в мою жизнь, это был ты, юноша моего круга, который учился в том же оксфордском колледже, что и я, постоянный гость в моем доме. Ко мне, как всегда, полетели телеграммы, полные раскаяния; я не обращал на них внимания. Наконец, ты стал угрожать мне, что, если я не соглашусь с тобой повидаться, ты ни при каких обстоятельствах не согласишься уехать в Египет. Ты знал, что с твоего ведома и согласия я просил твою матушку отослать тебя из Англии в Египет, подальше от пагубной для тебя жизни в Лондоне. Я знал, что если ты не уедешь, это будет для нее ужасающим разочарованием, ради нее я согласился встретиться с тобой и под влиянием сильного чувства, о котором даже ты, наверно, не смог позабыть, простил тебе все прошлое, хотя не сказал ни слова о будущем. Помню, как, возвратившись в Лондон на следующий день, я сидел у себя в кабинете, грустно и сосредоточенно пытаясь решить для себя — действительно ли ты такой, как казалось, вправду ли ты так чудовищно испорчен, так беспощадно губителен и для окружающих и для самого себя, так пагубно влияешь даже на случайных знакомых, не говоря о друзьях. Целую неделю я думал об этом и сомневался — не слишком ли я несправедлив к тебе, не ошибаюсь ли я в своей оценке? Но в конце недели мне вручают письмо от твоей матери. Все чувства, испытанные мной, были выражены в этом письме. В нем она говорила о твоем слепом и преувеличенном тщеславии, из-за которого ты презирал свою семью и называл своего старшего брата, эту candidissima anima,[79] филистером, рассказывала о твоей вспыльчивости, из-за которой она боялась говорить с тобой о жизни, о той жизни, которую, как она чувствовала и знала, ты ведешь, о твоем отношении к денежным делам, огорчавшим ее по многим причинам, о том, как ты деградировал, как изменился. Она, разумеется, понимала, что ты отягощен ужасной наследственностью и откровенно признавалась в этом, признавалась в отчаянии. «Из всех моих детей, — писала она о тебе, — он один унаследовал роковой темперамент Дугласов». В конце она писала, что считает своим долгом заявить, что наша дружба с тобой, по ее мнению, настолько раздула твое тщеславие, что стала источником всех твоих дурных поступков, и настойчиво просила меня не встречаться с тобой за границей. Я тотчас же ответил ей, что согласен с каждым ее словом. Я еще многое добавил. Я был с ней откровенен — насколько это было возможным. Я рассказал ей, что наша дружба началась, когда ты еще учился в Оксфорде и пришел ко мне с просьбой помочь тебе выпутаться из очень серьезных неприятностей весьма личного характера. Я писал ей, что в твоей жизни такие неприятности возникали непрестанно. Тогдашнего своего приятеля ты считал виноватым в том, что тебе пришлось ехать в Бельгию. А твоя мать винила меня в том, что я тебя с ним познакомил. И я переложил вину на истинного виновника — на тебя. В конце письма я заверил ее, что не имею ни малейшего намерения встречаться с тобой за границей, и просил ее задержать тебя там как можно дольше, либо при посольстве, либо, если это не удастся, для изучения местных языков — словом, просил ее найти любой способ удержать тебя за границей, по крайней мере, на два или три года, так же ради тебя, как и ради меня. А между тем с каждой почтой я получал от тебя письма из Египта.
Я и не думал отвечать ни на одно твое послание. Я их прочитывал и рвал. Решение было принято, и я с радостью отдался Искусству, от которого я позволял тебе отрывать меня. Через три месяца твоя мать, чье несчастное слабоволие, столь для нее характерное, сыграло в трагедии моей жизни роль не менее роковую, чем самодурство твоего отца, вдруг сама пишет мне, — и я нисколько не сомневаюсь, по твоему настоянию, — что ты очень хочешь получить от меня письмо, и для того, чтобы у меня не было предлога отказаться от переписки с тобой, посылает мне твой адрес в Афинах, который был мне отлично известен. Сознаюсь, что это письмо удивило меня до чрезвычайности. Я не мог понять, как после того, что она мне писала в декабре, и после моего ответа на это ее письмо она решилась таким способом возобновить или восстановить мою злополучную дружбу с тобой. Конечно, я ответил ей на письмо и снова стал уговаривать ее достать тебе место в каком-нибудь посольстве за границей, чтобы помешать тебе вернуться в Англию, но тебе я писать не стал и по-прежнему, как и до письма твоей матери, не обращал никакого внимания на твои телеграммы. В конце концов ты взял и телеграфировал моей жене, умоляя ее употребить все свое влияние и заставить меня написать тебе. Наша дружба всегда огорчала ее, не только потому, что ты никогда ей не нравился, но потому, что она видела, как наши постоянные встречи вызывали во мне перемену — и не к лучшему; и все же она всегда была необычайно мила и гостеприимна по отношению к тебе, и теперь ей невыносимо было думать, что я в чем-то, как ей казалось, жесток к кому-нибудь из своих друзей. Она считала, — нет, твердо знала, — что такое отношение не в моем характере. И по ее просьбе я ответил тебе. Я помню содержание моей телеграммы дословно. Я сказал, что время излечивает все раны, но что еще много месяцев я не стану ни писать тебе, ни видеться с тобой. Ты немедленно выехал в Париж, посылая мне с дороги безумные телеграммы и умоляя меня во что бы то ни стало встретиться там с тобой. Я отказался. Ты приехал в Париж в субботу вечером; и в гостинице тебя ждало мое письмо о том, что я не хочу тебя видеть. На следующее утро я получил на Тайт-стрит телеграмму на десяти или одиннадцати страницах. В ней говорилось, что какое бы зло ты мне не причинил, ты все равно не веришь, что я откажусь встретиться с тобой, ты напоминал мне, что ради такой встречи хоть на час ты ехал шесть дней и ночей через всю Европу, нигде на задерживаясь, умолял меня жалобно и, должен сознаться, очень трогательно и кончал весьма недвусмысленной угрозой покончить с собой. Ты сам часто рассказывал мне, сколько человек в твоем роду обагрили руки собственной кровью: твой дядя — несомненно и, возможно, твой дед, да и много других из безумного, порочного семейства, породившего тебя. Жалость, моя старая привязанность к тебе, забота о твоей матери, для которой твоя смерть при таких жутких обстоятельствах была бы смертельным ударом, ужас при мысли, что такая юная жизнь вдруг так страшно оборвется, — жизнь, у которой, при всех ее уродливых недостатках, еще есть надежда стать прекрасной; даже простая человечность, — все это пусть послужит, если это необходимо, оправданием того, что я согласился объясниться с тобой в последний раз. Но когда я приехал в Париж, ты весь вечер так плакал, слезы так часто текли у тебя по щекам, текли дождем, и во время обеда у Вуазена, и за ужином у Пайяра твоя радость от встречи со мной была так непритворна, ты все время брал мою руку, как ласковый, виноватый ребенок, и так искренне, так непосредственно каялся, что я согласился возобновить нашу дружбу. Через два дня после нашего возвращения в Лондон твой отец увидел нас за завтраком в «Кафе-Рояль», подсел к моему столику, пил вино вместе со мной, а к вечеру, в письме, обращенном к тебе, начал впервые нападать на меня. Удивительным образом обстоятельства едва ли не силой вновь навязали мне не хочу сказать — возможность, скорее — долг — окончательно расстаться с тобой. Вряд ли надо напоминать тебе, что я имею в виду твое поведение в Брайтоне, от десятого до тринадцатого октября 1894 года. Наверное, для тебя то, что было три года назад, — давнее прошлое. Но для нас, обитателей тюрьмы, чья жизнь лишена всякого содержания, кроме скорби, время измеряется приступами боли и отсчетом горестных минут. Больше нам думать не о чем. Может быть, странно это слышать, но страдание для нас — способ существования, потому что это единственный способ — осознать, что мы еще живы, и воспоминание о наших былых страданиях нам необходимо, как порука, как свидетельство того, что мы остались самими собой. Между мной и воспоминанием о счастье лежит такая же глубокая пропасть, как между мной и подлинным счастьем. Если бы наша жизнь с тобой была такой, какой ее воображали все, — сплошным удовольствием, легкомыслием и весельем, я не мог бы сейчас припомнить ни одного момента. Лишь оттого, что в нашей жизни было столько минут и дней трагических, горьких, предрекавших беду, столько тягостных и гадких в своем однообразии сцен и непристойных вспышек, лишь потому я так подробно вижу и слышу каждую сцену, лишь потому не вижу и не слышу почти ничего иного. Здесь человек живет в таких мучениях, что я вынужден вспоминать о нашей с тобой дружбе только как о прелюдии, звучащей в том же ключе, что и те постоянные вариации мучительной тоски, которые я слышу в себе ежедневно; нет, более того, она — первопричина всего, как будто вся моя жизнь, какой бы она ни казалась и мне самому и другим, на самом деле всегда была подлинною Симфонией Страдания, движущейся в ритмической постепенности к разрешению с той неизбежностью, которая в искусстве присуща трактовке всех великих тем.
Но, кажется, я говорил о том, как ты вел себя по отношению ко мне в те три дня, три года тому назад? Тогда, в Уэртинге, в одиночестве, я пытался окончить пьесу. Два раза ты ко мне приезжал — и наконец уехал. Вдруг ты явился в третий раз и привез с собой товарища, причем настаивал, чтобы он остановился у меня в доме. Я наотрез отказался и, ты должен признать, вполне обоснованно. Конечно, я вас принимал, — тут выхода не было, но не у себя, не в своем доме. На следующий день, в понедельник, твой товарищ вернулся к своим профессиональным обязанностям, а ты остался у меня. Но тебе надоел Уэртинг и еще больше надоели, я уверен, мои бесплодные попытки сосредоточить все мое внимание на пьесе — единственном, что меня тогда интересовало, — и ты настаивал, чтобы я повез тебя в Брайтон, в «Гранд-отель». Вечером, как только мы приехали, ты заболел той ужасной ползучей лихорадкой, которую глупо называют инфлуэнцей, — у тебя это был не то второй, не то третий приступ. Не буду тебе напоминать, как я за тобой ухаживал, как баловал тебя не только фруктами, цветами, подарками, книгами, — словом, всем, что можно купить за деньги, но и окружал заботой, нежностью, любовью — тем, что ни за какие деньги не купишь, хотя ты, быть может, думаешь иначе. Кроме часовой прогулки утром и выезда на час после обеда, я не выходил из отеля. Я специально выписал для тебя из Лондона виноград, потому что тебе не нравился тот, что подавали в отеле, выдумывал для тебя удовольствия, сидел у твоей постели или в соседней комнате, проводил с тобой все вечера, успокаивая и развлекая тебя. Через четыре-пять дней ты выздоровел, и я снял квартиру, чтобы попытаться кончить пьесу. Разумеется, ты поселяешься со мной. Но не успели мы устроиться, как я почувствовал себя совсем скверно. Тебе надо ехать в Лондон по делу, но ты обещаешь к вечеру вернуться. В Лондоне ты встречаешь приятеля и возвращаешься в Брайтон только поздно вечером на следующий день, когда я лежу в жару, и доктор говорит, что я заразился инфлуэнцей от тебя. Ничего не могло быть хуже для больного человека, чем та моя квартира. Гостиная была внизу, на первом этаже, моя спальня — на третьем. Слуг в доме не было, некого было даже послать за лекарством, прописанным врачом. Но ты со мной. Я ни о чем не тревожусь. А ты два дня подряд даже не заходил ко мне, ты меня бросил одного, — без внимания, без помощи, без всего. Речь шла не о фруктах, не о цветах, не о прелестных подарках — но о самом необходимом. Я не мог получить даже молоко, которое доктор велел мне пить: про лимонад ты заявил, что его нигде нет, когда же я попросил тебя купить мне книжку, а если в лавке не окажется того, что я хотел, принести что-нибудь еще, ты даже не потрудился зайти в лавку. Когда я из-за этого на весь день остался без чтения, ты спокойно сказал, что книгу ты купил и что книготорговец обещал ее прислать: все, как я потом совершенно случайно узнал, оказалось ложью с первого до последнего слова. Все это время ты, конечно, жил на мой счет, разъезжая по городу, обедая в «Гранд-отеле», и заходил ко мне в комнату, собственно говоря, только за деньгами. В субботу вечером, когда ты оставил меня без помощи одного на целый день, я попросил тебя вернуться после обеда и немного посидеть со мной. Раздраженным тоном, очень нелюбезно, ты обещал вернуться. Я прождал до одиннадцати вечера, но ты не явился. Тогда я оставил записку у тебя в спальне, напоминая тебе о том, что ты обещал и как сдержал свое обещание. В три часа ночи, измученный бессонницей и жаждой, я спустился в полной темноте в холодную гостиную, надеясь найти там графин с водой — и застал там тебя. Ты накинулся на меня с отвратительной бранью, — только самый распущенный, самый невоспитанный человек мог так дать себе волю. Пустив в ход всю чудовищную алхимию себялюбия, ты превратил угрызения совести в бешеную злость. Ты обвинял меня в эгоизме за мою просьбу побыть со мной во время болезни, упрекал за то, что я мешаю твоим развлечениям, пытаюсь лишить тебя всех удовольствий. Ты заявил, — и я понял, насколько это верно, — что ты вернулся в полночь, только чтобы переодеться и пойти туда, где, как ты надеялся, тебя ждут новые удовольствия, но из-за моей записки, с упреками за то, что ты бросил меня на целый день и на весь вечер, у тебя пропала всякая охота веселиться, и что из-за меня ты лишился всякой способности вновь наслаждаться жизнью. С чувством отвращения я поднялся к себе и до рассвета не мог заснуть и еще дольше не мог утолить жажду, мучившую меня от лихорадки. В одиннадцать утра ты пришел ко мне в комнату. Во время недавней сцены я не мог не подумать, что своим письмом я, по крайней мере, удержал тебя от поступков, переходящих всякие границы и утром ты пришел в себя. Разумеется, я ждал, когда и как ты начнешь оправдываться и каким образом станешь просить прощения, уверенный в глубине души, что оно тебя ждет неизбежно, что бы ты ни натворил; эта твоя безоговорочная вера в то, что я тебя всегда прощу, была именно той чертой, которую я больше всего ценил, может быть, самой ценной твоей чертой вообще. Но ты и не подумал извиниться, наоборот, ты снова устроил мне еще более грубую сцену, в еще более резких выражениях. В конце концов я велел тебе уйти. Ты сделал вид, что уходишь, но, когда я поднял голову с подушки, куда я упал ничком, ты все еще стоял тут и вдруг, дико захохотав, в истерическом бешенстве бросился ко мне. Неизвестно почему, ужас охватил меня, я вскочил с постели и босиком, в чем был, бросился вниз по лестнице в гостиную и не выходил оттуда, пока хозяин дома, которого я вызвал звонком, не уверил меня, что ты ушел из моей спальни; он обещал оставаться неподалеку, на всякий случай. Прошел час, у меня за это время побывал доктор и, конечно, нашел меня в состоянии глубокого нервного шока и в гораздо худшем виде, чем в начале заболевания; после чего ты вернулся, молча взял все деньги, какие нашлись на столике и на камине, и ушел из дому, забрав свои вещи. Говорить ли, что я передумал о тебе за эти два дня, больной, в полном одиночестве? Нужно ли подчеркивать, что мне стало совершенно ясно: поддерживать даже простое знакомство с таким человеком, каким ты себя показал, будет для меня бесчестьем? Говорить ли, что я увидел — и увидел с величайшим облегчением, — что настал решающий момент? Что я понял, насколько мое Искусство и моя жизнь впредь будут свободнее, лучше и прекраснее во всех отношениях? И, несмотря на болезнь, я почувствовал облегчение. Поняв, что теперь наш разрыв непоправим, я успокоился. Ко вторнику мне стало лучше, и я впервые спустился вниз пообедать. В среду был мой день рождения. Среди телеграмм и писем я нашел у себя на столе письмо и узнал твой почерк. Я распечатал его с грустью. Я знал, что прошло то время, когда милая фраза, ласковое слово, выражение раскаяния могли заставить меня позвать тебя обратно. Но я глубоко обманулся. Я тебя недооценил. Письмо, которое ты прислал мне к дню рождения, было настойчивым повторением всего, что ты говорил раньше, все упреки были хитро и тщательно выписаны черным по белому. В пошлых и грубых выражениях ты снова издевался надо мной. Вся эта история доставила тебе единственное удовольствие — перед отъездом в город ты записал на мой счет последний завтрак в «Гранд-отеле». Ты похвалил меня за то, что я успел соскочить с кровати и стремительно броситься вниз. «Для вас это могло плохо кончиться, — писал ты, — хуже, чем вы себе воображаете». Да, я понял это тогда же, слишком хорошо понял! Я не знал, что мне грозило: то ли у тебя был тот револьвер, который ты купил, чтобы попробовать напугать своего отца, и, не зная, что он заряжен, выстрелил как-то при мне в зале ресторана, то ли твоя рука потянулась к обыкновенному столовому ножу, который случайно лежал между нами, на столике, то ли, позабыв в припадке ярости о том, что ты ниже ростом и слабее меня, ты собирался как-нибудь особенно оскорбить, может быть, даже ударить меня, больного человека. Ничего я не знал, не знаю и до сих пор. Знаю я только одно: меня охватил беспредельный ужас и я почувствовал, что, если я сейчас же не спасусь бегством, ты сделаешь или попытаешься сделать что-нибудь такое, от чего даже тебя до конца твоих дней мучил бы стыд. Только раз в жизни я испытал такой же ужас перед человеком. Это было, когда в мою библиотеку на Тайт-стрит в припадке бешенства ворвался твой отец со своим вышибалой или приятелем и, размахивая коротенькими ручками, брызжа слюной, выкрикивал все грязные слова, какие рождались в его грязной душе, все гнусные угрозы, которые он потом так хитро привел в исполнение. Но, разумеется, тогда выйти из комнаты пришлось не мне, а ему. Я его выставил. От тебя я ушел сам. Не впервые мне пришлось спасать тебя от тебя самого.
Ты закончил письмо такими словами: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно уеду». Какая же грубость душевной ткани сказывается в этих словах! Какое полное отсутствие воображения! Каким черствым, каким вульгарным стал твой характер! «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно уеду». Сколько раз в омерзительных одиночках разных тюрем, куда меня сажали, я вспоминал эти слова! Я повторял их про себя и думал, хотя, быть может, и несправедливо, что в них кроется причина твоего странного молчания. То, что ты мне написал, когда я и болел только потому, что заразился, ухаживая за тобой, было, конечно, гадко, грубо и жестоко с твоей стороны, но для любого человека писать так другому было бы грехом непростительным, если только существуют грехи, которым нет прощения. Должен сознаться, что, прочитав твое письмо, я почти физически почувствовал себя замаранным, словно, общаясь с человеком такого пошиба, я навеки непоправимо осквернил и покрыл позором всю свою жизнь. Конечно, мысль была верная, но до какой степени верная, об этом я узнал только через полгода. А тогда я решил вернуться в пятницу в Лондон, повидаться лично с сэром Джорджем Льюисом и просить его написать твоему отцу и сообщить ему, что я решил ни в коем случае не пускать тебя в свой дом, не позволять тебе садиться со мной за стол, говорить со мной, гулять со мной, — словом, никогда и нигде не бывать в твоем обществе. После этого я написал бы тебе, только для того чтобы уведомить тебя о принятом мной решении, причину которого ты неизбежно должен был бы понять. В четверг вечером у меня все уже было готово, когда в пятницу утром, завтракая перед отъездом, я случайно развернул газету и увидел телеграмму, где говорилось, что твой старший брат, истинный глава семьи, наследник титула, опора всего дома, был найден в канаве, мертвый, а рядом с ним лежал его разряженный револьвер. Ужасающие обстоятельства, при которых разыгралась эта драма, — несчастный случай, как выяснилось впоследствии, но тогда связывавшийся с самыми мрачными предположениями, горечь при мысли о внезапной смерти юноши, столь любимого всеми, кто его знал, почти накануне его женитьбы, представление о том, каким горем стала или должна была стать для тебя эта потеря, мысль о том, что значит для твоей матери смерть сына, который был ей утешением, радостью в жизни и, как она сама мне однажды сказала, никогда, с самого дня рождения, не заставил ее пролить ни одной слезы; то, что я понимал, как ты сейчас одинок, потому что оба твои брата уехали в Европу, и твоей матери, твоей сестре больше не к кому, кроме тебя, обратиться не только за поддержкой в их горе, но и за помощью в тех горестных и страшных обязанностях, которые Смерть налагает на нас, заставляя заботиться о мрачных мелочах; живое ощущение lacrimae rerum,[80] — все эти чувства и мысли, обуревавшие меня в тот час, вызвали во мне бесконечную жалость к тебе и твоей семье. Забылась вся горечь, вся моя обида на тебя. Я не мог обойтись с тобой в твоем несчастье так, как ты обошелся со мной во время моей болезни. Я тотчас же послал тебе телеграмму с выражением глубочайшего соболезнования, а в письме, посланном вслед за этим, пригласил тебя к себе, как только ты сможешь приехать. Я чувствовал, что, если оттолкнуть тебя в такую минуту, да еще официально, через моего поверенного в делах, это будет слишком тяжело для тебя.
Вернувшись в город оттуда, где произошла эта трагедия, ты сразу пришел ко мне, такой милый и простой, в трауре, с покрасневшими от слез глазами. Ты искал помощи и утешения, как ищет их дитя. Я снова принял тебя в свой дом, в свою семью, в свое сердце. Я разделил твое горе, чтобы тебе стало легче снести его, ни разу, не единым словом, я не напомнил тебе о твоем поведении, о возмутительных сценах, возмутительном письме. Мне казалось, что горе твое, настоящее горе, больше, чем когда-либо, сблизило нас с тобой. Цветы, которые ты взял от меня, чтобы положить на могилу брата, должны были стать символом не только его прекрасной жизни, но и красоты, что скрыта в любой жизни, в той глубине, откуда ее можно вызвать на свет.
Странно ведут себя боги. Не только наши пороки избирают они орудием, чтобы карать нас. Они доводят нас до погибели с помощью всего, что в нас есть доброго, светлого, человечного, любящего. Если бы не моя жалость, не моя привязанность к тебе и твоим близким, я не плакал бы сейчас в этом ужасном месте. Конечно, в наших отношениях я вижу не только перст Судьбы, но и поступь Рока, чей шаг всегда стремителен, ибо он спешит на пролитие крови.
По отцу — ты потомок того семейства, браки с которым опасны, дружба губительна, того семейства, которое в ярости налагает руки на себя или на других. В самых незначительных случаях, в которых мы сталкивались с тобой, при всех обстоятельствах, будь они с виду важными или пустячными, когда ты приходил ко мне за помощью или ради удовольствия, в ничтожных случаях, в мелких происшествиях, которые по сравнению с жизнью кажутся лишь пылинками, пляшущими в солнечном луче, или листком, летящим с дерева, везде, за всем таилась Гибель, как отзвук отчаянного вопля, как тень, что крадется за хищным зверем. Наша дружба, в сущности, началась с того, что ты в трогательном и милом письме попросил меня помочь тебе выпутаться из неприятной истории, скверной для любого человека и вдвойне ужасной для молодого оксфордского студента. Я все сделал, и это кончилось тем, что ты назвал меня своим другом в разговоре с сэром Джорджем Льюисом, из-за чего я стал терять его уважение и дружбу — дружбу пятнадцатилетней давности. Лишившись его советов, помощи и доброго отношения, я лишился единственной надежной поддержки в своей жизни.
Затем ты посылаешь мне на суд очень милые стихи — типичный образчик юношеской студенческой поэзии. Я отвечаю очень доброжелательно, с фантастическими литературными гиперболами. Я сравниваю тебя то с Гиласом, то с Ганимедом и Нарциссом, — словом, с теми, кого великий бог поэзии озарил дружбой, почтил своей любовью. Письмо походит на сонет Шекспира, только в несколько более минорном ключе. Понять его мог только тот, кто прочел «Пир» Платона или уловил дух той строгой торжественности, что греки воплотили для нас в прекрасном мраморе. Скажу тебе откровенно, что такое письмо, написанное в приятном, хотя и прихотливом стиле, я мог бы адресовать любому милому юноше из любого университета, пославшему мне стихи собственного сочинения, в полной уверенности, что он достаточно умен и начитан, чтобы правильно истолковать все эти причудливые образы. Вспомни же судьбу моего письма! Из твоих рук оно переходит в руки твоего отвратительного приятеля: от него — к шайке шантажистов; копии рассылаются по всему Лондону моим друзьям, попадают и к директору театра, где ставится моя пьеса; письмо толкуется как угодно, только не так, как надо. Общество возбуждено: пошел слух, что мне пришлось заплатить огромную сумму за то, что я написал тебе непристойное письмо, и это впоследствии послужило основанием для безобразнейшего выпада, сделанного против меня твоим отцом. Я предъявляю на суде оригинал письма, чтобы доказать его истинный смысл, но адвокат твоего отца объявляет письмо гнусной и преступной попыткой развратить Невинность, и в конце концов оно становится частью уголовного обвинения, которое выдвигает против меня прокурор, судья излагает письмо в выражениях, свидетельствующих о низком культурном, но высоком моральном уровне обвинителей, и в конечном итоге меня за это сажают в тюрьму. Вот что вышло из-за того, что я написал тебе столь очаровательное послание.
Когда мы с тобой были в Солсбери, ты все время волновался, потому что один из твоих старых приятелей послал тебе угрожающее письмо; ты упросил меня повидать его, помочь тебе; мне это сулило гибель: мне пришлось взять на себя всю твою вину и быть за все в ответе. Когда ты провалился на выпускном экзамене в Оксфорде и тебе пришлось уйти из университета, ты телеграфировал мне в Лондон и просил приехать к тебе. Я немедленно еду, и ты просишь взять тебя с собой в Горинг, так как при таких обстоятельствах тебе не хочется ехать домой: в Горинге тебе очень приглянулся один дом; я снимаю его для тебя — мне и это сулило гибель во всех смыслах. Однажды, придя ко мне, ты стал упрашивать меня написать что-нибудь для оксфордского студенческого журнала — его собирался издавать кто-то из твоих друзей, которого я никогда в глаза не видал и ничего о нем не знал. Ради тебя — а чего я только не делал ради тебя? — я отослал ему страничку парадоксов,[81] первоначально предназначенных для «Сатердей ревю». Через несколько месяцев я уже стою перед судом в Олд Бэйли из-за направления этого журнала. На этом отчасти и построены уголовные обвинения против меня. Мне приходится защищать прозу твоего приятеля и твои собственные стихи. Проза эта мне отвратительна, а твои стихи я стал горячо защищать, готовый на любые жертвы из беспредельной преданности тебе и твоим юношеским литературным опытам и ради всей твоей молодой жизни. Я даже слышать не хотел о том, что ты пишешь непристойности. И все же я попал в тюрьму и за студенческий журнал твоего приятеля, и за «Любовь, что не смеет по имени себя назвать».[82] К Рождеству я послал тебе «прелестный подарок», как ты сам назвал его в благодарственном письме; я знал, что тебе очень хотелось получить эту вещь, стоившую не больше сорока или пятидесяти фунтов. Но когда жизнь моя пошла прахом и я разорился, судебный исполнитель, описавший мою библиотеку и пустивший ее с молотка, сказал, что сделал это для оплаты «прелестного подарка». Именно из-за этого судебный исполнитель и явился в мой дом. В тот последний ужасный час, когда ты надо мной издеваешься и своими издевками хочешь заставить меня подать в суд на твоего отца и посадить его под арест, я хватаюсь за последнюю соломинку, чтобы спастись от этого, и говорю, что это непосильные для меня расходы. В твоем присутствии я заявляю поверенному, что у меня нет средств, что я никак не могу себе позволить такие траты, что денег мне взять неоткуда. Ты прекрасно знаешь, что все это правда. И что вместо того, чтобы в ту роковую пятницу, в конторе Гэмфри, наперекор себе, безвольно дать гибельное для меня согласие, я мог бы, счастливый и свободный, быть во Франции, вдали и от тебя, и от твоего отца, ничего не знать о его гнусной записке, не обращать внимания на твои письма, — будь я только в состоянии уехать из отеля «Эвондейл». Но меня наотрез отказались выпустить оттуда. Ты пробыл там со мной десять дней, да еще, к моему великому и, признайся, справедливому возмущению, поселил там же — за мой счет — своего приятеля, и этот счет за десять дней возрос почти до ста сорока фунтов. Хозяин отеля сказал, что не разрешит мне забрать вещи, пока я не оплачу этот счет полностью. Из-за этого я и задержался в Лондоне. Если бы не счет в отеле, я уехал бы в Париж в четверг утром.
Когда я сказал твоему поверенному, что не в силах оплатить гигантские расходы, ты вмешался немедленно. Ты сказал, что твоя семья будет счастлива взять все расходы на себя, что твой отец — злой гений всей семьи, что у вас давно обсуждалась возможность поместить его в психиатрическую больницу, чтобы убрать его из дому, что он каждодневно причиняет твоей матери огорчения, приводит ее в отчаяние, что, если я помогу посадить его в тюрьму, вся семья будет считать меня защитником и благодетелем и что богатая родня твоей матери с восторгом возьмет на себя все связанные с этим расходы. Поверенный немедленно все оформил, и меня тотчас же проводили в полицию. Отказаться я уже не мог. Меня заставили начать дело. Конечно, твоя семья никаких расходов на себя не берет, и меня объявляют банкротом,[83] по требованию твоего отца, именно из-за судебных издержек, примерно в сумме семисот фунтов. Сейчас моя жена, разошедшись со мной по вопросу — должно ли мне иметь на жизнь три фунта и десять шиллингов в неделю, готовится начать дело о разводе, для чего, конечно, понадобятся новые данные и совершенно новое разбирательство, а может быть, и более серьезная судебная процедура. Сам я, разумеется, никаких подробностей не знаю. Мне известно только имя главного свидетеля, на чьи показания опираются адвокаты моей жены. Это твой собственный слуга из Оксфорда, которого я, по твоей особой просьбе, взял к себе на службу летом, когда мы жили в Горинге.
Но, право, не стоит приводить примеры того, как ты роковым образом постоянно навлекал на меня несчастье и в мелочах, и в серьезных случаях. Иногда у меня возникает ощущение, что ты был только марионеткой в чьей-то тайной и невидимой руке, заставлявшей тебя доводить зловещие события до зловещей развязки. Но и марионетками владеют страсти. Они вводят в пьесу новый сюжет и по своей прихоти поворачивают естественное развитие хода пьесы по своей воле, себе на потребу. Быть совершенно свободным и в то же время полностью зависеть от закона — вот вечный парадокс в жизни человека, ощутимый каждую минуту; и я часто думаю, что в этом и лежит единственное объяснение твоего характера, если вообще существует хоть какое-то объяснение глубинных и жутких тайн человеческой души, кроме единственного объяснения, от которого эти тайны становятся еще более непостижимыми.
Конечно, были у тебя и свои иллюзии, и сквозь их зыбкий туман и цветную дымку ты видел все искаженным. Прекрасно помню, что твоя исключительная преданность мне, при полном пренебрежении к твоей семье, к домашней жизни, была, по твоему мнению, доказательством того, что ты так изумительно ко мне относишься, так меня ценишь. Несомненно, тебе так и казалось. Но вспомни, что со мной была связана роскошная жизнь, множество удовольствий, развлечений, безудержная трата денег. Дома тебе было скучно. «Холодное и дешевое винцо Солсбери», как ты сам говорил, было тебе не по вкусу. А у меня, вместе с интеллектуальными интересами, ты вкушал от яств египетских. Когда же ты не мог быть со мной, общество твоих приятелей, которыми ты пытался заменить меня, делало тебе мало чести.
Ты также считал, что, посылая своему отцу через поверенного письмо, где говорилось, что ты скорее откажешься от тех двухсот пятидесяти фунтов в год, которые, кажется, за вычетом твоих оксфордских долгов, он тебе выдавал, чем порвешь твою нерасторжимую дружбу со мной, ты проявил самые рыцарские чувства, поднялся до благороднейшего самопожертвования. Но отказ от этой незначительной суммы вовсе не означал, что ты готов отказаться от малейшей прихоти и не сорить деньгами на совершенно излишнюю роскошь. Напротив. Никогда ты так не жаждал жить в роскоши и богатстве. За восемь дней в Париже я истратил на себя, на тебя и на твоего слугу-итальянца почти сто пятьдесят фунтов. Одному Пайяру было заплачено восемьдесят пять фунтов. При твоем образе жизни, даже если бы не обедал в одиночку и жестоко экономил на своих мелких развлечениях, твоего годового дохода тебе едва хватило бы на три недели. То, что ты с таким явным вызовом отказался от отцовской помощи, какой бы скромной она ни была, наконец послужило тебе, как ты считал, достаточным оправданием, чтобы жить на мой счет, и ты этим много раз пользовался всерьез и в полной мере давал себе волю; и то, что ты непрестанно тянул деньги, главным образом, конечно, с меня, но отчасти, как я узнал, и со своей матери, было особенно тягостно для меня, потому что ты никогда ни в чем не знал удержу, не находил ни единого слова благодарности.
Ты также считал, что, забрасывая своего отца угрожающими письмами, оскорбительными телеграммами и обидными открытками, ты становишься на сторону своей матери, выступаешь в роли ее защитника и мстишь за все те горести и страшные обиды, которые она перенесла от отца. Это было большое заблуждение, может быть, одно из самых худших заблуждений в твоей жизни. Если ты хотел отплатить твоему отцу за зло, которое он причинил твоей матери, и считал это своим сыновним долгом, ты должен был бы стать для своей матери гораздо лучшим сыном, чем ты был, тогда она не боялась бы говорить с тобой о важных делах, ты должен был не заставлять ее оплачивать твои долги, не мучить ее. Твой брат Фрэнсис всегда утешал ее в горе, он был с ней так ласков и добр в течение всей своей недолгой, рано отцветшей жизни. Тебе надо было взять с него пример. Неужели ты мог вообразить, что, если бы тебе удалось посадить отца в тюрьму, твоя мать была бы рада и счастлива? Ты и тут ошибался, в этом я уверен. А если хочешь знать, что испытывает женщина, когда ее муж, отец ее детей, сидит в тюремной камере в тюремной одежде, напиши моей жене, спроси у нее. Она тебе все расскажет.
И у меня были свои иллюзии. Я думал, что жизнь будет блистательной комедией и что ты будешь одним из многих очаровательных актеров в этой пьесе. Но я увидел, что она стала скверной и скандальной трагедией и что ты сам был причиной зловещей катастрофы, зловещей по своей целенаправленности и злой воле, сосредоточенной на одной цели. С тебя была сорвана личина воплощенной радости и наслаждения, та маска, что так обманывала и сбивала с пути и тебя и меня. Теперь ты, если только сможешь, поймешь хоть немного, как я страдаю. В какой-то газете, кажется в «Пэлл-Мэлл», в рецензии на генеральную репетицию одной из моих пьес, про тебя было сказано, что ты следовал за мной, как тень; теперь воспоминание о нашей дружбе тенью преследует меня здесь, оно никогда меня не покидает, оно будит меня ночью, без конца повторяя одну и ту же повесть, и гонит сон до самого рассвета; а на рассвете этот голос снова звучит, он преследует меня и в тюремном дворе, где я на ходу что-то бормочу сам себе; каждую мелочь страшных ссор я вынужден вспоминать, нет ни одной подробности из того, что случалось за эти годы, которая не воскресала бы в тех закоулках мозга, где гнездятся скорбь и страдание; каждый резкий звук твоего голоса, каждый жест, вздрагивание твоих нервных рук, каждое злое слово, каждая ядовитая фраза вновь приходят на память; я вспоминаю все улицы и все набережные, где мы проходили, все стены комнат, все леса, окружавшие нас, помню, в каком месте циферблата стояли стрелки часов, куда несся на крыльях ветер, каков был цвет лунного лика.
Знаю, что есть лишь один ответ на все, что я тебе говорю: ты меня любил все эти два с половиной года, когда Судьба сплетала в один алый узор нити наших раздельных жизней, ты и вправду любил меня. Да, знаю, что это так. Как бы ты ни вел себя со мной, я всегда чувствовал, что в глубине души ты действительно меня любишь. И хотя я очень ясно видел, что мое положение в мире искусства, интерес, который я всегда вызывал у людей, мое богатство, та роскошь, в которой я жил, тысяча и одна вещь, которые делали мою жизнь такой очаровательной и такой обаятельно неправдоподобной, все это, в целом и в отдельности, чаровало тебя, привязывало ко мне; но, кроме всего этого, что-то еще более сильное влекло тебя ко мне, и ты любил меня гораздо больше, чем кого бы то ни было. Тебя и меня постигла в жизни страшная трагедия, хотя твоя трагедия была непохожа на мою. Хочешь знать, в чем она заключалась? Вот в чем: Ненависть в тебе всегда была сильнее Любви. Твоя ненависть к отцу была столь велика, что совершенно пересиливала, превышала, затмевала твою любовь ко мне. Эти чувства не боролись или почти не боролись меж собой, до таких размеров доходила твоя Ненависть, так чудовищно она разрасталась. Ты не понимал, что двум таким страстям нет места в одной душе. Им не ужиться в этих светлых покоях. Любовь питается воображением, от которого мы, сами того не сознавая, становимся мудрее, лучше, сами того не чувствуя, становимся благороднее, чем мы есть; в воображении мы можем охватить жизнь во всей полноте; оно и только оно помогает нам понять других как в их реальных, так и в их идеальных отношениях. Только прекрасное и понимание прекрасного питает Любовь. Ненависть может питаться чем попало. Не было ни одного бокала шампанского, ни одного вкусного блюда, которое ты съел за эти годы, которое не питало бы твою ненависть, не утучняло бы ее. И в угоду ей ты играл моей жизнью, как играл на мои деньги, беспечно, безоглядно, не думая о последствиях. Когда ты проигрывал, ты считал, что проигрыш не твой, когда выигрывал, ты знал, что тебе достанется все ликование, вся радость победы.
Ненависть ослепляет человека. Ты этого не понимал. Любовь может прочесть письмена и на самой далекой звезде, но ты был так ослеплен Ненавистью, что не видел ничего за стенами твоего тесного, обнесенного стеной вертограда — уже иссушенного излишествами твоих низменных страстей. Ужасающее отсутствие воображения — этот поистине роковой порок твоего характера — было исключительно плодом Ненависти, заполонившей тебя. Неслышно, незаметно и невидимо Ненависть подтачивала твою душу, как ядовитый лишайник — корни больного слабого растения, и ты уже ничего не видел, ничем не интересовался, кроме самых мелочных дел, самых жалких прихотей. Все то, что Любовь взрастила бы в тебе. Ненависть отравляла и умерщвляла. Когда твой отец впервые стал нападать на меня,[84] то нападал он на меня как на твоего личного друга, в письме лично к тебе. Как только я прочел это письмо, полное непристойных угроз и грубой брани, я сразу понял, что на горизонте моей неспокойной жизни собрались тучи страшной напасти. Я сказал тебе, что не желаю быть игрушкой для вас обоих в вашей застарелой ненависти друг к другу, что я в Лондоне для него — лучшая добыча, чем некий иностранный посол в Гамбурге, что я буду несправедлив к самому себе, если позволю поставить себя хоть на один миг в подобное положение, и что в жизни у меня есть более достойные занятия, чем ссориться с таким человеком, как он, — вечно пьяным, деклассированным и полубезумным. Но тебе невозможно было это объяснить. Ненависть ослепляла тебя. Ты твердил, что ваши ссоры никакого отношения ко мне не имеют, что ты не позволишь отцу указывать тебе, с кем водить знакомство, что с моей стороны будет просто нечестно вмешиваться в ваши дела. До того, как ты говорил со мной, ты уже послал отцу в ответ глупейшую и пошлейшую телеграмму. И, конечно, ты и вести себя стал глупо и пошло. Человек совершает в жизни роковые ошибки не потому, что ведет себя безрассудно: минуты, когда человек безрассуден, могут быть лучшими в его жизни. Ошибки возникают именно от излишней рассудочности. Это совсем иное дело. Твоя телеграмма задала тон всем твоим дальнейшим отношениям с отцом и, как следствие, повлияла на всю мою жизнь. И самое нелепое — то, что даже самый отпетый уличный мальчишка постыдился бы послать такую телеграмму. За наглой телеграммой совершенно естественно последовали письма твоего адвоката, и эти письма только подхлестнули твоего отца. Выбор ты ему не оставил. Из-за тебя это стало для него делом чести, или, вернее, угрозой бесчестия: ты решил, что тогда твои притязания будут иметь больше веса. Вот почему в следующий раз он напал на меня уже не как на твоего личного друга, в личном письме, а как на члена общества, на глазах у этого общества. Мне пришлось его выгнать из моего дома. Тогда он стал разыскивать меня по всем ресторанам, чтобы публично, перед всем светом поносить меня в таких словах, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь совсем, погубил бы себя вдвойне. Тогда-то и настал момент, когда ты должен был бы выступить и сказать, что не позволишь делать меня мишенью таких гнусных нападок, такого подлого преследования, и ты должен был бы сразу отказаться от каких бы то ни было притязаний на мою дружбу. Надеюсь, теперь ты это понял. Но тогда ты ни о чем не думал. Ненависть ослепляла тебя. Выдумал ты только одно, не считая оскорбительных писем и телеграмм твоему отцу: ты купил этот смехотворный пистолет, и в отеле «Беркли» вдруг раздался выстрел, вызвавший такие сплетни, хуже которых ты никогда в жизни не слыхивал. Впрочем, ты был явно в восторге, что из-за тебя разгорелась такая чудовищная вражда между твоим отцом и человеком моего общественного положения. Полагаю, что это вполне естественно льстило твоему самолюбию и возвышало тебя в собственных глазах. Если бы твой отец получил право распоряжаться твоей физической оболочкой, которая не интересовала меня, и оставил бы мне твою душу, до которой ему не было никакого дела, ты был бы глубоко огорчен таким исходом. Ты почуял повод к публичному скандалу и ухватился за него. Ты был в восторге, предвкушая бой и оставаясь при этом в безопасности. Никогда я не видел тебя в лучшем настроении, чем в то время. Единственным разочарованием было для тебя как будто то, что никаких встреч между нами, никаких ссор не происходило. В утешение себе ты посылал отцу такие немыслимые телеграммы, что несчастному пришлось отдать распоряжение прислуге — ни под каким видом не вручать ему твои послания, о чем он тебе и написал. Но ты не унялся. Ты сообразил, что можно посылать ему открытки, и вовсю использовал такую возможность. Этим ты еще больше натравливал его на меня. Впрочем, не думаю, чтобы он мог так легко отказаться от своих намерений. Фамильные черты характера были в нем слишком сильны. Его ненависть к тебе была столь же неистребима, как твоя ненависть к нему, а я был для вас обоих козлом отпущения, предлогом для нападения и для защиты. Жажда быть у всех на виду была в твоем отце чертой не индивидуальной, а родовой. И все же, если бы его одержимость стала угасать, ты раздул бы ее заново своими открытками и письмами. Так и случилось. И, конечно, он зашел еще дальше. Сначала он нападал на меня как на частное лицо, частным образом, потом как на члена общества — в общественных местах, и в конце концов решился на самый жестокий и последний выпад — напасть на меня, как на представителя Искусства, именно там, где мое Искусство воплощалось в жизнь. Он достает обманным путем билет на премьеру моей пьесы,[85] замышляет устроить скандал, прервать спектакль, произнести гнусную речь по моему адресу, оскорбить моих актеров, осыпать меня всякими гнусностями и непристойностями, когда я выйду на вызовы после финала, — словом, совершенно погубить меня и мое Искусство самыми грязными и мерзостными выходками. По счастью, в припадке случайной, пьяной откровенности, он хвастает перед кем-то своими планами. Об этом сообщают в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут тебе пора было вмешаться. Тут тебе представился подходящий случай. Неужели ты до сих пор не понял, что тебе надо было воспользоваться этим, выйти и сказать, что ты ни за что никому не позволишь из-за тебя губить мое Искусство? Ведь ты знал, что значит для меня мое Искусство, знал, что оно — тот великий глубинный голос, который сначала открыл меня мне самому, а потом и всем другим, что оно — истинная моя страсть, та любовь, перед которой все другие увлечения, словно болотная тина — перед красным вином или ничтожный светляк на болоте — перед волшебным зеркалом Луны. Неужто ты и теперь не понял, что отсутствие воображения — поистине самый роковой порок твоего характера? Перед тобой стояла самая простая, самая ясная задача, но Ненависть тебя ослепляла, и ты не видел, что надо делать. Я не мог просить прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым гнусным образом. Избавиться от тебя я тоже не мог. Не раз я пытался вычеркнуть тебя из своей жизни. Я дошел до того, что просто бежал из Англии за границу, надеясь укрыться от тебя. Все было напрасно. Только ты один мог бы что-то сделать.
Ты держал все нити в своих руках. У тебя была полная возможность хотя бы отчасти отблагодарить меня за всю мою любовь, привязанность, щедрость, за всю заботу о тебе. Если бы для тебя имела цену хотя бы десятая доля моего художественного таланта, ты поступил бы именно так. То «свойство, которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», — это свойство в тебе омертвело. Тобой владела одна мысль — как засадить твоего отца в тюрьму. Увидеть его «на скамье подсудимых», как ты говорил, — только об этом ты и думал. Это выражение стало одним из навязчивых лейтмотивов всех твоих разговоров. Ты повторял его за каждой трапезой. Что ж — твое желание исполнилось. Ненависть даровала тебе все, что ты желал. Она была доброй Госпожой. Такой она бывает со всеми, кто ей служит. Два дня ты просидел на почетном месте, рядом со стражей, наслаждаясь видом своего отца на скамье подсудимых в Главном уголовном суде. А на третий день я оказался на его месте. Что же случилось? Вы оба бросали кости, ставя на мою душу, и вышло так, что ты проиграл. Вот и все.
Ты видишь, что мне приходится рассказывать тебе о твоей жизни, и ты должен понять — почему. Мы знаем друг друга уже больше четырех лет. Из них половину мы провели вместе, другую же половину я провел в тюрьме, и это — прямое последствие нашей дружбы. Я не знаю, где ты получишь это письмо, если ты вообще его получишь. В Риме, Неаполе, Париже, Венеции, — в каком-то из чудесных городов, у моря или у реки, ты нашел для себя прибежище, это я знаю наверняка. Может быть, ты окружен не той бесполезной роскошью, в которой ты жил со мной, но все же вокруг тебя все ласкает глаз, и слух, и вкус. Жизнь для тебя по-прежнему прекрасна. И все же, если ты хочешь, чтобы она стала еще прекраснее, но уже по-другому, пусть это ужасное письмо — а я знаю, что оно ужасно, — станет для тебя серьезным кризисом, переломом в твоей жизни, когда ты будешь его читать, как стало оно для меня, когда я его писал. Твое бледное лицо легко загоралось румянцем от вина или от удовольствия. Если же при чтении этих строк его опалит стыдом, как жаром раскаленной печи, тем лучше для тебя. Нет порока страшнее, чем душевная пустота. Только то истинно, что понято до конца.
Кажется, я уже дошел до того дня, когда попал в дом предварительного заключения. После ночи в полицейском участке меня отвезли туда в тюремной карете. Ты был весьма внимателен и добр ко мне. Чуть ли не каждый день, да, пожалуй, и каждый, ты старался приезжать в Холлоуэй, на свидание со мной, пока не уехал за границу. Ты также писал очень милые и ласковые письма. Но тебе ни разу не пришло на ум, что не твой отец, а ты сам посадил меня в тюрьму, что с самого начала до конца ты был за это в ответе, что я попал сюда из-за тебя, за тебя, по твоей вине. Твоя омертвелая, лишенная воображения душа не проснулась, когда ты увидел меня за решеткой, в деревянной клетке. Ты только соболезновал мне, как сентиментальный зритель сочувствует герою жалостливой пьески. А то, что именно ты — автор этой ужасающей трагедии, тебе и в голову не приходило. Я видел, что ты совершенно не понимаешь, что натворил. А я не хотел первым подсказывать то, что должно было подсказать твое сердце, то, что оно непременно подсказало бы, если бы ты не дал Ненависти ожесточить его до полной бесчувственности. Каждый человек должен все осознавать собственным внутренним чувством. Бессмысленно подсказывать человеку то, чего он не чувствует и понять не может. И если я сейчас пишу тебе об этом, то лишь потому, что твое молчание и все твое поведение во время всего моего пребывания в тюрьме заставили меня пойти на это. Кроме того, все обернулось так, что удар обрушился лишь на меня одного. Но именно это стало для меня источником радости. По многим причинам я был готов к страданью, хотя в моих глазах твоя полнейшая, нарочитая слепота, когда я замечал ее в тебе, казалась чем-то недостойным. Помню, как ты с великой гордостью показал мне письмо, которое ты написал обо мне в какую-то дешевую газетку. Это было чрезвычайно осторожное, умеренное и, по правде говоря, банальное произведение. Ты взывал к «английскому понятию честной игры» — или еще к чему-то, столь же скучному, в отношениях людей и твердил, что «лежачего не бьют». Такое письмо ты мог бы написать, если бы в чем-то несправедливо обвинили какого-то почтенного джентльмена, с которым ты лично был бы вовсе и незнаком. Но тебе это письмо казалось шедевром. Ты воспринимал его чуть ли не как проявление рыцарского благородства, достойного самого Дон-Кихота. Мне также известно, что ты писал и другие письма, в другие газеты, но что там их не печатали. В письмах ты попросту заявлял, что ненавидишь своего отца. Но до этого никому не было дела. Пора бы тебе знать, что Ненависть, с точки зрения разума, есть вечное отрицание. А с точки зрения чувства — это один из видов атрофии, умерщвляющей все, кроме себя самой. Писать в газеты, что ты кого-то ненавидишь, все равно что заявлять тем же газетам, что ты болен тайной и постыдной болезнью: тот факт, что ты ненавидишь своего родного отца и он отвечает тебе полной взаимностью, никак не делает твою ненависть чувством благородным и достойным. И если что-либо тут и выяснялось, то лишь одно: твоя болезнь была наследственной.
Вспоминаю еще, как мой дом был описан, моя обстановка и книги конфискованы и пущены с молотка и как я, вполне естественно, сообщил тебе об этом в письме. Я не упомянул о том, что судебный исполнитель явился в мой дом, где ты так часто обедал, требуя уплаты за те подарки, что ты получил от меня. Я решил, правильно или неправильно, что тебя это должно хоть немного огорчить, и сообщил тебе одни только факты. Я считал, что тебе необходимо знать об этом. Ты мне ответил из Булони в каком-то восторженно-лирическом возбуждении. Ты писал, что твой отец «сидит без денег», что ему пришлось раздобыть полторы тысячи фунтов на судебные издержки и что мое банкротство — «блестящая победа» над ним, потому что теперь он уж никак не может заставить меня платить за него судебные издержки! Понимаешь ли ты теперь, как Ненависть ослепляет человека? Видишь ли теперь, что, описывая ее как атрофию, омертвение всего, кроме нее самой, я просто научно описывал твое подлинное психическое состояние? Тебе было абсолютно безразлично, что с молотка пойдут все мои прекрасные вещи: мои бёрн-джонсовские рисунки, мой Уистлер, мой Монтичелли, мой Саймон Соломон,[86] моя коллекция фарфора, вся моя библиотека, с дарственными экземплярами почти всех моих современников-поэтов, от Гюго до Уитмена, от Суинберна до Малларме, от Морриса до Верлена;[87] все труды моего отца и моей матери, в великолепных переплетах; все изумительное собрание моих школьных и университетских наград, все роскошные издания и еще много, много всего. Ты только сказал: «Какая досада!» — и все. Ты только предвкушал, как из-за этого твой отец потеряет несколько сот фунтов, и приходил в дикий восторг от этих мелочных расчетов. Что же касается судебных издержек, то тебе небезынтересно будет узнать, что твой отец публично заявил в Орлеанском клубе: если бы ему пришлось потратить двадцать тысяч фунтов, он считал бы и этот расход вполне оправданным, столько радости, столько удовольствия и торжества он получил бы взамен. Тот факт, что он не только засадил меня в тюрьму на два года, но и вытащил меня оттуда на целый день, чтобы меня объявили банкротом перед всем светом, доставил ему еще больше наслаждения, чего он и не ждал. Это было венцом моего унижения и торжеством его полной и бесспорной победы. Если бы у твоего отца не было притязаний на то, чтобы я оплатил его издержки, ты, по моему глубокому убеждению, хотя бы на словах сочувствовал бы мне в потере всей моей библиотеки, потере, для писателя невозместимой, самой тяжкой из всех моих материальных потерь. Может быть, вспомнив, как щедро я тратил на тебя огромные деньги, как ты годами жил на мой счет, ты потрудился бы выкупить для меня некоторые книги. Лучшие из них пошли меньше чем за полтораста фунтов: примерно столько же я обычно тратил на тебя за одну неделю. Но мелочное злорадство, которое ты испытывал при мысли, что твой отец потеряет какие-то гроши, заставила тебя совсем забыть, что ты мог бы хоть немного отблагодарить меня, это было бы так легко, так недорого, так наглядно и так бесконечно утешительно для меня, если бы ты это сделал. Разве я не прав, повторяя, что Ненависть ослепляет человека? Понимаешь ли ты это теперь? Если нет, постарайся понять.
Не стану тебе говорить, как ясно я все понимал и тогда и теперь. Но я сказал себе: «Любой ценой я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я пойду в тюрьму без Любви, что станется с моей Душой?» В письма, написанные в те дни из тюрьмы Холлоуэй, я вложил все усилия, чтобы Любовь звучала как лейтмотив всей моей сущности. Будь на то моя воля, я бы мог вконец истерзать тебя горькими упреками. Я мог бы изничтожить тебя проклятиями. Я мог бы поставить перед тобой зеркало и показать тебе такой твой облик, что ты сам бы себя не узнал, но вдруг, увидев, что отражение повторяет все твои гримасы отвращенья, понял бы, кого ты видишь в зеркале, и возненавидел бы себя навек. Скажу больше. Чужие грехи были отнесены на мой счет. Если бы я захотел, я мог бы, во время обоих процессов, спасти себя если не от позора, то, во всяком случае, от тюрьмы, ценой разоблачения истинного виновника. Если бы я постарался доказать, что три самых важных свидетеля обвинения были тщательно подготовлены твоим отцом и его адвокатами, что они не только о многом умалчивали, но и нарочно утверждали противное, нарочно приписывали мне чужие проступки, и что их заставили прорепетировать и затвердить весь задуманный план, я бы мог заставить судью удалить их из зала суда, даже решительнее, чем был удален несчастный запутавшийся Аткинс.[88] Я мог бы выйти из зала заседаний свободным человеком, посмеиваясь про себя, небрежно засунув руки в карманы. Меня изо всех сил уговаривали поступить именно так. Мне серьезно так советовали, меня просили и умоляли люди, чьей единственной заботой было мое благополучие и благополучие моей семьи. Но я отказался. Я не пожелал идти на это. И я ни минуты не жалел о своем решении, даже в самые тяжкие времена в заточении. Такое поведение было бы ниже моего достоинства. Грехи плоти — ничто. Это болезнь, и дело врачей лечить их, если понадобится лечение. Только грехи души постыдны. Добиться оправдания такими средствами означало бы обречь себя на пожизненную пытку. Неужели ты думаешь, что за все время нашей с тобой дружбы ты был достоин той любви, какую я тогда проявлял к тебе, или что я хоть на миг верил, что ты ее стоишь? Я знал, что ты ее недостоин. Но Любовь не выводят на торжище, не бросают на весы торгаша. Отрада Любви, подобно отраде ума, — чувствовать, что она жива. Цель любви — любить, и только. Ты был моим врагом, такого врага не знал ни один человек. Я отдал тебе жизнь, а ты, в угоду самым низменным людским страстям — Ненависти, Тщеславия и Корысти, выбросил ее. Менее чем за три года ты окончательно погубил меня во всех отношениях. Ради себя самого мне оставалось только одно — любить тебя. Знаю, что если бы я позволил себе возненавидеть тебя, то в иссушенной пустыне моего существования, по которой я брел и все еще бреду, каждая скала лишилась бы тени, каждая пальма засохла, каждый ключ был бы отравлен в истоке. Начинаешь ли ты понимать хоть самую малость? Просыпается ли твое воображение, так долго погруженное в мертвый сон? Ты уже узнал, что такое Ненависть. Приходит ли к тебе прозрение, узнаешь ли ты, что такое Любовь, поймешь ли саму природу Любви? Тебе еще не поздно затвердить это, хотя для того, чтобы дать тебе этот урок, мне пришлось попасть в тюремную камеру.
После страшного приговора, когда на мне уже была тюремная одежда и за мной захлопнулись тюремные ворота, я сидел среди развалин моей прекрасной жизни, раздавленный тоской, скованный страхом, ошеломленный болью. Но я не хотел ненавидеть тебя. Ежедневно я твердил себе: «Надо и сегодня сберечь любовь в моем сердце, иначе как проживу я этот день?» Я напоминал себе, что, по крайней мере, ты не желал мне зла. Я заставлял себя думать, что ты только наугад натянул лук, а стрела поразила Короля сквозь щель в броне.[89] Я чувствовал, что несправедливо взвешивать твою вину на одних весах, даже с самыми мелкими моими горестями, самыми незначительными потерями. Я решил, что буду и на тебя смотреть как на страдальца. Я заставил себя поверить, что наконец-то пелена спала с твоих давно ослепших глаз. Я часто с болью представлял себе — в каком ужасе ты смотришь на страшное дело рук своих. Бывало, что даже в эти мрачные дни, самые мрачные дни моей жизни, мне от всей души хотелось утешить тебя. Вот до чего я был уверен, что ты наконец понял свою вину.
Мне тогда не приходило в голову, что в тебе жил самый страшный на свете порок — поверхностность. А я глубоко огорчался, когда мне пришлось передать тебе, что правом на переписку я должен воспользоваться в первую очередь для улаживания семейных дел. Но брат жены написал мне, что, если я хоть раз напишу своей жене, она не станет, ради меня и ради наших детей, возбуждать дело о разводе. Я считал своим долгом написать ей. Не говоря о других доводах, я не мог вынести мысли, что меня разлучат с Сирилом,[90] моим прекрасным, горячо любимым и любящим сыном, лучшим из всех друзей, лучшим из всех товарищей, потому что один волосок с его золотой головки должен был бы стать мне дороже не только всего тебя, с головы до ног, но и всех сокровищ земного шара, и хотя так оно всегда и было, я осознал это слишком поздно.
Через две недели после твоего обращения к начальству я получаю сведения о тебе. Роберт Шерард,[91] самый смелый и самый благородный из всех блистательных людей, пришел ко мне на свидание и, между прочим, сказал мне, что в «Меркюр де Франс», этой газетке, глупо бахвалящейся своей беспардонной продажностью, ты собираешься опубликовать статью обо мне с выдержками из моих писем. Роберт спросил — вправду ли я сам этого пожелал? Я был очень удивлен и расстроен и распорядился немедленно прекратить все это. Мои письма валялись у тебя повсюду — их разворовывали твои дружки-шантажисты, расхищали слуги в отелях, распродавали горничные. Ты по легкомыслию просто не ценил того, что я тебе писал. Но мне казалось невероятным, что ты собираешься опубликовать какие-то отрывки из нашей переписки. Какие же письма ты отобрал? Никаких сведений я добиться не мог. Это было первое, что я услыхал о тебе. Мне все это очень не понравилось.
Вскоре я получил и второе известие о тебе. Поверенные твоего отца явились в тюрьму и вручили мне лично извещение о неуплате каких-то семисот фунтов — такова была сумма их затрат. Меня объявили несостоятельным должником, приказали привести меня в суд. Я был решительно убежден, да и сейчас уверен и еще вернусь к этому вопросу, что издержки должна была оплатить твоя семья. Ты лично взял на себя обязательство — объявить суду, что твоя семья все оплатит. Именно поэтому адвокат и взялся за это дело. Ты отвечал за это полностью. Даже независимо от того, что ты взял на себя обязательства перед своей семьей, ты мог бы почувствовать, что, погубив меня во всех отношениях, ты должен был хотя бы избавить меня от позора из-за совершенно ничтожной суммы, составлявшей меньше чем половину тех денег, которые я истратил на тебя за три коротких месяца в Горинге. Впрочем, сейчас я об этом больше не скажу ни слова. Однако я и вправду получил известие от тебя через клерка твоего адвоката по этому делу или, во всяком случае, в связи с ним. В тот день, когда он пришел получить мои показания и свидетельства, он наклонился ко мне через стол, — тут же присутствовал начальник тюрьмы, — и, взглянув на какую-то запись, сказал приглушенным голосом: «Принц Флер-де-Лис[92] просил передать вам привет». Я посмотрел на него в недоумении. Он снова повторил эту фразу. Я не понимал, что это значит. «Этот джентльмен сейчас за границей», — таинственно добавил он. Для меня вдруг все прояснилось, и я помню, что впервые за все мое пребывание в тюрьме я рассмеялся. Все презрение мира прозвучало в этом смехе. Принц Флер-де-Лис! Я понял — и все последующие события подтвердили, что понял правильно, — что, несмотря на все случившееся, ты остался в полнейшем неведении. Ты по-прежнему видел себя в роли прелестного принца из пошлой комедии, а не в роли мрачного героя трагедии. Все, что случилось, было для тебя золотым пером на шляпе, что скрывает узколобость ничтожества, розовым цветком на камзоле, что прячет сердце, которое согревается Ненавистью и только Ненавистью, а для Любви, лишь для одной Любви остается холодным. Принц Флер-де-Лис! Да, ты был прав, обращаясь ко мне под вымышленным именем. Сам я в то время был вообще лишен всякого имени. В огромной тюрьме, где я тогда был заперт, я был обозначен лишь буквой и цифрой на двери тесной камеры в длиннейшем коридоре, одним из тысячи мертвых номеров, как и одной из тысячи мертвых жизней. Но разве не нашлось средь множества невыдуманных имен в истории более подходящего имени, по которому я тотчас узнал бы тебя? Ведь я не искал тебя под блестками картонного забрала, пригодного лишь для забавного маскарада. О, если бы твою душу, как и следовало бы, ради твоего же блага, изранила жалость, согнуло раскаяние, сокрушило страдание, ты выбрал бы не такое обличье, чтобы войти под его прикрытием в Обитель Скорби. Все великое в жизни таково, каким оно нам видится, и потому, как ни странно тебе это может показаться, его трудно истолковать. Но все мелочи жизни — только символы. И все горькие уроки жизни скорее всего мы получаем через них. Твой случайный выбор вымышленного имени был и останется символическим. Он выдал тебя с головой.
Полтора месяца спустя пришло и третье известие. Меня вызвали из тюремного лазарета, где я лежал тяжело больной, чтобы срочно передать через начальника тюрьмы сообщение от тебя. Он прочел мне твое письмо, адресованное лично ему, где ты заявляешь, что собираешься опубликовать статью «о деле м-ра Оскара Уайльда» на страницах «Меркюр де Франс» («газеты», как ты добавил по совершенно понятной причине, «которая соответствует нашей английской «Фортнайтли ревю») и хотел бы получить мое разрешение опубликовать выдержки и отрывки — из каких же писем? Из писем, что я тебе писал из тюрьмы Холлоуэй, из тех писем, которые должны быть для тебя священней и сокровенней всего на свете! И именно эти письма ты задумал предать гласности — на забаву пресыщенному декаденту, всеядному фельетонисту, на посмешище мелким львятам Латинского квартала! И если в твоем собственном сердце ничто не возопило против столь вопиющего святотатства, ты мог бы, по крайней мере, вспомнить сонет, написанный тем, кто с болью и гневом видел, как письма Джона Китса продавались в Лондоне с публичного торга, и тебе наконец стало бы понятно, о чем я говорю в этих строчках:
Кристалл живого сердца раздроблён
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка холодный и жестокий.[93]
Что же ты хотел сказать в своей статье? Что я был слишком привязан к тебе? Любой парижский gamin[94] прекрасно об этом знает. Все они читают газеты, а многие и пишут для них. Что я был человеком гениальным? Французы понимали это, они понимали особые свойства моего гения гораздо лучше, чем ты, тебе до них далеко. Что гениальности часто сопутствуют странные извращения страстей и желаний? Похвально; но на эту тему пристало рассуждать Ломброзо,[95] а не тебе. Кроме того, это патологическое явление встречается и среди тех, кто не одарен гением. Что в ненавистнической войне между тобой и твоим отцом я был одновременно и оружием и щитом для каждого из вас? Нет, более того, — что в омерзительной травле, в охоте за моей жизнью, которая началась после завершения этой войны, он никогда не в силах был бы добраться до меня, мои ноги уже не запутались в твоих тенетах. Вполне справедливо: но я слышал, что Анри Бауэр[96] уже описал это с превеликим совершенством. Кроме того, если ты хотел поддержать его точку зрения, тебе не было надобности печатать мои письма, по крайней мере, те, что были написаны в тюрьме Холлоуэй.
Может быть, в ответ ты скажешь, что в одном из своих холлоуэйских писем я сам просил тебя попытаться, насколько сумеешь, хоть немного обелить меня в глазах хотя бы некоторых кругов? Разумеется, я просил об этом. Вспомни, почему я в эту самую минуту здесь и как я сюда попал. Не думаешь ли ты, что я попал сюда за связи с теми, кто выступал свидетелями на моем процессе?[97] Мои вымышленные или реальные связи с подобными людьми не интересуют ни Правительство, ни Общество. Они ничего не ведали об этом, а интересовались и того меньше. Я попал сюда за то, что пытался посадить в тюрьму твоего отца. Конечно, моя попытка провалилась. Мои собственные адвокаты отказались от защиты. Твой отец поменялся со мной ролями и засадил меня в тюрьму, и я сижу в тюрьме до сих пор. Вот за что меня обливают презрением. Вот почему люди мной гнушаются. Вот почему мне придется отбыть ужасное заключение до последнего дня, до последнего часа, до последней минуты. Вот почему на все мои прошения отвечают отказом. Ты был единственным человеком, который мог бы, не подвергая себя насмешкам, опасностям или осуждению, придать всему делу иную окраску, представить все обстоятельства в ином свете, до некоторой степени приоткрыть истинное положение вещей. Конечно, я не ожидал бы, даже не хотел бы, чтобы ты рассказывал, с какой целью ты просил моей помощи, когда с тобой случилась та неприятность в Оксфорде, и как или с какой целью — если у тебя была хоть какая-то цель — ты буквально не отходил от меня в течение двух с лишним лет. Не было необходимости говорить о моих постоянных усилиях избавиться от этой дружбы, столь губительной для меня — художника, известного человека, да и просто члена общества, — говорить с теми подробностями, как я говорю здесь. Я бы не просил тебя ни рассказывать о сценах, которые ты мне устраивал так регулярно, что это стало отдавать однообразием, ни оглашать ту удивительную серию твоих телеграмм ко мне, в которых причудливо переплеталась романтичность с расчетливостью, ни цитировать на выбор самые отвратительные и бессердечные места из твоих писем, как мне пришлось сделать поневоле. И все же я думаю, что для тебя и для меня было бы лучше, если бы ты хоть отчасти опроверг выдуманную твоим отцом версию нашей дружбы, — шутовства в этой версии не меньше, чем яда, и если меня она бесчестит, то тебя выставляет в самом нелепом свете. Эта версия отныне уже всерьез стала достоянием истории: на нее ссылаются, ей верят, ее заносят в анналы; проповедник избрал ее темой для проповеди, а моралист — для своего нудного назидания, и я, беседовавший со всеми веками, был вынужден выслушать свой приговор от нашего века, схожего с обезьяной и шутом. В этом письме я уже говорил, и, признаюсь, не без горечи, что ирония положения привела к тому, что твой отец станет живым прототипом героя хрестоматий для воскресной школы, тебя поставят в один ряд с отроком Самуилом, а мне отведут место между Жилем де Ретцем и маркизом де Садом. Что ж, все это к лучшему. Я не собираюсь жаловаться. Один из многих уроков, которые нам дает тюрьма, — порядок вещей таков, как есть, и все будет, как будет. И у меня нет ни малейшего сомнения, что средневековый злодей и автор «Жюстины» составят мне компанию получше, чем Сэндфорд и Мертон.[98]
Но в то время, когда я писал к тебе, я чувствовал, что для нас обоих было бы лучше, честнее, справедливее не соглашаться с теми объяснениями, которые твой отец выдвинул через своего адвоката в назидание мещанскому обществу, вот почему я и попросил тебя обдумать и написать что-нибудь более близкое к истине. По крайней мере, для тебя это было бы лучше, чем пописывать во французские газеты заметки о семейной жизни своих родителей. Какое дело французам до того, была эта семейная жизнь счастливой или нет? Невозможно придумать более безразличную для них тему. Их интересовало другое — как вышло, что знаменитый писатель, оказавший такое заметное влияние на мысль Франции через ту школу, то течение, воплощением которых он был, прожив такую жизнь, навлек на себя подобные преследования? Если бы ты предложил опубликовать в своей статье те письма — боюсь, что им несть числа! — в которых я писал тебе о том, что ты разбиваешь мою жизнь, о тех безумных приступах ярости, которым ты поддаешься себе и мне на беду, о своем желании покончить с этой дружбой, во всех отношениях губительной для меня, — я бы еще понял это, хотя и не допустил бы публикации подобных писем; когда твой отец, стараясь уличить меня в непоследовательности, внезапно предъявил суду мое письмо к тебе, написанное в марте 1893 года, в котором я говорил, что предпочел бы, чтобы меня «шантажировал каждый житель Лондона», чем выносить те гнусные сцены, которые ты устраивал мне непрерывно и с таким жутким удовольствием, для меня это было настоящее горе — видеть, что эту сторону нашей дружбы походя обнажили перед пошлыми зеваками, но то, что ты настолько лишен восприимчивости и малейшей чуткости, настолько недоступен пониманию всего редкостного, утонченного и прекрасного, что можешь предложить для публикации те письма, в которых — и посредством которых — я старался сохранить в живых самый дух и душу Любви, не дать им покинуть мое тело за долгие годы предстоящих этому телу унижений, — вот что было и остается для меня источником самой острой боли, самого глубокого разочарования. Боюсь, что я слишком хорошо понимаю, почему ты так поступил. Если Ненависть ослепляла твои глаза, то Тщеславие скрепило твои веки стальной нитью. Твой узколобый эгоизм притупил свойство, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», и оно пришло в полную негодность от длительного бездействия. Воображение томилось в тюрьме, как и я. Тщеславие забрало окна решеткой, а на страже у дверей встала Ненависть.
Все это происходило в начале ноября позапрошлого года. Между тобой и этой отдаленной датой течет великая река жизни. Ты вряд ли можешь что-либо разглядеть за этой неохватной ширью. А мне кажется, что это происходило даже не вчера, а сегодня. Страданье — это одно нескончаемое мгновенье. Его нельзя разделить на времена года. Мы можем только подмечать их оттенки и вести счет их возвращеньям. Здесь само время не движется вперед. Оно идет по кругу. Оно обращается вокруг единого центра боли. Парализующая неподвижность жизни, в которой каждая мелочь имеет свое место в неизменном распорядке, — мы едим, пьем, выходим на прогулку, ложимся и молимся — или, по крайней мере, становимся на колени для молитвы — согласно непреложным законам железных предписаний: это свойство неподвижности, сообщающее каждому ужасному дню полнейшее сходство с его собратьями, словно передается и тем внешним силам, которым по самой их природе свойственны бесконечные перемены. О времени сева или жатвы, о жнецах, склоняющихся над колосьями, о виноградарях среди спелых гроздьев, о зеленой траве в саду, убеленной опавшим яблоневым цветом или усыпанной спелыми плодами, мы ничего не знаем и ничего не можем узнать. У нас царит единственное время года — время Скорби. У нас словно бы отняли даже солнце, даже луну. Снаружи день может сиять золотом и лазурью, но через тусклое, забранное решеткой крохотное окошко, под которым сидишь, пробивается только серый, нищенский свет. В камере вечные сумерки, — и вечный сумрак в сердце. И в сфере мысли, как и в сфере времени, движение застыло. То, что ты давно позабыл или легко позабудешь, происходит со мной сейчас и будет происходить заново — завтра. Запомни это, и тогда тебе станет хоть отчасти понятно, почему я пишу тебе и почему пишу именно так.
Через неделю меня перевели сюда. Миновали еще три месяца — и смерть унесла мою мать. Никто лучше тебя не знает, как я любил ее и как перед ней преклонялся. Ее смерть поразила меня таким ужасом, что я — некогда повелитель слов — не нахожу ни слова, чтобы передать мою муку и мой стыд. Никогда, даже в расцвете своего мастерства, я не мог бы сыскать слова, которые несли бы столь драгоценное бремя, шествуя с подобающим величием сквозь багряное пиршество моей невыразимой скорби. Она вместе с моим отцом завещала мне благородное имя, прославленное не только в Литературе, Искусстве, Археологии и Науке, но и в истории народа моей страны, в ее национальном развитии. Я навеки обесчестил это имя. Я превратил его в пошлое присловье подлого люда. Я вымарал его в грязи. Я бросил его свиньям, чтобы они наполнили его свинством, и дуракам, чтобы они превратили его в синоним глупости. Что я тогда выстрадал и как я страдаю теперь — перо не в силах выразить, а бумага не в силах выдержать. Моя жена в то время была еще добра и нежна со мной, и, чтобы мне не пришлось выслушать эту весть из равнодушных или враждебных уст, она сама, больная, проделала весь путь из Генуи в Англию и сама принесла мне известие об этой невозместимой, невозвратной потере. Ко мне дошли выражения соболезнования ото всех, кто еще любил меня. Даже люди, незнакомые со мной лично, услышав, какое новое горе обрушилось на мою разбитую жизнь, просили передать мне свое сочувствие. Ты один остался холоден, ты ничего мне не передал, ничего не написал. О таком поступке лучше всего сказать так, как сказал Вергилий Данте о тех, чьи жизни были лишены благородных порывов и высоких стремлений: «Non ragionam di lor, ma guarda, e passa».[99]
Проходит еще три месяца. Висящий снаружи на двери моей камеры табель, где ежедневно отмечается мое поведение и проделанная работа, где проставлено мое имя и срок наказания, говорит мне, что наступил май.
Мои друзья снова посещают меня. Я, как всегда, расспрашиваю о тебе. Мне говорят, что ты сейчас на своей вилле в Неаполе и собираешься выпустить томик стихов. К концу разговора случайно выясняется, что ты посвящаешь его мне. Узнав об этом, я почувствовал, что жизнь мне опостылела. Я ничего не сказал, я молча вернулся в свою камеру, с гневом и презреньем в сердце. Как ты вообразил, что можно посвящать мне книгу стихов, не испросив на то моего разрешения? Вообразил, говорю я? Как ты посмел это сделать? Ты скажешь в ответ, что в дни моего величия и славы я согласился принять посвящение твоих ранних стихов? Конечно, согласился — я принял бы этот знак уважения от любого юноши, вступающего на трудное и прекрасное литературное поприще. Всякие почести отрадны для художника — и вдвойне отрадны, когда их касаются руки старцев. Только юности принадлежит право венчать художника. В этом истинная привилегия юности — если бы только юность об этом знала. Но дни униженья и бесчестья — не то, что дни величия и славы. Тебе еще предстоит узнать, что Благополучие, Наслаждение и Успех бывают грубого помола и суровой пряжи, но Страдание — самое чуткое из всего, что есть на свете. Что бы ни тронулось в целом мире мысли или движения — на все Страдание откликается созвучной и тягостной, хотя и тончайшей, вибрацией. По сравнению с этой дрожью трепетный листок расплющенного золота, фиксирующий направление сил, невидимых глазу, колеблется слишком грубо. Это рана, которая кровоточит от прикосновения любой руки, кроме руки Любви, но и касанье Любви тоже заставляет ее обливаться кровью, только не от боли.
Ты смог написать начальнику Уондсвортской тюрьмы, испрашивая моего разрешения опубликовать мои письма в «Меркюр де Франс», которая соответствует нашему английскому «Фортнайтли ревю». Почему бы тебе не написать начальнику Редингской тюрьмы и не попросить моего разрешения посвятить мне твои стихи, как бы фантастически ты ни вздумал их назвать? Не потому ли, что в первом случае речь шла о журнале, где я запретил печатать свои письма, авторское право на которые, как ты прекрасно знаешь, закреплено всецело за мной, а во втором — ты радовался, что успеешь сделать все по-своему, втайне от меня, и это дошло бы до меня слишком поздно, когда я уже не смог бы помешать тебе. То, что я обесчещен, разорен и заточен в тюрьму, — все это должно было заставить тебя просить у меня разрешения поставить мое имя на первой странице твоей книги, как просят милости, чести и привилегии. Только так нужно обращаться с тем, кто попал в беду и покрыт позором.
Там, где пребывает Страдание, — священная земля. Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. И пока ты этого не поймешь, ты ничего не узнаешь о жизни. Робби и такие, как он, способны понять это. Когда я в сопровождении двух полицейских был привезен из тюрьмы в суд по делам несостоятельных должников, Робби ждал в длинном мрачном коридоре, чтобы на глазах у всей толпы, которая притихла, увидев этот простой и прекрасный жест, снять передо мной шляпу, когда я проходил мимо в наручниках, понурив голову. Люди попадали в рай и за меньшие заслуги. Движимые таким чувством, такой любовью, святые становились на колени, чтобы омыть ноги нищих, или склонялись к прокаженному, целуя его в щеку. Я ни разу ни словом не обмолвился Робби о том, что он сделал. До сих пор я даже не знаю, известно ли ему, что я вообще заметил его поступок. За это нельзя приносить формальную благодарность в общепринятых выражениях. Я храню ее в сокровищнице своего сердца. Она спрятана там, как тайный долг. И я счастлив, что долг этот неоплатен. Эта благодарность нетленна и напитана благовонным бальзамом обильных слез. Когда Мудрость оказалась бесполезной, Философия — бесплодной, а присловья и избитые изречения тех, кто пытался утешить меня, были как прах и пепел в моих устах, это смиренное и неприметное деяние Любви отворило для меня все родники жалости, заставило пустыню расцвести розами, избавило меня от горестного одиночества изгнанника и воссоединило меня с израненным, разбитым и великим сердцем Мироздания. И когда ты сумеешь понять не только то, как был прекрасен поступок Робби, но и то, почему он так много для меня значил — и всегда будет так дорог мне, — тогда, может быть, ты поймешь, как и с каким чувством ты должен был просить у меня разрешения посвятить мне свои стихи. Справедливо при этом заметить, что я ни при каких условиях не принял бы это посвящение. Хотя не исключено, что при иных обстоятельствах мне было бы приятно услышать такую просьбу, я все равно ответил бы на нее отказом ради тебя, не считаясь со своими чувствами.
Первый томик стихов, который юноша в расцвете весны своего возмужания посылает в широкий мир, должен быть словно белый боярышник в саду у колледжа св. Магдалины или первоцвет на Камнорских лугах.[100] Его нельзя отягощать бременем ужасной, отталкивающей трагедии, ужасного, отвратительного скандала. Если бы я разрешил сделать свое имя глашатаем книги, я совершил бы непростительную эстетическую ошибку. Это создало бы вокруг всей книги ложную атмосферу, а в современном искусстве нет ничего важнее атмосферы. Современная жизнь сложна и относительна. Это — ее отличительные черты. Для того чтобы отразить первую черту, нам нужна атмосфера со всеми тончайшими нюансами, намеками и необычайными перспективными искажениями; вторая черта требует соотнесения с фоном. Вот почему Скульптура перестала быть изобразительным искусством, а Музыка стала им; вот почему Литература есть, была и навсегда останется наивысшим изобразительным искусством.
Твоя маленькая книжечка должна принести с собой напевы Сицилии и Аркадии, а не ядовитый смрад уголовного суда и не зловонную духоту тюремной камеры. И такое посвящение было бы не просто проявлением недостаточного вкуса в Искусстве; оно совершенно неприемлемо и с других точек зрения. Оно показалось бы продолжением той линии поведения, которой ты придерживался и до и после моего ареста. У людей она вызвала бы впечатление глупой бравады: образчика того рода смелости, которая продается по дешевке и задешево покупается на проезжих дорогах позора. Во всем, что касается нашей дружбы, Немезида раздавила нас обоих, как мух. Посвящение стихов мне, пока я в тюрьме, показалось бы неумной попыткой остроумной отповеди: «талант», которым ты так неприкрыто гордился в прежние дни, сочиняя свои ужасные письма, — надеюсь, что эти дни никогда больше не возвратятся, — которым ты так любил хвалиться. Это посвящение не произвело бы того серьезного, прекрасного впечатления, на которое — я надеюсь, я уверен — ты рассчитывал. Если бы ты посоветовался со мной, я дал бы тебе совет несколько отложить публикацию книги или, если бы это пришлось тебе не по вкусу, напечатать ее сперва анонимно, а потом, завоевав любовь к своей поэзии — только эту любовь и стоит завоевывать, — ты мог бы обернуться и заявить: «Цветы, которыми вы восхищаетесь, взращены мной, и вот я подношу их тому, кого вы считаете парией и изгоем, — в знак своей любви, уважения и восхищения». Но ты избрал неподходящий способ и неподходящий момент. Есть свой такт в любви и свой такт в литературе: ты невосприимчив ни к тому, ни к другому.
Я так много говорю об этом, чтобы ты представил себе все до конца и понял, почему я написал Робби письмо, полное такого гнева и презрения к тебе, категорически запретил посвящение и выразил желание, чтобы все, что касается тебя в моем письме, было тщательно переписано и отослано тебе. Я чувствовал, что настало наконец то время, когда ты будешь вынужден увидеть, признать и обдумать хотя бы отчасти все, что ты натворил. Можно упорствовать в слепоте до тех пор, пока она не превратится в уродство, и человеку, лишенному воображения, если его ничто не смогло пробудить, суждено окаменеть до полной бесчувственности, и хотя тело может есть и пить и предаваться наслажденьям, но душа, чьим обиталищем служит тело, будет абсолютно мертва, как душа Бранка д'Орья у Данте.[101] По-видимому, мое письмо дошло до тебя как раз вовремя. Насколько я могу судить, оно поразило тебя, как громом. В своем ответе Робби ты пишешь, что ты «не в силах ни думать, ни говорить». И вправду, ты, кажется, не в силах был придумать ничего лучше, чем пожаловаться в письме своей матери. И она, разумеется, в злосчастной и для нее и для тебя слепоте, к твоей истинной пользе утешает тебя всеми измышлениями, какие только приходят ей в голову, и, должно быть, снова убаюкивает тебя и возвращает в то же несчастное, недостойное состояние, что же касается меня, то всем моим друзьям она дает понять, что «жестоко обижена» суровостью моего к тебе отношения. Собственно, эти свои обиды она поверяет не только моим друзьям, но и тем, кого нельзя считать моими друзьями, — а их гораздо больше, как ты прекрасно знаешь: через людей, которые с большой теплотой относятся к тебе и твоему семейству, мне стало теперь известно, что из-за этого я совершенно потерял значительную долю того сочувствия, которое мне постепенно, но прочно завоевывали и мой всеми признанный талант, и мои страдания. Люди говорят: «А! Сначала он пытался засадить в тюрьму благородного отца, но эта затея сорвалась; теперь он переметнулся на другую сторону и обвиняет в своих неудачах ни в чем не повинного сына! Да, мы презирали его по заслугам! Он того стоит!» Мне кажется, что если уж твоя мать, услышав мое имя, не может найти ни слова сожаления или раскаяния в том, что внесла свою — и немалую — долю в разорение моего домашнего очага, то ей больше подобало бы хранить молчание. А ты — не кажется ли тебе, что для тебя было бы лучше во всех отношениях не писать ей письма, полные жалоб, а написать прямо ко мне, набравшись смелости сказать мне все, что тебе нужно было сказать — или то, что тебе мнилось нужным? Скоро минет год, как я написал то письмо. Вряд ли ты все это время был «не в силах ни думать, ни говорить». Почему же ты мне не написал? Ты видел по моему письму, как глубоко я ранен, как взбешен твоим поведением. И более того — перед твоим взором наконец предстала в истинном свете вся твоя дружба со мной — без всяких недомолвок. В былые дни я очень часто говорил тебе, что ты губишь всю мою жизнь. Ты всегда смеялся. Эдвин Леви,[102] на самой заре нашей дружбы, увидел, как ты всегда выталкиваешь меня вперед, подставляя под самые сокрушительные удары, заставляешь нести все тяготы и расходы даже в тех твоих оксфордских неприятностях, — если это так называется, — по поводу которых мы обратились к нему за советом и помощью, — и целый час уговаривал меня не знаться с тобой; и когда я в Брэкнелле рассказывал тебе об этом разговоре, ты только смеялся. Когда я сказал тебе, что даже тот несчастный юноша, который впоследствии сел вместе со мной на скамью подсудимых, не один раз предупреждал меня, что ты во сто крат опаснее всех тех простых парней, с которыми я имел глупость водить знакомство, и навлечешь на меня страшные несчастья, — ты тоже смеялся, хотя уже не так весело. Когда мои наиболее высоконравственные или наименее преданные друзья бросали меня из-за нашей дружбы с тобой, ты смеялся с издевкой. Ты покатывался со смеху, когда по поводу первого оскорбительного для меня письма, написанного тебе твоим отцом, я сказал тебе, что послужу только орудием и что вы доведете меня до беды в вашей чудовищной ссоре. Но все вышло так, как я предсказывал, по крайней мере, в том, к чему это привело. И совершенно непростительно, что ты не видел, как все обернулось. Что помешало тебе написать мне? Трусость? Бессердечие? Что это было? Мое бешенство и возмущение твоим поведением тем более должно было заставить тебя написать. Если ты считал, что я в своем письме прав, ты должен был ответить. Если ты считал, что я не прав хоть в самой малости, ты должен был ответить. Я ждал твоего письма. Я был уверен, что ты поймешь: если даже прежняя привязанность, любовь, подкрепленная столькими доказательствами, тысячи добрых дел, за которые ты мне так плохо заплатил, тысячи не оплаченных тобою долгов благодарности — если все это для тебя ничего не значит, то тебя заставит написать мне хотя бы чувство долга — самое черствое из чувств, связывающих двух людей. Ты не можешь отговориться, будто всерьез верил тому, что мне запретили всю переписку, кроме деловых сообщений от близких родственников. Ты отлично знал, что Робби посылает мне каждые двенадцать недель небольшой обзор литературных новостей. Трудно себе представить более очаровательные письма; они полны остроумия, метких и точных суждений, они так непринужденны — это настоящие письма кажется, что слышишь живой человеческий голос; они похожи на французскую causerie intime;[103] а как деликатно он выражает свое уважение ко мне, обращаясь то к моему мнению, то к моему чувству юмора, то к моему инстинктивному пониманию красоты или к моей образованности и сотней тончайших намеков напоминая мне, что некогда я был законодателем стиля в искусстве для многих и высшим авторитетом для некоторых, — он обнаруживает и такт в литературе, и такт в любви. Его письма приходят ко мне, как маленькие посланцы прекрасного неземного мира искусства, где я некогда был Королем и где я поныне царил бы, если бы не дал увлечь себя в несовершенный мир грубых неудовлетворенных страстей, неразборчивых вкусов, несдержанных желаний и бесформенной алчности. И все же, учитывая все это, в конце концов я уверен, что ты мог понять или хотя бы собственным умом дойти до того, что даже с точки зрения простого психологического любопытства получить вести о тебе мне было бы гораздо интереснее, чем узнать, что Альфред Остин собрался выпустить томик стихов, а некто, неспособный без запинки произнести хвалебную речь, утверждает, что миссис Мейнелл[104] — новая Сивилла в области стиля.
Ах! если бы ты попал в тюрьму — нет, не по моей вине, одна эта мысль наводит на меня невыносимый ужас, — но по собственной вине, по собственной оплошности, из-за доверия к ложным друзьям, из-за того, что ты оступился в трясине низменных страстей, доверился кому не следовало, полюбил того, кто недостоин любви, — словом, по всем этим причинам или вовсе без причин, — неужели ты думаешь, что я допустил бы, чтобы ты истерзал свое сердце во мраке и одиночестве, и не попытался бы хоть как-нибудь, хоть на самую малость разделить с тобой горькое бремя твоего позора? Неужели ты думаешь, что я не сумел бы дать тебе знать, что, если ты страдаешь, я разделяю твое страдание; если ты плачешь, мои глаза тоже полны слез; и если ты брошен в темницу и заклеймен людским презреньем, я воздвиг из своей печали дом, где буду ждать твоего прихода, сокровищницу, где все, в чем тебе отказали люди, стократно умножившись, будет готово принять и исцелить тебя. Если бы горькая необходимость или осторожность, которая для меня еще горше, помешала бы мне быть рядом с тобой, лишила бы меня радости видеть тебя — пусть сквозь железные прутья, в постыдном обличье, — я писал бы тебе, ни с чем не считаясь, в надежде, что хоть одна фраза, хоть единое словцо, хоть полузадушенное эхо голоса любви пробьется к тебе. Если бы ты не захотел принимать мои письма, я все равно писал бы тебе, и ты, по крайней мере, знал бы, что эти письма ждут тебя. Многие так писали мне. Каждые три месяца люди пишут мне или просят разрешения писать. Эти письма и записки до меня не доходят. Но их вручат мне, когда я выйду из тюрьмы. Я знаю, что они где-то лежат. Я знаю имена людей, их написавших. Я знаю, что эти письма полны сочувствия, доброты и приязни. И этого вполне достаточно. Мне не нужно знать ничего больше. Твое молчание было ужасно. И это молчание тянулось не неделю, не месяц — оно тянулось годами; годами даже в исчислении тех, кто, подобно тебе, кружится в вихре радости и едва способен угнаться за бегом дней, проносящихся золотыми стопами в пляске, и едва переводит дыхание в погоне за наслажденьем. Твоему молчанию нет оправданья; это молчанье простить невозможно. Я знал, что ты ненадежен, как статуя на глиняных ногах. Кому было знать лучше? Когда я в своих афоризмах написал, что золото кумира[105] ценится только потому, что ноги у него из глины, я думал о тебе. Но не золотого кумира на глиняных ногах сотворил ты себе. Из дольнего праха проезжих дорог, размолотого в грязь копытами скота, ты вылепил своего двойника и поставил перед моими глазами, и теперь, какие бы желания я ни питал в глубине сердца, я не смогу испытывать при виде тебя ничего, кроме презренья и гнева. И даже если отбросить все другие причины, одно твое равнодушие, твоя житейская цепкость, твое бессердечие, твоя осмотрительность, как бы ты ее ни называл, — все это стало для меня вдвое горше из-за тех особых обстоятельств, которые сопровождали мое падение или следовали за ним.
Другие несчастные, брошенные в тюрьму, тоже лишены всей прелести мира, но они, по крайней мере, хоть отчасти защищены от этого мира, от его самых убийственных пращей, самых смертельных стрел. Они могут затаиться во тьме своих камер и самым своим позором обеспечить себе право убежища. Мир, свершив свой суд, идет своим путем, а их оставляет страдать без помех. Со мной было иначе. Беда за бедой стучалась у тюремных дверей, разыскивая меня; и перед ними открыли ворота во всю ширь и впустили их. Друзьям моим чинили всяческие препоны, если вообще допускали их ко мне. Но мои враги всегда могли иметь ко мне доступ — два раза во время дела о банкротстве; и дважды, когда меня переводили из одной тюрьмы в другую, я был выставлен на поругание перед глазеющей толпой и испытал неслыханное унижение. Гонец Смерти принес мне свою весть и пошел своим путем; и в полном одиночестве, вдалеке от всего, что могло бы утешить меня или облегчить мое горе, мне пришлось нести непосильное бремя отчаяния и угрызений совести, которое я несу и до сих пор при воспоминании о моей матери. Едва время успело — нет, не излечить эту рану, а только притупить боль, — как начали приходить обидные и резкие письма от поверенных моей жены. Я опозорен, мне грозит нищета. Это я еще мог бы вынести. Я могу приучить себя и к худшим лишениям; но вот закон отнимает у меня обоих сыновей. И это стало и навсегда останется для меня причиной безысходного отчаяния, безысходной боли и горя без конца и края. Закон решил и взял на себя право решать, что общение со мной вредно для моих собственных детей, — это для меня просто чудовищно. Позор тюрьмы перед этим — ничто. Я завидую всем тем, кто ходит вокруг тюремного двора рядом со мной. Я уверен, что их дети ждут не дождутся их возвращенья и радостно бросятся им навстречу.
Бедняки мудрее, они более милосердны, добры и чутки, чем мы. В их глазах тюрьма — трагедия человека, горе, несчастный случай, нечто достойное сочувствия ближних. О человеке, попавшем в тюрьму, они говорят, что с ним «стряслась беда», и все. Так они говорят всегда, и в этом выражении заключена вся совершенная мудрость любви. У людей нашего класса все по-иному. У нас тюрьма превращает человека в парию. Такие, как я, едва имеют право дышать и занимать место под солнцем. Наше присутствие омрачает радости других. Когда мы выходим на свободу, мы везде — нежеланные гости. Нам не пристало любоваться бликами луны. Даже детей у нас отбирают. Расторгаются самые прекрасные человеческие связи. Мы обречены на одиночество, хотя наши сыновья еще живы. Нам отказано в том единственном средстве, которое способно поддержать нас, приложить целебный бальзам к истерзанному сердцу, умиротворить изболевшуюся душу.
И сверх всего этого ты внес еще одну мелкую, но жестокую черту в мою жизнь: своими действиями и своим молчанием, тем, что ты сделал и что оставил несделанным, ты отяготил каждый день моего долгого заточения лишним грузом. Даже хлеб и вода — мой тюремный паек — изменились из-за тебя. Хлеб стал горьким, и вода — затхлой. Ты удвоил то горе, которое должен был разделить, а боль, которую должен был облегчить, ты обострил до предела. Я не сомневаюсь, что ты этого не хотел. Я знаю, что ты этого не хотел. Это был всего-навсего «один поистине роковой недостаток твоего характера — полнейшее отсутствие воображения».
И в конце концов мне придется простить тебя. Я должен тебя простить. Я пишу это письмо не для того, чтобы посеять обиду в твоем сердце, и не для того, чтобы вырвать ее из своего сердца. Я должен простить тебя ради себя самого. Нельзя вечно согревать на груди змею, которая тебя гложет; нельзя вставать еженощно и засевать терниями сад своей души. Мне вовсе нетрудно будет простить тебя, если ты мне хоть немного поможешь. В прежние времена я легко прощал тебе все, что бы ты ни вытворял. Тогда это не пошло тебе на пользу. Прощать прегрешенья может только тот, чья жизнь чиста и ничем не запятнана. Но теперь, когда я предан бесчестью и унижению, все переменилось. Для тебя очень важно, чтобы я простил тебя. Когда-нибудь ты это поймешь. И рано или поздно, теперь или никогда, в какой бы срок ты это ни понял, мой путь для меня ясен. Я не могу допустить, чтобы ты прожил жизнь, неся на сердце тяжкий груз сознания, что ты погубил такого человека, как я. От этой мысли тобой может овладеть холодное бесчувствие или убийственная тоска. Я должен снять с тебя этот груз и переложить его на свои собственные плечи. Я должен напомнить себе, что ни ты, ни твой отец, будь хоть тысяча таких, как вы, не в силах погубить такого человека, как я; я сам навлек на себя гибель, — каждый, как бы он ни был велик или ничтожен, может погибнуть лишь от собственной руки. Я готов это признать. Я стараюсь признать это, хотя сейчас ты, может быть, этого и не заметишь. Но если я и бросаю тебе безжалостные упреки, подумай, как беспощадно я осуждаю самого себя. Какое бы ужасное зло ты мне ни причинил, я сам навлек на себя зло еще более ужасное.
Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это. Немногие достигали в жизни такого положения, такого всеобщего признания. Обычно историк или критик открывают гения через много лет после того, как и он сам, и его век канут в вечность, — если такое открытие вообще состоится. Мой удел был иным. Я сам это чувствовал и дал это почувствовать другим. Байрон был символической фигурой, но он отразил лишь страсти своего века и пресыщение этими страстями. Во мне же нашло свое отражение нечто более благородное, не столь преходящее, нечто более насущное и всеобъемлющее.
Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум; я делал искусство философией, и философию — искусством; я изменял мировоззрение людей и все краски мира; что был я ни говорил, что бы ни делал — все повергало людей в изумление; я взял драму — самую безличную из форм, известных в искусстве, и превратил ее в такой же глубоко личный способ выражения, как лирическое стихотворение, я одновременно расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым толкованием; все, к чему бы я ни прикасался, — будь то драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический диалог, — все озарялось неведомой дотоле красотой; я сделал законным достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное и показал, что ложное или истинное — не более, чем обличья, порожденные нашим разумом. Я относился к Искусству, как к высшей реальности, а к жизни — как к разновидности вымысла; я пробудил воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и легендами; все философские системы я умел воплотить в одной фразе и все сущее — в эпиграмме.
Но вместе с этим во мне было и много другого. Я позволял себе надолго погружаться в отдохновение бесчувствия и чувственности. Я забавлялся тем, что слыл фланером, денди, законодателем мод. Я окружал себя мелкими людишками, низменными душами. Я стал растратчиком собственного гения и испытывал странное удовольствие, расточая вечную юность. Устав от горних высот, я нарочно погружался в бездну, охотясь за новыми ощущениями. Отклонение от нормы в сфере страсти стало для меня тем же, чем был парадокс в сфере мысли. Желание в конце концов превратилось в болезнь или в безумие — или в то и другое сразу. Я стал пренебрежительно относиться к чужой жизни. Я срывал наслажденье, когда мне было угодно, и проходил мимо. Я позабыл, что любое, маленькое и будничное, действие создает или разрушает характер, и потому все, что делалось втайне, внутри дома, будет в свой день провозглашено на кровлях. Я потерял власть над самим собой. Я уже не был Кормчим своей Души и не ведал об этом. Тебе я позволил завладеть мной, а твоему отцу — запугать меня. Я навлек на себя чудовищное бесчестье. Отныне мне осталось только одно — глубочайшее Смирение — так же, как и для тебя тоже ничего не осталось, кроме глубочайшего Смирения. Лучше бы тебе повергнуться во прах рядом со мной и принять это.
Вот уже почти два года, как я брошен в тюрьму. Из глубины моей души вырвалось дикое отчаяние, всепоглощающее горе, на которое даже смотреть без жалости было невозможно, ужасная, бессильная ярость, горький ропот и возмущение; тоска, рыдающая во весь голос; обида, не находившая голоса, и скорбь, оставшаяся безгласной. Я прошел через все мыслимые ступени страдания. Теперь я лучше самого Вордсворта понимаю, что он хотел сказать в этих строках: «Темна, черна и неизбывна Скорбь и бесконечна по своей природе».[106] Но хотя мне и случалось радоваться мысли, что моим страданиям не будет конца, я не в силах думать о том, что они лишены всякого смысла. Но в самой глубине моей души что-то таилось, что-то говорило мне: ничто в мире не бессмысленно, и менее всего — страдание. И то, что скрывалось глубоко в моей душе, словно клад в земле, зовется Смирением.
Это последнее и лучшее, что мне осталось; завершающее открытие, к которому я пришел; начало нового пути, новой жизни. Смирение пришло ко мне изнутри, от меня самого — и поэтому я знаю, что оно пришло вовремя. Оно не могло прийти ни раньше, ни позже. Если бы кто-нибудь рассказал мне о нем, я бы от него отрекся. Если бы мне принесли его — я бы отказался. Но я сам нашел его и хочу сохранить. Я должен его сохранить. Это единственное, что несет в себе проблески жизни, новой жизни, моей Vita Nuova.[107] Смирение — самая странная вещь на свете. От него нельзя избавиться, и из чужих рук его не получишь. Чтобы его приобрести, нужно потерять все до последнего. Только когда ты лишен всего на свете, ты чувствуешь, что оно сделалось твоим достоянием. И теперь, когда я чувствую его в себе, я совершенно ясно вижу, что мне делать — что я непременно должен сделать. Нет необходимости говорить тебе, что, употребляя подобные слова, я не имею в виду никакое разрешение или приказание извне. Я им не подчинюсь. Я теперь стал еще большим индивидуалистом, чем когда бы то ни было. Для меня ценно только то, что человек находит в самом себе, — остальное не имеет ни малейшей цены. Глубочайшая суть моей души ищет нового способа самовыражения — только об этом я и пекусь, только это меня и трогает. И первое, что мне необходимо сделать, — это освободиться от горечи и обиды по отношению к тебе.
У меня нет ни гроша, нет крыши над головой. Но бывают на свете вещи и похуже. Говорю тебе совершенно искренне: я не хочу выйти из тюрьмы с сердцем, отягощенным обидой на тебя или на весь мир, — уж лучше я с легким сердцем пойду просить милостыню у чужих дверей. Пусть в богатых домах я не получу ничего, а бедные что-нибудь подадут. Те, у кого все в избытке, часто жадничают. Те, у кого все в обрез, всегда делятся. И пусть мне придется спать летом в прохладной траве, а зимой — укрываться в плотно сметанном стогу сена или на сеновале в просторном амбаре — лишь бы любовь жила в моем сердце. Теперь мне кажется, что все внешнее в жизни не заслуживает ни малейшего внимания. Ты видишь, до какого крайнего индивидуализма я теперь дошел — или, точнее, дохожу, ибо путь еще далек, и «я ступаю по терниям».[108] Разумеется, я знаю, что мне не суждено просить милостыню на дорогах, и если уж мне случится лежать ночью в прохладной траве, то только затем, чтобы слагать сонеты Луне. Когда меня выпустят из тюрьмы, за тяжелыми, обитыми железными гвоздями воротами меня будет ждать Робби — не только в свидетельство своей собственной преданности, но и как символ той привязанности, которую питают ко мне многие люди. По моим предположениям, мне хватит на жизнь, по крайней мере, года на полтора, так что если я не смогу писать прекрасные книги, то читать прекрасные книги я уж во всяком случае смогу, а есть ли радость выше этой? А со временем, надеюсь, я сумею возродить свой творческий дар.
Но даже если бы все сложилось иначе: если бы в целом мире у меня не осталось ни единого друга; если бы ни в один дом меня не впустили, даже из милосердия; если бы мне пришлось надеть убогие лохмотья и взять нищенскую суму, — все равно, пока я свободен от обиды, ожесточения, негодования, я смотрел бы на жизнь куда спокойнее и увереннее, чем тогда, когда тело облечено в пурпур и тончайшее полотно, а душа в нем изнывает от ненависти. Мне будет вовсе не трудно простить тебя — и это чистейшая правда. Но чтобы это принесло мне радость, ты должен почувствовать, что нуждаешься в прощении. Когда ты по-настоящему захочешь этого — оно будет ждать тебя, ты увидишь.
Стоит ли говорить, что мой подвиг на этом не кончится. Это было бы слишком легко. Мне предстоит преодолеть еще много трудностей, взобраться на кручи куда более обрывистые и пройти куда более угрюмые ущелья. И все это я должен преодолеть в самом себе. Ни Религия, ни Мораль, ни Разум никак не помогут мне.
Мораль мне не поможет. Я рожден для антиномий. Я — один из тех, кто создан для исключений, а не для правил. И хотя я не вижу ничего дурного в том, как человек поступает, я понимаю, что ему грозит опасность сделаться дурным человеком. Хорошо, что я это понял.
Религия мне не поможет. Другие верят в нечто невидимое, я же верю только в то, что можно потрогать, что можно увидеть. Мои боги обитают в рукотворных храмах, и только в пределах живого жизненного опыта мои верования находят свое наиболее совершенное и полное воплощение: может быть, даже слишком полное, потому что, подобно многим, кто поместил свое Небо здесь, на земле, я нашел здесь не только прелести Рая, но и все ужасы Ада. Вообще, когда я размышляю о религии, мне хочется основать орден для тех, кто не в силах уверовать; его можно было бы назвать Братством Лишенных Веры — там священник, в чьем сердце нет мира, совершает перед алтарем, на котором не горит ни одна свеча, причастие хлебом, на котором нет благодати, над чашей, где нет вина. Все на свете, чтобы стать истиной, должно сделаться религией. Агностицизм имеет право на собственные обряды не меньше, чем вера. Он посеял своих мучеников, он может пожать сонмы своих святых, ежедневно вознося хвалы Господу за то, что Он скрыл свой лик от человека. Но что бы то ни было — вера или безверие, это не должно прийти ко мне извне. Символы своей веры я должен сотворить сам. Духовно только то, что создает свою собственную форму. Если я не раскрою эту тайну в самом себе, мне никогда ее не разгадать. И если я еще не нашел ответа, мне не найти его никогда.
Разум мне не поможет. Он говорит мне, что законы, по которым я осужден, — законы ложные и несправедливые, а система, карающая меня страданиями, — ложная и несправедливая система. Но мне необходимо как-то поверить в то, что и закон и наказание — праведны и справедливы. В Искусстве всегда сосредоточиваешься только на том, чем определенный предмет является для тебя лично в определенный момент времени — и точно так же это происходит в этической эволюции человеческого характера. Мне необходимо сделать так, чтобы все, что со мной произошло, обратилось для меня в добро. Дощатые нары, тошнотворное пойло, жесткие канаты, из которых щиплешь паклю, пока кончики пальцев не онемеют от боли, физическую работу, которой начинается и кончается каждый день, грубые окрики, которые здесь в обычае, чудовищный наряд, превращающий страдальца в шута, молчанье, одиночество, стыд — все это вместе и по отдельности мне нужно претворить в духовный опыт. Все телесные унижения — все до единого — я должен использовать для возвышения души.
Я хочу достигнуть того состояния, когда смогу в полной простоте и без всякой аффектации сказать, что в моей жизни было два великих поворотных пункта: когда мой отец послал меня в Оксфорд и когда общество заточило меня в тюрьму. Я не стану говорить, что тюрьма — лучшее из всего, что могло со мной случиться, — такое утверждение слишком сильно отдавало бы горечью по отношению к самому себе. Я охотнее сказал бы — или услышал о себе — другое: я был настолько типичным сыном своего века, что в своей испорченности, и ради этой испорченности, обратил все доброе в своей жизни во зло, а все дурное — в добро.
Но что бы ни говорил я сам или другие — это все неважно. Самое важное — то, что мне предстоит, то, что я должен сделать, если не хочу до конца своих дней оставаться запятнанным, очерненным, несовершенным, это — вобрать все, что со мной произошло, в самую глубину своей души, слиться с этим воедино, принять это без сетований, ропота, без страха, без сопротивления. Поверхностность — самый страшный порок. Все, что понято, оправдано.
Когда я переступил порог тюрьмы, некоторые советовали мне позабыть, кто я такой. Это был губительный совет. Только сознавая, кто я такой, я обрел возможность утешения. А теперь другие люди советуют мне по выходе из тюрьмы начисто позабыть, что я вообще когда-либо был в тюрьме. Я знаю, что это было бы столь же губительно. Это означало бы, что всю жизнь меня преследовало бы непереносимое ощущение позора и что все, на что я имею такое же право, как остальные — красота солнца и луны, торжественное шествие времен года, музыка рассвета и величавое молчание ночей, дождь, шелестящий в листве, и роса, медленно заливающая травы серебряным блеском, — все это для меня было бы загрязнено, лишено волшебной целительной силы и неспособно приносить радость. Отбросить то, что ты пережил, — значит положить конец своему собственному совершенствованию. Отречься от того, что ты пережил, — значит осквернить ложью уста своей собственной жизни. Это все равно что отречься от своей Души. Точно так же, как тело усваивает все — скверное и нечистое так же, как и то, что очищено священником или видением, — и превращает все это в стремительность или мощь, в игру великолепных мускулов и в лепку пленительной плоти, в очертанья и краски волос, губ и глаз, — так и Душа, в свой черед, тоже способна питаться и может превращать в благородные помышления и высокие страсти то, что само по себе низменно, жестоко, унизительно, — нет, более того, может найти в этом наиболее величественные формы самоутверждения и зачастую проявляет себя во всем совершенстве через то, что должно было бы осквернить ее или разрушить. Я должен открыто признать, что был самым обыкновенным узником в самой обычной тюрьме; как ни странно это тебе покажется, но я должен научиться не стыдиться этого. Я должен принять это, как наказание, — а если стыдишься наказания, то его как бы и не было, оно проходит впустую. Конечно, меня осудили за многие поступки, которых я не совершал, но осудили и за многие совершенные мною поступки, а ведь я сделал в жизни еще много такого, в чем мне даже не предъявили обвинения. Я уже говорил в этом письме, что боги непостижимы — и карают нас и за все доброе и человеческое в нас, и за все злое и преступное, — а теперь я должен признать, что каждый получает наказание и по своим добрым, и по своим злым делам. И я не сомневаюсь, что так и должно быть. Это помогает человеку — или должно помогать — понять и добро и зло и не кичиться ни тем, ни другим. И тогда, не стыдясь выпавшего на мою долю наказания — надеюсь, что добьюсь этого, — я смогу думать, двигаться, жить, чувствуя себя свободным.
Многие, выйдя на свободу, уносят свою тюрьму с собой на свежий воздух, прячут ее в сердцах, как тайный позор, и в конце концов, подобно несчастной отравленной твари, заползают в какую-нибудь нору и умирают. Какая жалость, что их к этому вынуждают, и какая несправедливость — чудовищная несправедливость — со стороны Общества, которое их к этому вынуждает! Общество считает своим правом обрушивать на личность страшные кары, но оно страдает страшнейшим пороком верхоглядства и не ведает, что творит. Когда срок наказания истекает, оно предоставляет человека самому себе, то есть бросает его в тот момент, когда следовало бы приступить к исполнению самого высокого долга общества перед человеком. В действительности оно стыдится собственных деяний и избегает тех, кого покарало, как люди избегают кредитора, которому не могут уплатить, или тех, кому они причинили непоправимое, неизбывное зло. Я со своей стороны требую одного: если я осознаю все, что выстрадал. Общество тоже должно осознать зло, которое оно мне причинило: чтобы ни с той, ни с другой стороны не осталось ни обиды, ни ненависти.
Конечно, я знаю, что в одном отношении мне будет гораздо труднее, чем другим, — так и должно быть; это заложено в сути моего обвинения. Несчастные воры и бродяги, заключенные здесь, во многом счастливее меня. Малое местечко в сером городе или на зеленом лугу, ставшее свидетелем их греха, так ограничено: чтобы очутиться среди людей, не подозревающих об их преступлении, им достаточно уйти не дальше, чем птица пролетает между предрассветными сумерками и рассветом, — для меня же «весь мир стеснился шириной в ладонь»,[109] и куда бы я ни обратился, повсюду я вижу свое имя, вырезанное на камне. Потому что для меня это не был переход от безвестности к минутной шумихе вокруг преступленья — я перешел от некоей бесконечности славы в бесконечность обесславленности, и порой мне кажется, что я доказал, — если это нужно доказывать, — что между почестями и бесчестьем всего один шаг, если не меньше.
И все же именно в том, что люди будут узнавать меня повсюду, куда бы я ни попал, и будут знать все о моей жизни, по крайней мере, о ее безумствах, я могу найти нечто для себя благотворное. Это заставит меня силой необходимости снова утвердить себя как художника — и как можно скорее. Если мне удастся создать хотя бы одно прекрасное произведение искусства, я сумею лишить злословие яда, а трусость — язвительной усмешки и вырву с корнем язык, поносящий меня. И если Жизнь будет для меня задачей, то и я тоже непременно буду задачей для Жизни. Люди должны будут выработать какое-то отношение ко мне — и тем самым они вынесут приговор разом и себе и мне. Стоит ли напоминать, что я имею в виду не отдельные личности. Люди, среди которых отныне мне хочется быть, — это художники и те, кто страдал: те, кто познал Прекрасное, и те, кто познал Скорбь, — меня больше никто не интересует. И от Жизни я тоже ничего не требую. Все, что я высказал, относилось к моему внутреннему отношению к Жизни в целом, и я чувствую, что одна из первых целей, которую я должен поставить перед собой, — не стыдиться своего наказания; это я должен сделать и ради собственного совершенствования, и потому, что я так далек от совершенства.
Затем я должен научиться чувствовать себя счастливым. Когда-то я знал это — или думал, что знаю, — чисто инстинктивно. Раньше в моем сердце всегда была весна — без конца и без края. Моя натура была родственна радости. Я наполнял свою жизнь наслаждением до краев, как наполняют чашу вином — до самого края. Теперь я смотрю на жизнь совсем с другой стороны, и подчас мне невероятно трудно даже представить себе, что такое счастье. Помню, как в Оксфорде в первом семестре я читал «Ренессанс» Патера — книгу, которая так странно повлияла на всю мою жизнь, — о том, что Данте помещает в глубину Ада тех, кто своевольно живет в печали.[110] Я пошел в библиотеку и отыскал те строки в «Божественной Комедии», где говорится, что в мрачном болоте лежат те, кто «был мрачен в день прекрасный», и, вздыхая, сетуют: «Tristi fummo nell'aer dolce che dal sol s'allegra».[111]
Я знал, что церковь осудила accidia,[112] но сама по себе даже эта мысль казалась мне совершенно фантастичной — я думал, что лишь монах, который ничего не знает о жизни, может счесть это грехом. Мне было непонятно, отчего Данте, который сам утверждает, что «страданье возвращает нас к Богу»,[113] так жестоко обошелся с теми, кто влюблен в печаль, — если такие люди в действительности существовали. Я и подумать не мог, что когда-нибудь это предстанет передо мной как одно из величайших искушений всей моей жизни. Пока я был в Уондсвортской тюрьме, я жаждал смерти. Это было мое единственное желание. Когда, пробыв два месяца в тюремной больнице, я попал сюда и заметил, что мое телесное здоровье постепенно улучшается, я был вне себя от ярости. Я решил покончить с собой в тот день, когда выйду из тюрьмы. Но со временем это злобное наваждение прошло, и я решился жить, но облечься в угрюмство, как Король в пурпур; никогда в жизни не улыбаться; превращать каждый дом, порог которого я переступлю, в дом скорби; заставить своих друзей медленно шествовать рядом со мной, словно в траурной свите; доказать им, что истинный тайный смысл жизни — в меланхолии; отравить их неведомой печалью, ранить их своей собственной болью. Но теперь мои чувства полностью переменились. Я понимаю, как неблагодарно и черство встречать друзей, которые пришли навестить меня, с таким похоронным лицом, чтобы им приходилось напускать на себя еще более мрачный вид, выражая мне свое сочувствие, и предлагать им безмолвно разделить со мной поминальную трапезу и поить их горькими зельями. Я должен научиться быть веселым и радостным.
Последние два раза, когда моим друзьям разрешили посетить меня здесь, я изо всех сил старался быть веселым, так, чтобы они видели это, — надо было хоть немного вознаградить их за то, что они приехали из города в такую даль повидаться со мной. Я знаю, что это ничтожное вознаграждение, но уверен, что именно это принесло им самую большую радость. В субботу на прошлой неделе я целый час провел с Робби и старался как можно явственнее показать ему, как я рад нашей встрече. И я вижу, что мысли и взгляды, которые я сформировал в себе здесь, совершенно правильны, потому что теперь, впервые с начала моего заключения, у меня действительно появилось желание жить.
Мне так много предстоит сделать, что умереть, прежде чем будет исполнена хотя бы малая часть этих дел, было бы для меня ужасной трагедией. Я вижу новые открытия в Искусстве и в Жизни, и каждое из них — новая грань совершенства. Мне хочется жить, чтобы исследовать то, что стало для меня новым миром. Хочешь знать, что это за новый мир? Мне кажется, ты мог бы догадаться. Это мир, в котором я теперь живу.
Страданье и все, чему оно может научить, — вот мой новый мир. Я жил раньше только для наслаждений. Я избегал скорби и страданий, каковы бы они ни были. И то и другое было мне ненавистно. Я решил приложить все усилия, чтобы не замечать их — то есть видеть в них лишь проявление несовершенства. Они не входили в мою жизненную схему. Им не было места в моей философии. Моя мать, знавшая все о жизни, часто читала мне строки Гете, которые Карлайл привел в книге, подаренной ей много лет назад:
Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.[114]
Эти строки часто читала в своем унижении и изгнании благородная королева Пруссии, которую Наполеон преследовал с такой свирепой жестокостью; эти строки повторяла моя мать во всех горестях, которые постигли ее впоследствии. А я наотрез отказался понимать и принимать великую правду, которую они несли. Я не мог этого постигнуть. Прекрасно помню, как я говорил ей не один раз, что не желаю есть свой хлеб в печали, не хочу проводить ночь в слезах в ожидании еще более горького рассвета.
Я и не подозревал, что именно на это Рок осудил меня в будущем, что в течение целого года мне и вправду почти ничего другого и не оставалось. Но таков уж был удел, предназначенный мне; и в последние несколько месяцев, после страшной борьбы и усилий, я научился внимать урокам, которые сокрыты в самой сердцевине боли. Церковники и те, кто произносит фразы, лишенные мудрости, иногда говорят, что страданье — это таинство. На самом деле это — откровение. Вдруг делаешь открытия, о которых раньше и не подозревал. Всю историю в целом начинаешь воспринимать с иной точки зрения. И то, что лишь смутно, бессознательно чувствовал в Искусстве, теперь предстает перед тобой с кристальной и совершенной ясностью, запечатлевается с невиданной силой.
Теперь я вижу, что Страданье — наивысшее из чувств, доступных человеку, — является одновременно предметом и признаком поистине великого Искусства. Художник всегда ищет те проявления жизни, в которых душа и тело едины и неотделимы друг от друга; в которых внешнее является выражением внутреннего; в которых форма раскрывает суть. Существует немало таких проявлений жизни; юность и все искусства, посвященные юности, — вот один из примеров, приходящих нам в голову, а подчас нам нравится думать, что современный пейзаж в котором так тонко отражена вся изысканность чувств и впечатлений, который несет в себе отпечаток духа, обитающего во всех внешних формах и создающего свое облачение равно из земли и прозрачного воздуха или из тумана и городских улиц, пейзаж, который в унылом созвучии настроений, оттенков и красок раскрывает нам в живописи то, что греки умели воплотить с таким пластическим совершенством. Музыка, в которой суть сосредоточена в экспрессии и неотделима от нее, — это сложный пример того, о чем я хочу сказать, а ребенок или цветок — самый простой; но Страдание — высшая ступень совершенства, высший символ этого и в Жизни и в Искусстве. Радость и Смех могут скрывать за собой натуру грубую, жесткую и бесчувственную. Но за Страданием кроется одно лишь Страдание. Боль, в отличие от Наслаждения, не носит маски. Истина в Искусстве проявляется не в сочетании вечной идеи и преходящей формы; она — не в сходстве тела и его тени или образа, отраженного в кристалле, с самим образом; она — не эхо, отраженное от дальних холмов, и не источник серебряных вод в долине, показывающий Луне — Луну и Нарциссу — Нарцисса. Истина в Искусстве — это единение предмета с самим собою; внешнее, ставшее выражением внутреннего; душа, получившая воплощение; тело, исполненное духа. И поэтому нет истины, которая сравнилась бы со Страданием. Порой мне кажется, что Страдание — единственная истина. Иные вещи могут быть иллюзиями зрения или вкуса, созданными для того, чтобы ослепить глаза и притупить вкус, но из Страдания создана Вселенная, а дети и звезды рождаются в муках.
И более того — в Страдании есть необычайная, властная реальность. Я сказал о себе, что я был символом искусства и культуры своего века. Так вот — здесь, в этом забытом богом месте, вокруг меня нет ни одного пропащего существа, которое не было бы символом глубочайшей тайны жизни. Ибо тайна жизни — в страдании. Оно таится везде и повсюду. Когда мы вступаем в жизнь, сладкое сладостно для нас, а горькое — огорчительно, и мы неизбежно устремляем все свои желания к наслаждению и мечтаем не только «месяц или два питаться медом сот», а во всю свою жизнь не знать иной пищи, — не понимая, что тем временем, быть может, душа наша «истаивает от голода».
Я помню, как однажды разговорился об этом с самым прекрасным человеком из всех, кого мне довелось встречать, — с женщиной, чье сочувствие и благородная доброта ко мне и до и после моего трагического заключения не знают себе равных и недоступны для слов: с той женщиной, которая, сама того не подозревая, действительно помогла мне вынести бремя моих несчастий, как никто в целом мире; и только потому, что она живет на свете, потому что она такая, как есть, — одновременно идеальный образ и благотворное влияние, напоминанье о том, чем бы ты мог стать в сочетании с действенной помощью на этом пути, душа, превращающая затхлый воздух в свежесть и благоухание, а самые высокие духовные проявления — в явления столь же естественные, как солнечный свет или морская гладь; человек, для которого Красота и Страдание идут рука об руку и несут одну и ту же благую весть. Я совершенно ясно помню, как в разговоре, о котором идет речь, я сказал ей, что в одном тесном лондонском закоулке достанет горестей, чтобы доказать, что Бог не любит человека и что само наличие страдания — хотя бы это были всего-навсего слезы ребенка в уголке сада, пролитые из-за совершенного или несовершенного проступка, — уже беспросветно затмевает весь лик творения. И я был глубоко неправ. Она сказала мне об этом, но я не мог ей поверить. Я находился вне той сферы, где можно обрести такую веру. Теперь мне кажется, что только Любовь, какова бы они ни была, может объяснить тот неимоверный избыток страдания, которым переполнен мир. Другого объяснения я не нахожу. И я уверен, что никакого другого объяснения нет, и если Вселенная и вправду, как я сказал, создана из Страдания, то создана она руками Любви, потому что для человеческой Души, ради которой и создана Вселенная, нет иного пути к полному совершенству. Наслаждение — прекрасному телу, но Боль — прекрасной Душе.
Когда я говорю, что постиг все это, в моих словах звучит неподобающая гордыня. В дальней дали, подобно безупречной жемчужине, виднеется Град Господень. Он так прекрасен, что кажется — ребенок добежит туда за один летний день. Да, ребенку это по силам. Но для меня и мне подобных — все обстоит иначе. Можно прозреть во мгновение ока, но все это забывается за долгие часы, которые приходят свинцовой поступью. Как трудно остаться на тех «высотах, что доступны для души». Мыслим мы в Вечности, но медленно движемся сквозь Время — и я не хочу говорить ни о том, как томительно тянется время для нас, узников, ни об изнеможении и отчаянии, украдкой вползающих в наши темницы и в темницы наших сердец, возвращающихся с таким непостижимым упорством, что приходится волей-неволей убирать и подметать свой дом к их приходу, словно к приходу незваного гостя или сурового хозяина, или раба, чьим рабом ты стал по воле случая или по собственной воле.
И хотя теперь тебе покажется невероятным то, что я скажу, это все же истинная правда: тебе, живущему на свободе, в праздности и комфорте, легче внимать урокам Смирения, чем мне, хотя я каждый день становлюсь на колени и мою пол в своей камере. Потому что человек восстает против тюремной жизни, полной бесконечных лишений и запретов. И самое страшное не то, что эта жизнь разбивает сердце — сердца создаются, чтобы быть разбитыми, — но то, что она обращает сердце в камень. Иногда чувствуешь, что только непробиваемый медный лоб и язвительная усмешка дадут тебе силы пережить этот день. А на того, кто возмутился душой, не снизойдет благодать, если употреблять выражение, которое церковники так любят, — и любят вполне справедливо — добавлю я, — потому что и в жизни и в Искусстве возмущение замыкает слух души, и небесные звуки не достигают ее. И все же мне придется выучить эти уроки здесь, если я вообще хочу их выучить, и я должен радоваться и ликовать, если мои стопы направлены по верной дороге, а лицо обращено в сторону «врат, чье имя — Прекрасное», хотя бы мне предстояло много раз падать в грязь и часто сбиваться с дороги в тумане.
Эта новая жизнь — мне нравится так называть ее из любви к Данте — на самом деле, конечно, вовсе не новая жизнь, а простое продолжение, развитие или эволюция моей прежней жизни. Я помню, как сказал одному из своих друзей, когда мы были в Оксфорде, — мы бродили как-то утром накануне моих экзаменов по узеньким, звенящим от птичьего щебета дорожкам колледжа св. Магдалины, — что мне хочется отведать всех плодов от всех деревьев сада, которому имя — мир, и что с этой страстью в душе я выхожу навстречу миру. Таким я и вышел в мир, так я и жил. Единственной моей ошибкой было то, что я всецело обратился к деревьям той стороны сада, которая казалась залитой золотом солнца, и отвернулся от другой стороны, стараясь избежать ее теней и сумрака. Падение, позор, нищета, горе, отчаяние, страдания и даже слезы, бессвязные слова, срывающиеся с губ от боли, раскаяние, которое усеивает путь человека терниями, совесть, выносящая суровый приговор, самоуничижение, которое становится карой, несчастье, посыпающее голову пеплом, невыносимая мука, облекающая себя во вретище и льющая желчь в собственное питье, — все это отпугивало меня. И за то, что я не желал знаться ни с одним из этих чувств, меня заставили испробовать все их по очереди, заставили питаться ими — и долго, очень долго у меня не было иной пищи.
Я ничуть не жалею, что жил ради наслаждения. Я делал это в полную меру — потому что все, что делаешь, надо делать в полную меру. Нет наслаждения, которого бы я не испытал. Я бросил жемчужину своей души в кубок с вином. Я шел тропой удовольствий под звуки флейт. Я питался сотовым медом. Но жить так постоянно — было бы заблуждением, это обеднило бы меня. Мне нужно было идти дальше. В другой половине сада меня ждали иные тайны. И, конечно, все это было предсказано, предначертано в моем творчестве. Кое-что можно найти в «Счастливом Принце», кое-что — в «Юном Короле», особенно в тех строках, где Епископ обращается к коленопреклоненному юноше: «Тот, кто создал несчастье, не мудрее ли тебя?» — когда я писал эту фразу, она казалась мне не более чем фразой; и очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу «Дориана Грея»; в статье «Критик в роли художника» это переливается всеми цветами радуги; в «Душе человека» это написано просто и читается слишком легко; это один из рефренов, тема которого, постоянно возвращаясь, придает «Саломее» такое сходство с музыкальной пьесой и связывает ее воедино, как балладу; оно нашло свое воплощение в стихотворении в прозе о человеке, который бронзовую статую «Наслажденья, что живет лишь миг» должен перелить в изображенье «Скорби, что пребудет вечно». Иначе и не могло быть. В каждый момент своей жизни человек представляет собой не только то, чем он был, но и то, чем он станет. Искусство символично, потому что человек — это символ.
И если мне удастся добиться этого в полной мере, моя творческая жизнь найдет свое самое законченное воплощение. Потому что творческая жизнь — это просто самосовершенствование. Смирение художника проявляется в том, что он принимает с открытой душой все, что бы ни выпало на его долю, а Любовь художника — лишь то чувство Красоты, которое обнажает перед миром свое тело и свою душу. Патер в своем «Мариусе-эпикурейце» старается воссоединить жизнь художника с религиозной жизнью — в самом глубоком, прекрасном и строгом смысле слова. Но Мариус — по преимуществу зритель; хотя надо признать, что он идеальный зритель — из тех, кому дано «созерцать зрелище жизни с подобающими чувствами», по определению Вордсворта, считавшего это целью поэта; но все же не более чем зритель, и, быть может, зритель, слишком увлеченный прелестью Сосудов Святилища, чтобы заметить, что перед ним Святилище Скорби.
Я нахожу гораздо более глубокое и непосредственное соприкосновение подлинной жизни Христа с подлинной жизнью художника и испытываю острую радость при мысли, что задолго до того, как скорбь взяла меня в свои руки и предала меня колесованию, я писал в «Душе человека», что человек, стремящийся в своей жизни подражать Христу, должен всецело и неукоснительно оставаться самим собой, и привел в пример не только пастуха на холмах и узника в темнице, но и живописца, для которого весь мир — зрелище, и поэта, для которого весь мир — песня. Помню, я как-то сказал Андре Жиду, сидя с ним вместе в каком-то парижском кафе, что хотя Метафизика меня мало интересует, а Мораль — не интересует вовсе, но тем не менее все, когда-либо сказанное Платоном или Христом, может быть перенесено непосредственно в сферу искусства и найдет в ней свое наиболее полное воплощение. Это обобщение было столь же глубоко, как и ново.
Мы можем увидеть в Христе то полное слияние личности с идеалом, которое составляет истинное различие между классическим и романтическим Искусством и превращает Христа в подлинного предтечу романтического движения в жизни, но это не все: самую суть его личности, так же как и личности художника, составляло могучее, пламенное воображение. В сфере человеческих отношений он раскрывал то родственное внимание, которое в сфере Искусства является единственной тайной творчества. Он понимал проказу прокаженного, незрячесть слепого, горькое злосчастие тех, кто живет ради наслаждения, странную нищету богатых. Теперь тебе понятно — понятно ли? — что, написав мне в моем бедственном положении: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. Как только вы заболеете в следующий раз, я немедленно уеду», — ты был равно чужд и истинной природе художника, и тому, что Мэтью Арнольд называет «тайной Христа».[115] Если не первое, то второе могло бы дать тебе почувствовать, что все, происходящее с другим, происходит с тобой лично, и если ты хочешь, чтобы перед тобою была надпись, которую ты мог бы читать на рассвете и на закате, на го́ре и на радость, начертай на стенах своего дома буквами, доступными солнечной позолоте и лунному серебру: «Все, что происходит с другим, происходит с тобой», — и если кто-нибудь спросит, что означает эта надпись, можешь ответить, что она означает «Сердце Господа Иисуса Христа и разум Шекспира».
Да, место Христа — среди поэтов. Все его понимание Человечности порождено именно воображением и только через воображение может быть осуществлено. Человек был для него, чем Бог — для пантеиста. Он был первым, кто признал единство и равенство рассеянных племен. До него были боги и люди, и, почувствовав, через чудо сострадания, что в нем воплотилось и то и другое начало, он стал именовать себя то сыном Божьим, то сыном Человеческим, смотря по тому, кем он себя ощущал. Он больше, чем кто-либо за всю историю человечества, пробуждает в нас то ощущение чуда, к которому всегда взывает Романтизм. До сих пор мне кажется почти непостижимой мысль, что молодой поселянин из Галилеи смог вообразить, что снесет на своих плечах бремя всего мира: все, что уже свершилось, и все прошедшие страдания, все, чему предстоит свершиться, и все страдания будущего: преступленья Нерона, Цезаря Борджиа, Александра VI и того, кто был римским императором и Жрецом Солнца,[116] все муки тех, кому имя Легион и кто имеет жилище во гробах,[117] порабощенные народы, фабричные дети, воры, заключенные, парии, — те, кто немотствуют в угнетении и чье молчание внятно лишь Богу; и не только смог вообразить, но и сумел осуществить на деле, так что до наших дней всякий, кто соприкасается с его личностью, — пусть не склоняясь перед его алтарем и не преклоняя колен перед его служителями, — вдруг чувствует, что ему отпускаются его грехи во всем их безобразии, и красота его страдания раскрывается перед ним. Я говорил о нем, что Он стоит в одном ряду с поэтами.[118] Это правда. И Софокл и Шелли ему сродни. Но и сама его жизнь — чудеснейшая из всех поэм. Во всех греческих трагедиях нет ничего, что превзошло бы ее в «жалостном и ужасном».[119] И незапятнанная чистота главного действующего лица поднимает весь замысел на такую высоту романтического искусства, где страдания фиванского дома не идут в счет оттого, что они слишком чудовищны, и показывает, как ошибался Аристотель, утверждая в своем трактате о драме, что смотреть на муки невинного — невыносимо. Ни у Эсхила, ни у Данте — этих суровых мастеров нежности, — ни у Шекспира, самого человечного из всех великих художников, ни во всех кельтских мифах и легендах, где прелесть мира всегда туманится слезами, а жизнь человека — не более жизни цветка, не найти той прозрачной простоты пафоса, слившегося и сплетенного с тончайшим трагическим эффектом, которая сравняла бы их хотя бы приблизительно с последним актом Страстей Христовых. Тайная вечеря с учениками, один из которых уже продал его за деньги; смертельная скорбь в тихом, озаренном луной саду среди масличных деревьев; тот лицемерный друг, который приближается к нему, чтобы предать его поцелуем; и тот, все еще веривший в него и на котором, как на краеугольном камне, он надеялся основать Обитель Спасения для людей, отрекается от него прежде крика петуха на рассвете; его глубочайшее одиночество, покорность, приятие всего; и рядом с этим сцены, изображающие первосвященника, разодравшего в гневе свои одежды, и главного представителя государственной власти, который приказал принести воды в напрасной надежде омыть руки от крови невинного, обагрившей его навеки; и церемония венчания на царство Страдания, одно из самых дивных событий во всей известной нам истории; распятие Агнца невинного перед глазами его матери и ученика, которого он любил; солдаты, делящие ризы его между собою и об одежде его бросающие жребий; ужасная смерть, которой он даровал миру самый вечный из всех символов; и, наконец, его погребение в гробнице богача, в пеленах из египетского полотна с драгоценными ароматами и благовониями, словно он был царским сыном, — глядя на все это только с точки зрения искусства, чувствуешь себя благодарным за то, что самое торжественное богослужение в Церкви являет собой трагедийное действо без кровопролития, мистерию, представляющую даже Страсти своего Бога посредством диалога, костюмов, жестов; и я всегда с радостью и благоговением вспоминаю последнее, что нам осталось от греческого Хора, позабытого в Искусстве, — голос диакона, отвечающий священнику во время мессы.
И все же жизнь Христа по сути своей — идиллия, настолько полно могут Страдания и Красота слиться воедино в своем смысле и проявлении, хотя в финале этой идиллии завеса в храме разодралась, и настала тьма по всей земле, и к двери гроба привалили большой камень. Его всегда видишь юным женихом в сопровождении друзей, — да и сам он называет себя женихом, — или пастырем, идущим по долине со стадом, в поисках зеленой травы и прохладных источников, или певцом, стремящимся воздвигнуть из музыки стены Града Господня, или влюбленным, чью любовь не вмещает мир. Его чудеса кажутся мне изумительными, как наступленье весны, и столь же естественными. Мне нисколько не трудно поверить тому, что обаяние его личности было так велико, что от одного его присутствия мир нисходил на страждущие души, а те, кто касался его рук или одежды, забывали о боли; что когда он проходил по дорогам жизни, люди, некогда не понимавшие тайну жизни, вдруг постигали ее, а те, кто был глух ко всем голосам, кроме зова наслаждения, впервые слышали голос Любви и находили его «сладостным, как лира Аполлона»,[120] что злые страсти бежали от лица его, и люди, чья тусклая, тупая жизнь была всего лишь разновидностью смерти, вставали, словно из могилы, когда он призывал их; что, когда он учил на склоне горы, толпа позабыла и голод, и жажду, и заботы мира сего, а друзьям, внимающим ему за трапезой, грубая пища казалась изысканной, вода приобретала вкус доброго вина, и весь покой наполнялся ароматом и благоуханием нарда.
В «Жизни Иисуса»[121] Ренана — это благородное Пятое Евангелие можно было бы назвать Евангелием от св. Фомы — где-то сказано, что величайшее достижение Христа в том, что он заставил людей и после смерти любить себя так же горячо, как и при жизни. И вправду, если он занимает достойное место в ряду поэтов, то среди любящих ему принадлежит первое место. Он знал, что любовь — это потерянная тайна мироздания, которую тщетно разыскивают все мудрецы, и что только через любовь можно прикоснуться к сердцу прокаженного или к Стопам Божьим.
И — самое главное — Христос был величайшим из всех Индивидуалистов. Смирение, так же как и свойственное художнику приятие всего происходящего, — это всего лишь способ самовыражения. Христос всегда ищет одного — души человеческой. Он называет ее «Царством Божиим» — ή βασιλεία τοΰ υεοΰ и находит ее в каждом человеке. Он сравнивает ее с тем, что мало само по себе — с крохотным семечком, с горстью закваски, с жемчужиной. Ибо свою душу обретаешь только после того, как отрешишься от всех чуждых страстей, от всего, нажитого культурой, — от всего, чем ты владел, будь то дурное или хорошее.
Со всей мятежностью, свойственной моей натуре, со всем упорством, на которое была способна моя воля, я сопротивлялся ударам судьбы, пока у меня не осталось ничего на свете, кроме Сирила. Я стал узником и нищим. Я потерял доброе имя, положение в обществе, счастье, свободу, богатство. Но одно бесценное сокровище у меня сохранилось — это был мой родной сын, мой первенец. Внезапно закон вырвал его у меня. Это был такой сокрушительный удар, что я не знал, как жить дальше, и тогда я бросился на колени, склонил голову и со слезами сказал: «Тело ребенка — то же, что тело Господне; я недостоин ни того, ни другого». Мне кажется, что эта минута меня спасла. Я увидел, что мне остается только одно — со всем примириться. И с тех пор — как бы странно это ни показалось тебе — я стал счастливее. Ведь я постиг собственную душу, прикоснулся к самой ее высшей сути. Во многом я вел себя как ее злейший враг, но я увидел, что она встретила меня как друга. Когда прикасаешься к собственной душе, становишься простым, как дитя, — таким, как заповедал Христос.
Трагедия людей в том, что лишь немногие «владеют собственной душой», пока к ним не придет смерть. Эмерсон говорит: «Самостоятельный поступок — вот что реже всего встречается в человеке».[122] Это совершенно справедливо. Человек часто бывает не самим собой, а кем-то другим. Мысли большинства людей — это чьи-то чужие мнения, их жизнь — подражание, их страсти — заемные страсти. Христос был не только величайшим, но и самым первым Индивидуалистом в Истории. Люди пытались представить его заурядным филантропом, уподобляя его отталкивающим филантропам девятнадцатого века, или называли его Альтруистом, причисляя к людям непросвещенным и сентиментальным. Но он не был ни тем, ни другим. Конечно, он жалел бедняков и тех, кто брошен в темницы, униженных, несчастных — но еще большую жалость вызывали у него богатые, те, кто упорно гонится за наслажденьями, те, кто теряет свободу, отдаваясь в рабство вещам, те, кто носит тонкие одежды и живет в королевских покоях. Богатство и Наслаждение казались ему гораздо более глубокой трагедией, чем Бедность и Страданье. А что касается Альтруизма, то кто лучше него понимал, что нами правит призванье, а не пристрастье и что нельзя собирать виноград с терновника и смоквы с репейника?
Его кредо было не в том, чтобы сделать своей осознанной, определенной целью жизнь для других. Не это лежало в основе его убеждений. Когда он говорит: «Прощайте врагам вашим», — он говорит это не ради твоего врага, а ради тебя самого, и только потому, что Любовь прекраснее Ненависти. Увещевая юношу, которого он полюбил с первого взгляда, он говорит ему: «Продай все, что имеешь, и раздай нищим» — думая не о нужде бедняков, а о душе юноши, которую богатство губило. В своих взглядах на жизнь он заодно с художником, который знает, что по непреложному закону самосовершенствования поэту должно петь, скульптору — отливать свои мысли в бронзе, а художнику — превращать мир в зеркало своих настроений — столь же неизбежно и непременно, как шиповнику должно цвести по весне, зерну — наливаться золотом к жатве, а Луне — превращаться из щита в серп и из серпа в щит в своих предначертанных странствиях.
Но хотя Христос и не говорил людям: «Живите ради других», — он указал, что нет никакого различия между чужой и своей жизнью. И этим он даровал человеку безграничную личность, личность Титана. С его приходом история каждого отдельного человека стала — или могла бы стать — историей всего мира. Конечно, спору нет — Культура сделала человеческую личность ярче. Искусство вселило в нас мириады душ. Те, кто наделен темпераментом художника, удаляются в изгнание вместе с Данте и познают, как горек чужой хлеб и как круты чужие лестницы; они на минуту проникаются безмятежной ясностью Гете и все же так хорошо понимают, отчего Бодлер воззвал к Богу:
O Seigneur, donnez-moi la force et le courage
De contempler mon corps et mon coeur sans deégoû.[123]
Из сонетов Шекспира эти люди, — быть может, на свою беду, — вычитывают тайну его любви и присваивают ее себе; они новым взглядом смотрят на окружающую их жизнь только потому, что услышали один из ноктюрнов Шопена, или подержали в руках вещи, созданные греками, или прочли историю любви давно умершего мужчины к давно умершей женщине, чьи волосы были похожи на тончайшие золотые нити, а губы напоминали зерна граната. Но все сочувствие артистического темперамента по праву отдается лишь тому, что нашло свое выражение. В словах ли или в цвете, в музыке или в мраморе, через раскрашенные маски Эсхиловой трагедии и через просверленные и соединенные стебли камыша сицилийского пастуха человек должен раскрыться и подать о себе весть.
Для художника экспрессия — это вообще единственный способ постижения жизни. То, что немо, — для него мертво. Но для Христа это было не так. Почти священный ужас вызывает дивная сила воображения, которым он охватил весь мир бессловесного, весь безгласный мир боли, и принял его в царствие свое, а сам навеки сделался его голосом. Тех, о ком я уже говорил, кто немотствует под гнетом и «чье молчанье внятно только Богу», он назвал братьями. Он старался стать глазами слепца, ушами глухого, воплем на устах того, чей язык присох к гортани. Он мечтал стать для мириад, не имеющих голоса, трубным гласом, взывающим к Небесам. И с проницательностью художника, для которого Горе и Страдания были теми ипостасями, через которые он мог выразить свое понимание Прекрасного, он почувствовал, что ни одна идея не имеет цены, пока она не воплощена и не превратилась в образ, и сделал самого себя образом и воплощением Скорбящего Человека — и тем самым зачаровал и покорил Искусство, как не удавалось ни одному из греческих богов.
Ведь греческие боги, как бы розоперсты и легконоги они ни были, во всей своей красе были не тем, чем казались. Крутое чело Аполлона было подобно солнечному диску, выплывающему из-за холмов на рассвете, а ноги его были словно крылья утра, но сам он жестоко обошелся с Марсием и отнял детей у Ниобеи; в стальных щитах очей Паллады не отразилась жалость к Арахне; пышность и павлинья свита Геры — это все, что в ней было истинно благородного; и Отец богов слишком уж часто пленялся дочерьми человеческими. В греческой мифологии были два образа, несущих в себе глубокий смысл: для религии это Деметра, богиня земных даров, не принадлежащая к сонму олимпийцев, для искусства — Дионис — сын смертной женщины, для которой час его рожденья стал часом ее смерти.
Но Жизнь породила среди самых бедных, самых смиренных людей того, кто был чудеснее матери Прозерпины или сына Семелы. Из мастерской плотника в Назарете вышла личность, бесконечно более грандиозная, чем все герои мифов и легенд, тот, кому было суждено, как ни странно, открыть миру мистическое значение вина и подлинную красоту полевых лилий — как никому и никогда не удавалось ни на Кифероне, ни в Энне.
Он считал, что стих Исайи «он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни; и мы отвращали от Него лице свое»[124] — это предсказание, относящееся к нему, и в нем пророчеству суждено было исполниться. Не надо бояться подобных фраз. Произведения искусства, все до единого, — исполнения пророчеств. Потому что каждое произведение искусства — это превращение замысла в образ. И все без исключения человеческие существа должны быть исполнением пророчеств. Ибо каждый человек должен стать воплощением какого-то идеала или в сознании Бога, или в сознании человека. Христос нашел и увековечил прообраз, и в нем, чьего прихода ждал мир, в медлительном шествии веков воплотился сон какого-то поэта, подобного Вергилию,[125] то ли в Иерусалиме, то ли в Вавилоне. «Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид его — паче сынов человеческих»,[126] — вот признаки, которые Исайя отметил как приметы нового идеала, и как только Искусство постигло значение этих слов, этот идеал раскрылся, как цветок, в присутствии того, в ком истина Искусства, в свою очередь, раскрылась с неведомой ранее полнотой. Ведь истина в Искусстве, как я уже говорил,[127] и есть «то, в чем внешнее является выражением внутреннего; в чем душа становится плотью, а тело проникается духом — в чем форма выявляет суть», не так ли?
По-моему, печальнее всего тот поворот истории, из-за которого собственно Возрождение Христово, создавшее Шартрский собор, цикл легенд о короле Артуре, жизнь святого Франциска Ассизского, творчество Джотто и «Божественную Комедию» Данте, было прервано и искажено тем унылым классическим Ренессансом, который дал нам Петрарку, фрески Рафаэля, архитектуру школы Палладио, классическую французскую трагедию, и Собор св. Павла, и поэзию Попа, и все то, что создается извне, по омертвелым канонам, а не вырывается изнутри, вдохновленное и продиктованное неким духом. Но где бы мы ни встречали романтическое движение в Искусстве, там в разных формах и обличьях — мы найдем Христа или душу Христа. Он присутствует и в «Ромео и Джульетте» и в «Зимней сказке», и в поэзии провансальских трубадуров, и в «Старом моряке», и в «Беспощадной красоте», и в чаттертоновской «Балладе о милосердии».
Ему мы обязаны существованием самых несходных творцов и творений. «Отверженные» Гюго, Бодлеровы «Цветы зла», отзвук сострадания в русских романах,[128] витражи, гобелены и произведения Берн-Джонса и Морриса в стиле кватроченто, Верлен и стихотворения Верлена — все это в той же мере принадлежит ему, как и Башня Джотто, Ланселот и Джиневра, Тангейзер, мятежные романтические изваяния Микеланджело и «пламенеющая» готика, как любовь к детям и к цветам — по правде сказать, цветам и детям было отведено так мало места в классическом искусстве, что им почти негде было расцвести или порезвиться, но начиная с двенадцатого столетия и до наших дней они постоянно появляются в искусстве, в разные времена и под разными обличьями, они приходят нежданно и своенравно, как умеют только дети и цветы. Весною всегда кажется, будто цветы прятались и выбежали на солнце только потому, что испугались, как бы взрослым людям не наскучило искать их и они не бросили поиски, а жизнь ребенка — не более чем апрельский день, который несет нарциссу и дождь и солнце.
Именно благодаря присущему его натуре дару воображения Христос и стал животрепещущим сердцем романтики. Прихотливые образы поэтической драмы и баллады созданы воображением других, но самого себя Иисус Назареянин сотворил силой собственного воображения. Вопль Исайи, собственно говоря, относился к его пришествию нисколько не больше, чем песня соловья к восходу луны, — не больше но, быть может, и не меньше. Он был в равной мере и отрицанием и подтверждением пророчества. Каждой оправданной им надежде соответствует другая, которую он разбил. Бэкон говорит, что всякой красоте присуща некая необычность соотношений,[129] а Христос говорит о всех рожденных от духа, то есть о тех, кто, как и сам он, представляет собой действенную силу, что они подобны ветру, который «дышит, где хочет,[130] и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». В этом и кроется его неодолимое для художников обаяние. Он несет в себе все яркие краски жизни: таинственность, необычайность, пафос, наитие, экстаз, любовь. Он взывает к ощущению чуда и сам творит то единственное состояние души, которое позволяет постигнуть его.
И я с радостью вспоминаю, что если сам он «отлит из одного воображенья»,[131] то ведь и весь мир создан из того же материала. В «Дориане Грее» я говорил,[132] что все грехи мира совершаются в мыслях, но ведь и все на свете тоже совершается в мыслях. Теперь мы уже знаем, что видим не глазами и слышим не ушами. Они всего-навсего органы, точно или искаженно передающие наши ощущения. Только в нашем мозгу мак алеет, яблоко благоухает и жаворонок звенит.
В последнее время я довольно прилежно изучал четыре поэмы в прозе, написанные о Христе. На рождество мне удалось достать греческое Евангелие, и теперь по утрам, покончив с уборкой камеры и вычистив посуду, я понемногу читаю Евангелие, выбирая наугад десяток-другой стихов. Начинать таким образом каждый день чудесно. Как важно было бы тебе, в твоей беспорядочной бурной жизни, так же начинать свой день. Это принесло бы тебе громадную пользу, а греческий текст совсем не труден. Бесконечные, ко времени и не ко времени, повторенья[133] отняли у нас наивность, свежесть и очарованье романтической простоты Нового завета. Нам его читают вслух слишком часто и слишком дурно, а всякое повторение убивает духовность. Когда возвращаешься к греческому тексту, кажется, что вышел из тесного и темного дома в сад, полный лилий.
А мне это приносит двойную радость, когда я подумаю, что, вполне вероятно, там встречаются ipsissima verba,[134] которые произносил Иисус. Всегда считали, что Христос говорил по-арамейски. Так думал даже Ренан. Но теперь мы знаем, что галилейские крестьяне владели двумя языками, как и ирландские крестьяне в наши дни, а греческий язык был общепринятым разговорным языком не только в Палестине, но и везде на Востоке. Мне всегда было неприятно думать, что слова Христа мы знаем только по переводу перевода. И меня радует то, что его разговорная речь, по крайней мере, позволила бы Хармиду[135] слушать его, Сократу — спорить с ним, а Платону — понимать его; что он действительно сказал: έγωείμι ó ποιμήν ó καλς — «я есмь пастырь добрый»;[136] что, когда он размышлял о лилиях полевых и о том, что они не трудятся, не прядут, его собственные слова были: καταμάυτυ τά κρίνα τοΰ άγροΰ, τως αυξάνει ου κοπιά ουδέ νήυει[137] и что, когда он воскликнул: «Жизнь моя завершилась, ее назначение исполнено, она достигла совершенства», — последнее его слово было именно то, которое нам сообщил св. Иоанн: τετέλεσται[138] — и только.
Читая Евангелия, в особенности от Иоанна — какой бы ранний гностик ни присвоил себе его имя и плащ, — я вижу не только постоянное утверждение воображения как основы всей духовной и материальной жизни, но понимаю, что воображение Христа было просто воплощением Любви и что для него Любовь была Богом в самом полном смысле слова. Недель шесть тому назад тюремный врач разрешил давать мне белый хлеб вместо черствого черного или серого хлеба, входящего в обычный рацион заключенных. Это величайшее лакомство. Тебе, конечно, странно подумать, что сухой хлеб для кого-то может быть лакомством. Но, уверяю тебя, для меня это такой деликатес, что каждый раз после еды я собираю все крошки до последней со своей оловянной тарелки и с грубого полотенца, которое мы подстилаем, чтобы не запачкать стол, и я подбираю их не от голода — теперь мне еды хватает, — но только ради того, чтобы ничто, доставшееся мне, не пропало даром. Так же надо относиться и к любви.
Христос, как и все, кто обладает неотразимым личным обаянием, не только умел сам говорить прекрасные слова, но своей силой заставлял и других говорить ему прекрасные слова; я люблю у св. Марка рассказ о греческой женщине — γυνή Σλχηνίς, — когда Христос, чтобы испытать ее веру, сказал ей, что не хорошо взять хлеб у детей Израиля и бросить псам. Она отвечала, что и маленькие собачки — κυνάρια — это надо переводить, как «маленькие собачки» — под столом едят крохи, упавшие со стола у детей. Большинство людей добиваются любви и преклонения. А надо бы жить любовью и преклонением. Если кто-то любит нас, мы должны сознавать себя совершенно недостойными этой любви. Никто недостоин того, чтобы его любили. И то, что Бог любит человека, означает, что в божественном строе идеального мира предначертано, что вечная любовь будет отдана тому, кто вовеки не будет ее достоин. А если тебе показалось, что эту мысль слишком горько выслушивать, скажем, что каждый достоин любви, кроме того, кто считает себя достойным ее. Любовь — это причастие, которое надо принимать коленопреклонно, и слова «Domine, non sum dignus»[139] должны быть на устах и в сердцах принимающих его. Мне хотелось бы, чтобы ты хоть иногда задумывался над этим. Тебе это так насущно необходимо.
Если я когда-нибудь снова стану писать — я имею в виду художественное творчество, — то выберу только две темы: первая — «Христос как предтеча романтического движения в жизни», вторая — «Исследование жизни художника в соотношении с его поведением».[140] И первая из них, конечно, невероятно увлекательна, потому что в Христе я вижу не только все черты, присущие высочайшему романтическому образу, но и все нечаянности, даже причуды романтического темперамента. Он первый из всех сказал людям, что они должны жить «как цветы полевые». Он увековечил эти слова. Он назвал детей образцом, к которому люди должны стремиться. Он поставил их в пример старшим — я тоже всегда считал, что в этом — главное назначение детей, если совершенству пристало иметь назначение. Данте говорит о душе человеческой, которая выходит из рук Бога, «смеясь и плача, как малое дитя», — и Христос тоже знал, что душа каждого человека должна быть а guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia.[141] Он чувствовал, что жизнь изменчива, текуча, действенна и что сковывать ее какой бы то ни было формой — смерти подобно. Он знал, что люди не должны излишне серьезно относиться к вещам материальным, ежедневным; что быть непрактичным — великое дело, что о делах не следует слишком заботиться. «Если птицы так живут, зачем человеку беспокоиться?» Как прекрасно он говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Душа не больше ли пищи и тело — одежды?»[142] Последнюю фразу мог бы сказать любой из греков. Она проникнута эллинистическим духом. Но только Христос мог сказать обе фразы и этим дать нам полное и законченное определение жизни.
Вся его нравственность заключается в сочувствии, — именно такой ей и следует быть. Если бы он сказал за всю свою жизнь только эти слова: «Прощаются ей грехи ее за то, что возлюбила много», — то ради этого стоило умереть. Его справедливость была справедливостью поэтической — как ей и следует быть. Нищий попадает на небо, потому что он был несчастен. Я не могу представить себе лучшего ответа на вопрос, за что его туда взяли. Работники, собиравшие виноград всего один час в вечерней прохладе, получают плату, равную с теми, кто весь день напролет трудился под палящим солнцем. Что в этом удивительного? Быть может, никто из них вообще ничего не заслуживал. Или, может быть, это были разные люди. Христос терпеть не мог тупые, безжизненные, механические системы за то, что они относятся к людям, как к неодушевленным предметам, а значит, и обращаются со всеми одинаково: как будто любой человек (или неодушевленный предмет, если уж на то пошло) может быть похож на что-нибудь еще в целом мире. Для него не было правил — а были только исключения.
То, что представляет собой истинный лейтмотив романтического искусства, для него было правомерной основой действительной жизни. Другой основы он не видел. И когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, напомнили ему приговор, положенный ей по закону, и спросили, что с ней сделать, он продолжал писать перстом на песке, словно не слыша их, и наконец оттого, что они приступали к нему снова и снова, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Ради того, чтобы сказать эти слова, стоило жить.
Как и все поэтические натуры, он любил людей простых и необразованных.[143] Он знал, что в душе невежественного человека всегда найдется место для великой идеи. Но он не выносил тупиц — в особенности тех, кого оглупило образование, — людей, набитых мнениями, в которых они ничего не смыслят; это тип — характерный для современности, описанный Христом: те, кто взял ключ разумения, сами не вошли и другим воспрепятствовали, хотя бы это был ключ от Царствия Небесного. Он боролся прежде всего с фарисеями. Это война, которая суждена каждому сыну света. Фарисейство было главной чертой века и общества, в котором он жил. Своей косной недоступностью новым идеям, своей тупой добропорядочностью, своей назойливой ортодоксальностью, преклонением перед дешевым успехом, безоглядной одержимостью, грубой, материальной стороной жизни и смехотворной переоценкой себя и своих достоинств иерусалимские иудеи тех дней были как две капли воды похожи на наших британских обывателей. Христос высмеивал эти «гробы повапленные» добропорядочности и заклеймил их этими словами навеки. С неприязнью смотрел он на мирские успехи. Он их ни во что не ставил. Он считал, что богатство обременяет человека. Он слышать не хотел о том, что можно принести чью-то жизнь в жертву какой бы то ни было системе мышления или нравственных правил. Он утверждал, что правила и обряды созданы для человека, а не человек — для правил и обрядов. Почитание Субботы было для него одной из вещей, не стоящих внимания. Холодную филантропию, показную общественную благотворительность, скучные формальности, столь любезные сердцу заурядного человека, он разоблачал гневно и неустанно. То, что называется ортодоксальностью, кажется нам всего лишь необременительным бездумным соблюдением правил, но тогда и в их руках оно превращалось в ужасную, парализующую тиранию. Христос отметал ее. Он показал, что дух — единственная ценность. Он с большим удовольствием говорил им, что хотя они и читают без конца Пятикнижие и Книги Пророков, но не имеют о них ни малейшего представления. В противовес тем, кто расписывал каждый день на части, соблюдая закосневшие в своей рутинности предписанные обряды, как дают десятину с мяты и руты, он учил, насколько необходимо и важно всецело жить данной минутой.
Те, кому он отпустил грехи, были спасены просто за то, что в их жизни были прекрасные минуты. Мария Магдалина, увидев Христа, разбивает драгоценный алавастровый сосуд, подаренный ей одним из семерых ее любовников, и льет благовонные масла на его усталые, запыленные ноги — и за эту единственную минуту она вечно восседает теперь рядом с Руфью и Беатриче в кущах снежно-белой Райской розы.[144] Мягким увещеванием своим Христос говорит нам одно: что каждая минута должна быть прекрасна, что душа должна всегда быть готова к приходу Жениха, всегда должна прислушиваться к голосу Возлюбленного. Фарисейство — это та сторона человеческой природы, которая не озаряется светом воображения, а он все чудесные проявления жизни представляет себе в виде игры Света: само воображение для Него свет мира — τòφως τοΰ κοσμοΰ; мир сотворен воображением, и все же оно недоступно пониманию мира, потому что воображение — просто проявление Любви, а только любовью, или способностью любить, и отличается один человек от другого.
Но в своем отношении к Грешнику — вот где он достигает предельного романтизма, в смысле наивысшей реальности Мир издревле любил Святого за то, что он приблизился, насколько это возможно, к божественному совершенству. Мне кажется, что Христос любил Грешника, неким божественным инстинктом прозревая в нем наибольшую близость к человеческому совершенству. Он не ставил превыше всего ни стремление исправлять людей, ни стремление избавить их от страданий. Он не ставил себе целью превращать интересного разбойника в скучного честного человека. Общество Вспомоществования Узникам и другие подобные затеи не встретили бы его одобрения. Сделать из Мытаря Фарисея — это никак не показалось бы ему великим достижением. Но взглядом, пока еще непостижимым для мира, он видел, что грех и страдание — это нечто само по себе прекрасное, святое, исполненное совершенства. Эта идея выглядит опасной. Верно. Все великие идеи всегда опасны. Но нет ни малейшего сомнения в том, что это был символ веры Христа. И у меня нет ни малейшего сомнения, что этот символ веры и есть истина.
Конечно, грешник должен каяться. Но почему? Только лишь потому, что без этого он не сумеет осознать то, что сотворил. Минута раскаяния — это минута посвящения. И более того. Это путь к преображению собственного прошлого. Греки считали, что это невозможно. Среди их гномических афоризмов часто встречается утверждение: «Даже Боги не в силах переменить прошлое».[145] Христос показал, что это доступно даже самому отпетому грешнику. И это единственное, что тот может сделать. Я совершенно уверен, что если бы спросили самого Христа, он ответил бы, что в тот момент, когда блудный сын пал в ноги своему отцу с рыданиями, он воистину преобразил в прекрасные и святые события своей жизни и то, что он расточил свое имение с блудницами, и то, что пас свиней и рад был бы пойлу, которое они ели. Большинству людей трудно понять эту мысль. Мне думается — чтобы понять ее, нужно попасть в тюрьму. А если так, то ради этого стоило попасть в тюрьму.
Да, в Христе есть нечто единственное и неповторимое. Конечно, бывают перед рассветом ложные рассветы, и порой зимний день внезапно заиграет таким ярким солнцем, что обманутый крокус примется расточать свое золото прежде времени, а какая-нибудь глупая пташка — звать свою пару и строить гнездо на голых ветвях; были и христиане прежде Христа. Нам следует быть благодарными за это. Но все горе в том, что после него христиан уже не стало. Я допускаю одно исключение — св. Франциска Ассизского.[146] Но ведь ему Господь даровал от рождения душу поэта, а сам он в ранней юности обручился с Нищетой и сочетался с ней мистическим браком; обладая душой поэта и телом нищего, он не встретил трудностей на пути к совершенству. Он понял Христа и поэтому уподобился ему. Нам не нужно читать Liber Conformitatum,[147] чтобы узнать, что жизнь св. Франциска была истинным Imitatio Christi,[148] поэмой, в сравнении с которой книга, носящая то же название, звучит как простая проза. Да, именно в этом, как подумаешь, и заключается все обаяние Христа. Он сам — настоящее произведение искусства. У него не обучаешься ничему, но в его присутствии ты сам становишься чем-то иным. Хотя бы единственный раз в своей жизни каждый из нас идет с Иисусом в Эммаус.
Выбор другой темы: «соотношение жизни художника и его поведения», несомненно, покажется тебе странным. Люди, указывая на Редингскую тюрьму, говорят: «Вот куда творческая жизнь привела человека». Что ж, она могла бы привести в места и похуже этого. Люди механические, те, для кого жизнь — хитроумная спекуляция, основанная на скрупулезном расчете средств и путей, всегда знают, куда стремятся, и всегда туда попадают. Такой человек с самого начала хочет стать приходским служкой, и в какую бы сферу деятельности он ни попал, он останется только приходским служкой. Человек, кому хочется сделаться другим, а не самим собой, — стать членом парламента, удачливым лавочником, выдающимся стряпчим или судьей или кем-то столь же скучным, — неизменно добивается того, чего хочет. В этом его наказание. Тем, кто хотел иметь маску, приходится носить ее.
Но действенные силы жизни и те, в ком они воплощаются, проявляют себя по-другому. Люди, единственным стремлением которых становится самопознание, никогда не знают, куда идут. И знать этого они не могут. В определенном смысле слова, разумеется, необходимо «познать самого себя», как советовал греческий оракул. Это первое достижение познания. Но понять, что душа человека непознаваема, — это высшее достижение Мудрости. Ты сам — последняя из всех тайн. Можно взвесить на весах солнце, измерить ход луны и нанести на карту все семь небесных сфер, звезда за звездой, но все еще не познать самого себя. Кто может исчислить орбиту собственной души? Когда сын Киса пошел искать ослиц своего отца, он не знал, что посланец Бога уже ожидает его, чтобы помазать на царство, и что сама душа его уже стала Царственной Душой.
Я надеюсь, что проживу достаточно долго и мне удастся создать такое творение, чтобы в конце дней своих я мог сказать: «Да, вот к чему творческая жизнь приводит художника». Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина:[149] оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России. А в последние семь или восемь месяцев, несмотря на то что на меня одна за другой сыпались страшные беды, проникавшие сюда из внешнего мира, я вступил в непосредственное соприкосновение с новым духом,[150] который проявляет себя здесь, в тюрьме, через людей и вещи, и который помог мне так, что выразить это словами невозможно; и если в первый год заключения я только и знал, что ломать руки в бессильном отчаянии, твердя: «Какой конец! Какой ужасный конец!» — и не помню, делал ли хоть что-нибудь другое, то теперь я стараюсь твердить себе, и порой, когда я не терзаю самого себя, я могу искренне сказать: «Какое начало! Какое чудесное начало!» Может быть, это правда. Это может стать правдой. И если это исполнится, я буду непомерно обязан тому новому влиянию, которое изменило жизнь каждого человека в этой тюрьме.
Вещи сами по себе ничего не значат — давайте хоть раз отблагодарим Метафизику за ее уроки, то есть вещи не существуют в реальности. Только дух имеет истинное значение. Наказание может быть применено таким образом, чтобы оно исцеляло, а не наносило раны, так же как и милостыню можно подавать так, что хлеб обращается в камень в руке дающего. Ты сможешь понять, какая настала перемена — не в уставе, потому что он утвержден железными правилами, но в самом духе, который использует устав как свое внешнее выражение, если я скажу тебе, что, выйди я отсюда в мае прошлого года, как мне хотелось, я покинул бы тюрьму, ненавидя ее и всех ее работников такой жгучей ненавистью, что она отравила бы всю мою жизнь. Я провел в заключении еще целый год, но Человечность обитала в тюрьме рядом со всеми нами, и отныне, когда бы я ни вышел отсюда, я всегда буду помнить ту великую доброту, которой меня дарили почти все окружающие, и в день своего освобождения я буду благодарить многих людей и просить их не забывать меня, как и я их не забуду.
Тюремная система абсолютно, вопиюще несправедлива. Я отдал бы все на свете, чтобы изменить ее, когда я выйду отсюда. Я намерен попытаться сделать это. Но нет в мире ничего столь неправедного, чего дух Человечности, то есть дух Любви, дух Христа, обитающий вне храмов, не смог бы исправить, пусть не до конца, но, по крайней мере, настолько, чтобы несправедливость можно было снести, не ожесточаясь сердцем.
Я знаю также, что за стенами тюрьмы меня ждет столько радостей — начиная с тех, кого св. Франциск Ассизский называет «брат мой, ветер» и «сестра моя, буря», — это такие чудесные вещи! — и кончая витринами магазинов и закатами в больших городах. Если я начну перечислять все, что мне осталось, то не смогу поставить точку — ведь Бог создал этот мир и для меня, не меньше, чем для других. Быть может, я вынесу отсюда что-то, чего у меня раньше не было. Я не стану напоминать тебе, что моральная «реформация» кажется мне столь же бессмысленной и пошлой, как и реформации теологические. Но если обещание исправиться и стать лучше — просто образчик невежественного пустословия, то сделаться более глубоким человеком — заслуженная привилегия тех, кто страдал. И мне кажется, что я стал таким. Ты можешь сам судить об этом.
Если после того, как меня выпустят, мой друг устроит пиршество и не пригласит меня, я ничуть не обижусь. Я умею быть совершенно счастливым наедине с собой. Да кто же не был бы счастлив, владея свободой, книгами, цветами и луной? Кроме того, пиры теперь не для меня. Я так много их устраивал, что они потеряли для меня всякий интерес. С этой стороной жизни я покончил — к счастью, могу прибавить. Но если после моего освобождения друга постигнет горе и он не позволит мне разделить его, я горько, горько обижусь. Если он затворит передо мной двери дома, погруженного в траур, я буду возвращаться снова и снова, умоляя, чтобы меня впустили и разрешили мне разделить горе, потому что это я заслужил. Если он сочтет, что я недостоин, что мне не пристало плакать с ним вместе, я почувствую самое острое и болезненное унижение, и нет более ужасного способа предать меня позору и бесчестью. Но это не может случиться. Я заслужил право соучастия в Скорби, а тот, кто может впивать всю прелесть мира, разделять его горести и отчасти постигать чудо того и другого, вступает в непосредственное соприкосновение с божественными истинами и подходит к тайне Бога так близко, насколько это возможно.
Может статься, что в моем творчестве, как и в моей жизни, прозвучит голос еще более глубокий, говорящий о высшем согласии страстей, о неуклонности стремлений. Истинная цель современного Искусства — не широта, а глубина и сила. В Искусстве нас больше не интересует типичное. Нам нужно заниматься исключительным. Само собой разумеется, что мои страдания я не могу изобразить в том виде, какой они приняли в жизни. Искусство начинается лишь там, где кончается Подражание. Но в моем творчестве должно проявиться нечто новое, — может быть, более полная гармония слов или более богатый ритм, более необычные цветовые эффекты, более строгий архитектурный стиль, — во всяком случае, какое-то новое эстетическое достоинство.
Когда Марсий был «вырван из ножон своих телесных»[151] — dalla vagina delle membre sue, — употребляя самые страшные, самые тацитовские слова, какие только есть у Данте, — он позабыл свои былые песни, говорят греки. Аполлон одержал победу. Лира победила свирель. Но, может быть, греки заблуждались. В современном Искусстве я часто слышу плач Марсия. У Бодлера он полон горечи, у Ламартина — нежной жалобы, у Верлена — мистики. Он звучит в медленных блужданиях музыки Шопена. Он — в тревоге на всегда повторяющихся лицах женщин Берн-Джонса. Даже у Мэтью Арнольда, который в своей песне Калликла воспевает «триумф сладчайшей неотразимой лиры, славную последнюю победу» в таких прозрачных и прекрасных лирических строках, — даже в его стихах, проникнутых неотвязным и тревожным отзвуком сомнения и отчаяния, этот плач слышится ясно. Ни Гете, ни Вордсворт не могли исцелить его, хотя за каждым из них он следовал в свой час, а когда ему нужно было оплакать «Тирсиса» или воспеть «Бродячего школяра»,[152] то, стараясь передать свою мелодию, он берет в руки тростниковую свирель. Но безмолвствовал или нет Фригийский Фавн — я не могу молчать. Выразить себя мне так же необходимо, как черным ветвям деревьев, мятущимся на ветру над тюремной стеной, необходимо одеться листвой и процвести. Между моим творчеством и миром теперь разверзлась пропасть, но между мной и Искусством нет разлада. По крайней мере, я на это надеюсь.
Нам с тобой выпали разные жребии. Тебе в удел досталась свобода, наслаждения, развлечения, праздная жизнь — а ведь ты этого недостоин. Мне выпало на долю публичное бесчестье, долгое заключение, несчастье, разоренье, позор — и я этого тоже не заслужил, по крайней мере, пока еще не заслужил. Помню, я нередко говорил, что сумею вынести трагедию,[153] если она посетит меня в пурпурном плаще и маске, подобающих благородной скорби, но что самая ужасная черта нашего времени — то, что оно умеет вырядить Трагедию в одежды Комедии, придавая великим событиям оттенок вульгарности, шутовства или дурного вкуса. В отношении современности это совершенно верно. Может быть, это так же справедливо и в отношении действительности в любой век. Говорят, что для зеваки любое мученичество всегда казалось унизительным.[154] И девятнадцатый век не представляет собой исключения из этого общего правила. В моей трагедии все было чудовищно, низменно, отвратительно, лишено пристойности. Наше платье — и то превращает нас в шутов. Мы — паяцы страданья. Мы — клоуны с разбитыми сердцами. Мы для того и созданы, чтобы над нами потешались. Тринадцатого ноября 1895 года меня привезли сюда из Лондона. С двух часов до половины третьего я был выставлен на всеобщее обозрение на центральной платформе Клафамской пересадочной станции в наручниках и платье каторжника. Из тюремной больницы меня увезли совершенно неожиданно. Я представлял собой самое нелепое зрелище. Увидев меня, люди покатывались со смеху. И с прибытием каждого нового поезда толпа все разрасталась. Ее веселье было безгранично. И это еще до того, как люди узнали, кто я такой. А когда им это сообщили, они стали хохотать еще громче. Полчаса я стоял под свинцовым дождем, осыпаемый издевательствами толпы.
Целый год после того, как меня подвергли этому позору, я плакал каждый день в то же время, те же полчаса. Это не так трагично, как ты можешь вообразить. Для тех, кто сидит в тюрьме, слезы — привычное времяпрепровождение. И если в тюрьме выпадает день, когда нет слез, — то это не значит, что у человека легко на сердце, — это значит, что сердце его ожесточилось.
Но теперь мне и вправду становится жаль тех, кто смеялся, больше, чем самого себя. Разумеется, они увидели меня отнюдь не на пьедестале. Я был выставлен в колодках у позорного столба. Но только люди, начисто лишенные воображения, интересуются фигурами на пьедесталах. Пьедестал может быть призрачным, нереальным. Позорный столб — ужасающая реальность. Не мешало бы этим людям разобраться получше и в природе страдания. Я говорил, что за Страданием всегда кроется только Страдание. Но можно сказать лучше — за страданием всегда кроется душа. А издеваться над страждущей душой — это ужасно. И поистине неприглядна жизнь тех, кто на это способен. В мире действует удивительный по простоте закон экономии; люди получают только то, что дают, — и те, у кого не хватило воображения, чтобы отбросить все внешнее и проникнуться жалостью, — могут ли они рассчитывать на жалость, не смешанную с презрением?
Я рассказал тебе, как меня сюда перевозили, только для того, чтобы ты понял, как мне трудно извлечь из своего наказания что-нибудь, кроме горечи и отчаяния. И все же мне придется это сделать, и порой меня уже посещают минуты смирения и кротости. В одном-единственном бутоне может затаиться вся весна, а в гнездышке жаворонка на голой земле — все ликованье, которое многократно провозгласит и поторопит приход алых утренних зорь, — может быть, и все то, что мне осталось прекрасного в жизни, сосредоточено в некоей минуте самоуничижения, кротости и смирения. Так или иначе, я могу двигаться дальше, согласно предначертаниям моего собственного развития, и стать достойным того, что со мной произошло, достойно приняв все, что выпало мне на долю. Обычно говорили, что во мне слишком много индивидуализма. Я должен стать еще большим индивидуалистом, чем когда-либо раньше. Я должен брать у самого себя гораздо больше, чем раньше, и ждать от мира гораздо меньше. Ведь причиной всех моих несчастий был не избыток индивидуализма в жизни, а скорее недостаток. В моей жизни был один позорный, непростительный, достойный презрения во все времена поступок, — я допустил, чтобы меня вынудили просить у Общества помощи и защиты от твоего отца. С точки зрения индивидуалиста вовсе не подобало подавать жалобу на кого бы то ни было, а уж тягаться с человеком такого характера и такого облика — совершенно непростительно.
Разумеется, стоило мне привести в движение Общественные силы, как Общество обратилось ко мне с вопросом: «Вел ли ты жизнь, согласную с моими законами, что взываешь теперь к защите этих законов? Ты сполна испытаешь действие этих законов на самом себе. Ты должен жить по тем законам, к которым прибегаешь за помощью». И кончилось это тем, что я — в тюрьме. И с какой горечью я сознавал всю постыдность и нелепость своего положения, видя, как во время всех трех моих процессов, начиная с суда первой инстанции, твой отец непрестанно вбегает и выбегает из зала суда, стараясь привлечь к себе всеобщее внимание, как будто кто-нибудь мог не заметить или не запомнить эту походочку и одеяние конюха, эти кривые ноги, судорожно дергающиеся руки, отвисшую нижнюю губу, эту скотскую ухмылку полоумного. Я чувствовал его присутствие и тогда, когда его не было, и когда я его не видел, и подчас мне казалось, что голые мрачные стены зала суда и даже воздух вокруг заполнены бесчисленными слепками с этой обезьяньей физиономии. Да, никому еще до меня не приходилось падать так низко и от таких презренных рук. Где-то в «Дориане Грее» я писал, что «нужно с крайней осмотрительностью выбирать себе врагов».[155] Я и не подозревал тогда, что пария сделает самого меня парией. Я презираю тебя так бесконечно именно за то, что ты настаивал, заставляя меня обратиться к помощи Общества, а самого себя осуждаю так же строго за то, что поддался на твои уговоры. То, что ты не ценил во мне художника, вполне простительно. Это в твоем характере и от тебя не зависело. Но ты мог бы ценить во мне Индивидуалиста. Для этого никакой культуры не требуется. Это оказалось тебе не по силам, и ты внес дух фарисейства, обывательский дух в ту жизнь, которая вся была постоянным протестом против него, а в некоторых отношениях и полным его отрицанием. Обывательский дух в жизни — это не просто неспособность понимать Искусство. Такие чудесные люди, как рыбаки, пастухи, пахари, крестьяне и им подобные, ничего не знают об искусстве, а они — воистину соль земли. Обыватель — это тот, кто помогает и содействует тяжким, косным, слепым механическим силам Общества, кто не способен разглядеть силы динамические — ни в человеке, ни в каком-либо начинании.
Люди считали, что я ужасно веду себя, задавая обеды в таком дурном обществе,[156] да еще и получая от этого удовольствие. Но с той точки зрения, с которой я, художник, смотрел на этих людей, они были восхитительны, они вдохновляли, вливали в меня жизнь. Это было все равно, что пировать с пантерами. Опасность придавала всему остроту. Я чувствовал себя, как заклинатель змей, когда он выманивает кобру из-под пестрого платка или из тростниковой корзины, заставляет ее по приказу раздувать капюшон и раскачиваться в воздухе медленно, как водяное растение, колеблемое течением. Для меня они были самыми ослепительными из всех золоченых змей. Их смертоносность была частью их совершенства. Я не ведал, что им предстоит напасть на меня, плясать под твою дудку, а их ядовитый укус будет оплачен твоим отцом. Я нисколько не стыжусь знакомства с ними. Они были необычайно интересны. А вот той отвратительной обывательской атмосферы, в которую ты меня стащил, я стыжусь. Мне, как художнику, подобало иметь дело с Ариэлем. Ты заставил меня схватиться с Калибаном.[157] И вместо того, чтобы создавать играющие изумительными красками музыкальные вещи, подобные «Саломее», «Флорентийской трагедии» и «La Sainte Courtisane»,[158] я был вынужден посылать твоему отцу длиннейшие юридические письма и искать помощи в том, против чего я всегда восставал. Клибборн и Аткинс[159] вели себя потрясающе в своей постыдной схватке с жизнью. Встречи с ними были поразительными приключениями. На моем месте Дюма-отец, Челлини, Гойя, Эдгар Аллан По и Бодлер поступили бы точно так же. А вот что я не могу вспомнить без отвращения — это наши с тобой нескончаемые визиты к поверенному Хэмфрису,[160] когда мы сидели в бьющем в глаза свете этой ледяной комнаты с серьезными лицами и всерьез лгали этому лысому человеку, пока я не начинал буквально стонать и зевать от тоски и отвращения. Так вот где я оказался после двух лет дружбы с тобой — в самой середине Страны Фарисеев, вдалеке от всего прекрасного, блестящего, чудесного и дерзкого, смелого. И в конце концов мне пришлось ради тебя выступить борцом за Респектабельность в поведении. Пуританство в жизни и Мораль в Искусстве. Voilà où mènent les mauvais chemins![161]
И вот что меня удивляет — ты как будто стараешься подражать своему отцу, проявляя те же черты характера. Я никак не могу понять, почему он стал для тебя образцом, когда должен был стать предостережением, — впрочем, когда двое ненавидят друг друга, их словно связывает какой-то союз, некое братство. Мне думается, что по какому-то странному закону антипатии по сходству вы ненавидели друг друга не за то, что вы так несхожи во многих чертах, а за то, что в некоторых чертах вы так похожи друг на друга. Когда ты ушел из Оксфорда в июне 1893 года, не получив диплома и наделав долгов — долгов пустяковых, но ощутимых для состояния твоего отца, он написал тебе крайне вульгарное, грубое и оскорбительное письмо. Письмо, которым ты ему ответил, было еще хуже во всех отношениях и куда меньше заслуживало оправдания, и именно поэтому ты им ужасно гордился. Я очень хорошо помню, с каким самодовольным видом ты заявил мне, что можешь перещеголять своего отца в его «делах». Бесспорно. Но что это за дела! Что это за соперничество! Ты часто осыпал насмешками и вышучивал своего отца за то, что он уехал из дома твоего кузена и не стал там жить только ради того, чтобы посылать ему из соседнего отеля грязные и оскорбительные письма. Но сам ты всегда поступал со мной точно так же. Ты неизменно завтракал со мной в каком-нибудь ресторане, дулся или устраивал мне сцену во время ленча, а потом уходил в Уайт-клуб и писал мне письмо самого гнусного содержания. В одном только ты отличался от своего отца — отослав мне письмо с нарочным, ты несколько часов спустя являлся ко мне на квартиру — не с извиненьями, а только для того, чтобы справиться, заказал ли я обед в «Савое», а если нет, то по какой причине. Случалось, что ты являлся даже раньше, чем я успевал прочесть твое оскорбительное послание. Помню, как-то раз ты попросил меня пригласить к ленчу в «Кафе-Рояль» двух твоих друзей, один из которых был мне совершенно незнаком. Я пригласил их и по твоему настоянию заранее заказал особенно роскошный ленч. Я помню, что был вызван chef и ему были даны особые указания насчет вин. Но к ленчу ты не явился, а прислал злобное письмо прямо в Кафе с таким расчетом, чтобы его принесли, когда мы уже прождали тебя целых полчаса. Я пробежал глазами первую строчку, понял, в чем дело, и, положив письмо в карман, объяснил твоим друзьям, что ты внезапно занемог, и дальше в письме говорится о симптомах твоего недомогания. Признаться, я прочел это письмо только вечером, когда переодевался к обеду на Тайт-стрит. Как раз когда я пробирался сквозь всю эту грязь, с бесконечной грустью спрашивая себя, как ты можешь писать письма, которые можно сравнить только с пеной на губах эпилептика, слуга доложил мне, что ты ждешь в холле и хочешь во что бы то ни стало увидеться со мной хотя бы на пять минут. Я послал просить тебя подняться ко мне. Ты вошел — лицо у тебя было действительно бледное и перепуганное — и стал умолять меня о помощи и просить совета, потому что ты узнал, что поверенный из Лэмли разыскивал тебя в доме на Кэдоган-сквер, и боялся, что тебе угрожают старые оксфордские неприятности или какая-нибудь новая опасность. Я тебя успокоил, убедил, что это, должно быть, всего-навсего счет от какого-нибудь торговца — так оно и оказалось, — я оставил тебя обедать и позволил тебе провести со мной весь вечер. Ты ни словом не обмолвился о своем чудовищном письме; я тоже промолчал. Я отнесся к нему просто как к несчастной вспышке несчастного характера. Мы никогда больше не затрагивали эту тему. Для тебя не было ничего необычного в том, чтобы, отправив мне оскорбительное письмо в 2:30, примчаться ко мне за помощью в тот же день в 7:15. Это вошло у тебя в привычку. В этом отношении, как и во многих других, ты оставил далеко позади своего отца. Когда в суде читали вслух его отвратительные письма к тебе, ему, естественно, стало стыдно, и он лил крокодиловы слезы. Но если бы его адвокат прочитал твои письма к нему, все почувствовали бы еще больший ужас и отвращение. Ты не только перещеголял его в его «делах» в области стиля, но и далеко превзошел в приемах нападения. Ты использовал телеграммы с открытым текстом и почтовые открытки. Я считаю, что подобные способы досаждать людям ты мог бы оставить таким типам, как Альфред Вуд,[162] — для них это единственный источник заработка. Ты не согласен? То, что для него и ему подобных было профессией, тебе доставляло радость, злобную радость. Ты не бросил свою отвратительную привычку писать оскорбительные письма и после того, что случилось со мной из-за них и благодаря им. Ты до сих пор видишь в этом одно из своих достижений и продолжаешь упражнять свои таланты в отношении моих друзей, тех, кто скрасил мою тюремную жизнь своей добротой, как Роберт Шерарду и другие. Это позорно. Ты должен быть благодарен Роберту Шерарду за то, что он, узнав от меня, что я не хочу, чтобы ты публиковал в «Меркюр де Франс» какую бы то ни было статью, с письмами или без них, довел это до твоего сведения и помешал тебе причинить мне — быть может, невольно — новую боль, вдобавок к той, что ты мне уже причинил. Ты должен помнить, что в английской газете можно опубликовать покровительственное, обывательское письмо о «честной игре» с «человеком, который пал». Оно будет лишь продолжением старинных традиций английской прессы, ее привычного отношения к художникам. Но во Франции такой тон вызовет насмешки надо мной и презрение к тебе. Я не мог допустить публикации статьи, пока не узнал, какова ее цель, настроение, подход к вещам и тому подобное. В искусстве благие намерения ничего не стоят. Все дурное в искусстве — следствие благих намерений.
Ты писал желчные и обидные письма не только Роберту Шерарду, но и всем моим друзьям, которые считали нужным принимать во внимание мои чувства и пожелания во всем, что касается меня лично: в публикации статей обо мне, в огласке моих писем и подарков и так далее. Ты оскорблял или пытался оскорбить очень многих.
Подумал ли ты когда-нибудь о том, в каком ужасном положении я оказался бы, если бы последние два года, отбывая тяжкое наказание, я зависел бы от твоей дружбы? Думал ли ты об этом? Почувствовал ли ты хоть раз благодарность к тем, кто облегчил мое тяжкое бремя своей безграничной добротой, беззаветной преданностью, радостной и бодрой щедростью, кто посещал меня все время, писал мне прекрасные, полные сочувствия письма, занимался моими делами, устраивал мою будущую жизнь, не покидал меня среди всех поношений, злословия, неприкрытых издевательств и прямых оскорблений? Я благодарю Господа каждый день за то, что он дал мне друзей, несхожих с тобой. Им я обязан всем. Все книги, какие только есть в моей камере, оплатил из своих карманных денег Робби. Когда меня выпустят, платье для меня будет куплено на те же средства. Мне не стыдно принимать то, что дается любовью и преданностью. Я этим горжусь. Но задумался ли ты хоть раз над тем, чем были для меня мои друзья[163] — Мор Эди, Робби, Роберт Шерард, Фрэнк Гаррис и Артур Клифтон, какое утешенье, помощь, преданность и сочувствие принесли они мне? Мне кажется, что ты об этом и не подозреваешь. И все же, имей ты хоть каплю воображения, ты бы понял, что нет ни единого человека среди тех, кто сделал мне добро в моей тюремной жизни — начиная от тюремщика, который желает мне доброго утра или спокойной ночи, хотя это не входит в его обязанности, — до простых полисменов, которые старались бесхитростно и грубовато по мере сил утешать меня, когда меня таскали в суд по делам несостоятельных должников и обратно, и я был вне себя от душевных мук, — и вплоть до последнего жалкого воришки, который, узнав меня, когда мы брели по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне глухим голосом, охрипшим от долгого вынужденного молчания: «Жалко мне вас — таким, как вы, потруднее, чем нам», — повторяю, ты должен был бы гордиться, если бы любой из этих людей разрешил тебе стать на колени перед ним и стереть грязь с его башмаков.
Хватит ли у тебя воображения, чтобы понять, какой ужасной трагедией обернулась для меня встреча с твоим семейством? Какая бы это была трагедия для любого, у кого есть что терять — высокое положение, громкое имя или вообще что-нибудь ценное? Едва ли найдется хоть кто-нибудь в твоей семье — исключая Перси,[164] он славный человек, — кто так или иначе не содействовал бы моей гибели.
Я не без горечи говорил тебе о твоей матери, и я всерьез советую тебе показать ей это письмо — главным образом для твоей же собственной пользы. И если ей будет больно читать подобные обвинения против одного из своих сыновей, пусть вспомнит, что моя мать, равная по своему интеллекту[165] Элизабет Баррет Браунинг,[166] а по историческому значению — мадам Ролан,[167] умерла от горя, потому что ее сын, чьим гением и творчеством она так гордилась, кого считала достойным носителем славного имени, был приговорен к двум годам принудительных работ. Ты спросишь, чем твоя мать содействовала моей гибели. Я скажу тебе. Точно так же, как ты старался свалить на мои плечи всю свою безнравственную ответственность, она старалась валить на меня всю свою нравственную ответственность за тебя. Вместо того чтобы обсудить твою жизнь с тобой лично, она всегда писала мне украдкой, со страхом заклиная меня не выдавать ее. Ты видишь, в каком положении я оказался между тобой и твоей матерью. Два раза — в августе 1892 года и 8 ноября того же года — я имел долгие беседы с ней о тебе. Оба раза я спрашивал ее, почему она не хочет поговорить прямо с тобой. И оба раза она мне отвечала: «Я боюсь: он так сердится, когда с ним заговариваешь». В первый раз я так мало знал тебя, что не понял, о чем она говорит. Во второй раз я знал тебя так хорошо, что прекрасно понял ее. (Между этими двумя встречами у тебя был приступ желтухи, доктор послал тебя на неделю в Борнемут, и ты уговорил меня поехать с тобой, потому что не выносил одиночества.) Но самый первый долг матери — не бояться серьезно говорить со своим сыном. Было бы гораздо лучше, если бы она серьезно поговорила с тобой о тех неприятностях, которые у тебя были в июле 1892 года, если бы она заставила тебя во всем ей признаться, в конце концов это было бы лучше для вас обоих. Она совершила ошибку, тайком, за твоей спиной вступив в переписку со мной. Какую пользу принесли бесчисленные записочки, которые твоя мать посылала мне в конвертах с надписью «лично», умоляя меня не приглашать тебя так часто к обеду и не давать тебе денег и каждый раз прибавляя: «Ни в коем случае не говорите Альфреду, что я вам писала»? Что хорошего могло выйти из этой переписки? Разве ты когда-нибудь ждал, чтобы тебя пригласили к обеду? Никогда. Ты считал себя в полном праве обедать, завтракать и ужинать вместе со мной. Если я протестовал, у тебя всегда было одно возражение: «Но с кем же мне еще обедать, если не с вами? Вы же не думаете, что я стану обедать дома?» Что тут было отвечать? А когда я наотрез отказывался приглашать тебя обедать, ты каждый раз угрожал мне какой-нибудь глупой выходкой и всегда исполнял угрозу. Что же могли принести те письма, которыми меня засыпала твоя мать, кроме того, к чему они и привели — вся моральная ответственность была неразумно и губительно переложена на мои плечи. Я не хочу больше перечислять те проявления ее слабости и боязни, которые принесли столько горя ей самой, тебе и мне, но, узнав, что твой отец явился ко мне в дом и устроил отвратительную сцену, перешедшую в серьезный скандал, неужели она не могла догадаться, что назревает серьезный кризис, и предпринять какие-то серьезные шаги, чтобы избежать его? Но единственное, что ей пришло в голову — это послать ко мне сладкоречивого лицемера Джорджа Уиндхема,[168] чтобы он уговорил меня — на что же? «Постепенно отдалиться от тебя!»
Можно подумать, что мне удалось бы постепенно от тебя отдалиться! Я все перепробовал, чтобы так или иначе покончить с нашей дружбой, — я дошел до того, что уехал из Англии за границу и оставил неверный адрес, в надежде одним ударом разорвать те узы, которые стали для меня докучными, нестерпимыми и разорительными. Неужели ты думаешь, что я мог «постепенно отдалиться от тебя»? Неужели ты думаешь, что твой отец на этом бы успокоился? Ты знаешь, что это не так. Не прекращенья нашей дружбы, а публичного скандала — вот чего добивался твой отец. Именно к этому он стремился. Его имя годами не появлялось в газетах. Он увидел, что открывается возможность появиться перед британской публикой в совершенно новом обличье — в образе любящего отца. Это подхлестнуло его страсть. Если бы я порвал нашу дружбу, для него это было бы ужасным разочарованием, и едва ли он смог бы утешиться той глухой славой, которую ему принес второй бракоразводный процесс. Нет, он искал популярности, и выступить поборником чистоты, как это называется, при современных настроениях британской публики — самый верный способ стать героем на час. Про эту публику я говорил в одной из своих пьес, что если полгода она пребывает Калибаном, то на остальные полгода становится Тартюфом,[169] и твой отец, в котором воистину воплотились оба характера, был самой судьбой предназначен стать достойным представителем Пуританства в его самом агрессивном и характерном виде. И никакое постепенное отдаление от тебя ничего бы не дало, даже если бы и было осуществимо. Разве ты не понял, что единственное, что должна была сделать твоя мать — это позвать меня и в присутствии твоего брата категорически заявить, что нашей дружбе нужно во что бы то ни стало положить конец? Во мне она нашла бы самую горячую поддержку, а при мне и в присутствии Драмланрига она могла бы говорить с тобой без страха. Но она не пошла на это. Она страшилась своей ответственности и попыталась переложить ее на меня. Одно письмо она мне все же написала. Оно было очень короткое: она просила меня не посылать к отцу письмо адвоката, в котором содержалось предостережение ему, в случае если он не отступится. И она была совершенно права. Мне советоваться с адвокатами и просить их защиты было нелепо. Но всю пользу, которую могло бы принести ее письмо, она уничтожила обычной припиской: «Ни в коем случае не говорите Альфреду, что я вам писала!» Одна мысль, что я пошлю письма своего поверенного твоему отцу и тебе, приводила тебя в восторг. Это была твоя идея. Я не мог сказать тебе, что твоя мать не одобряет эту выдумку, потому что она связала меня самыми торжественными обещаниями никогда не упоминать о ее письмах ко мне, и я, как это ни глупо, сдержал свое обещание. Разве ты не понимаешь, как она была неправа, отказываясь от личного разговора с тобой? Что все эти переговоры со мной за твоей спиной, записочки, переданные с черного хода, — все это было ошибкой. Никто не может переложить свою ответственность на другого. Все равно она неизбежно возвращается к своему прежнему хозяину. У тебя было одно-единственное представление о жизни, одна философская идея — если предположить, что ты способен философствовать: за все, что бы ты ни делал, расплачиваться должны другие; я говорю не о деньгах — это было просто практическое применение твой философии к обыденной жизни, — в более широком и глубоком смысле это означает желание переложить всю ответственность на других. Ты превратил это в свое кредо. Это было тебе очень выгодно. Ты заставил меня действовать, зная, что твой отец не захочет подвергать какой-либо опасности твою жизнь или тебя самого, я же готов до последнего вздоха защищать и тебя, и твою жизнь, и приму на свои плечи все, что придется. Ты был абсолютно прав. И твой отец, и я — мы оба, разумеется, по совершенно разным причинам, вели себя именно так, как ты рассчитывал. И все-таки, несмотря ни на что, тебе не удалось выйти сухим из воды. «Теория отрока Самуила» — назовем ее так для краткости — не так уж плоха для широкой публики. В Лондоне к ней могут отнестись с презрением, а в Оксфорде — встретить кривой усмешкой, но только потому, что и там и тут есть люди, которые тебя хорошо знают, и потому, что везде ты оставил следы своего пребывания. Но весь мир вне узкого круга, за пределами этих двух городов, видит в тебе славного молодого человека, который едва не вступил на дурной путь — по наущению испорченного и безнравственного писателя, но был в последнюю минуту спасен добрым и любящим родителем. Звучит вполне убедительно. И все же ты сам знаешь, что уйти тебе не удалось. Я говорю не о том глупейшем вопросе,[170] заданном дураком-присяжным, на который ни прокурор, ни судья не обратили никакого внимания. До этого никому не было дела. Быть может, то, что я говорю, касается главным образом самого тебя. Когда-нибудь тебе все же придется задуматься над своим поведением, и ты не сможешь оправдаться в собственных глазах, не посмеешь одобрить то, что произошло. Втайне ты должен глубоко стыдиться самого себя. Обращать к миру невозмутимый лик бесстыдства — это великолепно, но хотя бы время от времени, наедине с собой, без зрителей, тебе, я думаю, приходится срывать эту личину — просто для того, чтобы можно было дышать. А то ведь недолго и задохнуться.
Так и твоя мать, должно быть, порой сожалеет о том, что попыталась переложить свою серьезнейшую ответственность на другого человека, который и без того нес нелегкое бремя. Она была для тебя не только матерью, она заменяла тебе и отца. Но исполнила ли она истинный родительский долг? Если я терпел твой дурной нрав, твою грубость, твои скандалы, то она тоже могла бы с этим примириться. Когда я в последний раз виделся с женой — с тех пор прошло уже четырнадцать месяцев, — я сказал, что теперь ей придется быть не только матерью, но и отцом нашему Сирилу. Я рассказал ей о том, как твоя мать относилась к тебе, подробнейшим образом — так же как и в этом письме, но, конечно, гораздо откровеннее. Я рассказал ей всю подоплеку бесконечных писем с надписью «лично» на конверте, которые твоя мать присылала на Тайт-стрит[171] так часто, что жена моя всегда смеялась и шутила, что мы, видно, пишем вместе светскую хронику или что-нибудь в этом роде. Я умолял ее не относиться к Сирилу так, как твоя мать относилась к тебе. Я говорил ей, что она должна воспитать его так, чтобы, если ему случится пролить кровь невинного, он пришел бы и признался ей, и она сначала омыла бы его руки, а потом научила бы, как очистить и душу путем раскаяния или искупления. Я сказал ей, что, если она боится принять на себя всю ответственность за жизнь другого человека, даже если это ее собственное дитя, пусть возьмет себе в помощь опекуна. Она так и сделала, к моей великой радости. Она выбрала Андриана Хоупа[172] — человека старинного рода, высокой культуры и прекрасной репутации, он приходится ей кузеном; ты видел его один раз на Тайт-стрит: с ним Сирила и Вивиана ожидает, я верю, прекрасное будущее. И твоя мать, раз уж она боялась серьезно поговорить с тобой, должна была бы выбрать среди твоих родственников кого-нибудь, кого ты мог бы послушаться. Но она не должна была бояться. Ей следовало бы смело высказать тебе все начистоту. Теперь посмотри сам, что вышло. Разве она теперь рада и спокойна?
Знаю, что она во всем винит меня. Я слышу об этом не от тех, кто знаком с тобой, но от людей, которые тебя не знают и знать не желают. Я часто слышу об этом. К примеру, она говорит о влиянии старшего на младшего. Такую позицию она постоянно занимает, когда затрагивают этот вопрос, и встречает сочувствие, опираясь на всеобщее предубеждение и неосведомленность. Стоит ли мне спрашивать тебя, какое я имел на тебя влияние? Ты сам знаешь, что никакого. Ты часто хвалился этим — воистину, это единственное, чем ты мог хвалиться по праву. Собственно говоря, было ли в тебе что-нибудь, на что я мог влиять? Твой ум? Он был недоразвит. Твое воображение? Оно было мертво. Твое сердце? Оно еще не родилось. Среди всех людей, чьи пути пересекались с моей жизнью, ты был единственным — да, единственным, — на кого я не мог оказать никакого влияния — ни хорошего, ни дурного. Когда я лежал больной, беспомощный, в лихорадке, которую получил, ухаживая за тобой, моего влияния на тебя не хватило даже для того, чтобы ты дал мне хоть стакан молока, или проследил, чтобы у меня было все, необходимое больному, или затруднил себя, чтобы проехать до ближайшей книжной лавки и купить мне книгу за мои же деньги. Даже тогда, когда я сидел и писал, набрасывая комедии, которым было суждено превзойти блеском Конгрива, глубиной философии — Дюма-сына[173] и, на мой взгляд, всех остальных вместе взятых — во всех иных отношениях, — я не мог оказать на тебя достаточного влияния, чтобы ты оставил меня в покое, а покой совершенно необходим всякому художнику. Где бы я ни устраивал свой рабочий кабинет, ты превращал его в обычную гостиную, где можно курить, попивать рейнвейн с зельтерской и болтать всякую чепуху. «Влияние старшего на младшего» — прекрасная теория, пока она не доходит до моего слуха. Тогда она превращается в нелепицу. А когда она доходит до твоего слуха, ты, наверное, улыбаешься — про себя. Ты безусловно имеешь на это право. Я узнаю и многое из того, что твоя мать говорит о деньгах. Она утверждает — и совершенно справедливо, — что неустанно заклинала меня не давать тебе денег. Я подтверждаю это. Писала она ко мне неустанно, и в каждом из бесчисленных писем был постскриптум: «Умоляю, не говорите Альфреду, что я вам писала». Но мне-то не доставляло никакого удовольствия оплачивать все твои расходы, от утреннего бритья до кэба в полночь. Мне это безумно надоедало. Я не раз говорил тебе об этом. Я часто говорил — ты помнишь, не так ли? — что мне претит твое отношение ко мне, как к «нужному» человеку, который «может быть полезным», что ни один художник не хотел бы, чтобы с ним так обращались: художники, как и само Искусство, по своей природе совершенно бесполезны. Ты страшно злился, когда я говорил тебе об этом. Правда всегда раздражала тебя. Правду и в самом деле мучительнее всего выслушивать и мучительнее всего высказывать. Но она не повлияла ни на твой образ жизни, ни на твои взгляды. Каждый день я должен был платить за все, что бы ты ни делал в течение этого дня. Только человек немыслимо добрый или неописуемо безрассудный мог пойти на это. К несчастью, во мне эти качества слились воедино. Когда мне случалось упоминать о том, что твоей матери следовало бы снабжать тебя деньгами на расходы, у тебя всегда был готов прелестный и изящный ответ. Ты говорил, что содержание, которое ей выделяет твой отец, — кажется, что-то около 1500 фунтов в год, — совершенно недостаточно для леди такого ранга и что ты не можешь просить у нее еще денег вдобавок к тем, которые она тебе дает. Ты был совершенно прав — ее доход никак не соответствовал ни ее положению, ни ее привычкам, но ты не должен был под этим предлогом вести роскошную жизнь на мой счет: напротив, тебе следовало, зная об этом, жить самому гораздо скромнее. Все дело в том, что ты был — и, полагаю, остался — типичным сентиментальным человеком. Ибо сентиментальный человек — это тот, кто хочет позволить себе роскошь чувствовать, не платя за это. Мысль поберечь кошелек твоей матери была прекрасна. Перекладывать все расходы на меня было отвратительно. Ты полагаешь, что можно жить чувствами бесплатно. Нет, нельзя даже за самые благородные, за самые самоотверженные чувства приходится расплачиваться. И, как ни странно, именно это и придает им благородство. На интеллектуальную и эмоциональную жизнь заурядных людей нельзя смотреть без презрения. Подобно тому как они берут свои мысли напрокат в некоей разъездной библиотечке идей — у Zeitgeist[174] нашего века, лишенного души, — и в конце каждой недели возвращают их захватанными и растрепанными, они всегда стараются брать свои чувства в кредит и не желают платить, когда им присылают счет. Тебе пора расстаться с такими взглядами на жизнь. Когда тебе придется расплачиваться за чувство, ты узнаешь ему цену — и только выиграешь от этого. И помни, что сентиментальный человек всегда в глубине души — циник. Ведь сентиментальность — всего лишь праздничная прогулка цинизма. И какой бы заманчивой ни казалась интеллектуальная сторона цинизма, теперь, когда он переселился из Бочки в Клуб,[175] он стал всего лишь самой удобной философией для человека, лишенного души. У цинизма есть некоторая общественная ценность, а художнику интересны все оттенки самовыражения, но сам по себе он мало чего стоит, потому что истинному цинику неведомы откровения.
Мне кажется, что теперь, если ты вспомнишь о деньгах своей матери и своем отношении к моим деньгам, тебе нечем будет гордиться, и, может быть, когда-нибудь, если ты и не покажешь матери это письмо, ты все же объяснишь ей, что жил на мой счет, нисколько не считаясь с моими желаниями. В такую причудливую, и для меня лично невыразимо стеснительную, форму вылилась твоя любовь ко мне. То, что ты полностью зависел от меня во всех самых больших и самых мелких расходах, придавало тебе в собственных твоих глазах все очарование детства, и ты полагал, что, заставляя меня платить за все твои удовольствия, ты открыл секрет вечной юности. Признаюсь, мне очень больно слышать, что говорит обо мне твоя мать, и я уверен, что, поразмыслив, ты согласишься со мной, что если уж у нее не находится ни слов сожаления или соболезнования о том разорении, которое ваша семья навлекла на мою семью, то лучше бы ей было просто промолчать. Разумеется, нет никакой необходимости показывать ей те места моего письма, где я говорю о своем духовном развитии или о тех отправных пунктах, которых я надеюсь достигнуть. Это ей будет неинтересно. Но то, что касается только твоей жизни, я показал бы ей, будь я на твоем месте.
И будь я на твоем месте, я бы не хотел, чтобы меня любили не за то, что я есть. Человеку ни к чему обнажать свою жизнь перед миром. Мир ничего не понимает. Но люди, чья любовь тебе дорога, — это другое дело. Мой большой друг[176] — нашей дружбе уже десять лет — недавно посетил меня здесь и сказал, что не верит ни единому слову, сказанному против меня, и хочет, чтобы я знал, что в его глазах я ни в чем не повинен — я просто жертва чудовищного заговора, сфабрикованного твоим отцом. Услышав это, я залился слезами и ответил ему, что, несмотря на то что в недвусмысленных обвинениях твоего отца было много лжи, много приписанного мне отвратительным злопыхательством, но все же моя жизнь была полна извращенных наслаждений и странных страстей, и если он не сможет взглянуть в лицо фактам и полностью осознать их, дружба с ним для меня будет уже невозможна и встречаться с ним я не смогу. Для него это был ужасный удар, но мы остались друзьями, и я не пытался завоевать эту дружбу притворством и лицемерием. Я сказал тебе, что высказывать правду — мучительно. Обречь себя на вынужденную ложь — много хуже.
Вспоминаю, как я, сидя на скамье подсудимых во время последнего заседания суда, слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд[177] — в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства в Риме, — и услышанное повергало меня в болезненный ужас. Но вдруг мне пришло в голову: «Как это было бы прекрасно, если бы я сам говорил это о себе!» Я внезапно понял, — совершенно несущественно, что говорят о человеке. Важно одно — кто это говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что высочайший момент в жизни человека — когда он падает на колени во прах и бьет себя в грудь, и исповедуется во всех грехах своих. Это относится и к тебе. Ты был бы гораздо счастливее, если бы сам рассказал своей матери хоть бы кое-что о своей жизни. Я довольно много рассказал ей в декабре 1893 года, но, само собой разумеется, мне приходилось ограничиваться общими местами и о многом умалчивать. И это никак не придало ей смелости в отношениях с тобой. Наоборот. Она отворачивалась от правды еще более упорно, чем раньше. Если бы ты все рассказал ей сам, все обернулось бы иначе. Быть может, мои слова часто кажутся тебе слишком резкими. Но от фактов ты не можешь отпереться. Все обстояло именно так, как я говорил, и если ты прочел это письмо с подобающим вниманием, ты встретился с самим собой лицом к лицу.
Я написал тебе так много и подробно, чтобы ты понял, чем ты был для меня до моего заточения, все три года, пока тянулась эта роковая дружба; чем ты был для меня во время моего заточения, срок которого уже истекает почти через два месяца; и каким я надеюсь стать по отношению к другим и к самому себе, когда выйду на волю. Я не могу ни переделывать, ни переписывать это письмо. Прими его таким, как есть, со следами слез на многих страницах, со следами страсти или боли — на других, и постарайся понять его как можно лучше — со всеми кляксами, поправками и прочим. Все поправки и перечеркивания я позволил себе для того, чтобы выразить свои мысли в словах, которые бы абсолютно им соответствовали и не грешили бы ни чрезмерностью, ни невнятицей. Слово нужно настраивать, как скрипку: и подобно тому как излишек или недостаток вибраций в голосе певца или в дрожании струны дают фальшивую ноту, чрезмерность или недостаток в словах мешают выразить мысль. Но как бы то ни было, мое письмо, во всяком случае, в каждой отдельной фразе выражает определенную мысль. В нем нет никакой риторики. И если я перечеркиваю или исправляю слова — как бы незначительны и придирчивы ни были эти поправки, — то лишь потому, что стараюсь передать свое истинное впечатление, найти точный эквивалент своему настроению.
Да, я знаю, что это суровое письмо. Я тебя не пощадил. И ты по праву можешь утверждать, что я сначала признал несправедливостью по отношению к тебе всякую попытку взвесить тебя на одних весах с самой малой из моих горестей, с самой ничтожной из моих потерь, а потом все-таки проделал это, разобрав твой характер по косточкам. Это правда. Только помни, что ты сам положил себя на чашу весов.
Ты должен помнить, что если попытаться уравновесить твою чашу с одним малым мгновеньем моего заточения, она взлетит вверх, как перышко. Тщеславие вынудило тебя избрать свою чашу, и Тщеславие заставляет тебя цепляться за нее. Нашей дружбе свойственна одна глубочайшая психологическая ошибка — полное отсутствие пропорциональности. Ты ворвался в жизнь, которая была для тебя слишком велика, в жизнь, чья орбита выходила далеко за пределы твоего поля зрения и захватывала пространства, для тебя недосягаемые, в жизнь человека, чьи мысли, страсти и поступки были необычайно значительны, необыкновенно интересны, и их сопровождали — точнее, отягощали — чудесные или чудовищные последствия. Твоя маленькая жизнь с мелкими прихотями и пристрастиями была прекрасна в своем крохотном кругу. Она вызвала восхищение в Оксфорде, где самое худшее, что могло тебя постигнуть, — это выговор от Декана или наставление Президента, а самой волнующей сенсацией было то, что колледж св. Магдалины выиграл гребную регату и устроил фейерверк во дворе в честь этого великого события. Твоя жизнь должна была протекать в своей привычной среде и после того, как ты ушел из Оксфорда. Сам по себе ты не заслуживал осуждения. Ты представлял собой законченный образчик вполне современного молодого человека. И только твое отношение ко мне заслуживает осуждения. Твоя безрассудная расточительность — не преступление. Юность всегда расточительна. Но заставлять меня оплачивать твои излишества — вот что было позорно. Твое желание иметь друга, с которым ты был бы неразлучен с утра до поздней ночи, вызывало умиление. Оно было почти идиллическим. Но ты не должен был выбирать себе в друзья литератора, художника, человека, прекрасные творения которого ты разбивал вдребезги, а творческие способности буквально парализовал своим постоянным присутствием. Ничего плохого не было в том, что ты вполне серьезно полагал, что лучше всего провести вечер, начав с обеда с шампанским в «Савое», затем взять ложу в мюзик-холле и закончить ужином с шампанским у Виллиса — на закуску. Толпы очаровательных молодых людей в Лондоне разделяют твое мнение. Оно даже не отдает эксцентричностью. Это одно из качеств, необходимых для члена Уайт-клуба. Но ты не имел права требовать, чтобы я служил поставщиком подобных развлечений. В этом проявилось твое полнейшее неуважение к моему гению. А твоя ссора с отцом независимо от того, как она выглядела со стороны, — эта ссора должна была остаться вопросом, который вы разрешили бы между собой. Она должна была происходить вдали от посторонних глаз. Подобные сцены обычно, насколько мне известно, происходят на заднем дворе. Твоя ошибка заключалась в том, что ты непременно хотел разыграть ее на высоких подмостках Истории, на потеху всему миру, а мне полагалось стать наградой победителю в этом недостойном состязании. То, что твой отец не выносил тебя, а ты терпеть не мог своего отца, нимало не интересовало английскую публику. Подобные чувства сплошь да рядом встречаются в семейной жизни англичан, и им положено пребывать в пределах того места, для которого они характерны — частного дома. Вне семейного круга они совершенно неуместны. Выносить их оттуда — преступление. Семейная жизнь не должна уподобляться ни флагу, которым размахивают на улицах, ни рогу, в который хрипло трубят на крышах. Ты вынес семейные дела из подобающей им среды, точно так же, как сам вышел за пределы подобающей тебе среды. Но те, кто покидает привычную среду, меняют лишь свое окружение, а не свои природные склонности. Они не приобретают мыслей или страстей, свойственных среде, в которую они вступают. Они не в силах этого сделать. Силы эмоциональные, как я говорил где-то в «Замыслах»,[178] имеют такой же предел длительности и напряженности, как и физическая энергия. Маленькая рюмка, которой предназначено вмещать свою меру, вмещает свою меру — и ни каплей больше, хотя бы все пурпурные бочки Бургундии до краев полнились вином, а виноградари по колено утопали в гроздьях, собранных с каменистых виноградников Испании. Самая обычная ошибка — думать, что те, кто стал причиной или поводом к великой трагедии, разделяют и высокие чувства, подобающие трагическому строю, и самая роковая ошибка — ждать от них этого. Быть может, мученик в своем «плаще из пламени»[179] и узрит лицо Бога, но для того, кто подбрасывает хворост или шевелит поленья, чтобы огонь разгорелся, — все это так же привычно, как мяснику — свалить быка, угольщику — срубить дерево, а тому, кто выкашивает траву, — подкосить цветок. Великие страсти доступны только великим душам, а великие события видны только тем, кто поднялся до их уровня.
Во всем драматическом жанре я не знаю ничего столь несравненного с точки зрения Искусства, ничего более вдохновляющего тончайшей наблюдательностью, чем шекспировское изображение Розенкранца и Гильденстерна. Это университетские товарищи Гамлета. Они были его друзьями. Они принесли с собой воспоминанья о проведенных вместе счастливых днях. В пьесе они встречаются с ним в ту минуту, когда он едва не падает под тяжестью ноши, непосильной для человека с таким складом характера. Мертвец в полном вооружении поднялся из могилы и заставил его взять на себя дело, которое и слишком велико, и слишком низменно для него. Он — мечтатель, а его призывают к действию. Он — поэт от природы, а от него требуют, чтобы он вступил в бой с пошлыми хитросплетениями причин и следствий, с той житейской практикой, о которой он не знает ничего, а не с той идеальной сущностью жизни, о которой он знает так много. Он не знает, что ему делать, и его безумие в том, что он притворяется безумным. Брут скрывал под плащом безумия[180] меч своей целеустремленности, кинжал своей воли, но для Гамлета безумие — всего лишь маска, скрывающая бессилие. В кривлянье и остротах он находит предлог для промедленья. Он все время играет с действием, как художник играет с теориями. Он сам начинает шпионить за собственными действиями и, прислушиваясь к собственным речам, понимает, что это всего лишь «слова, слова, слова». Вместо того чтобы попытаться сделаться героем своей собственной истории, он пытается стать зрителем своей собственной трагедии. Он не верит никому и ничему, в том числе — и самому себе, но его неверье не приходит ему на помощь, ибо оно порождено не скептицизмом, а раздвоением личности.
Розенкранц и Гильденстерн обо всем этом и не догадываются. Они лебезят и расточают улыбки, и каждый, как эхо, вторит словам другого с еще более тошнотворной назойливостью. И когда наконец Гамлету удается при помощи своей пьесы в пьесе и шутовства марионеток «поймать в мышеловку» совесть короля и он заставляет несчастного в ужасе бежать, покинув трон, Гильденстерн и Розенкранц видят в поведении Гамлета всего-навсего довольно ощутительное нарушение придворного этикета. Дальше этого они не могут продвинуться в «созерцании зрелища жизни с подобающими чувствами». Они близки к разгадке его тайны и не знают о ней ничего. И говорить им об этом было бы бесполезно. Они всего лишь маленькие рюмочки — вмещающие свою меру, и ни капли больше. Ближе к финалу нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умирают — или должны умереть — внезапной и насильственной смертью. Но, хотя гамлетовский юмор и сдобрил его оттенком неожиданности и справедливости, не суждено им и таким, как они, встретить такой трагический конец. Они никогда не умирают. Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета: «…Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою»,[181] — умирает, хотя и не на глазах у публики, не оставив на земле брата. Но Гильденстерн и Розенкранц так же бессмертны, как Анджело и Тартюф, и составят им достойную компанию. Они олицетворяют то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет трактат De Amicitia,[182] должен найти им место и воспеть их в тускуланской прозе. Они — тип, существующий неизменно во все времена. Осуждать их — значит обнаруживать недостаток понимания. Они просто оказались вне своей среды: вот и все. Величие души не прилипчиво. Возвышенные мысли и высокие чувства осуждены на одиночество по самой своей природе. То, что было непостижимо даже для Офелии, не в силах понять ни «Гильденстерн и милый Розенкранц», ни «Розенкранц и милый Гильденстерн». Разумеется, я не собираюсь тебя с ними сравнивать. Между вами огромная разница. То, что они делали поневоле, ты делал по доброй воле. Без всякого повода с моей стороны ты сознательно ворвался в мою сферу, узурпировал в ней место, на которое не имел права и которого не заслуживал; с поразительной настойчивостью, не пропуская ни единого дня, ты навязывал мне свое присутствие, наконец тебе удалось заполонить всю мою жизнь, и ты не нашел ничего лучшего, как разбить ее вдребезги. Ты удивишься моим словам — но ведь с твоей стороны это было совершенно естественно. Когда ребенку дают игрушку, столь чудесную, что его крохотный ум не в силах постичь ее, или настолько прекрасную, что его полусонный дремотный взгляд не видит ее красоты, — своенравный ребенок ломает ее, а равнодушный — роняет на пол и бежит играть с другими детьми. Ты вел себя точно так же. Забрав в руки мою жизнь, ты не знал, что с ней делать. Откуда тебе было знать? Ты даже не понимал, какая драгоценность попала к тебе в руки. Тебе бы следовало выпустить ее из рук и вернуться к играм со своими приятелями. Но, к несчастью, ты был своевольным ребенком — и ты сломал ее. И когда будут подведены все итоги, это, быть может, и окажется первопричиной всего, что случилось. Ибо потайные причины всегда ничтожнее внешних проявлений. Стоит сдвинуть атом — и это потрясает мироздание. Щадя самого себя не больше, чем тебя, я добавлю еще одно: наша и без того опасная для меня встреча стала погибельной потому, что произошла в определенный момент. Ты был в том возрасте, когда только и делают, что разбрасывают семена; я же вступил в ту пору жизни, когда настает время собирать урожай.
Я должен написать тебе еще о некоторых вещах. Во-первых, о моем Банкротстве. Несколько дней тому назад я узнал — признаюсь, с глубоким огорчением, — что моя семья уже не сможет откупиться от твоего отца — уже слишком поздно, теперь это противозаконно, и мне придется оставаться в том же бедственном положении еще очень долгое время. Мне очень горько сознавать это — мне разъяснили на законном основании, что я не имею права даже выпустить книгу без разрешения Кредитора, которому я обязан представлять на рассмотрение все счета. Я не могу ни заключить контракт с театральной дирекцией, ни поставить пьесу, не отослав все расписки твоему отцу и другим немногочисленным кредиторам. Надеюсь, что даже ты согласишься, что идея «сквитаться» с отцом, позволив ему сделать меня несостоятельным должником, не принесла того блестящего и полного успеха, на который ты рассчитывал и надеялся. По крайней мере, для меня дело обернулось другой стороной, и стоило бы больше считаться с той болью и унижением, которые я чувствую в своей нищете, чем с твоим чувством юмора, каким бы едким и изобретательным он ни казался. Если смотреть правде в глаза, то ты, допустив мое банкротство и заставив меня обратиться к суду, сыграл только на руку своему отцу — ты сделал все точно так, как он хотел. Один, без поддержки, он был бы беспомощен с самого начала. И вот он нашел в тебе своего главного союзника — хотя ты и не собирался выступать в столь неприглядной роли.
Мор Эди пишет мне, что прошлым летом ты несколько раз действительно выражал желание возместить мне «хотя бы отчасти то, что я потратил» на тебя. Я написал ему в ответ, что я, к несчастью, растратил на тебя свое искусство, свою жизнь, свое доброе имя, свое место в истории, и если бы твое семейство располагало всеми благами мира, владело бы всем, что мир почитает благом — гениальностью, красотой, богатством, знатностью, — и все сложило бы к моим ногам, это ни в малой мере не отплатило бы мне за ничтожнейшую из моих потерь, ни за единую слезу из тех, что я пролил. Впрочем, нет сомнения — за все содеянное приходится расплачиваться. Даже если ты Несостоятельный Должник. Ты, видимо, полагаешь, что Банкротство — удобный способ избежать уплаты долгов, то есть «расквитаться с кредиторами». Все обстоит как раз наоборот. Это — способ для кредиторов «расквитаться» с человеком, если придерживаться твоего любимого слова, способ, при помощи которого Закон, конфискуя все имущество, заставляет его выплатить все долги до последнего, а если они не уплачены, человек остается без гроша, как самый убогий нищий, что жмется в подворотнях или тащится вдоль дороги, протягивая руку за милостыней, которую — у нас, в Англии, — он боится просить. Закон отобрал у меня не только все, что я имел — книги, обстановку, картины, авторское право на мои пьесы, авторское право на опубликованные произведения, на все — от «Счастливого Принца» и «Веера леди Уиндермир» до ковров с лестницы и скобы перед дверью моего дома, — но и все, что у меня когда-либо будет (моя доля, причитавшаяся мне по брачному контракту, была продана). К счастью, мне удалось выкупить ее через своих друзей. А если бы не это, то в случае смерти моей жены двое моих детей оставались бы в течение всей моей жизни такими же нищими, как и я. Я думаю, что теперь мне предстоит потерять и ту долю в нашем ирландском имении, которую мне завещал мой собственный отец. Мне очень горько думать об этой продаже, но я должен смириться.
Семьсот пенсов — или фунтов, кажется? — которые следует получить твоему отцу, должны быть выплачены во что бы то ни стало. Даже если меня лишат всего, что я имею, и всего, что я буду иметь, и выпустят как безнадежного неплательщика, я все еще буду обязан выплачивать долги. Мне предстоит расплатиться за все обеды в «Савое» — за прозрачный черепаховый суп, за ароматных дроздов, обернутых складчатыми листьями сицилийского винограда, за шампанское темно-янтарного цвета и почти янтарного благоухания — кажется, ты предпочитал всем винам Дагонэ 1880 года? — за все придется расплачиваться. Ужины у Виллиса, особая сервировка, вино марки Перье-Жуэ, которое подавали только нам, дивные паштеты, присланные прямо из Страсбурга, чудесное шампанское, которое сначала наливалось на донышко больших фужеров в форме колокола, чтобы истинные эпикурейцы, ценители всего изысканного в жизни, могли получше насладиться его букетом, — нельзя оставить все это неоплаченным, нельзя допустить, чтобы мой долг списали в убыток, как долг бесчестного клиента. И даже за прелестные запонки — четыре серебристо-туманных лунных камня в форме сердец в оправе из чередующихся рубинов и бриллиантов — я сам придумал эту оправу и заказал у Генри Льюиса этот маленький подарок для тебя, чтобы отметить успех моей второй комедии, — даже за них — хотя я уверен, что ты сбыл их за бесценок через несколько месяцев, — я должен заплатить. Я не могу допустить, чтобы ювелир терпел убытки из-за моих подарков тебе, что бы ты с ними ни делал. Как видишь, даже если меня и выпустят, у меня все еще останутся долги.
И все, что сказано о банкроте, относится и к любому из живущих. Ибо за все, что сделано, кому-то приходится расплачиваться. Даже и тебе самому — при всем твоем желании быть абсолютно свободным от каких бы то ни было обязательств, все получать за чужой счет, при всех твоих попытках отделаться от любых притязаний на твою привязанность, уважение или благодарность, — тебе придется когда-нибудь серьезно задуматься над тем, что ты наделал, и попытаться — пусть безуспешно — искупить свою вину. И то, что не в твоих силах будет искупить ее, — станет частью твоего наказания. Ты не можешь умыть руки, отказаться от всякой ответственности и, улыбнувшись или пожав плечами, перейти к новому другу или к новому застолью. Ты не можешь относиться ко всему, что ты навлек на меня, как к сентиментальному воспоминанию, которое ты будешь иногда подавать друзьям заодно с сигаретами и винами — и смотреть на него, как на красочный фон современной праздной жизни, словно на старинный гобелен, вывешенный в дешевом трактире. Это может доставить минутное удовольствие, как новый соус или новое вино, но объедки после пира быстро портятся, а остатки вина горчат. Если не сегодня и не завтра, то когда-нибудь тебе все же придется понять это. А то ведь ты так и умрешь, ничего не поняв, — и какую же скудную, голодную, лишенную воображения жизнь ты оставишь за собой… В своем письме к Мору я изложил ту точку зрения, с которой тебе было бы лучше всего отныне смотреть на вещи. Он расскажет тебе об этом. Чтобы все понять, тебе придется развить свое воображение. Запомни, что воображение позволяет нам видеть вещи и людей и в реальном и в идеальном плане. Если ты не сумеешь разобраться в этом самостоятельно, поговори на эту тему с другими. Мне пришлось встать лицом к лицу со своим прошлым. Взгляни и ты прямо в лицо своему прошлому. Посиди спокойно и поразмысли о нем. Самое страшное зло — поверхностность. Все, что осознано, — оправдано. Поговори об этом со своим братом. Да, Перси именно тот человек, с которым надо поговорить. Дай ему прочесть это письмо и расскажи подробно о нашей дружбе. И если ему рассказать все, как следует, то лучшего судьи нам не сыскать. Если бы мы прежде сказали ему правду, от скольких страданий и оскорблений я был бы избавлен! Ты помнишь, как я предлагал сказать ему все в тот вечер, когда ты возвратился из Алжира. Ты отказался наотрез. И вот, когда он пришел после обеда, мы принялись ломать комедию, чтобы уверить его, что твой отец — безумец, одержимый бредовыми и беспочвенными идеями. Это была превосходная комедия, пока ей можно было верить, тем более что Перси принял ее всерьез. К несчастью, кончилась она самым непристойным образом. И то, о чем я сейчас пишу, — одно из последствий этой игры, и если это тебя обеспокоит, расстроит, не забывай, прошу тебя, что это — глубочайшее унижение, которое мне суждено пережить. У меня нет выбора. У тебя — тоже.
Второе, о чем мне нужно с тобой договориться, — это то, на каких условиях, где и как мы встретимся с тобой, когда закончится срок моего заключения. По отрывкам из твоих писем, написанных к Робби в начале прошлого лета, я понял, что ты запечатал в два пакета мои письма к тебе и мои подарки — по крайней мере, то, что-от них осталось — и хочешь передать их мне из рук в руки. Разумеется, необходимо вернуть их мне. Ты не понимал, почему я пишу тебе прекрасные письма, так же как не понимал, почему я дарю тебе прекрасные вещи. Тебе было невдомек, что письма не предназначались для того, чтобы отдавать их в печать, так же как подарки — для того, чтобы отдавать их в заклад. Кроме того, они принадлежат той стороне жизни, с которой давно покончено, той дружбе, которую ты почему-то никак не мог оценить по достоинству. Тебе остается только удивляться, оглядываясь на те дни, когда вся моя жизнь была в твоих руках. Я тоже оглядываюсь назад с удивлением и с иными, совсем иными чувствами.
Если все будет в порядке, меня должны выпустить к концу мая и я надеюсь сразу же уехать в какую-нибудь маленькую приморскую деревушку за границей, вместе с Робби и Мором Эди. Как говорит Эврипид в одной из своих трагедий об Ифигении, море смывает все пятна и омывает все раны в мире: Θάλασσα κλυζει πάντα τ'ανυρωπων κακά.[183]
Я надеюсь провести со своими друзьями хотя бы месяц, и надеюсь, что рядом с ними, под их благотворным влиянием, я обрету покой, равновесие, их присутствие облегчит тяжесть, лежащую у меня на сердце, и умиротворит мою душу. Меня со странной силой тянут к себе великие первобытные стихии, такие, как Море, которое было мне матерью не меньше, чем Земля. Мне кажется, что все мы чересчур много созерцаем Природу и слишком мало живем в ней. Теперь я понимаю, что греки удивительно здраво смотрели на жизнь. Они никогда не болтали о закатах, не спорили, лиловы ли тени на траве или нет. Но они знали, что море зовет пловца, а прибрежный песок стелется под ноги бегуну. Они любили деревья за их тенистую сень, а лес — за полуденную тишину. Виноградарь прикрывал свою голову плющом, чтобы солнечные лучи не жгли его, когда он склоняется к юным лозам, а в гирлянды, которыми украшали художника и атлета — эти классические образы, оставленные нам Грецией, — вплетали листья горького лавра и дикого сельдерея, не приносившие людям никакой иной пользы.
Мы называем свой век утилитаристским, а между тем мы не умеем пользоваться ни единой вещью на свете. Мы позабыли, что Воде дано омывать, Огню — очищать, а Земле — быть матерью всем нам. Поэтому Искусство наше принадлежит Луне и играет с тенями, тогда как греческое Искусство, принадлежащее Солнцу, имело дело с реальными предметами. Я уверен, что силы стихий несут очищение, и мне хочется вернуться к ним и жить среди них. Конечно, такому современному человеку, как я, — я ведь enfant du siècle,[184] — всегда радостно хотя бы просто глядеть на мир. Я трепещу от радости, когда думаю, что в самый день моего выхода из тюрьмы в садах будут цвести и ракитник и сирень и я увижу, как ветер ворвется трепещущей красотой в струящееся золото ракитника, заставит сирень встряхнуть бледно-лиловыми султанами — и весь воздух вокруг меня станет арабской сказкой. Линней упал на колени и заплакал от счастья, увидев впервые одну из горных пустошей в Англии, всю желтую от крохотных ароматных цветов обыкновенного дрока; я знаю, что и меня (ведь для меня цветы — плоть от плоти желания) ждут слезы на лепестках роз. Так было всегда, с самого моего детства. Нет ни единого оттенка, затаившегося в чашечке цветка или в изгибе раковины, который, по какому-то тончайшему созвучию с самой сутью вещей, не нашел бы отклика в моей душе. Как и Готье, я всегда был одним из тех, pour qui le monde visible existe.[185]
Но теперь я понимаю, что за всей этой Красотой, за всем ее очарованием, прячется некий Дух, для которого все расцвеченные поверхности и формы — только обличья выражения, и я хочу достичь гармонии именно с этим Духом. Я устал от членораздельных высказываний людей и вещей. Мистическое в Искусстве, Мистическое в Жизни, Мистическое в Природе — вот чего я ищу, и в великих симфониях Музыки, в таинстве Скорби, в глубинах Моря я могу отыскать все это. Мне совершенно необходимо отыскать это где бы то ни было. Всякий, кто предан суду, отвечает своей жизнью, и все приговоры — смертные приговоры, а меня трижды судили. В первый раз я вышел из суда — и меня арестовали, во второй раз — отвели обратно в камеру для подследственных, в третий — заточили на два года в тюрьму. В том Обществе, какое мы создали, для меня места нет и не найдется никогда; но Природа, чьи ласковые дожди равно окропляют правых и неправых, найдет для меня пещеры в скалах, где я смогу укрыться, и сокровенные долины, где я смогу выплакаться без помех, она усыплет звездами ночной небосвод, чтобы я мог бродить в темноте, не спотыкаясь, и завеет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не обидел, она омоет меня водами великими и горькими травами исцелит меня.
В конце месяца, когда июньские розы цветут во всей своей расточительной роскоши, если я буду чувствовать себя хорошо, я через Робби договорюсь с тобой о встрече в каком-нибудь тихом чужом городке, вроде Брюгге, который много лет назад очаровал меня своими серыми домиками, зелеными каналами и своим прохладным спокойствием. На это время тебе нужно будет переменить имя. Если ты хочешь увидеть меня, тебе придется отказаться от маленького титула, которым ты так кичился, — хотя благодаря ему твое имя и вправду звучало, как название цветка; но и мне, в свою очередь, тоже предстоит расстаться с моим именем, некогда столь благозвучным в устах Славы. Как ограничен, мелок, как немощен для своего бремени нынешний век! Успеху он может воздвигнуть дворец из порфира, а для Горя и Позора у него нет даже крытой хворостом хижины, где они смогли бы приютиться; и мне он может предложить только одно — сменить мое имя на какое-то другое, в то время как даже средневековье подарило бы мне монашеский капюшон или тряпичное забрало прокаженного и я скрыл бы свое лицо и был бы спокоен.
Я надеюсь, что наша встреча будет такой, как подобает быть нашей с тобой встрече после всего, что произошло. В прежние времена между нами всегда была пропасть еще более широкая, созданная совершенством Искусства и приобретенной культурой, но теперь между нами пролегла еще более широкая пропасть — бездна Горя, но нет ничего невозможного для Смирения, и Любовь все превозмогает.
Что касается письма, которое ты мне пришлешь в ответ на это, пусть оно будет длинным или коротким, как тебе угодно. Надпиши на конверте: «Начальнику тюрьмы Ее Величества, Рединг». Внутрь, в другом конверте, вложи твое письмо ко мне; и если бумага у тебя слишком тонкая, не исписывай ее с обеих сторон — другим трудно будет читать. Я писал тебе совершенно раскованно. Ты можешь ответить мне так же. Мне необходимо знать одно — почему ты ни разу не попытался написать мне, хотя уже в августе позапрошлого года и позже, в мае прошлого года — с тех пор прошло одиннадцать месяцев, — ты безусловно знал и давал понять другим, что знаешь, как ты заставил меня страдать и как я чувствую это. Месяц за месяцем я ждал вестей от тебя. Но даже если бы я не ждал, а закрыл бы перед тобой двери, ты должен был бы помнить, что невозможно навсегда затворить дверь перед лицом Любви. Судья неправедный в Писании в конце концов встает и изрекает справедливый приговор, потому что Справедливость ежедневно приходит и стучит в его дверь; и друг, в чьем сердце нет истинной дружбы, дает ночью хлеб своему другу «по неотступности его».[186] В целом мире нет такой тюрьмы, куда Любовь не смогла бы пробиться. Если ты не понял этого, ты ничего не знаешь о Любви. Затем сообщи мне все о твоей статье для «Меркюр де Франс». Отчасти я ее уже знаю. Лучше будет, если ты процитируешь некоторые места. Она ведь уже набрана. Напиши мне также и точный текст Посвящения твоих стихотворений. Если оно в прозе, напиши в прозе, если в стихах — цитируй стихи. Я не сомневаюсь, в нем есть много прекрасного. Напиши мне о себе с полной откровенностью: о своей жизни, о своих друзьях, о своих занятиях, о своих книгах. Расскажи мне о твоем томике и о том, как он был принят. Скажи о себе все, что придется, и скажи без страха. Не пиши того, чего не думаешь, — вот и все. Если в твоем письме будет фальшь или подделка, я сразу же распознаю ее по тону.
Ведь недаром и не бесцельно я сделал себя в своем пожизненном поклонении литературе человеком, который, «как царь Мидас ревниво в старину, хранит свой клад»…[187] Запомни и то, что мне еще предстоит заново узнать тебя. Быть может, нам обоим еще предстоит узнать друга друга.
А о тебе я скажу только одно, последнее слово. Не бойся прошлого. Если тебе станут говорить, что прошлое невозвратно, не верь. Прошлое, настоящее и будущее — всего одно мгновенье в глазах Бога, и мы должны стараться жить у него на глазах. Время и пространство, последовательность и протяженность — все это лишь преходящие условия существования Мысли. Воображение может преодолеть эти границы и выйти в свободную сферу идеальных сущностей. И вещи по своей природе таковы, какими мы творим их. Вещь есть то, что в ней можно узреть. Блейк говорит: «Там, где другие видят всего лишь зарю, занимающуюся над холмами, я вижу сыновей Божиих, ликующих в радости».[188] То, что казалось миру и мне самому моим будущим, я потерял невозвратно, когда поддался твоим подстрекательствам и выступил против твоего отца: по правде говоря, я потерял будущее уже задолго до этого. Теперь передо мной лежит только мое прошлое. Мне нужно заставить самого себя взглянуть на прошлое другими глазами, заставить мир взглянуть на него другими глазами, заставить Бога взглянуть на него другими глазами. Я не могу достигнуть этого, ни перечеркивая прошлое, ни пренебрегая им, ни хвалясь им, ни отрекаясь от него. Достигнуть этого можно, только признав его в полной мере неизбежной частью эволюции моей жизни и характера; только склонив голову перед всем, что я выстрадал. Мне еще далеко до истинного душевного покоя, — тому свидетельство это письмо с его переменчивыми, неустойчивыми настроениями, с его гневом и горечью, с его стремленьями и невозможностью осуществить эти стремления. Но не забывай, в какой ужасной школе я получаю свои уроки. Если во мне еще нет совершенства, нет цельности, ты все же можешь еще многому у меня научиться. Ты пришел ко мне, чтобы узнать Наслаждения Жизни и Наслаждения Искусства. Может быть, я избран, чтобы научить тебя тому, что намного прекраснее — смыслу Страдания и красоте его. Твой преданный друг
Оскар Уайльд.
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ[189]
СТИХОТВОРЕНИЯ[190]
ОБЩИЙ ИТОГ[191]
Далеко ушли едва ли
Мы от тех, что попирали
Пяткой ледниковые холмы.
Тот, кто лучший лук носил, —
Всех других поработил,
Точно так же, как сегодня мы.
Тот, кто первый в их роду
Мамонта убил на льду,
Стал хозяином звериных троп.
Он украл чужой челнок,
Он сожрал чужой чеснок,
Умер — и зацапал лучший гроб.
А когда какой-то гость
Изукрасил резьбой кость, —
Эту кость у гостя выкрал он,
Отдал вице-королю,
И король сказал: «Хвалю!»
Был уже тогда такой закон.
Как у нас — все шито-крыто,
Жулики и фавориты
Ели из казенного корыта.
И секрет, что был зарыт
У подножья пирамид,
Только в том и состоит,
Что подрядчик, хотя он
Уважал весьма закон,
Облегчил Хеопса на мильон.
А Иосиф тоже был
Жуликом по мере сил.
Зря, что ль, провиантом ведал он?
Так что все, что я спою
Вам про Индию мою,
Тыщу лет не удивляет никого, —
Так уж сделан человек.
Ныне, присно и вовек
Царствует над миром воровство.
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС[192]
Чтоб вы не приняли за быль
Мой стих, скажу я вскользь —
Все это я придумал сам
С начала до конца.
Медовый месяц пролетел, пришлось с женой проститься,
Вновь Джонса служба позвала, афганская граница,
Там гелиограф на скале, а он связист бывалый
И научить жену успел читать свои сигналы.
Она красой, а он умом равны друг другу были,
В разлуке их Амур и Феб сквозь дали единили.
Чуть рассветет, с Хуррумских гор летят советы мужа,
И на закате нежный Джонс твердит мораль все ту же.
Остерегаться он просил повес в мундирах красных
И сладкоречных стариков, не менее опасных,
Но всех страшней седой сатир, кого чураться надо, —
Их генерал, известный Бэнгз (о нем и вся баллада!).
Однажды Бэнгз и с ним весь штаб дорогой едут горной,
Тут гелиограф вдалеке вдруг стал мигать упорно.
Тревожны мысли: бунт в горах и гибнут гарнизоны…
Сдержав коней, они стоят, читают напряженно.
Летят к ним точки и тире. «Да что за чертовщина!
«Моя любовь!» Ведь вроде нет у нас такого чина!»
Бранится Бэнгз: «Будь проклят я! «Малышечка»! «Богиня»!
Да кто же, тысяча чертей, засел на той вершине?»
Молчит придурок-адъютант, молчит штабная свита,
В свои блокноты странный текст все пишут деловито,
От смеха давятся они, читая с постной миной:
«Не вздумай с Бэнгзом танцевать — распутней нет мужчины!»
Так принял штаб с Хуррумских гор от Джонса передачу
(Любовь, возможно, и слепа, но люди-то ведь зрячи),
В ней Джонс супруге молодой из многомильной дали
О жизни Бэнгза сообщал пикантные детали.
Молчит придурок-адъютант, молчит штабная свита,
Но багровеет все сильней затылок Бэнгза бритый.
Вдруг буркнул он: «Не наша связь! И разговор приватный.
За мною, по три, рысью ма-арш!» — и повернул обратно.
Честь генералу воздадим: ни косвенно, ни прямо
Он Джонсу мстить не стал никак за ту гелиограмму,
Но от Мультана до Михни, по всей границе длинной,
Прославился почтенный Бэнгз: «Распутней нет мужчины!»
МОЯ СОПЕРНИЦА[193]
Зачем же в гости я хожу,
Попасть на бал стараюсь?
Я там как дурочка сижу,
Беспечной притворяюсь.
Он мой по праву, фимиам,
Но только Ей и льстят:
Еще бы, мне семнадцать лет,
А Ей под пятьдесят!
Я не могу сдержать стыда,
И красит он без спроса
Меня до кончиков ногтей,
А то и кончик носа;
Она ж, где надо, там бела
И там красна, где надо:
Румянец ветрен, но верна
Под пятьдесят помада.
Эх, мне бы цвет Ее лица,
Могла б я без заботы
Мурлыкать милый пустячок,
А не мусолить ноты.
Она острит, а я скучна,
Сижу, потупя взгляд.
Ну, как назло, семнадцать мне,
А Ей под пятьдесят.
Изящных юношей толпа
Вокруг Нее теснится;
Глядят влюбленно, хоть Она
Им в бабушки годится.
К ее коляске — не к моей —
Пристроиться спешат;
Все почему? Семнадцать мне,
А Ей под пятьдесят.
Она в седло — они за ней
(Зовет их «сердцееды»),
А я скачу себе одна.
С утра и до обеда
Я в лучших платьях, но меня —
Увы! — не пригласят.
О боже мой, ну почему
Не мне под пятьдесят!
Она зовет меня «мой друг»,
«Мой ангелок», «родная»,
Но я в тени, всегда в тени
Из-за Нее, я знаю;
Знакомит с «бывшим» со своим,
А он вот-вот умрет:
Еще бы, Ей нужны юнцы,
А мне наоборот!..
Но не всегда ж Ей быть такой!
Пройдут веселья годы,
Ее потянет на покой,
Забудет игры, моды…
Мне светит будущего луч,
Я рассуждаю просто:
Скорей бы мне под пятьдесят,
Чтоб Ей под девяносто.
Взыскательные говорят:
Лишь о себе Певец поет
И персональный рай и ад
Печатает и продает.
Все это так — но и не так:
Ведь все, что пел я и воспел я,
В себе и в людях подглядел я.
Бедняк, глядел я на бедняг.
От вершины до подножья,
Каждый пик и перевал,
Тари Дэви нежной дрожью,
Чуть стемнело, задрожал.
Затряслись отроги Джакко,
Злясь и глыбясь вразнобой.
Дым вулкана? Дым бивака?
Страшный суд? Ночной запой?
Утром — свежим, сочным, спелым —
Вполз верблюд в мою тоску
Анти-Ньютоновым телом
По стене и потолку.
В пляс пошли щипцы с камина,
Разлился пиявок хор,
И мартышка, как мужчина,
Понесла последний вздор.
Тощий чертик-раскорячка
Завизжал, как божий гром,
И решили: раз горячка,
Надо лить мне в глотку бром,
И столпились у постели —
Мышь кровавая со мной,
И кричал я: «Опустели
Храм небес и мир земной!»
Но никто не слушал брани,
Хоть о смерти я орал.
Оказались в океане.
Налетел истошный шквал.
Жидкий студень и повидло
Развезла морская гать,
И когда мне все обрыдло,
Быдло бросилось вязать.
Небо пенилось полночи,
Как зальделый демисек,
Разлетясь в куски и клочья,
Громом харкая на всех;
А когда миров тарелки
Косо хрястнули вдали,
Я не склеил их — сиделки
Больно шибко стерегли.
Твердь и Землю озирая,
Ждал я милости впотьмах —
И донесся глас из рая
И расплылся в небесах,
Как дурацкая ухмылка:
«Рек, рекаши и рекла»,
И луна взошла — с затылка —
И в мозгу все жгла и жгла.
Лик заплаканный, незрячий
Выплыл в комнате ночной,
Бормоча, зачем я прячу
Свет, растраченный луной;
Я воззвал к нему — но свистом
Резким брызнул он во мрак,
Адским полчищам нечистым
Вмиг подав призывный знак.
Я — спасаться от халдеев
Припустился наугад,
Ветер, в занавесь повеяв,
Отшвырнул меня назад, —
И безумьем запылали
Сонмы дьявольских светил…
Но отхлынуло, сигналя
Телеграфом жалких жил.
В лютой тишине гордячкой
Крошка-звездочка зажглась
И, кудахча, над горячкой
Издеваться принялась.
Встали братцы и сестрицы,
И, мертвее мертвеца,
Я ничем не мог укрыться,
Кроме ярости Творца.
День взошел в пурпурной тоге —
Мук неслыханных предел.
Я мечтал теперь о боге
И молился, как умел.
Вдребезги слова разбились…
Я рыдал, потом затих,
Как младенец… Сны струились
С гор для горьких глаз моих.
«Серые глаза — рассвет…»
* * *[196]
Серые глаза — рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены.
Черные глаза — жара,
В море сонных звезд скольженье,
И у борта до утра
Поцелуев отраженье.
Синие глаза — луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.
Карие глаза — песок,
Осень, волчья степь, охота,
Скачка, вся на волосок
От паденья и полета.
Нет, я не судья для них,
Просто без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, черных.
Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю — в том нет вины —
Все четыре этих цвета.
СЕКСТИНА КОРОЛЕВСКИХ БРОДЯГ[197]
Чтоб не соврать, я их протопал все,
Какие есть, счастливые пути.
Чтоб не соврать, я в этом знаю толк;
Лежмя лежать — не для того живем.
Встань с койки, говорю, — всего-то дел!
Ходи, гляди — пока не встретил смерть.
Без разницы — где угадает смерть;
Здоровье есть — ходи, гляди на все
Мужчин и женщин страсти. Этих дел
И прочих разных до черта в пути;
Бывает, повезет — тогда живем!
Не повезет — в другом находим толк.
В карман, в кредит, — ну разве в этом толк?
В привычке дело. Без привычки — смерть!
Мы жизнь, как день, возьмем и проживем,
Вперед не маясь, не ворча, как все;
Питайся, чем накормят по пути,
И не страдай, что отошел от дел.
О Боже! Мне по силам уйма дел!
Что хошь могу — я ж знал в работе толк;
Где мог, как бог, работал по пути, —
Ведь не трудиться — это просто смерть!
Но все ж обидно дни работать все
Без пересменки — не затем живем!
Но мы подрядом долго не живем.
Не в плате дело — всех не сделать дел;
И, чтоб не перепутать мысли все,
Отвалишь в море — только в том и толк,
И видишь фонарей портовых смерть, —
Опять же ветер — друг тебе в пути!
Он с книжкой схож, мир и его пути;
Читаем книжку — стало быть, живем.
Ведь сразу чуешь — на подходе смерть,
Коль на странице не доделал дел
И не раскрыл другую. Вот он — толк,
Чтоб до последней долистать их все.
Призри пути — о Боже! — всяких дел,
В каких живем. Умру — возьмите в толк:
Я встретил смерть, хваля дороги все.
ГЕФСИМАН[198]
На Пикарди был Гефсиман —
Так звался этот сад;
Зеваки, — что тебе канкан! —
Любили наш парад.
Английский шел и шел солдат
Сквозь газы, смерть, дурман,
И нескончаем был парад —
Не там, где Гефсиман.
В саду с названьем Гефсиман
Девицы были клад,
Но я молился, чтоб стакан
Пропущен был бы в ад.
На стуле офицер торчал,
В траве лежал наш брат,
А я просил и умолял
Пустить стакан мой в ад.
Со мною клад — со мною клад —
Я выхлестал стакан,
Когда сквозь газ мы плыли в ад —
Не там, где Гефсиман.
ПЕСНЯ БАНДЖО[199]
Пианино не потащишь на плечах,
Скрипка сырости и тряски не снесет,
Не поднять орган по Нилу на плотах,
Чтоб играть среди тропических болот.
А меня ты в вещевой впихнешь мешок,
Словно ложку, плошку, кофе и бекон, —
И когда усталый полк собьется с ног,
Отставших подбодрит мой мерный звон.
Этим «Пилли-вилли-винки-плинки-плей!»
(Все, что в голову взбредает, лишь бы в лад!)
Я напомню напоить к ночи коней,
А потом свалю где попадя солдат.
Перед боем, ночью, в час, когда пора
Бога звать или писать письмо домой,
«Стрампти-тампти» повторяет до утра:
«Держись, дружок, рискуй, пока живой!»
Я Мечты Опора, я Чудес Пророк,
Я за Всё, Чему на Свете не Бывать;
Если ж Чудо совершится, дай мне срок
Подстроиться — и в путь ступай опять.
По пустыням «Тумпа-тумпа-тумпа-тумп!» —
У костра в кизячном смраде мой ночлег.
Как воинственный тамтам, я твержу, грожу врагам:
«Здесь идет победный Белый Человек!»
Сто путей истопчет нищий Младший Сын
Прежде, чем добудет собственный очаг, —
Загрустит в пастушьей хижине один
И к разгульным стригалям придет в барак, —
И под вечер на ведерке кверху дном
Забормочут струны исповедь без слов —
Я Тоска, Растрава, Память о Былом,
Я Призрак Стрэнда, фраков и балов.
Тонким «Тонка-тонка-тонка-тонка-тонк!»
(Видишь Лондон? Вот он тут, перед тобой!)
Я пытаюсь уколоть сонный Дух, тупую Плоть:
«Рядовой, очнись, вернись на миг домой!»
За экватором, где громом якорей
Новый город к новым странствиям зовет,
Брал меня в каюту юный Одиссей,
Вольный пленник экзотических широт.
Он просторами до гроба покорен,
Он поддался на приманку дальних стран, —
Перед смертью в стоне струн услышит он,
Как стенают снасти в ярый ураган.
Я подначу: «Ну-ка! Ну-ка! Ну-ка! Ну!»
(Зелень бьется в борт и хлещет через край!)
Ты от суши устаешь? Снова тянет в море? Что ж —
Слышишь: «Джонни-друг, манатки собирай!»
Из расселины, где звезды видно днем, —
На хребет, где фуры тонут в облаках, —
Мимо пропастей прерывистым путем, —
И по склону на скулящих тормозах:
А мостки и доски на снегу скрипят,
А в лощине на камнях трясется кладь, —
Я веду в поход отчаянных ребят
«Песнь Роланда» горным соснам прокричать.
Слышишь: «Томпа-томпа-томпа-томпа-той!»
(Топоры над головой леса крушат!)
Мы ведем стальных коней на водопой
По каньону, к Океану, на Закат!
Что ни песня, то в душе переполох —
От простецкой ты, моргнув, слезу сглотнешь,
От похабной, хохотнув, обронишь вздох, —
Это струны сердца я бросаю в дрожь;
На попойке в кабаке, сквозь хриплый крик
Услыхав меня, забудешь ложь и блуд,
Загрустишь, и, если думать не отвык,
Думы угольями совесть обожгут.
Ты же видишь «Плонка-лонка-лонка-лонк!»,
Что тебе не просто в прошлом подвезло —
Ты грехом добыл успех и успехом множишь грех,
А раскаиваться — ох как тяжело!
Пусть орган возносит стоны к потолку —
Небу я скажу о Жребии Людском.
Пусть труба трубит победный марш полку —
Я труню над отступающим полком.
Рокот мой никто превратно не поймет —
Я глумлюсь над тем, кто Сонной Ленью сыт,
Но и Песню про Проигранный Поход
Бренчащая струна не утаит.
Я стараюсь: «Тара-рара-рара-рра!»
(Ты слыхал меня? Так что ж, услышь опять!)
Слово все-таки за мной, если тощий, черный, злой
В бой выходит пехотинец умирать!
Бог Путей мою Прабабку породил
(О рыбачьи города над синевой!) —
Новый век ублюдка Лиры наградил
Дерзким нравом и железной головой.
Я про Мудрость Древних Греков пропою
И завет их старой песней передам:
«Словно дети, изумляйтесь Бытию
И радостно стремитесь к Чудесам!»
Звонким «Тинка-тинка-тинка-тинка-тинн!»
(Что вам надо, что вам надо, господа?)
Я доказываю всем, что мир един —
Весь — от Делоса до Лимерика — да!
«МЭРИ ГЛОСТЕР»[200]

Я платил за твои капризы, не запрещал ничего.
Дик! Твой отец умирает, ты выслушать должен его.
Доктора говорят — две недели. Врут твои доктора,
Завтра утром меня не будет… и… скажи, чтоб вышла сестра.
Не видывал смерти, Дикки? Учись, как кончаем мы,
Тебе нечего будет вспомнить на пороге вечной тьмы.
Кроме судов, и завода, и верфей, и десятин,
Я создал себя и мильоны, но я проклят — ты мне не сын!
Капитан в двадцать два года, в двадцать три женат,
Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.
Пять десятков средь них я прожил и сражался немало лет,
И вот я, сэр Антони Глостер, умираю — баронет!
Я бывал у его высочества, в газетах была статья:
«Один из властителей рынка» — ты слышишь, Дик, это — я!
Я начал не с просьб и жалоб. Я смело взялся за труд.
Я хватался за случай, и это — удачей теперь зовут.
Что за судами я правил! Гниль и на щели щель!
Как было приказано, точно, я топил и сажал их на мель.
Жратва, от которой шалеют! С командой не совладать!
И жирный куш страховки, чтоб рейса риск оправдать.
Другие, те не решались, — мол, жизнь у нас одна.
(Они у меня шкиперами.) Я шел, и со мной жена.
Женатый в двадцать три года, и передышки ни дня,
А мать твоя деньги копила, выводила в люди меня.
Я гордился, что стал капитаном, но матери было видней,
Она хваталась за случай, я следовал слепо за ней.
Она уломала взять денег, рассчитан был каждый шаг,
Мы купили дешевых акций и подняли собственный флаг.
В долг забирали уголь, нам нечего было есть,
«Красный бык» был наш первый клипер, теперь их тридцать шесть!
То было клиперов время, блестящие были дела,
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла.
У Малого Патерностера спит она в синей воде,
На глубине в сто футов. Я отметил на карте — где.
Нашим собственным было судно, на котором скончалась она,
И звалось в честь нее «Мэри Глостер»: я молод был в те времена.
Я запил, минуя Яву, и чуть не разбился у скал,
Но мне твоя мать явилась — в рот спиртного с тех пор я не брал.
Я цепко держался за дело, не покладая рук,
Копил (так она велела), а пили другие вокруг.
Я в Лондоне встретил Мак-Кулло (пятьсот было в кассе моей),
Основали сталелитейный — три кузницы, двадцать людей.
Дешевый ремонт дешевки. Я платил, и дело росло,
Патент на станок приобрел я, и здесь мне опять повезло,
Я сказал: «Нам выйдет дешевле, если сделает их наш завод»,
Но Мак-Кулло на разговоры потратил почти что год.
Пароходства как раз рождались, — работа пошла сама,
Котлы мы ставили прочно, машины были — дома!
Мак-Кулло хотел, чтоб в каютах были мрамор и всякий там клен,
Брюссельский и утрехтский бархат, ванны и общий салон,
Водопроводы в клозетах и слишком легкий каркас,
Но он умер в шестидесятых, а я — умираю сейчас…
Я знал — шла стройка «Байфлита», — я знал уже в те времена
(Они возились с железом), я знал — только сталь годна.
И сталь себя оправдала. И мы спустили тогда,
За шиворот взяв торговлю, девятиузловые суда.
Мне задавали вопросы, по Писанью был мой ответ:
«Тако да воссияет перед людьми ваш свет».
В чем могли, они подражали, но им мыслей моих не украсть:
Я их всех позади оставил потеть и списывать всласть.
Пошли на броню контракты, здесь был Мак-Кулло силен,
Он был мастер в литейном деле, но лучше, что умер он.
Я прочел все его заметки, их понял бы новичок,
И я не дурак, чтоб не кончить там, где мне дан толчок.
(Помню, вдова сердилась.) А я чертежи разобрал.
Шестьдесят процентов, не меньше, приносил мне прокатный вал.
Шестьдесят процентов с браковкой, вдвое больше, чем дало б литье,
Четверть мильона кредита — и все это будет твое.
Мне казалось — но это неважно, — что ты очень походишь на мать,
Но тебе уже скоро сорок, и тебя я успел узнать.
Харвард и Тринити-колледж. А надо б отправить в моря!
Я дал тебе воспитанье, и дал его, вижу, зря.
Тому, что казалось мне нужным, ты вовсе не был рад,
И то, что зовешь ты жизнью, я называю — разврат.
Гравюры, фарфор и книги — вот твоя колея,
В колледже квартирой шлюхи была квартира твоя.
Ты женился на этой костлявой, длинной как карандаш,
От нее ты набрался спеси; но скажи, где ребенок ваш?
Катят по Кромвель-роуду кареты твои день и ночь,
Но докторский кеб не виден, чтоб хозяйке родить помочь!
(Итак, ты мне не дал внука, Глостеров кончен род.)
А мать твоя в каждом рейсе носила под сердцем плод.
Но все умирали, бедняжки. Губил их морской простор.
Только ты, ты один это вынес, хоть мало что вынес с тех пор!
Лгун и лентяй и хилый, скаредный, как щенок,
Роющийся в объедках. Не помощник такой сынок!
Триста тысяч ему в наследство, кредит и с процентов доход,
Я не дам тебе их в руки, все пущено в оборот.
Можешь не пачкать пальцев, а не будет у вас детей,
Все вернется обратно в дело. Что будет с женой твоей!
Она стонет, кусая платочек, в экипаже своем внизу:
«Папочка! умирает!» — и старается выжать слезу.
Благодарен? О да, благодарен. Но нельзя ли подальше ее?
Твоя мать бы ее не любила, а у женщин бывает чутье.
Ты услышишь, что я женился во второй раз. Нет, это не то!
Бедной Эджи дай адвоката и выдели фунтов сто.
Она была самой славной — ты скоро встретишься с ней!
Я с матерью все улажу, а ты успокой друзей.
Что мужчине нужна подруга, женщинам не понять,
А тех, кто с этим согласны, не принято в жены брать.
О той хочу говорить я, кто леди Глостер еще,
Я нынче в путь отправляюсь, чтоб повидать ее.
Стой и звонка не трогай! Пять тысяч тебе заплачу,
Если будешь слушать спокойно и сделаешь то, что хочу.
Докажут, что я — сумасшедший, если ты не будешь тверд.
Кому я еще доверюсь? (Отчего не мужчина он, черт?)
Кое-кто тратит деньги на мрамор (Мак-Кулло мрамор любил).
Мрамор и мавзолеи — я зову их гордыней могил.
Для похорон мы чинили старые корабли,
И тех, кто так завещали, безумцами не сочли.
У меня слишком много денег, люди скажут… Но я был слеп,
Надеясь на будущих внуков, купил я в Уокинге склеп.
Довольно! Откуда пришел я, туда возвращаюсь вновь,
Ты возьмешься за это дело, Дик, мой сын, моя плоть и кровь!
Десять тысяч миль отсюда, с твоей матерью лечь я хочу,
Чтоб меня не послали в Уокинг, вот за что я тебе плачу.
Как это надо сделать, я думал уже не раз,
Спокойно, прилично и скромно — вот тебе мой приказ.
Ты линию знаешь? Не знаешь? В контору письмо пошли,
Что, смертью моей угнетенный, ты хочешь поплавать вдали.
Ты выберешь «Мэри Глостер» — мной приказ давно уже дан, —
Ее приведут в порядок, и ты выйдешь на ней в океан.
Это чистый убыток, конечно, пароход без дела держать…
Я могу платить за причуды — на нем умерла твоя мать.
Близ островов Патерностер в тихой, синей воде
Спит она… я говорил уж… я отметил на карте — где
(На люке она лежала, волны масляны и густы),
Долготы сто восемнадцать и ровно три широты.
Три градуса точка-в-точку — цифра проста и ясна.
И Мак-Эндру на случай смерти копия мною дана.
Он глава пароходства Ма́ори, но отпуск дадут старине,
Если ты напишешь, что нужен он по личному делу мне.
Для них пароходы я строил, аккуратно выполнил все,
А Мака я знаю давненько, а Мак знал меня… и ее.
Ему я передал деньги, — удар был предвестник конца, —
К нему ты придешь за ними, предав глубине отца.
Недаром ты сын моей плоти, а Мак мой старейший друг,
Его я не звал на обеды, ему не до этих штук.
Говорят, за меня он молился, старый ирландский шакал!
Но он не солгал бы за деньги, подох бы, но не украл.
Пусть он «Мэри» нагрузит балластом — полюбуешься, что за ход!
На ней сэр Антони Глостер в свадебный рейс пойдет.
В капитанской рубке, привязанный, иллюминатор открыт,
Под ним винтовая лопасть, голубой океан кипит.
Плывет сэр Антони Глостер — вымпела по ветру летят, —
Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.
Он создал себя и мильоны, но это все суета,
И вот он идет к любимой, и совесть его чиста!
У самого Патерностера — ошибиться нельзя никак…
Пузыри не успеют лопнуть, как тебе заплатит Мак.
За рейс в шесть недель пять тысяч, по совести — куш хорош.
И, отца предав океану, ты к Маку за ним придешь.
Тебя высадит он в Макассаре, и ты возвратишься один,
Мак знает, чего хочу я… И над «Мэри» я — господин!
Твоя мать назвала б меня мотом — их еще тридцать шесть — ничего!
Я приеду в своем экипаже и оставлю у двери его,
Всю жизнь я не верил сыну — он искусство и книги любил,
Он жил за счет сэра Антони и сердце сэра разбил.
Ты даже мне не дал внука, тобою кончен наш род…
Единственный наш, о матерь, единственный сын наш — вот!
Харвард и Тринити-колледж, — а я сна не знал за барыш!
И он думает — я сумасшедший, а ты в Макассаре спишь!
Плоть моей плоти, родная, аминь во веки веков!
Первый удар был предвестник, и к тебе я идти был готов.
Но — дешевый ремонт дешевки — сказали врачи: баловство!
Мэри, что ж ты молчала? Я тебе не жалел ничего!
Да, вот женщины… Знаю… Но ты ведь бесплотна теперь!
Они были женщины только, а я — мужчина. Поверь!
Мужчине нужна подруга, ты понять никак не могла,
Я платил им всегда чистоганом, но не говорил про дела.
Я могу заплатить за прихоть! Что мне тысяч пять
За место у Патерностера, где я хочу почивать?
Я верую в Воскресенье и Писанье читал не раз,
Но Уокингу я не доверюсь: море надежней для нас.
Пусть сердце, полно сокровищ, идет с кораблем ко дну…
Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
Буду пить из родного колодца, целовать любимый рот,
Подруга юности рядом, а других пусть черт поберет!
Я лягу в вечной постели (Дикки сделает, не предаст!),
Чтобы был дифферент на нос, пусть Мак разместит балласт.
Вперед, погружаясь носом, котлы погасив, холодна…
В обшивку пустого трюма глухо плещет волна,
Журча, клокоча, качая, спокойна, темна и зла,
Врывается в люки… Все выше… Переборка сдала!
Слышишь? Все затопило, от носа и до кормы.
Ты не видывал смерти, Дикки? Учись, как уходим мы!
БАЛЛАДА О «БОЛИВАРЕ»[201]

Семеро парней бывалых — в экипаже нашем.
Мы идем в кабак. Горланим песни. Ералашим,
Пей, гуляй сегодня вволю, на ногах нетверд:
«Боливар» благополучно возвратился в порт.
Мы грузились в Сандерленде, взяли рельсы, шпалы.
Груз уложен был так плохо: только отошли —
И назад. Опять отплыли. Зимний ветер шалый
Гнал обратно наше судно, чуть не до земли.
Расшатались все заклепки. В дьявольском безумье
Перекатывались рельсы, все крушили в трюме.
Прохудившееся днище. Крен на левый борт.
Туго нам пришлось — и все же мы вернулись в порт.
Затрещала от удара, слышим, переборка.
Подлатать бы, да нет мочи — все наперечет.
Шли да шли мы, а однажды было: вся семерка
Помахала дружно «Волку»: дескать, тихоход!
«Боливар» наш полз, качаясь валко, точно утка.
Гром на нем стоял, что в кузне, — слышать было жутко.
Но пускай с истошным воем бесновался норд,
Мы прошли залив Бискайский — и вернулись в порт.
На весу, кряхтя натужно, прогибался корпус.
Спорила братва, как долго выдержит каркас.
И когда над нами волны нависали, взгорбясь,
«Боже, вал гребной помилуй!» — мы молились враз.
Ноги — в ссадинах, ушибах, на руках — мозоли.
До костей мы все продрогли, наглотались соли.
Думал, верно, заполучит наши души черт, —
Дал промашку он, однако, — мы вернулись в порт.
Задирался нос — и в пропасть рушился с налету.
Так весь день без передышки. Дело было дрянь.
Лишь деньжонки страховые, плаченные Ллойду,
На плаву держали нашу старую лохань.
Как собачий хвост, вертелась компасная стрелка.
Скрип закрепок все слышнее. Ну и переделка!
День и ночь над нами черный небосвод простерт.
И хлебнули же мы горя, возвращаясь в порт!
Как-то ночью, видим, белый пароход-красавец
Весь в огнях, при полном штиле, шпарит прямиком
Нам навстречу. Близко-близко он прошел — и зависть
Стиснула клещами сердце. Нам бы на таком!
Вышел шкипер их из рубки да как гаркнет басом:
«Прикрутите руль, ребята, оторвется часом!»
Он куражился над нами, сам собою горд.
Только зря он скалил зубы — мы вернулись в порт.
Разошлись листы обшивки — конопать все щели.
Проскочили мы Бильбао, сзади рифы, мели.
Слава богу, не достались рыбам на подкорм.
Ловко мы надули море в этот чертов шторм!
Семеро парней бывалых — в экипаже нашем.
Мы идем в кабак. Горланим песни. Ералашим.
Рад хозяин — он лакает виски первый сорт:
«Боливар» благополучно возвратился в порт.
САМАЯ СТАРАЯ ПЕСНЯ[202]
Потому что прежде Евы была Лилит.
«Этих глаз не любил ты и лжешь,
Что любишь теперь и что снова
Ты в разлете бровей узнаешь
Все восторги и муки былого!
Ты и голоса не любил,
Что ж пугают тебя эти звуки?
Разве ты до конца не убил
Чар его в роковой разлуке?
Не любил ты и этих волос,
Хоть сердце твое забывало
Стыд и долг и в бессилье рвалось
Из-под черного их покрывала!»
«Знаю все! Потому-то мое
Сердце бьется так глухо и странно!»
«Но зачем же притворство твое?»
«Счастлив я, — ноет старая рана».
СТОРОЖЕВОЙ ДОЗОР НА МОСТУ В КАРРУ[203]
«…и будут дополнительные детали по охране моста через Кровавую Реку».
Стремительно над пустыней
Смягчается резкий свет,
И вихрем изломанных линий
Возникает горный хребет.
Вдоль горизонта построясь,
Разрезает кряж-исполин
Небес берилловый пояс
И черный мускат долин.
В небе зажгло светило
Красок закатных гроздь —
Охра, лазурь, белила,
Умбра, жженая кость.
Там, над обрывом гранитным,
Звезды глядят в темноту —
Резкий свисток велит нам
Сменить караул на мосту.
(Стой до седьмого пота
У подножия гор —
Не армия, нет — всего-то
Сторожевой дозор.)
Скользя на кухонных отбросах,
На банках из-под жратвы,
На выгоревших откосах,
На жалких пучках травы —
Выбрав путь покороче,
Мы занимаем пост —
И это начало ночи
Для стерегущих мост.
Мы слышим — овец в корали
Гонит бушмен-пастух,
И звон остывающей стали
Ловит наш чуткий слух,
Воет шакалья стая;
Шуршат в песчаной пыли,
С рыхлых откосов слетая,
Комья сухой земли.
Звезды в холодных безднах
Мерцают ночь напролет,
И на сводах арок железных
Почиет небесный свод.
Покуда меж дальних склонов
Не послышится перестук,
Не вспыхнут окна вагонов,
Связующих север и юг.
Нет, не зря ты глаза мозолишь
Бурам, что пялятся с гор, —
Не армия, нет — всего лишь
Сторожевой дозор.
О радость короткой встречи!
И тянемся мы на свет,
За глотком человечьей речи,
За охапкой старых газет.
Радость пройдет так скоро —
Но дарят нам небеса
Обрывки чужого спора,
Женские голоса.
Когда же огней вереница
Погаснет за склоном холма —
Тьма ложится на лица
И в сердце вступает тьма.
Одиночество и забота —
Вот и весь разговор.
Не армия, нет — всего-то
Сторожевой дозор.
ЮЖНАЯ АФРИКА[204]
Что за женщина жила
(Бог ее помилуй!) —
Не добра и не верна,
Жуткой прелести полна,
Но мужчин влекла она
Сатанинской силой.
Да, мужчин влекла она
Даже от Сен-Джаста,
Ибо Африкой была,
Южной Африкой была,
Нашей Африкой была,
Африкой — и баста!
В реках девственных вода
Напрочь пересохла,
От огня и от меча
Стала почва горяча,
И жирела саранча,
И скотина дохла.
Много страсти сберегла
Для энтузиаста,
Ибо Африкой была,
Южной Африкой была,
Нашей Африкой была,
Африкой — и баста!
Хоть любовники ее
Не бывали робки,
Уделяла за труды
Крохи краденой еды,
Да мочу взамен воды,
Да кизяк для топки.
Забивала в глотки пыль,
Чтоб смирнее стали,
Пронимала до кости
Лихорадками в пути,
И клялись они уйти
Прочь, куда подале.
Отплывали, но опять,
Как ослы, упрямы,
Под собой рубили сук,
Вновь держали путь на юг,
Возвращались под каблук
Этой дикой дамы.
Все безумней лик ее
Чтили год от года, —
В упоенье, в забытьи
Отрекались от семьи,
Звали кладбища свои
Алтарем народа.
Кровью куплена твоей,
Слаще сна и крова,
Стала больше, чем судьбой,
И нежней жены любой —
Женщина перед тобой
В полном смысле слова!
Встань! Подобная жена
Встретится нечасто —
Южной Африке салют,
Нашей Африке салют,
Нашей собственной салют
Африке — и баста!
САССЕКС[205]
Мы любим землю, но сердца
У нас не беспредельны,
И каждому рукой Творца
Дан уголок отдельный,
Чтоб он, как милосердный бог,
Трудясь над мирозданьем,
Свой добрый мир построить мог
С божественным стараньем.
Балтийских сосен аромат
Нам дорог или звуки,
Что в пальмах пробудил пассат,
Летящий из Левуки?
Свой рай по сердцу выбирай,
А я, с судьбой не споря,
Люблю мой край, мой дивный край, —
Да, Сассекс мой, у моря!
Не украшают ни сады,
Ни ласковые рощи
Китообразные гряды —
Один терновник тощий!
Зато — какая благодать! —
Просвет в нагой теснине
Нам позволяет увидать
Уильд лесистый, синий.
Здесь полудик, небоязлив,
Дерн мудрый — нелюдимо
Прилег на меловой обрыв,
Как при солдатах Рима.
Где бившихся и павших след,
Превратной славы знаки?
Остались травы, солнца свет,
Курганы, бивуаки.
Тяжелый, крылья просолив,
Зюйд-вест летит вдоль пляжа.
Свинцовой линией пролив
Прочерчен против кряжа.
О том, что отмель скрыла мгла,
Здесь, на своем наречье,
Гремят судов колокола,
Бубенчики овечьи.
Здесь нет ключей — долин красы,
И только на вершине,
Без вод подспудных, пруд росы
Всегда есть в котловине.
Пророча летних дней конец,
Трава у нас не чахнет.
Ощипан овцами, чебрец
Восходом райским пахнет!
Безмолвием звенящим весь
Пронизан день прелестный!
Творца холмов мы славим здесь,
В забытой церкви местной.
Но есть иные божества.
Свой круг блюдет их ревность,
И, в тайнике его, жива
Языческая древность.
Достанься мне земель-сестер
Прекрасных наших сорок,
Я разрешил бы равных спор:
Мне старый Сассекс дорог!
Меж Темзою и Твидом край
Возьми любой зеленый.
Холмы мне дай, и Рейк, и Рай,
И берег укрепленный.
К изгибу горного хребта
Направлюсь против солнца.
На графства смотрит нагота
Верзилы Уильмингтонца.
Здесь Ротер, сделав крюк, притих.
Он ищет, оробелый,
Прилива подле дамб сухих
Гордыни обмелелой!
Пущусь на север, в тишь дубрав,
В ущелья, к древним се́ням
Дубов, хоть ниже сорных трав
Мы в Сассексе их ценим!
Иль в Пиддингхо пойду, на юг:
Дельфином золоченым
Играет ветер, и на луг
Волы бредут по склонам.
Привычка, память и любовь
Твердят нам: «До кончины
Свой край всем сердцем славословь!
Ты и земля — едины!»
Не пробуй это побороть!
В тупик твой разум станет:
Из глины созданную плоть
К родимой глине тянет!
Мы любим землю, но сердца
У нас не беспредельны,
И каждому, рукой Творца,
Дан уголок отдельный.
Свой рай по сердцу выбирай,
А я, с судьбой не споря,
Люблю мой край, мой дивный край, —
Да, Сассекс мой, у моря!
ДУРАК[206]
Жил-был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я).
Тряпкам, костям и пучку волос —
Все это пустою бабой звалось,
Но дурак ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).
О, года, что ушли в никуда, что ушли,
Головы и рук наших труд —
Все съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.
Что дурак растранжирил, всего и не счесть
(Впрочем, как Вы и Я) —
Будущность, веру, деньги и честь.
Но леди вдвое могла бы съесть,
А дурак — на то он дурак и есть
(Впрочем, как Вы и Я).
О, труды, что ушли, их плоды, что ушли.
И мечты, что вновь не придут, —
Все съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.
Когда леди ему отставку дала
(Впрочем, как Вам и Мне),
Видит бог! Она сделала все, что могла!
Но дурак не приставил к виску ствола.
Он жив. Хотя жизнь ему не мила.
(Впрочем, как Вам и Мне.)
В этот раз не стыд его спас, не стыд,
Не упреки, которые жгут, —
Он просто узнал, что не знает она,
Что не знала она и что знать она
Ни черта не могла тут.
«Когда уже ни капли краски не выжмут на холсты Земли…»
* * *[207]
Когда уже ни капли краски не выжмут на холсты Земли,
Когда умрут полотна древних и вымрут новые врали,
Мы — без особых сожалений — пропустим вечность или две,
Пока умелых подмастерьев не кликнет Мастер к синеве.
И будут счастливы умельцы, рассевшись в креслах золотых,
Писать кометами портреты — в десяток лиг длиной — святых,
В натурщики Петра, и Павла, и Магдалину изберут
И просидят не меньше эры, пока не кончат этот труд!
И только Мастер их похвалит, и только Мастер попрекнет —
Работников не ради славы, не ради ханжеских щедрот,
Но ради радости работы — но ради радости донесть,
Каким ты этот мир увидел, Творцу его, каков он есть!
БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ[208]
Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда —
Лишь у подножья Престола Божья, в день Страшного суда!
Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных мужчин,
Рожденных в разных концах земли, сошлись один на один.
Летит взбунтовать пограничный край со своими людьми Камал.
Кобылу, гордость полковника, он сегодня ночью украл.
Копыта ей обмотав тряпьем, чтоб не слышен был стук подков,
Из конюшни вывел ее чуть свет, вскочил — и был таков!
Свой взвод разведчиков созвал тогда полковника сын:
«Ужель, где прячется Камал, не знает ни один?»
Сын рессалдара, Мохаммед-Хан, встал и сказал в ответ:
«Кто ведает, где ночевал туман, — найдет Камалов пикет!
В сумерки он абазаев громил, рассвело — в Бонэре ищи!
Но должен объехать он Форт Бакло, чтоб из дому взять харчи.
Если бог поможет, вы, без препон, как птицы, летите вдогон
И его отрежьте от Форта прежде, чем достигнет ущелья он!
Но если теснины джагаев достиг — назад поверните коней!
Не мешкай нимало: людей Камала тьма-тьмущая прячется в ней.
Справа скала, слева скала, колючая поросль мелка.
Чуть не в упор щелкнет затвор — но не видать стрелка!»
Полковничий сын прыгнул в седло. Буланый объезжен едва:
Хайло — что колокол, сердце — ад, как виселица — голова!
До Форта полковничий сын доскакал, но к еде душа не лежит:
Тот жаркому не рад, от кого конокрад, вор пограничный, бежит.
Из Форта Бакло во весь опор всадник погнал жеребца
И в ущелье джагаев, коня измаяв, приметил кобылу отца.
Он в ущелье приметил кобылу отца и Камала у ней на хребте.
Ее глаза белок различив, он курок дважды взвел в темноте.
Мгновенье спустя две пули, свистя, прошли стороной. «Ты — стрелок
Не хуже солдата, — молвил Камал. — Покажи, каков ты ездок!»
В узкой теснине, как смерч в пустыне, мчались ночной порой.
Кобыла неслась, как трехлетняя лань, конь — как олень матерой.
Голову кверху Буланый задрал и летел, закусив удила,
За гнедой лошадкой, что, с гордой повадкой, трензелями играя, шла.
Справа скала, слева скала, колючая поросль мелка.
Трижды меж гор щелкнул затвор, но не видать стрелка.
Зорю дробно копыта бьют. В небе месяц поник.
Кобыла несется, как вспугнутый зверь, Буланый — как раненый бык.
Но рухнул безжизненной грудой в поток Буланый на всем скаку.
Камал, повернув кобылу, помог выпутаться седоку
И вышиб из рук у него пистолет — как биться в такой тесноте?
«Если доселе ты жив — скажи спасибо моей доброте!
Скалы нет отвесной, нет купы древесной на двадцать миль кругом,
Где не таился б мой человек со взведённым курком.
Я руку с поводьями к телу прижал, но если б я поднял ее,
Набежали б чекалки, и в неистовой свалке пировало бы нынче зверье.
Я голову держал высоко, а наклони я лоб,
Вон тот стервятник не смог бы взлететь, набив до отвала зоб».
«От пира, — сказал полковничий сын, — шакалам не будет беды.
Прикинь, однако, кто придет за остатками еды.
Если тысячу сабель пошлют сюда за моими костями вслед,
Какой ценой пограничный вор оплатит шакалий обед?
Скормят коням хлеб на корню, люди съедят умолот,
Крыши хлевов предадут огню, когда перебьют ваш скот.
Коль скоро сойдемся в цене — пировать братьев зови под утес!
Собачье племя — шакалье семя! Что ж ты не воешь, пес?
Но если в пожитках, зерне и быках цена высока, на твой взгляд, —
Тогда отдай мне кобылу отца. Я пробью дорогу назад!»
Камал помог ему на ноги встать: «Не о собаках толк
Там, где сошлись один на один бурый и серый волк!
Пусть ем я грязь, когда причиню тебе малейшее зло!
Откуда — из чертовой прорвы — тебя со смертью шутить принесло?»
Он ответил: «Привержен я крови своей до скончания дней!
Кобылу в подарок прими от отца. Мужчина скакал на ней!»
Сыну полковника ткнулись в грудь ноздри лошадки гнедой.
«Нас двое сильных, — сказал Камал, — но ей милей — молодой!
В приданое даст похититель ей серебряные стремена,
Узду в бирюзе, седло и чепрак узорный получит она».
Тогда, держа за ствол пистолет, полковника сын говорит:
«К тому, который ты взял у врага, друг тебе пару дарит!»
«Дар за дар, — отозвался Камал, — риск за риск: обычай для всех один!
Отец твой сына ко мне послал. Пусть едет к нему мой сын!»
Он свистнул сыну, и с гребня скалы обрушился тот стремглав.
Стройнее пики, он был как дикий олень средь весенних трав.
«Вот господин твой! — сказал Камал. — Бок о бок с ним скача,
Запомни, ты — щит, что вечно торчит у левого плеча!
Твоя жизнь — его, и судьба твоя — отвечать за него головой,
Покуда узла не развяжет смерть либо родитель твой!
Хлеб королевы ты должен есть: флаг ее — твой флаг! —
И нападать на владенья отца: враг ее — твой враг!
Ты конником должен стать лихим и к власти путь прорубить.
Когда в Пешаваре повесят меня — тебе рессалдаром быть!»
Они заглянули друг другу в глаза, и был этот взгляд глубок.
На кислом хлебе и соли они дали братства зарок.
И, вырезав хайберским ножом свежего дерна кусок,
Именем божьим, землей и огнем скрепили этот зарок.
На гнедой кобыле — полковничий сын, на Буланом — Камалов сын, —
Вдвоем подскакали к Форту Бакло, откуда уехал один.
У караульни блеснуло враз двадцать клинков наголо:
Пламя вражды к жителю гор каждое сердце жгло.
«Отставить! — крикнул полковника сын. — В ножны вложите булат!
Вчера он был пограничный вор, сегодня — свой брат, солдат!»
Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда —
Лишь у подножья Престола Божья, в день Страшного суда!
Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных мужчин,
Рожденных в разных концах земли, сошлись один на один.
ИСКУПЛЕНИЕ ЭР-ХЕБА[209]
Эр-Хеб за горной цепью А-Сафай
Своей беды свидетель. А-Сафай
О ней поведал Горуху — оттуда
Пошел на Запад, в Индию, рассказ.
История Бизесы. Дочь Армода
Бизеса, обрученная с Вождем
Шестидесяти Копий, — он стерег
Проход в Тибет, а ныне ищет мира
В пределах, где царит Безмолвный Буд, —
Бизеса умерла, спасая племя
От Мора, и остановила Мор.
Таман — Один и больше всех людей,
Таман — Один и больше всех Богов;
Таман — Один и Два в Одном: он скачет
С заката до восхода в небесах,
Изогнутых, как лошадиный круп,
И пятками стучит коню в бока —
И ржущий гром разносится в горах.
Таков Таман. В Эр-Хебе был он Бог
До всех Богов: он создал всех Богов
И уничтожит созданных Богов
И сам сойдет на землю для суда
Над теми, кто хулил его Жрецов,
И в жертву приносил худых овец,
И в Храме не поддерживал Огня, —
Как поступил Эр-Хеб, забыв Тамана,
Когда людей прельстили Киш и Ябош,
Ничтожные, но хитрые Божки.
Таман с небес увидел грех людей
И рассудил вернуть их, покарав,
И кованный железом Красный Конь
Спустился с неба в горы сеять Мор.
На ветер трижды фыркнул Красный Конь,
Но ветер голый испугать нельзя;
О снег ударил трижды Красный Конь,
Но снег беззвучный испугать нельзя;
И вниз пошел по склону Красный Конь,
Но камень гулкий испугать нельзя;
Коня встречала чахлая береза,
И за березой — серая сосна,
И за сосною — низкорослый дуб;
А за лесами чаща наших пастбищ
Уже лежала у его копыт.
Тем вечером туман закрыл долину,
Как закрывают мертвому лицо,
Закрыл долину, бело-голубой,
И растекался, тихий, как вода,
От Храма, где давно погас Огонь,
От Храма до запруды водопоя
Клубился, подымался, оседал
И замирал, — и вот при лунном свете
Долина замерцала, как болото,
И люди шли в тумане по колено,
Переходя долину словно вброд.
Той ночью Красный Конь щипал траву
У водопоя наших стад, и люди —
Кто услыхал его — лишились сил.
Так Мор пришел в Эр-Хеб и погубил
Мужчин одиннадцать и женщин трех;
А Красный Конь ушел с рассветом ввысь,
Оставив на земле следы подков.
Тем вечером туман покрыл долину,
Как покрывают тело мертвеца,
Но был он много выше — высотой
С отроковицу, — и при лунном свете
Долина замерцала, словно заводь.
Той ночью Красный Конь щипал траву
На расстоянье брошенного камня
От водопоя наших стад, и люди —
Кто услыхал его — лишились сил.
Так Мор пришел в Эр-Хеб и погубил
Мужчин — две дюжины, и женщин — семь,
И двух младенцев.
Так как путь на Горух
Был путь к врагам, а мирный А-Сафай
Перекрывали снежные заносы,
Мы не могли бежать, и смерть копьем
Разила нас; молчали Киш и Ябош,
Хотя мы им заклали лучших коз;
И каждой ночью Красный Конь спускался
Все ниже по реке, все ближе, ближе
Ко Храму, где давно погас Огонь,
И кто слыхал Коня, лишался сил.
Уже туман вздымался выше плеч
И голоса гасил в жилищах смерти, —
Тогда Бизеса молвила Жрецам:
«На что нам Киш и Ябош? Если Конь
Дойдет до Храма, нас постигнет Гибель.
Вы позабыли Бога всех Богов
Тамана!» И в Горах раздался гром,
И пошатнулся Ябош, и Сапфир,
Зажатый меж колен его, померк.
Жрецы молчат; один из них воззвал
К величью Ябоша, но вдруг упал
И умер пред Сапфирным Алтарем.
Бизеса молвит: «К Смерти я близка
И Мудростью Могильной обладаю
И вижу, в чем спасенье от беды.
Вы знаете, что я богаче всех —
Богаче всех в Эр-Хебе мой отец;
Вы знаете, что я красивей всех, —
На миг ее ресницы опустились, —
Вы знаете, что я любимей всех…»
И Вождь Шестидесяти Копий к ней
Рванулся — но Жрецы не допустили:
«Ее устами говорит Таман».
Бизеса молвит: «За мое богатство,
Любовь и красоту меня избрал
Таман». И гром пронесся по Горам,
И рухнул Киш на груду черепов.
Во мраке дева между алтарями
Стряхнула бирюзовые браслеты,
Сняла серебряное ожерелье
И сбросила нефритовый нагрудник
И кольца с ног и отшвырнула серьги —
Их в молодости выковал Армод
Из самородка горухской реки;
Звенели драгоценности о камни,
И вновь, как бык, ревел Таманов Гром.
Во мраке, словно устрашившись Дэвов,
К Жрецам Бизеса простирает руки:
«Как слабой женщине истолковать
Намеренья Богов? Меня призвал
Таман — каким путем пойти к нему?»
Несчастный Вождь Шестидесяти Копий
Томился и рыдал в руках Жрецов,
Но не посмел поднять на них копье
И вызволить невесту не посмел.
И все рыдали.
Но Служитель Киша
По месту первый перед алтарем,
Обремененный сотней зим старик,
Слепой, давно лишившийся волос
И горбоносый, как Орел Снегов,
Старик, прослывший у Жрецов немым,
Вдруг по веленью Киша — иль Тамана —
Кого из них, мы поняли не лучше,
Чем серые нетопыри под кровлей, —
Старик бессильным языком вскричал:
«Ступай ко Храму, где погас Огонь!»
И рухнул в тень поверженного Киша.
Тем вечером туман покрыл долину,
Как покрывают тело мертвеца,
И поднялся над крышами домов;
И возле Храма, где погас Огонь,
Застыл, как склизкая вода в кормушках,
Когда чума разит стада Эр-Хеба, —
И люди вновь услышали Коня.
Тем вечером в Армодовом жилище
Жрецы сожгли приданое Бизесы,
Заклали Тора, черного быка,
Сломали прялку девы, распустили
Ей волосы, как перед брачной ночью,
Но причитали, как на погребенье.
Мы слышали, как плачущая дева
Пошла ко Храму, где погас Огонь,
И Красный Конь со ржаньем шел за ней,
Подковами чеканя гром и смерть.
Как А-Сафайская звезда выходит
Из снежных туч и возвещает людям,
Что перевал открыт, — так из тумана
Бизеса вышла на Таманов Путь
И по камням разбитым побрела
Ко Храму, где давно погас Огонь;
И Красный Конь до Храма шел за ней
И вдруг умчался в Горы — навсегда.
А те, кто пробудил Таманов гнев,
Следили, поднимаясь за туманом,
Как дева на горе войдет во Храм.
Она дотронулась до почерневшей,
Нетопырями оскверненной двери,
Где буквами древней, чем А-Сафай,
Был высечен Великий Гимн Таману, —
И дважды со слезами отшатнулась
И опустилась на порог, взывая
К Вождю, возлюбленному жениху,
К отцу и к Тору, черному быку,
Ей посвященному. Да, дева дважды
Отшатывалась от ужасной двери
В Забытый Храм, в котором Человеком
Играет, как игрушкою, Таман,
Безглазый Лик с усмешкой на устах.
Но в третий раз на каменный узор
Бизеса налегла, моля Тамана
Принять ее как выкуп за Эр-Хеб.
И кто следил, те видели, как дверь
Раскрылась и закрылась за Бизесой;
И хлынул ливень и омыл Долину,
И таял злой туман, и грохотал
Таманов Гром, в сердца вселяя страх.
Одни клянутся, что Бизеса трижды
Из Храма жалобно звала на помощь,
Другие — что она бесстрашно пела,
А третьи — что слыхали гром и ливень
И не было ни пения, ни зова.
Но что бы ни было, наутро люди,
От ужаса немые, шли ко Храму —
Туда собрался весь Эр-Хеб, и с плачем
Жрецы вступили в страшный Храм Тамана,
Которого страшились и не знали.
Пробившаяся в трещинах трава
Раскалывала плиты алтаря,
По стенам проступали нечистоты,
Прогнившие стропила распухали
От многоцветной поросли; проказой
Лишайник изъязвил Таманов Лик.
Над ним в Купели Крови трепетало
Рубиновое утреннее солнце —
Под ним, закрыв ладонями лицо,
Лежала бездыханная Бизеса.
Эр-Хеб за горной цепью А-Сафай
Своей беды свидетель. А-Сафай
О ней поведал Горуху — оттуда
Пошел на Запад, в Индию, рассказ.
ДАМБЫ[210]
Душа не лежит рыбачить, рука не лежит грести.
Опыт, завещанный от отцов, не больно у нас в чести.
Верой в неверие мы горды: любые истины лгут.
Нашим потом не полит хлеб, радостью беден труд.
Видишь, за гранью дамб и запруд раскинулись вширь поля,
Это — руками отцов для нас созданная земля!
Они повернули море вспять. Прочно построен вал.
Мы в мире росли за плечом плотин, но прошлый покой пропал!
Там, вдалеке, нарастает прилив, карабкаясь на заплот,
Пробует, крепко ль посажен затвор, скользит и опять ползет;
Лижет голыш, движет голыш, гложет песчаный склон…
Взморье не близко, пора бы взглянуть, цел ли еще заслон!
В тревоге дома покидаем мы, на берег спеша идем.
Вот он, отцами созданный вал, мы бреши не знали в нем!
Нет, мы не боялись, пусть ветер выл и шторм не раз бушевал.
Что же, посмотрим, как он стоит, отцами созданный вал!
Над гатью, над редким лоскутьем крыш смятенный теплится свет,
Вспыхнет и чахнет, сверкнет и меркнет — и только тлеет след,
Зловещая искорка на ветру, уголь, павший в золу…
Ночи и морю преданы мы, и буря у нас в тылу!
Коровы у изгородей ревут, к воротам теснясь скорей,
Вспугнуты криком, и беготней, и мерцанием фонарей,
Засовы — долой, пусть каждый сам спасает шкуру, когда
Шлюзы таранит из-за спины и во рвах взбухает вода!
Море ломит поверх плотин, по нашим пашням идет,
Буруны гуляют, как жеребцы, швыряя пену вразмет,
И все, что копытом не потоптать, уносят в зубах они,
Пока не утащат хлеба, и дрок, и дедовские плетни…
Готовьте топливо для костров — паклю, смолу, сушняк:
Не дым — огонь будет нужен нам, если дамбы проглотит мрак!
Расставьте дозорных на вышки (что утро наворожит?) —
В ногах канат, а над головой колокол дребезжит…
Осталось одно — дожидаться дня, поздним казнясь стыдом.
Вот этот вал — наследство отцов. Мы не думали о своем.
Стучалась беда, но считалось всегда, что есть дела поважней.
Мы изменили своим отцам и убили своих сыновей!
Пред нами разгромленный фронт плотин, работа морской волны.
То был отцами созданный вал, богатство и мир страны.
Но миру — конец, и богатству — конец, и земли под ногами нет,
И ты не найдешь ни кола ни двора, когда наступит рассвет!
ГИЕНЫ[211]
Когда похоронный патруль уйдет
И коршуны улетят,
Приходит о мертвом взять отчет
Мудрых гиен отряд.
За что он умер и как он жил —
Это им все равно.
Добраться до мяса, костей и жил
Им надо, пока темно.
Война приготовила пир для них,
Где можно жрать без помех.
Из всех беззащитных тварей земных
Мертвец беззащитней всех.
Козел бодает, воняет тля,
Ребенок дает пинки.
Но бедный мертвый солдат короля
Не может поднять руки.
Гиены вонзают в песок клыки,
И чавкают, и рычат.
И вот уж солдатские башмаки
Навстречу луне торчат.
Вот он и вышел на свет, солдат, —
Ни друзей, никого.
Одни гиеньи глаза глядят
В пустые зрачки его.
Гиены и трусов и храбрецов
Жуют без лишних затей,
Но они не пятнают имен мертвецов:
Это — дело людей.
БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА[212]
Неси это гордое Бремя —
Родных сыновей пошли
На службу тебе подвластным
Народам на край земли —
На каторгу ради угрюмых
Мятущихся дикарей,
Наполовину бесов,
Наполовину людей.
Неси это гордое Бремя —
Будь ровен и деловит,
Не поддавайся страхам
И не считай обид;
Простое ясное слово
В сотый раз повторяй —
Сей, чтобы твой подопечный
Щедрый снял урожай.
Неси это гордое Бремя —
Воюй за чужой покой —
Заставь Болезнь отступиться
И Голоду рот закрой;
Но чем ты к успеху ближе,
Тем лучше распознаешь
Языческую Нерадивость,
Предательскую Ложь.
Неси это гордое Бремя
Не как надменный король —
К тяжелой черной работе,
Как раб, себя приневоль;
При жизни тебе не видеть
Порты, шоссе, мосты —
Так строй их, оставляя
Могилы таких, как ты!
Неси это гордое Бремя —
Ты будешь вознагражден
Придирками командиров
И криками диких племен:
«Чего ты хочешь, проклятый,
Зачем смущаешь умы?
Не выводи нас к свету
Из милой Египетской Тьмы!»
Неси это гордое Бремя —
Неблагодарный труд, —
Ах, слишком громкие речи
Усталость твою выдают!
Тем, что ты уже сделал
И сделать еще готов,
Молчащий народ измерит
Тебя и твоих Богов.
Неси это гордое Бремя —
От юности вдалеке
Забудешь о легкой славе,
Дешевом лавровом венке —
Теперь твою возмужалость
И непокорность судьбе
Оценит горький и трезвый
Суд равных тебе!
МАСТЕР[213]
За полночь, после попойки в «Русалке»
Джонсону, властному Воанергесу,
Он рассказывал (и если спьяна —
Честь винограду!),
Как под Котсуолдом встретил в таверне
Настоящую свою Клеопатру:
Дикая безумно пила от несчастной
Страсти к солдату.
Как, скрываясь от графской стражи,
В темной канаве, покрыт росою,
Он услыхал цыганку Джульетту,
Клявшую утро.
Как щенят утопить не решался
Бедный малыш, а его сестренка,
Леди Макбе́т лет семи, их злобно
Бросила в Темзу.
Как в воскресенье притихший, грустный
Стрэтфорд нырял за Офелией в Эвон:
Все горожане знали девчонку,
Самоубийцу.
Так Поэт, безымянным пальцем
Капли вина обручая друг с другом,
Тайны свои открывал, и солнце
Вышло послушать.
Лондон проснулся, и протрезвевший
Мастер умчался ловить виденья, —
В том, что кому-то они пригодятся,
Не сомневаясь…
ТОМЛИНСОН[214]
И стало так! — усоп Томлинсон в постели на Беркли-сквер,
И за волосы его схватил посланец надмирных сфер.
Схватил его за волосы Дух и черт-те куда повлек, —
И Млечный Путь гудел по пути, как вздутый дождем поток.
И Млечный Путь отгудел вдали — умолкла звездная марь,
И вот у Врат очутились они, где сторожем Петр-ключарь.
«Предстань, предстань и нам, Томлинсон, четко и ясно ответь,
Какое добро успел совершить, пока не пришлось помереть;
Какое добро успел совершить в юдоли скорби и зла!»
И стала вмиг Томлинсона душа, что кость под дождями, бела.
«Оставлен мною друг на земле — наставник и духовник,
Сюда явись он, — сказал Томлинсон, — изложит все напрямик».
«Отметим: ближний тебя возлюбил, — но это мелкий пример!
Ведь ты же, брат, у Небесных Врат, а это — не Беркли-сквер;
Хоть будет поднят с постели твой друг, хоть скажет он за тебя, —
У нас — не двое за одного, а каждый сам за себя».
Горе и долу зрел Томлинсон и не узрел ни черта —
Нагие звезды глумились над ним, а в нем — была пустота.
И ветер, дующий меж миров, взвизгнул, как нож на ребре.
И стал отчет давать Томлинсон в содеянном им добре:
«Про это — я читал, — он сказал, — это — слыхал стороной,
Про это думал, что думал другой о русской персоне одной».
Безгрешные души толклись позади, как голуби у летка,
А Петр-ключарь ключами бренчал, и злость брала старика.
«Думал, читал, слыхал, — он сказал, — это все про других!
Во имя бывшей плоти своей реки о путях своих!»
Вспять и встречь взглянул Томлинсон и не узрел ни черта;
Был Мрак сплошной за его спиной, а впереди — Врата.
«Это я знал, это — считал, про это — где-то слыхал,
Что кто-то читал, что кто-то писал про шведа, который пахал».
«Знал, считал, слыхал, — ну и ну! — и сразу лезть во Врата!
К чему небесам внимать словесам — меж звезд и так теснота!
За добродетели духовника, ближнего или родни
Не обретет Господних щедрот пленник земной суетни.
Отыди, отыди ко Князю Лжи, твой жребий не завершен!
И… да будет вера твоей Беркли-сквер с тобою там, Томлинсон!»
……….
Волок его за волосы Дух, стремительно падая вниз,
И возле Пекла поверглись они, Созвездья Строптивости близ,
Где звезды красны от гордыни и зла, или белы от невзгод,
Или черным-черны от греха, какой и пламя неймет.
И длят они путь свой или не длят — на них проклятье пустынь;
Их ни одна не помянет душа — гори они или стынь.
А ветер, дующий меж миров, так выстудил душу его,
Что адских пламён искал Томлинсон, как очага своего.
Но у решетки Адовых Врат, где гиблых душ не сочтешь,
Дьявол пресек Томлинсонову прыть, мол, не ломись — не пройдешь!
«Низко ж ты ценишь мой уголек, — сказал Поверженный Князь, —
Ежели в Ад вознамерился влезть, меня о том не спросясь!
Я слишком с Адамовой плотью в родстве, мной небрегать не резон,
Я с Богом скандалю из-за него со дня, как создан был он.
Садись, садись на изгарь и мне четко и ясно ответь,
Какое зло успел совершить, пока не пришлось помереть».
И Томлинсон поглядел горе и увидел в Адской Дыре
Чрево кроваво-красной звезды, казнимой в жуткой жаре.
И долу Томлинсон поглядел и увидел сквозь Адскую Мглу
Темя молочно-белой звезды, казнимой в жутком пылу.
«В былые дни на земле, — он сказал, — меня обольстила одна,
И, если ты ее призовешь, на всё ответит она».
«Учтем: не глуп по части прелюб, — но это мелкий пример!
Ведь ты же, брат, у Адовых Врат, а это — не Беркли-сквер;
Хоть свистнем с постели твою любовь — она не придет небось!
За грех, совершенный двоими вдвоем, каждый ответит поврозь!»
А ветер, дующий меж миров, как нож его потрошил,
И Томлинсон рассказывать стал о том, как в жизни грешил:
«Однажды я взял и смерть осмеял, дважды — любовный искус,
Трижды я Господа Бога хулил, чтоб знали, каков я не трус».
Дьявол печеную душу извлек, поплевал и отставил стыть:
«Пустая тщета на блажного шута топливо переводить!
Ни в пошлых шутках не вижу цены, ни в глупом фиглярстве твоем.
И незачем мне джентльменов будить, спящих у топки втроем!»
Участия Томлинсон не нашел, встречь воззрившись и вспять.
От Адовых Врат ползла пустота опять в него и опять.
«Я же слыхал, — сказал Томлинсон. — Про это ж была молва!
Я же в бельгийской книжке читал французского лорда слова!»
«Слыхал, читал, узнал, — ну и ну! — мастер ты бредни молоть!
Сам ты гордыне своей угождал? Тешил греховную плоть?»
И Томлинсон решетку затряс, вопя: «Пусти меня в Ад!
С женою ближнего своего я плотски был близковат!»
Дьявол слегка ухмыльнулся и сгреб уголья в жаркий суслон:
«И это ты вычитал, а, Томлинсон?» — «И это!» — сказал Томлинсон.
Нечистый дунул на ногти, и вмиг отряд бесенят возник,
И он им сказал: «К нам тут нахал мужеска пола проник!
Просеять его между звездных сит! Отсеять малейший прок!
Адамов род к упадку идет, коль этаким вверил порок!»
Эмпузина рать, не смея взирать в огонь из-за голизны
И плачась, что грех им не дал утех, — по младости, мол, не грешны! —
По углям помчалась за сирой душой, копаясь в ней без конца;
Так дети шарят в вороньем гнезде или в ларце отца.
И вот, клочки назад притащив, как дети, натешившись впрок,
Они доложили: «В нем нету души, какою снабдил его Бог!
Мы выбили бред брошюр, и газет, и книг, и вздорный сквозняк,
И уйму краденых душ, но его души не найдем никак!
Мы катали его, мы мотали его, мы пытали его огнем,
И, если как надо был сделан досмотр, душа не находится в нем!»
Нечистый голову свесил на грудь и басовито изрек:
«Я слишком с Адамовой плотью в родстве, чтоб этого гнать за порог.
Здесь Адская Пасть, и ниже не пасть, но если б таких я впускал,
Мне б рассмеялся за это в лицо кичливый мой персонал;
Мол, стало не пекло у нас, а бордель, мол, я не хозяин, а мот!
Ну, стану ль своих джентльменов я злить, ежели гость — идиот?»
И Дьявол на душу в клочках поглядел, ползущую в самый пыл,
И вспомнил о Милосердье Святом, хоть фирмы честь не забыл.
«И уголь получишь ты от меня, и сковородку найдешь,
Коль сам душекрадцем ты выдумал стать», — и сказал Томлинсон:
«А кто ж?»
Враг Человеческий сплюнул слегка — забот в его сердце несть:
«У всякой блохи поболе грехи, но что-то, видать, в тебе есть!
И я бы тебя бы за это впустил, будь я хозяин один,
Но свой закон Гордыне вменен, и я ей не господин.
Мне лучше не лезть, где Мудрость и Честь, согласно проклятью, сидят!
Тебя же вдвоем замучат живьем Блудница сия и Прелат.
Не дух ты, не гном ты, не книга, не зверь, — держал он далее речь, —
Ты вновь обрети человечье лицо, греховное тело сиречь.
Я слишком с Адамовой плотью в родстве, шутить мне с тобою не след.
Ступай, хоть какой заработай грешок! Ты — человек или нет!
Спеши! В катафалк вороных запрягли. Вот-вот они с места возьмут.
Ты — скверне открыт, пока не зарыт. Чего же ты мешкаешь тут?
Даны зеницы тебе и уста, изволь же их отверзать!
Неси мой глагол Человечьим Сынам, пока не усопнешь опять:
За грех, совершенный двоими вдвоем поврозь подобьют итог!
И… да поможет тебе, Томлинсон, твой книжный заемный Бог!»
ДАР МОРЯ[215]
Младенец мертвый в саване спал,
Над ним вдова не спала.
Спала ее мать. Течение вспять
Буря в проливе гнала.
Вдова смеялась над бурей и тьмой.
«Мой муж утонул в волне,
Мой ребенок мертв, — шептала она, —
Чем еще ты грозишься мне?»
И она глядела на детский труп, —
А свеча почти оплыла, —
И стала петь Отходную Песнь,
Чтоб скорей душа отошла.
«Прибери Богоматерь в ненастную ночь
Тебя от моей груди
И постель застели твою…» — пела она,
Но не смела сказать «Иди!».
И тут с пролива донесся крик,
Но стекла завесила мгла.
«Слышишь, мама! — сказала старухе она. —
Нас душа его позвала!»
Старуха горько вздохнула в ответ:
«Там овца ягнится в кустах.
С чего бы крещеной безгрешной душе
Звать и плакать впотьмах!»
«О ножки, стучавшие в сердце мое!
О ручки, сжимавшие грудь!
Как смогут дорожку они отыскать?
Как смогут замки отомкнуть?»
И постлали они простыню у дверей
И лучшее из одеял,
Чтоб в холод и тьму не продрогнуть ему.
Но плач во мгле не смолкал.
Вдова подняла засов на дверях,
Взгляд напрягла, как могла,
И открыла дверь, чтоб душа теперь
Без помехи прочь отошла.
Во тьме не мерцали ни искра, ни дух,
Ни призрак, ни огонек.
И «Ты слышишь, мама, — сказала она, —
Он зовет меня за порог!»
Старуха пуще вздохнула в ответ:
«Скорбящий глух и незряч, —
Это крачки испуганные кричат
Или чайки заблудшей плач!»
«Крачек ветер с моря прогнал в холмы,
Чайка в поле за плугом идет;
Не птица во тьме послышалась мне —
Это он меня в ночь зовет!»
«Не плачь, родная моя, не плачь,
У младенца пути свои.
Не дает житья тебе скорбь твоя
И пустые руки твои!»
Но она отстранила мать от дверей:
«Матерь Божия, быть посему!
Не пойду — спасенья душе не найду!»
И пошла в зовущую тьму.
На закиданном водорослями молу,
Где ветер мешал идти,
Во тьме на младенца наткнулась она,
Чью жизнь опоздала спасти.
Она прижала дитя к груди
И назад к старухе пошла,
И звала его, как сынка своего,
И понапрасну звала.
На грудь ей с найденыша капли текли.
Ее собственный в саване спал.
И «Помилуй нас, Боже! — сказала она. —
Давших Жизни угаснуть в шквал».
КОРОЛЕВА[216]
«Романтика, прощай навек!
С резною костью ты ушла, —
Сказал пещерный человек, —
И бьет теперь кремнем стрела.
Бог Плясок больше не в чести.
Увы, романтика! Прости!»
«Ушла! — вздыхал народ озер, —
Теперь мы жизнь влачим с трудом,
Она живет в пещерах гор,
Ей незнаком наш свайный дом,
Холмы, вы сон ее блюсти
Должны, Романтика, прости!»
И мрачно говорил солдат:
«Кто нынче битвы господин?
За нас сражается снаряд
Плюющих дымом кулеврин.
Удар никак не нанести!
Где честь? Романтика, прости!»
И говорил Купец, брезглив:
«Я обошел моря кругом,
Все возвращается прилив,
И каждый ветер мне знаком.
Я знаю все, что ждет в пути
Мой бриг. Романтика, прости!»
И возмущался Капитан:
«С углем исчезла красота,
Когда идем мы в океан,
Рассчитан каждый взмах винта.
Мы, как паром, из края в край
Идем. Романтика, прощай!»
И злился дачник, возмущен:
«Мы ловим поезд, чуть дыша,
Бывало, ездил почтальон,
Опаздывая, не спеша.
О, черт!» Романтика меж тем
Водила поезд девять-семь.
Послушен под рукой рычаг,
И смазаны золотники,
И будят насыпь и овраг
Ее тревожные свистки;
Вдоль доков, мельниц, рудника
Ведет умелая рука.
Так сеть свою она плела,
Где сердце — кровь и сердце — чад,
Каким-то чудом заперта
В мир, обернувшийся назад.
И пел певец ее двора:
«Ее мы видели вчера!»
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЧЕСТНОГО ТОМАСА[217]
Король вассалам доставить велел
Священника с чашей, шпоры и меч,
Чтоб Честного Томаса наградить,
За песни рыцарским званьем облечь.
Вверху и внизу, на холмах и в лугах
Искали его и лишь там нашли,
Где млечно-белый шиповник растет
Как страж у Врат Волшебной Земли.
Вверху синева, и внизу откос,
Глаза разбежались, — им не видны
Стада, что пасутся на круглом бугре…
О, это царицы волшебной страны!
— Кончай свою песню! — молвил Король. —
Готовься к присяге, я так хочу;
Всю ночь у доспехов стой на часах,
И я тебя в рыцари посвящу.
Будут конь у тебя, и шпоры, и герб,
Грамоты, оруженосец и паж,
Замок и лен земельный любой,
Как только вассальную клятву дашь!
К небу от арфы поднял лицо
Томас и улыбнулся слегка;
Там семечко чертополоха неслось
По воле бездельного ветерка.
«Уже я поклялся в месте ином
И горькую клятву сдержать готов.
Всю ночь доспехи стерег я там,
Откуда бежали бы сотни бойцов.
Мой дрот в гремящем огне закален,
Откован мой щит луной ледяной,
А шпоры в сотне лиг под землей,
В Срединном Мире добыты мной.
На что мне твой конь и меч твой зачем?
Чтоб истребить Благородный Народ
И разругаться с кланом моим,
Родней, что в Волшебном Граде живет?
На что мне герб, и замок, и лен,
И грамоты мне для чего нужны,
Оруженосец и паж мне зачем?
Я сам Король своей страны.
Я шлю на запад, шлю на восток,
Куда пожелаю, вассалов шлю,
Чтоб утром и в сумерках, в ливень и зной
Возвращались они к своему Королю.
От стонущей суши мне весть принесут,
От ревущих во мгле океанов шальных,
Реченье Плоти, Духа, Души,
Реченье людей, что запутались в них».
Король по колену ударил рукой
И нижнюю губу прикусил:
«Честный Томас! Я верой души клянусь,
На любезности ты не расходуешь сил!
Я многих графами сделать могу,
Я вправе и в силе им приказать
Позади скакать, позади бежать
И покорно моим сынам услужать».
«Что мне в пеших и конных графах твоих,
На что сдались мне твои сыны?
Они, чтобы славу завоевать,
Просить моего изволенья должны.
Я Славу разинутым ртом создаю,
Шлю проворный Позор до скончанья времен,
Чтобы клир на рынках ее возглашал,
Чтобы с псами рыскал по улицам он.
Мне красным золотом платят одни,
Не жалеют иные белых монет,
Ну а третьи дают немного еды,
Ибо званья у них высокого нет.
За красное золото, за серебро
Я для знати одно и то же пою,
Но за еду от незнатных людей
Пою наилучшую песню мою».
Кинул Король серебряный грош,
Одну из мелких шотландских монет:
«За бедняцкую плату, за нищенский дар
Сыграешь ли ты для меня или нет?»
«Когда я играю для малых детей,
Они подходят вплотную ко мне,
Но там, где даже дети стоят,
Кто ты такой, что сидишь на коне?
Слезай с коня твоей спеси, Король!
Уж больно чванен твой зычный галдеж.
Три слова тебе я скажу, и тогда,
Коль дерзнешь, в дворянство меня возведешь!»
Король послушно сошел с коня
И сел, опершись о камень спиной.
«Держись! — молвил Томас. — Теперь у тебя
Я вырву сердце из клетки грудной!»
Томас рукой по струнам провел
Ветровой арфы своей колдовской;
От первого слова у Короля
Хлынули жгучие слезы рекой:
«Я вижу утраченную любовь,
Касаюсь незримой надежды моей.
Срамные дела, что я тайно творил,
Шипят вкруг меня, как скопище змей.
Охвачен я страхом смертной судьбы,
Нет солнца в полдень, настала ночь.
Спрячь меня, Томас, укрой плащом,
Бог знает, — мне дольше терпеть невмочь!»
Вверху синева, и внизу откос,
Бегущий поток и открытый луг.
В зарослях вереска, в мокром рву
Солнце пригрело племя гадюк.
Томас молвил: «Приляг, приляг!
То, что минуло, — рассудит Бог.
Получше слово тебе возглашу,
Тучу сгоню, что прежде навлек».
Честный Томас по струнам провел рукой,
И арфа грянула сгоряча.
При слове втором схватился Король
За повод, за рукоять меча:
«Я слышу ратников тяжкий шаг,
Блестит на солнце копий стена.
Из чащи так низко летит стрела,
Так звучно поет в полете она!
Пусть на этой войне мои стяги шумят,
Пусть рыцари скачут мои напролом,
Пускай стервятник за битвой следит, —
Жесточе у нас не случалось в былом!»
Вверху синева, и внизу откос,
Гнется трава, и пуст небосклон.
Там, сумасбродным ветром звеня,
Сокол летит за сорокой в угон.
Честный Томас над арфой вздохнул
И тронул средние струны у ней;
И последнее слово Король услыхал
О невозвратности юных дней:
«Я снова Принц и без страха люблю
Подружку мою, не в пример Королю,
С друзьями подлинной дружбой дружу,
На добром коне оленя травлю.
Псы мои насмерть загонят дичь,
Могучий рогач залег у ручья;
Ждет у окна, чтоб мне руки умыть,
Возлюбленная подружка моя.
Я истинно жив, ибо снова правдив,
Всмотревшись в любимый, искренний взгляд,
Чтоб в Эдеме вместе с Адамом стоять
И скакать на коне через Райский Сад».
Ветер безумствует, гнется трава,
Плещет поток, и пуст небосвод,
Где, обернувшись, могучий олень
Лань свою ждет, ей пройти не дает.
Честный Томас арфу свою отложил,
Склонился низко, молчанье храня.
Он повод поправил и стремя взял
И Короля усадил на коня.
Он молвил: «Ты бодрствуешь или спишь,
Сидя застыло и молча? Ну что ж!
Мыслю — ты будешь песню мою
Помнить, пока навек не уснешь!
Я Песней Тень от солнца призвал,
Чтоб вопила она, восстав пред тобой,
Под стопами твоими прах раскалил,
Затмил над тобой небосвод голубой.
Тебя я к Престолу Господню вознес,
Низверг тебя в Пекло, в Адский предел,
Я натрое душу твою растерзал,
А — ты — меня — рыцарем — сделать — хотел!»
ЭПИТАФИИ[218]
ПОЛИТИК
Я трудиться не сумел, грабить не посмел,
Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным,
Лгал — птенцам.
Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был,
Я спрошу у них, у мертвых, — бьют ли на том свете морду
Нам — лжецам?
ЭСТЕТ
Я отошел это сделать не там, где вся солдатня.
И снайпер в ту же секунду меня на тот свет отправил.
Я думаю, вы не правы, высмеивая меня,
Умершего принципиально, не меняя своих правил.
КОМАНДИР МОРСКОГО КОНВОЯ
Нет хуже работы — пасти дураков,
Бессмысленно храбрых — тем более.
Но я их довел до родных берегов
Своею посмертною волею.
БЫВШИЙ КЛЕРК
Не плачьте! Армия дала
Свободу робкому рабу.
За шиворот приволокла
Из канцелярии в судьбу,
Где он, узнав, что значит смерть,
Набрался храбрости — любить,
И полюбив — пошел на смерть,
И умер. К счастью, может быть.
НОВОБРАНЕЦ
Быстро, грубо и умело за короткий путь земной
И мой дух и мое тело вымуштровала война.
Интересно, что способен сделать бог со мной
Сверх того, что уже сделал старшина?
ОРДИНАРЕЦ
Я знал, что мне он подчинен и чтоб спасти меня — умрет.
Он умер, так и не узнав, что надо б все наоборот!
ДВОЕ
А. — Я был богатым, как раджа.
Б. — А я был беден.
Вместе. — Но на тот свет без багажа
Мы оба едем.
БОБС[219]
(Фельдмаршал Лорд Робертс Кандахар; умер во Франции в 1914 г.)
Краснорожий чародей —
Крошка Бобс,
Только рослых лошадей
Любит Бобс.
Если конь лягнет, взбрыкнет,
Бобсу что? Во весь свой рот,
Сидя на кобыле, ржет —
Что за Бобс!
Бахадуру Бобсу слава —
Крошка Бобс, Бобс, Бобс!
Кандахаровец он истый —
Воин Бобс, Бобс, Бобс!
Он ведь Герцог Агги Чел,[220]
Он душой за нас болел,
В ад пойдет с ним всяк, кто цел, —
Веришь, Бобс?
Кто поправит передок —
О, наш Бобс;
Знает строй наш назубок —
Тоже Бобс.
Да, глаза его — судьба,
Глотка — медная труба,
Бесполезна с ним борьба —
Это — Бобс!
Он слегка сегодня пьян —
Ну и Бобс!
Ох, погубит нас, болван, —
Так ведь, Бобс?
Жалобы сожмем в зубах,
Коль моча в его мозгах:
Прём вперед, а там — наш крах —
Ангел Бобс.
Если б встал он вниз башкой —
Папа Бобс,
Полился б свинец рекой —
Что за Бобс!
Тридцать лет — о чем тут речь —
Что копить и что беречь?!
Пули, дротики, картечь —
В дырках Бобс!
Так и не сумел узнать
Маршал Бобс,
Что на все нам наплевать —
Так-то, Бобс!
Мудрый он, хоть ростом мал,
Но всегда врага пугал,
И-не-тре-бо-вал-пох-вал —
Ай да Бобс!
А теперь, как бог, живет
Где-то Бобс;
По заслугам — и почет,
Так ведь, Бобс?
Станет пэром он теперь,
Каску выкинет за дверь,
Но он вспомнит нас, поверь, —
Верно, Бобс?
Бахадуру Бобсу слава —
Крошка Бобс, Бобс, Бобс!
Веллингтон он наш карманный —
Воин Бобс, Бобс, Бобс!
Хватит, больше простоты!
Тьфу-тьфу-тьфу — не с нами ты,
Рады мы до хрипоты —
Славься, Бобс!
ДЕННИ ДИВЕР[221]
— О чем с утра трубят рожки? — один из нас сказал.
— Сигналят сбор, сигналят сбор, — откликнулся капрал.
— Ты побелел как полотно! — один из нас сказал.
— Я знаю, что покажут нам, — откликнулся капрал.
Будет вздернут Денни Дивер ранним-рано на заре,
Похоронный марш играют, полк построился в каре,
С плеч у Денни рвут нашивки — на казарменном дворе
Будет вздернут Денни Дивер рано утром.
— Как трудно дышат за спиной, — один из нас сказал.
— Хватил мороз, хватил мороз, — откликнулся капрал.
— Свалился кто-то впереди, — один из нас сказал.
— С утра печет, с утра печет, — откликнулся капрал.
Будет вздернут Денни Дивер, вдоль шеренг ведут его,
У столба по стойке ставят, возле гроба своего,
Скоро он в петле запляшет, как последнее стерьво!
Будет вздернут Денни Дивер рано утром.
— Он спал направо от меня, — один из нас сказал.
— Уснет он нынче далеко, — откликнулся капрал.
— Не раз он пиво ставил мне, — один из нас сказал.
— Он хлещет горькую один, — откликнулся капрал.
Будет вздернут Денни Дивер, по заслугам приговор:
Он убил соседа сонным, на него взгляни в упор,
Земляков своих бесчестье и всего полка позор —
Будет вздернут Денни Дивер рано утром!
— Что это застит белый свет? — один из нас сказал.
— Твой друг цепляется за жизнь, — откликнулся капрал.
— Что стонет там, над головой? — один из нас сказал.
— Отходит грешная душа, — откликнулся капрал.
Кончил счеты Денни Дивер, барабаны бьют поход,
Полк построился колонной, нам командуют: — Вперед!
Хо! — трясутся новобранцы, промочить бы пивом рот, —
Нынче вздернут Денни Дивер рано утром.
ТОММИ[222]
Хотел я глотку промочить, гляжу — трактир открыт.
— Мы не пускаем солдатню! — хозяин говорит.
Девиц у стойки не унять: потеха хоть куда!
Я восвояси повернул и плюнул со стыда.
— Эй, Томми, так тебя и сяк, ступай и не маячь!
Но — Мистер Аткинс, просим Вас! — когда зовет трубач.
Когда зовет трубач, друзья, когда зовет трубач,
Да, мистер Аткинс, просим Вас, когда зовет трубач!
На представленье я пришел, ну ни в одном глазу!
За мной ввалился пьяный хлыщ, и он-то сел внизу.
Меня ж отправили в раек, наверх, на самый зад,
А если пули запоют, — пожалте в первый ряд!
— Эй, Томми, так тебя и сяк, умерь-ка лучше прыть!
Но — Личный транспорт Аткинсу! — когда за море плыть.
Когда за море плыть, друзья, когда за море плыть,
Отличный транспорт Аткинсу, когда за море плыть!
Дешевый нам дают мундир, грошовый рацион,
Солдат — ваш верный часовой — не больно дорог он!
И проще фыркать: дескать, он шумён навеселе,
Чем с полной выкладкой шагать по выжженной земле!
— Эй, Томми, так тебя и сяк, да ты, мерзавец, пьян!
Но — Взвейтесь, грозные орлы! — лишь грянет барабан.
Лишь грянет барабан, друзья, лишь грянет барабан,
Не дрянь, а «грозные орлы», лишь грянет барабан!
Нет, мы не грозные орлы, но и не грязный скот,
Мы — те же люди, холостой казарменный народ.
А что порой не без греха — так где возьмешь смирней:
Казарма не растит святых из холостых парней!
— Эй, Томми, так тебя и сяк, тишком ходи, бочком!
Но — Мистер Аткинс, грудь вперед! — едва пахнет дымком.
Едва пахнет дымком, друзья, едва пахнет дымком,
Ну, мистер Аткинс, грудь вперед, едва пахнет дымком!
Сулят нам сытные пайки, и школы, и уют.
Вы жить нам дайте по-людски, без ваших сладких блюд!
Не о баланде разговор, и что чесать язык,
Покуда форму за позор солдат считать привык!
— Эй, Томми, так тебя и сяк, катись, и черт с тобой!
Но он — «защитник Родины», когда выходит в бой.
Да, Томми, так его и сяк, не раз уже учен,
И Томми — вовсе не дурак, он знает, что почем!
ФУЗЗИ-ВУЗЗИ[223]
(Суданские экспедиционные части)
Знавали мы врага на всякий вкус:
Кто похрабрей, кто хлипок, как на грех,
Но был не трус афганец и зулус,
А Фуззи-Вуззи — этот стоил всех!
Он не желал сдаваться, хоть убей,
Он часовых косил без передышки,
Засев в чащобе, портил лошадей
И с армией играл, как в кошки-мышки.
За твое здоровье, Фуззи, за Судан, страну твою,
Первоклассным, нехристь голый, был ты воином в бою!
Билет солдатский для тебя мы выправим путем,
А хочешь поразмяться, так распишемся на нем!
Вгонял нас в пот Хайберский перевал,
Нас дуриком, за милю, шлепал бур,
Мороз под солнцем Бирмы пробирал,
Лихой зулус ощипывал, как кур,
Но Фуззи был по всем статьям мастак,
И сколько ни долдонили в газетах:
— Бойцы не отступают ни на шаг! —
Он колошматил нас и так и этак.
За твое здоровье, Фуззи, за супругу и ребят!
Был приказ с тобой покончить, мы успели в аккурат.
Винтовку против лука честной не назвать игрой,
Но все козыри побил ты и прорвал британский строй!
Газеты не видал он никогда,
Медалями побед не отмечал,
Так мы расскажем, до чего удал
Удар его двуручного меча!
Он из кустиков на голову кувырк
Со щитом, навроде крышки гробовой, —
Всего денек веселый этот цирк,
И год бедняга Томми сам не свой.
За твое здоровье, Фуззи, в память тех, с кем ты дружил,
Мы б оплакали их вместе, да своих не счесть могил.
Но равен счет — мы присягнем, хоть Библию раскрой;
Пусть потерял ты больше нас, ты смял британский строй!
Ударим залпом, и пошел бедлам:
Он ныряет в дым и с тылу мельтешит.
Это прямо порох с перцем пополам,
И притворщик, если мертвый он лежит.
Он — ягненочек, он — мирный голубок,
Попрыгунчик, соскочивший со шнурка,
И плевать ему, куда теперь пролег
Путь Британского Пехотного Полка!
За твое здоровье, Фуззи, за Судан, страну твою,
Первоклассным, нехристь голый, был ты воином в бою!
За здоровье Фуззи-Вуззи, чья башка копна копной:
Чертов черный голодранец, ты прорвал британский строй!
ПУШКАРИ
В зубах неразлучная трубка, с вершин ветерок сквозной,
Шагаю я в бурых крагах, мой бурый мул за спиной,
Со мной шестьдесят бомбардиров, и — милым толстушкам честь —
Тут гордость Британской Армии, все лучшее, что в ней есть, — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки, и пушки верны в боях!
Бросайте свои погремушки, не то разнесут в пух и прах — бабах!
Тащите вождя и сдавайтесь все вместе: и трус и смельчак;
Не хватайся за меч, не пытайся утечь, нет от пушек спасенья никак!
Нас гонят туда, где дороги, но чаще — где нет дорог,
И лезешь, как муха по стенке, нащупав ногой бугорок.
Лушаев и нагу смяли, с афридиев сбили спесь
Мы, пушки, — две батареи, двум тыщам равные здесь — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки…
Не тянешь — будь благодарен: научим жить на земле!
Не встанешь — ну что же, парень, патрон для тебя — в стволе.
Так делай свою работу без спеху, не напоказ,
Полевые части — не сахар? А ну, попотей у нас — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки…
Над нами орлиный клекот, рокот реки, как гром,
Мы выдрались из чащобы — лишь скалы да снег кругом.
Бичом полосует ветер, и вниз по степям летит
Скрежет и скрип железа, тупой перестук копыт — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки…
Колесо по Лезвию Неба, и Бездна у самых ног,
А путь, распахнутый в вечность, прямее, чем твой плевок,
От солнца и снега слепнешь, рубаха — выжми да брось,
Но намертво полрасчета в старуху нашу впряглось — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки…
В зубах неразлучная трубка, с вершин ветерок сквозной,
Карабкаюсь в бурых крагах, мой бурый мул за спиной.
Где шли мы — мартышкам да козам и то не дознаться, кажись.
— Родимые, тпру-у! Снять цепи! Шрапнелью! К бою! Держиссь! — тсс, тсс!
Ведь наша любовь — это пушки, и пушки верны в боях!
Не вздумайте лезть в заварушки, не то разнесут в пух и прах — бабах!
Тащите вождя и сдавайтесь все вместе: и трус и смельчак;
Хоть под землю засядь, там тебе и лежать — не спасешься от пушек никак!
ГАУПТВАХТА
Голова — что твоя шарманка, язык, как приклад, тяжел,
Лежалой картошкой губы, — я крепко, видать, дошел!
Но меня не забудет патрульный капрал, в клоповник попал я не зря:
Я напился, как зверь, и капралу теперь со скулы не отмыть фонаря!
Второсрочная — прямо на доски — шинель,
Плац под окнами, выбитый сплошь…
Стоят суток гульбы две недели «губы» —
«За драку и пьяный дебош»!
За пьянство и славный дебош!
Капрал-то был, право, хорош.
Стоят суток гульбы две недели «губы»
За драку и пьяный дебош!
Я пива хлебнул порядком, что проку! — водой вода!
Но джину с дружком хватил я тайком и вот угодил сюда.
Ну, черт нас пихнул на двойной караул, капрал-то хрясь меня в нос!
Но как я за ворот его рванул, так клок в кулаке и унес!
Я бросил ботинки-гири и кинул в трактире шлем,
А мундир и ремни — бог весть где они, и чтоб они шли ко всем…
Мне не станут платить и велят отхватить нашивки, что я заслужил,
Но печать мою долго капрал не сотрет, я на совесть ее приложил!
Жена у казарменных плачет ворот, ревет во дворе малец…
Оно ерунда, вот начальство — беда: узнает — и мне конец.
Не лучше ли дать мне клятву опять, что святое начну житье,
Но случись заодно и дружок и вино, — как бы я не забыл ее!
Второсрочная — прямо на доски — шинель,
Плац под окнами, выбитый сплошь…
Стоят суток гульбы две недели «губы» —
«За драку и пьяный дебош»!
За пьянство и славный дебош!
Капрал-то был, право, хорош.
Стоят суток гульбы две недели «губы»
За драку и пьяный дебош!
НОВОБРАНЦЫ
Когда на восток новобранцы идут —
Как дурни, резвятся, как лошади, пьют.
Иные из них по дороге умрут,
Еще не начав служить как солдат,
Служить, служить, служить как солдат, солдат королевы!
Эй вы, молодые, поближе к огню!
Я не первых встречаю и хороню.
Но пока вы живы, я вам объясню,
Как должен вести себя умный солдат,
Умный, умный, умный солдат, солдат королевы!
При чуме и холере себя береги,
Минуй болота и кабаки.
Холера и трезвость — всегда враги.
А кто пьян, тот, ей-богу, скверный солдат,
Скверный, скверный, скверный солдат, солдат королевы!
Если сволочь сержант до точки довел,
Не ворчи, как баба, не злись, как осел.
Будь любезным и ловким, — и вот ты нашел,
Что наше спасенье в терпенье, солдат,
В терпенье, в терпенье, в терпенье, солдат, солдат королевы!
Если жена твоя шьется с другим,
Не стоит стреляться, застав ее с ним.
Отдай ему бабу — и мы отомстим,
Он будет с ней проклят, этот солдат,
Проклят, проклят, проклят солдат, солдат королевы!
Если ты под огнем удрать захотел,
Глаза оторви от лежащих тел
И будь счастлив, что ты еще жив и цел,
И маршируй вперед, как солдат,
Вперед, вперед, вперед, как солдат, солдат королевы!
Если мажут снаряды над их головой,
Не ругай свою пушку сукой кривой,
А лучше с ней потолкуй, как с живой,
И ты будешь доволен ею, солдат,
Доволен, доволен, доволен, солдат, солдат королевы!
Пусть кругом все убиты, — а ты держись!
Приложись и ударь и опять приложись.
Как можно дороже продай свою жизнь.
И жди помощи Англии, как солдат,
Жди ее, жди ее, жди ее, как солдат, солдат королевы!
Но если ты ранен и брошен в песках
И женщины бродят с ножами в руках,
Дотянись до курка и нажми впотьмах
И к солдатскому богу ступай как солдат,
Ступай, ступай, ступай как солдат, солдат королевы!
МАНДАЛАЙ
Где, у пагоды Мульмейнской, блещет море в полусне, —
Знаю, — девушка из Бирмы вспоминает обо мне.
В звоне бронзы колокольной слышу, будто невзначай:
«Воротись, солдат британский! Воротись ты в Мандалай!»
Воротись ты в Мандалай,
Где суда стоят у свай.
Шлепают, как прежде, плицы из Рангуна в Мандалай.
По дороге в Мандалай,
Где летучим рыбам — рай.
И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край!
В юбке желтой, в изумрудной шапочке, звалась она
«Супи-йо-лет», как царица, Тибо ихнего жена.
Начадив сигарой белой, припадала в тишине,
С христианским умиленьем, к черной идола ступне.
Глупый идол! Этот люд
Окрестил его «Бог Будд»!
Я ласкал ее, и было не до идолов ей тут!
По дороге в Мандалай —
В сырость рисовых плантаций солнце низкое сползло,
И она, под звуки банджо, мне поет «Кулла-ло-ло!»,
На плечо кладет мне руку, мы сидим, щека к щеке,
И следим, как пароходы проплывают вдалеке,
Как слоняги бревна тика складывают в тростнике,
В иловатой, гниловатой, дурно пахнущей реке,
И, в безмолвье душном, слово вдруг замрет на языке!
По дороге в Мандалай —
То, что было, — нынче сплыло. Прошлое прости-прощай!
Разве омнибусы ходят с Набережной в Мандалай?
Поучал меня служивый, оттрубивший десять лет:
«Кто услышал зов востока — не глядит на белый свет!»
Ничего другого нет,
Только пряный дух чесночный, только в пальмах солнца свет,
Только храма колокольцы — ничего другого нет!
По дороге в Мандалай —
Тошно мне тереть подметки о булыжник мостовых.
Дождь осенний лихорадку бередит в костях моих.
Пусть за мной, от Челси к Стрэнду, треплют хвост полста прислуг!
О любви пускай болтают — страх берет от их потуг,
Бычьих лиц, шершавых рук!
Не чета душистой, чистой, самой нежной из подруг,
В той земле, где зеленеют в рощах пальмы и бамбук!
По дороге в Мандалай —
За Суэц попасть хочу я: зло с добром — в одной цене,
Десять заповедей — силы не имеют в той стране;
Храмовые колокольцы обращают зов ко мне,
И, у пагоды Мульмейнской, блещет море в полусне.
По дороге в Мандалай
Старый флот стоит у свай,
Где, больные, мы лежали, по прибытье в Мандалай!
О, дорога в Мандалай,
Где летучим рыбам — рай!
И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край!
БРОД ЧЕРЕЗ КАБУЛ
Стал Кабул у вод Кабула…
Саблю вон, труби поход!..
Здесь полвзвода утонуло,
Другу жизни стоил брод,
Брод, брод, брод через Кабул,
Брод через Кабул и темнота.
При разливе, при широком
эскадрону выйдут боком
Этот брод через Кабул и темнота.
Да, Кабул — плохое место…
Саблю вон, труби поход!..
Здесь раскисли мы, как тесто,
Многим жизни стоил брод,
Брод, брод, брод через Кабул,
Брод через Кабул и темнота.
Возле вех держитесь, братцы,
с нами насмерть будут драться
Гиблый брод через Кабул и темнота.
Спит Кабул в пыли и зное…
Саблю вон, труби поход!..
Лучше б мне на дно речное,
Чем ребятам… Чертов брод!
Брод, брод, брод через Кабул,
Брод через Кабул и темнота.
Вязнут бутцы и копыта,
кони фыркают сердито, —
Вот вам брод через Кабул и темнота.
Нам занять Кабул велели,
Саблю вон, труби поход!..
Но скажите — неужели
Друга мне заменит брод,
Брод, брод, брод через Кабул,
Брод через Кабул и темнота.
Плыть да плыть, не спать в могиле
тем, которых загубили
Чертов брод через Кабул и темнота.
На черта Кабул нам нужен?..
Саблю вон, труби поход!..
Трудно жить без тех, с кем дружен, —
Знал, что взять, проклятый брод.
Брод, брод, брод через Кабул.
Брод через Кабул и темнота.
О Господь, не дай споткнуться,
слишком просто захлебнуться
Здесь, где брод через Кабул и темнота.
Нас уводят из Кабула…
Саблю вон, труби поход!..
Сколько наших утонуло?
Скольких жизней стоил брод?
Брод, брод, брод через Кабул,
Брод через Кабул и темнота.
Обмелеют летом реки,
но не всплыть друзьям вовеки, —
Это знаем мы, и брод, и темнота.
ХОЛЕРНЫЙ ЛАГЕРЬ[224]
Холера в лагере нашем, всех войн страшнее она,
Мы мрем средь пустынь, как евреи в библейские времена.
Она впереди, она позади, от нее никому не уйти…
Врач полковой доложил, что вчера не стало еще десяти.
Эй, лагерь свернуть и в путь! Нас трубы торопят,
Нас ливни топят…
Лишь трупы надежно укрыты, и камни на них и кусты…
Грохочет оркестр, чтоб унынье в нас побороть,
Бормочет священник, чтоб нас пожалел Господь,
Господь…
О боже! За что нам такое, мы пред тобою чисты.
В августе хворь эта к нам пришла и с тех пор висит на хвосте,
Мы шагали бессонно, нас грузили в вагоны, но она настигала везде,
Ибо умеет в любой эшелон забраться на полпути…
И знает полковник, что завтра опять не хватит в строю десяти.
О бабах нам тошно думать, на выпивку нам плевать,
И порох подмок, остается только думать и маршировать,
А вслед по ночам шакалы завывают: «Вам не дойти,
Спешите, ублюдки, не то до утра не станет еще десяти!»
Порядочки, те, что теперь у нас, насмешили б и обезьян:
Лейтенант принимает роту, возглавляет полк капитан,
Рядовой командует взводом… Да, по службе легко расти,
Если служишь там, где вакансий ежедневно до десяти.
Иссох, поседел полковник, он мечется день и ночь
Среди госпитальных коек, меж тех, кому не помочь.
На свои он берет продукты, не боясь карман растрясти,
Только проку пока не видно, что ни день — то нет десяти.
Пастор в черном бренчит на банджо, лезет с мулом прямо в ряды,
Слыша песни его и шутки, надрывают все животы,
Чтоб развлечь нас, он даже пляшет: «Ти-ра-ри-ра, Ра-ри-ра-ти!»
Он достойный отец для мрущих ежедневно по десяти.
А католиков ублажает рыжекудрый отец Виктор,
Он поет ирландские песни, ржет взахлеб и городит вздор…
Эти двое в одной упряжке, им бы только воз довезти…
Так и катится колесница, — сутки прочь, и нет десяти.
Холера в лагере нашем, горяча она и сладка,
Дома лучше кормили, но, сев за стол, нельзя не доесть куска,
И сегодня мы все бесстрашны, ибо страху нас не спасти,
Маршируем мы и теряем на день в среднем по десяти.
Эй! Лагерь свернуть и в путь! Нас трубы торопят,
Нас ливни топят…
Лишь трупы надежно укрыты, и камни на них и кусты…
Те, кто с собою не справятся, могут заткнуться,
Те, кому сдохнуть не нравится, могут живыми вернуться.
Но раз уж когда-нибудь все равно ляжем и я и ты,
Так почему б не сегодня без споров и суеты.
А ну, номер первый, заваливай стояки,
Брезент собери, растяжек не позабудь,
Веревки и колья — все вали во вьюки!
Пора, о пора уже лагерь свернуть и в путь…
(Господи, помоги!)
ДВА ПРИГОРКА[225]
Только два африканских пригорка,
Только пыль и палящий зной,
Только тропа между ними,
Только Трансвааль за спиной,
Только маршевая колонна
В обманчивой тишине
Внушительно и непреклонно
Шагающая по стране.
Но не смейся, встретив пригорок,
Улыбнувшийся в жаркий час,
Совершенно пустой пригорок,
За которым — Пит и Клаас, —
Будь зорок, встретив пригорок,
Не объявляй перекур:
Пригорок — всегда пригорок,
А бур — неизменно бур.
Только два африканских пригорка,
Только дальний скалистый кряж,
Только грифы да павианы,
Только сплошной камуфляж,
Только видимость, только маска —
Только внезапный шквал,
Только шапки в газетах: «Фиаско»,
Только снова и снова провал.
Так не смейся, встретив пригорок,
Неизменно будь начеку,
За сто миль обойди пригорок,
Полюбившийся проводнику, —
Будь зорок, встретив пригорок,
Не объявляй перекур:
Пригорок — всегда пригорок,
А бур — неизменно бур.
Только два африканских пригорка,
Только тяжких фургонов след,
Только частые выстрелы буров,
Только наши пули в ответ, —
Только буры засели плотно,
Только солнце адски печет…
Только — «всем отступать поротно»,
Только — «вынужден дать отчет».
Так не смейся, встретив пригорок,
Берегись, если встретишь два,
Идиллический, чертов пригорок,
Приметный едва-едва, —
Будь зорок, встретив пригорок,
Не объявляй перекур:
Пригорок — всегда пригорок,
А бур — неизменно бур.
Только два африканских пригорка,
Ощетинившихся, как ежи,
Захватить их не больно сложно,
А попробуй-ка удержи, —
Только вылазка из засады,
Только бой под покровом тьмы,
Только гибнут наши отряды,
Только сыты по горло мы!
Так не смейся над жалким пригорком —
Он достался нам тяжело;
Перед этим бурым пригорком,
Солдат, обнажи чело,
Лишь его не учли штабисты,
Бугорка на краю земли, —
Ибо два с половиной года
Двух пригорков мы взять не могли.
Так не смейся, встретив пригорок,
Даже если подписан мир, —
Пригорок — совсем не пригорок,
Он одет в военный мундир, —
Будь зорок, встретив пригорок,
Не объявляй перекур:
Пригорок — всегда пригорок,
А бур — неизменно бур!
ПЫЛЬ
(Пехотные колонны)
День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!) —
Отпуска нет на войне!
Восемь — шесть — двенадцать — пять — двадцать миль на этот раз.
Три — двенадцать — двадцать две — восемнадцать миль вчера
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!) —
Отпуска нет на войне!
Брось-брось-брось-брось! — видеть то, что впереди.
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!) —
Все-все-все-все — от нее сойдут с ума,
И отпуска нет на войне!
Ты-ты-ты-ты — пробуй думать о другом,
Бог-мой-дай-сил — обезуметь не совсем!
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!
Счет-счет-счет-счет — пулям в кушаке веди,
Чуть-сон-взял-верх — задние тебя сомнут.
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!),
Отпуска нет на войне!
Для-нас-все-вздор — голод, жажда, длинный путь,
Но нет-нет-нет-нет — хуже, чем всегда одно —
Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!
Днем-все-мы-тут — и не так уж тяжело,
Но-чуть-лег-мрак — снова только каблуки,
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!),
Отпуска нет на войне!
Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,
Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!
СТЕЛЛЕНБОС
Генерал чертыхнулся, заслышав пальбу,
И велел, чтобы выяснил вестовой:
Что за кретин искушает судьбу,
Что за осел принимает бой?
Того и гляди — пойдет заваруха,
А там и кокнут кого невзначай!
Чтоб не пер, зараза, поперек приказа,
Он самочинцу влепил нагоняй.
Все шестеренки, да винтики,
Да разные палки в колеса, —
Начальники наши горды
(Ох и тяжки у них зады!),
Но пуще всей чехарды
Боятся они Стелленбоса!
Большую пыль пустил генерал!
Генерал учинил большой разнос!
Генерал «ничего такого не ждал»,
А буры нам натянули нос!
Не сидеть бы нам, как клушам на яйцах,
Мы успели бы брод перейти без потерь —
Но чертовы буры, спасая шкуры,
Окопались, и хрен их проймешь теперь!
Не польстился на ферме спать генерал,
«Мол, буду в стенах чужих, как в тюрьме».
Но простудиться он не желал —
И до ночи мы копались в дерьме.
Покуда мы разбивали лагерь,
Он подремал над книгой слегка,
А во время в это буры де Вета
Просочились сквозь наши войска!
Ведь видел же он, что буры с гор
Нахально глядят на нас в упор,
Но он к подножию нас припер,
Доложив, что любая тревога — вздор.
Генерал не желал рисковать разведкой,
Не стал обстреливать горный кряж —
Он чуял в кармане орден Бани
И созерцал окрестный пейзаж.
Он выклянчил орден, но не утих
(Молчали прочие, как в гробу),
Навесив медали на крыс штабных,
Он выехал на солдатском горбу!
Он будто не знал, что кругом холера,
На того, кто стрелял, он свалил вину,
Он тявкал шавкой, грозил отставкой
И на полгода прогадил войну!
Все шестеренки, да винтики,
Да разные палки в колеса,
Начальники наши горды
И пока что держат бразды —
Но пуще всей чехарды
Боятся они Стелленбоса!
ДОБРОВОЛЬНО «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»[226]
Неважный мир господь для нас скропал.
Тот, кто прошел насквозь солдатский ад
И добровольно «без вести пропал»,
Не беспокойтесь, не придет назад!
Газеты врали вам средь бела дня,
Что мы погибли смертью храбрецов.
Некрологи в газетах — болтовня,
Нам это лучше знать, в конце концов.
Врачи приходят после воронья,
Когда не разберешь, где рот, где нос.
И только форма рваная моя
Им может сделать на меня донос.
Но я ее заставлю промолчать.
Потом лопаты землю заскребут,
И где-то снова можно жизнь начать,
Когда тебя заочно погребут.
Мы будем в джунглях ждать до темноты —
Пока на перекличке подтвердят,
Что мы убиты, стало быть, чисты;
Потом пойдем куда глаза глядят.
Мы снова сможем девочек любить,
Могилы наши зарастут травой,
И траурные марши, так и быть,
Наш смертный грех покроют с головой.
Причины дезертирства без труда
Поймет солдат. Для нас они честны.
А что до ваших мнений, господа, —
Нам ваши мненья, право, не нужны.
ХЛАДНОЕ ЖЕЛЕЗО[227]
Золото — хозяйке, серебро — слуге,
Медяки — ремесленной всякой мелюзге.
«Верно, — отрубил барон, нахлобучив шлем, —
Но хладное железо властвует над всем».
Что государь-владыка такому, как барон?
Королевский замок бароном осажден.
«Черта с два! — сказал пушкарь. — Будете ни с чем —
Хладное железо властвует над всем!»
Не повезло барону — рыцари его
Полегли под ядрами все до одного;
Взяли в плен барона, он угрюм и нем,
И хладное железо властвует над всем.
Но тут Владыка добрый молвил (ну и ну!):
«Что, как отпущу тебя, меч тебе верну?»
«Не шути, — сказал барон, — грешил я не затем;
И хладное железо властвует над всем.
Слезы — малодушному, шутнику — псалом,
Петля — владыке-дураку, чтоб не был дураком.
Есть одно отчаянье, я пропал совсем,
И хладное железо властвует над всем!»
Но отвечал Владыка (побольше бы таких!):
«Вот Хлеб, а вот Вино, вкуси со мною их
Во славу Приснодевы, а я скажу, зачем
Хладное железо властвует над всем!»
Он взял Вино. И Хлеб Он взял. И знаменье творил.
И за столом Он сам служил и вот что говорил:
«Я гвозди дал в себя забить, позора нес ярем,
Чтоб хладное железо благовестило всем.
Раны — исстрадавшимся, сильным — тумаки,
Елей — сердцам, уставшим от горя и тоски.
Я простил тебя и грех твой искупил затем,
Чтоб хладное железо благовестило всем!»
Корона — дерзновенному, скипетр — смельчакам!
Трон — тому, кто говорит: Возьму и не отдам.
«Черта с два! — вскричал барон, прочь отбросив шлем, —
Хладное железо властвует над всем!
Железный гвоздь Распятья властвует над всем!»
Non nobis, Domine!
He нам хвала, Господь!
Тьму нечестивых дней
Очам не обороть.
Наш путь и крив и крут,
Вслепую — каждый шаг,
Лишь Твой всевышний суд
Над нами — зряч и благ.
Но падок рабский ум,
Стыду наперекор.
На Славы праздный шум,
На Злата грязный сор:
Им души предаем
И служим, как богам,
Но втайне сознаем:
Не нам хвала, не нам!
О Движитель всего,
Бог, Судия, Творец!
От блага своего
Нам удели, Отец!
Но в смуте наших дней
Дай прозревать сердцам:
Non nobis Domine! —
Не нам хвала, не нам!
НЕБОКОПТИТЕЛЬ[230]
С первых дней, как ступил он на школьный порог,
Новичку, браня и грозя,
Велят поскорей заучить, как урок,
То, Чего Делать Нельзя.
Год за годом, с шести и до двадцати,
Надзирая любой его шаг,
Педагоги твердят, чтоб он вызубрил ряд
Вещей, Невозможных Никак.
(Средний пикт подобных запретов не знал,
Да, наверно, и знать не желал.)
Для того-то — отнюдь не для пользы своей
Или даже пользы чужой —
Он томится от невыразимых вещей
Телом, умом и душой.
Хоть бы пикнул! Так нет же, — доучившись в колледже,
Он пускается в свет, увозя
Высшее образованье — доскональное знанье
Того, Чего Делать Нельзя.
(Средний пикт был бы весьма удивлен,
Услыхав про такой закон.)
По натуре — лентяй, по привычкам — старик,
Лишь к брюзжанью всегда готов,
Человека оценивать он привык
По расцветке его носков.
Что же странного в том, что он мыслит с трудом,
И всему непривычному — враг,
Если он абсолютно осведомлен
О Вещах, Невозможных Никак?
(Средний пикт потому-то ему и дает
Сотню очков вперед.)
ПЕСНЯ ДАТСКИХ ЖЕНЩИН[231]
Я ли вдруг стала тебе нелюбезна,
Дом ли, хозяйство ли? Все бесполезно:
Уводит тебя седовласая бездна.
Она тебя встретит, но вместо перины
Получишь холодное ложе из тины,
Где солнце ночует и любятся льдины.
А после у скал под ворчанье прибоя
Бессильно обнимешься ты не со мною —
С тысячепалой морскою травою.
Но из году в год, как отступят морозы
И почки облепят нагие березы,
Снова хоть плачь, но без толку слезы, —
Снова рыбацкая крутит шарманка,
Ухо ласкает тебе перебранка,
Волны влекут, словно рыбу приманка.
И замолкают любви нашей струны,
Скот безнадзорный уходит в дюны,
А ты только снасти латаешь для шхуны.
Тучи на проводах ваших да всхлипы;
Вот и не слышно из пенного шипа
Даже в уключинах горького скрипа.
Я ли вдруг стала тебе нелюбезна,
Дом ли, хозяйство ли? Все бесполезно:
Уводит тебя седовласая бездна.
ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ БАНДАР-ЛОГОВ[232]
Длинной гирляндой порою ночной
Мчимся мы между землей и луной.
Ты не завидуешь нашим прыжкам,
Скачущим лентам и лишним рукам?
Ты не мечтал, чтоб твой хвост, как тугой
Лук Купидона, был выгнут дугой?
Злишься напрасно ты, Брат! Ерунда!
С гибким хвостом и беда — не беда!
Мы поднимаем немыслимый шум.
Головы наши распухли от дум!
Тысячи дел перед нами встают —
Мы их кончаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши!
Все, что умеем, творим от души.
Всеми забыты мы, Брат? Ерунда!
С гибким хвостом и беда — не беда!
Если до нас донесутся слова
Аиста, мыши, пчелы или льва,
Шкур или перьев — мы их различим,
Тут же подхватим и быстро кричим!
Браво! Брависсимо! Ну-ка опять!
Мы, словно люди, умеем болтать!
Мы не притворщики, Брат. Ерунда!
С гибким хвостом и беда — не беда!
Светит для нас обезьянья звезда!
Скорее рядами сомкнемся,
лавиной сквозь лес пронесемся,
Как гроздья бананов качаясь на ветках,
взлетая по гладким стволам.
Для всех мы отбросы, так что же!
Мы корчим ужасные рожи!
Напрасно смеетесь! Мы скачем по пальмам
навстречу великим делам!
ПЕСНЬ ПИКТОВ[233]
Тупые копыта Рима
Ступают на сердце, на брюхо;
Рим смотрит куда-то мимо,
И римское ухо глухо.
Повсюду посты, охрана,
И прячутся наши орды;
Мы лечим словами раны,
Но помыслы наши горды.
Нет ни любви к нам, ни злобы,
Столь мы ничтожный народец;
Все же глядите в оба —
Есть и для вас колодец!
Мы — червяки лесные?
Мы — плесень корней, гниенье?
Мы словно шипы стальные!
Мы — крови распад и тленье!
Омела душит деревья,
Моль одеянье губит,
Крыса сгрызает вервья —
Но жертву никто не любит.
И наше племя ничтожно,
И мы несем наше бремя;
Мы скрытны, мы осторожны,
Будут плоды в свое время!
О да, мы народец хилый,
Но только будьте спокойны;
Нас много, и мы всей силой
Начнем за свободу войны.
Столетия рабства и тьмы
Были уделом нашим,
Но стыд вас погубит, и мы
На ваших могилах спляшем!
ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ[234]
Внемлите Закону Джунглей, он стар как небесная твердь,
Послушный Волк преуспеет, но ждет нарушителя смерть.
Как питон, что ствол обвивает, в обе стороны действен Закон:
Стая сильна лишь Волком, а Волк лишь Стаей силен.
Пейте вволю, но в меру, и мойтесь от носа и до хвоста,
Спите днем, — для охоты ночная предназначена темнота.
Пусть Шакал подбирает за тигром, — ты, безусый Волчонок, не смей!
Помни — Волк природный охотник, пищу сам добывать умей!
С владыками — Тигром, Пантерой и Медведем не ссорься, ни-ни!
Не тревожь молчащего Хати, Кабана в кустах не дразни!
Если в Джунглях две стаи сойдутся, приляг в сторонке и жди:
Может быть, к обоюдному благу договорятся Вожди.
С Волком из собственной Стаи сражайся в честном бою;
Тот, кто ввяжется в ваш поединок, ослабляет Стаю свою.
В логове Волк — хозяин, и защитный Закон таков,
Что там и Вожак не властен и даже Совет Волков.
Если логово слишком открыто и в нем убежища нет,
Ты должен сыскать другое, — так решает Совет.
До полуночи убивая, не взбудораживай лес,
Не спугни второго оленя, — он нужен другим позарез.
Для себя, Волчат и Волчицы убивай, если в пище нужда,
Но нельзя убивать для потехи, Человека же — НИКОГДА.
Право Стаи — право слабейших; коль добычу у них довелось
Отобрать, не ешь без остатка, но им шкуру и голову брось.
Ешь добычу Стаи на месте, набивай до отвалу пасть,
Но умрет любой, кто в берлогу унесет хоть малую часть.
Волк — хозяин своей добычи, и не смеет Стая, пока
Он не даст на то разрешенья, от мяса урвать ни клочка.
Годовалый Волчонок вправе, если убийца сыт,
Достать свою долю мяса, — отказ ему не грозит.
Право Логова — Матери право; от каждой добычи она
Для выводка заднюю ногу должна получить сполна.
Вправе Отец в одиночку семье добывать обед;
Он волен от вызовов Стаи, судья ему — только Совет.
Вожак — это сила и опыт, и ведомо испокон,
Что там — где Закон не предвидит, приказ Вожака — Закон.
Блюди же Законы Джунглей, их много, от них не спастись,
У них голова и копыто, горб и бедро: подчинись!
ЕСЛИ…[235]
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —
Без прежних сил — возобновить свой труд,
И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Земля — твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты — человек!
«Если в стеклах каюты…»
* * *[236]
Если в стеклах каюты
Зеленая тьма,
И брызги взлетают
До труб,
И встают поминутно
То нос, то корма,
А слуга, разливающий
Суп,
Неожиданно валится
В куб,
Если мальчик с утра
Не одет, не умыт,
И мешком на полу
Его нянька лежит,
А у мамы от боли
Трещит голова,
И никто не смеется,
Не пьет и не ест, —
Вот тогда вам понятно,
Что значат слова:
Сорок норд,
Пятьдесят вест!
«На далекой Амазонке…»
* * *
На далекой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда —
Только «Дон» и «Магдалина»
Ходят по морю туда.
Из Ливерпульской гавани
Всегда по четвергам
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию,
Бразилию,
Бразилию.
И я хочу в Бразилию —
К далеким берегам!
Никогда вы не найдете
В наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров,
Броненосных черепах.
Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей!
Увижу ли Бразилию,
Бразилию,
Бразилию.
Увижу ли Бразилию
До старости моей?
МАТИ МОЯ[237]
Если мне стянут горло петлей,
Мати моя! О мати моя!
Знаю, чье сердце будет со мной,
Мати моя! О мати моя!
Если я в море глухом утону,
Мати моя! О мати моя!
Знаю, чьи слезы дойдут в глубину,
Мати моя! О мати моя!
Если проклятью меня предадут,
Знаю, чьи к небу молитвы дойдут,
Мати моя! О мати моя!
СЕКРЕТ МАШИН[238]
Взяты мы из шахт, из руд, из-под земли,
Нас в горниле, в тигле, в пекле жар калил,
Закаляли нас, ковали, гнули, жгли,
Резал фрезер и напильник опилил.
Нам потребны масло, уголь и вода,
И микронный, по возможности, зазор, —
Дайте это нам для жизни — и тогда
Мы рванемся вам служить во весь опор!
Можем взмыть, и гресть, и мчать, и взнесть, и гнать,
Можем греть, и гнуть, и печь, и ткать, и рыть,
Можем вплавь, и вглубь, и ввысь, и вдаль, и вспять,
Можем петь, считать, писать и говорить!
К другу дело неотложное у вас?
Не беда, что в антиподах абонент!
Ваш потрескивающий вопрос тотчас
Через свод небес переметнут в момент!
Друг ответил вам через десяток стран?
Вы нужны ему? Спешить он вас просил?
Вас доставят в скачке через океан
Семь десятков тысяч лошадиных сил!
Вас, который бы ей впредь повелевал,
«Мавритания» у пирса чинно ждет;
Капитану только стоит взять штурвал —
В море город в девять палуб поплывет.
Можем сдернуть перед вами шапки с гор,
Лес порубленный скатить для ваших благ,
Можем вспять поворотить речной напор
И в пустыне насадить полезный злак.
Пожелаете — протянем трубы ввысь,
В безотказные цистерны ледников,
Чтоб трамваи в вашем городе неслись,
Жил станок и шел продукт из парников?
Это ж просто! Нужен бур и динамит —
И — пожалте вам! — расселась скал стена;
И пустыню обводнение поит,
И долина морем стать обречена.
Но извольте наш Закон запомнить впредь —
Не способны мы освоить вашу ложь;
Нам несвойственно прощать, любить, жалеть.
С нами сладишь — и поладишь? Нет — умрешь!
Грандиозней мы Народов и Царей,
Смирно ползайте у наших рычагов.
Мы изменим ход времен и жизнь вещей, —
То, что прежде было в веденье Богов!
Наша гарь от вас сокроет ширь Небес,
Но сверканью звезд сдадутся дым и мгла,
Ибо наши грандиозность, мощь и вес
Суть всего лишь дети вашего ума!
В ПАСТИ БУРИ[239]
Увы, пророчества сбылись —
Черна предгрозовая высь,
Звезду обманом не кори —
Надолго ночь, не жди зари.
Готовься! Грянет ураган,
И тишина сейчас — обман,
Но может статься, в свете дня
Страшнее будет западня.
Прибрежный риф преодолен,
Но не ликуй — со всех сторон,
Пока бесформенный, как мрак,
Смертельный подступает враг.
Отлив несет нас в океан,
Но всею мощью ураган
К свободе преграждает путь,
Пытаясь наш корабль вернуть.
Катится вал, еще один,
Почти не слышен пульс машин,
Но наконец корабль рывком
Пошел вперед — ура, плывем!
Плывем, все бросив за кормой;
Все дальше бури злобной вой,
Но знай — пока земля видна,
Свобода не обретена.
РАССКАЗЫ[240]
ДЕЛО ОБ ОДНОМ РЯДОВОМ[241]
Ура! — мы грянем дружно.
И снова.
И еще.
Да здравствует солдатское
Веселое житье![242]
Очевидцы утверждают, что нет более поразительного проявления человеческой слабости, чем массовая истерика в женской школе. Она разражается внезапно, большей частью в жару, среди старших учениц. Какая-нибудь барышня ни с того ни с сего вдруг начинает хихикать, потом на нее нападает безудержный смех, и вот уже она, запрокинув голову, гогочет по-гусиному, и смех ее смешивается со слезами. Если у воспитательницы хватит ума, она строгим голосом одернет ее в эту минуту, и тем дело и кончится. Если же воспитательница мягкосердечная и пошлет кого-нибудь принести водички, очень может быть, что другая барышня начнет тем временем смеяться, глядя на первую, и с ней случится то же. Зараза быстро распространится и может привести к тому, что с добрых полкласса станут смеяться и гоготать дружным хором. Достаточно одной устойчиво жаркой недели, двух чинных прогулок в день, да еще ежедневно баранины с рисом на обед и какой-нибудь особенно придирчивой учительницы, и результат может получиться поистине удивительный.
Конечно, и мать — настоятельница монастыря, при котором воспитываются девочки, и командир британского пехотного полка, оба возмутились бы, услышав, что кто-то осмелился сопоставить их паствы. А между тем в некоторых условиях Томас Аткинс может быть доведен до самой обыкновенной буйной истерики. Он, правда, не проливает слез, но симптомы его болезни не вызывают сомнения, а результаты попадают в прессу, и добропорядочные граждане, не умеющие по большей части отличить винтовку от карабина, требуют: «Отнять у хама оружие!»
Томас — не хам, а по роду своей деятельности, состоящей в охране добропорядочных граждан, должен всегда иметь оружие при себе. Конечно, он не ходит в шелковых чулках и, честно сказать, давно нуждается в новом имени прилагательном взамен того, которым мажет, точно дегтем, без разбора все, чего касается в разговоре; но при всем том он — великий человек. Если сегодня вы величаете его «героическим защитником чести нации», а завтра именуете «грубой и распущенной солдатней», он, естественно, немного теряется и начинает относиться к вам с подозрением. У Томаса нет заступников, кроме всевозможных «теоретиков», нет у него и сочувствующих, если не считать его самого, а сам он не понимает, что с ним происходит.
Это все был пролог. Рассказ же начинается здесь.
Капрал Слейн готовился сыграть свадьбу с мисс Джэнси Мак-Кенна, чья история хорошо известна как в полку, так и вне его. Разрешение полковника было уже получено, солдаты капрала Слейна любили, и были приняты все меры к тому, чтобы придать предстоящей брачной церемонии, как выражался рядовой Ортерис, «шик и блеск». Знаменательное событие было назначено на самый разгар жаркого сезона, после чего молодые уезжали в горы. Но Слейну этого было мало. Карета у них был наемная, а в наемной карете, он считал, какой уж там «шик и блеск». Невесту это не особенно беспокоило. С помощью жены сержанта она шила себе подвенечный наряд и была занята по горло. В те дни капрал Слейн оставался единственным мало-мальски довольным жизнью человеком на все казармы. Остальным было тошно на свет смотреть.
Да и откуда было взяться веселью? Работы у них кончались к восьми часам утра, и весь день до вечера им только и оставалось, что лежать кверху брюхом, курить армейский табак да клясть на чем свет стоит туземную прислугу. В полдень они получали сытный мясной обед, а потом валились на койки и, подмокая от пота, спали, покуда спустится хоть какая-то прохлада и можно будет прошвырнуться с земляком, чей словарь не превышает шестисот слов, включая пресловутое прилагательное, и чьи мнения по любому вопросу известны давным-давно.
Имелась еще, конечно, солдатская столовая и при ней — «безалкогольный» буфет, где лежали старые журналы; но к какой бы ты ни принадлежал профессии, все равно невозможно читать по восемь часов в день, когда жара — 35, 36 градусов в тени, а к полуночи иной раз набежит и 40. Мало найдется таких, кто способен, даже если разжиться котелком мутного, теплого, стоялого пива и спрятать у себя под койкой, пить по шесть часов кряду каждый божий день. Один попробовал, да помер, и на похороны к нему явился весь полк в полном составе, потому что все-таки занятие. Для холеры или лихорадки время еще не приспело. И людям только и оставалось, что ждать, ждать, ждать и смотреть, как тень от казармы ползет через плац по ослепительно-белому песку. Веселенькая жизнь!
Солдаты слонялись по военному городку — было слишком жарко для игр и даже слишком жарко для того, чтобы предаваться порокам, — и накачивались пивом, и набивали желудки калорийной, богатой азотом пищей, которую для них готовили, и чем больше ели, тем меньше двигались и день ото дня становились взрывоопаснее. Портились характеры, люди подолгу переживали всякие обиды, настоящие и мнимые. Больше-то им думать было не о чем. Изменился тон обычных «обменов любезностями»; если раньше солдат солдату преспокойно говорил, что сейчас расквасит ему дурацкую харю, то теперь лишь делалось утрированно-вежливое замечание, что двоим в военном городке стало тесно и надо бы кому-то одному убраться в такое место, назвать которое не позволяют приличия.
Может быть, конечно, все это были козни Дьявола, но известно, что Лоссон долгое время бессмысленно изводил Симмонса. Какое-никакое, а развлечение. Симмонс с Лоссоном спали рядом и, бывало, целыми днями сидели друг против друга и переругивались. Но при этом Симмонс боялся Лоссона и не отваживался довести дело до драки. Жаркими безветренными ночами он перебирал в памяти обидные слова соседа и половину своей ненависти срывал на бедном уборщике.
А Лоссон купил на базаре попугая, посадил в клетку и спускал ее в прохладную глубину колодца, а сам садился на край и кричал попугаю разные ругательства. Так он научил птицу говорить: «Симмонс, ты — суур», что означает «свинья», и еще кое-какие слова, совершенно не подходящие для печати. Был он крупный, рыхлый и, смеясь, весь трясся, как желе, когда попугай правильно повторял его выражения. Симмонс тоже трясся, но от злости, потому что над ним потешалась вся казарма — этот жалкий пук зеленых перьев так забавно ругался по-человечески. Лоссон садился к себе на койку, болтая толстомясыми ногами, и спрашивал попугая, какого он мнения о Симмонсе. Попугай отвечал: «Симмонс, ты — суур!» — «Молодчина, попка!» — хвалил Лоссон и почесывал ему хохолок. «Что, Сим, слышал?» А Симмонс переворачивался на живот и отвечал: «Я-то слышал. Да смотри ты не услышь чего».
Мучительными, бессонными ночами, проспав перед этим весь день, Симмонс грезил о том, как он разделается с Лоссоном, и весь дрожал от приступов бешеной ярости. Он то воображал, как забьет его насмерть тяжелыми армейскими сапогами, то думал, что лучше будет проломить ему лицо прикладом, а может быть, прыгнуть ему на спину и тянуть голову назад, покуда не переломится шея. И во рту у него становилось горячо и сухо, и рука тянулась под койку за котелком с пивом.
Но чаще и дольше всего ему мечталось о толстой складке сала у Лоссона под правым ухом. Она привлекла его внимание однажды светлой лунной ночью и с тех пор всегда стояла перед глазами. За эту складку можно было ухватиться и оторвать пол-лица и шеи; а можно было вдавить в нее дуло винтовки и одним выстрелом разнести всю голову. По какому праву Лоссон так пыжится самодовольством и благополучием, когда над ним, Симмонсом, потешается вся казарма? Он еще покажет им всем, которые смеются шутке про Симмонса — свинью! Он не хуже других и запросто может отправить, кого захочет, на тот свет одним нажимом пальца на спусковой крючок. А когда Лоссон храпел, Симмонс ярился еще сильнее. Почему это Лоссон спит в свое удовольствие, когда он, Симмонс, часами ворочается, не смыкая глаз, пьет воду и мучается от боли в правом боку, а в висках у него стучит и голова трещит после вечерней выпивки? В подобных размышлениях он провел много ночей, и жизнь утратила для него всякую прелесть. Даже его всегда хороший аппетит притупился от пива и табака. И все время попугай Лоссона продолжал болтать и делать из него посмешище.
А жара все не спадала, и люди день ото дня становились вспыльчивее и раздражительнее. Ночью от апоплексического удара умерла жена одного сержанта, и прошел слух, будто началась холера. Солдаты открыто радовались в надежде, что разразится эпидемия и их переведут в лагеря. Но тревога оказалась ложной.
Это случилось во вторник поздно вечером. Солдаты маялись на галерее в ожидании последней смены караула. Симмонс ушел внутрь казармы, вынул трубку из своего ящика в ногах койки и с силой захлопнул крышку, так что стук раздался в пустых стенах, точно винтовочный выстрел. При обычных обстоятельствах никто бы не обратил на это внимания; но теперь нервы у всех были натянуты, как струны. Люди повскакали на ноги, и двое или трое вбежали в комнату.
— А-а, это ты! — сказали они с глупым смехом, увидев Симмонса на коленях перед ящиком. — А мы было подумали…
Симмонс медленно поднялся с колен.
Случайный звук произвел такое действие, а что получится, если в самом деле?..
— Подумали? А кто вас просил думать? — огрызнулся Симмонс, распаляя себя. — Нашлись тоже думальщики, шпионы чертовы!
— Симмонс, ты — суур, — сонно хмыкнул на галерее попугай, отзываясь на звуки знакомого голоса. И это все, больше ровным счетом ничего не было.
Струна лопнула. Симмонс попятился, нарочно упал спиной на стойку с ружьями — остальные солдаты находились на другом конце помещения — и выхватил свою винтовку и пачку патронов.
— Не валяй дурака, Сим, — проворчал Лоссон. — Поставь все на место. — Но голос его при этом дрогнул.
Другой солдат нагнулся, снял с ноги сапог и швырнул Симмонсу в голову. В ответ сразу раздался выстрел, он был сделан без прицела, наобум, но пуля угодила в горло Лоссону. Тот без единого звука упал; остальные разбежались.
— Подумали? — орал Симмонс. — Вы меня сами доводите! Это вы меня довели, слышите? Вставай, Лоссон, нечего прикидываться, это все ты со своим вшивым попугаем натворил!
Но в позе лежащего Лоссона была какая-то неподдельность, она убедила и Симмонса. На галерее шумели солдаты. Захватив две пачки патронов, Симмонс выбежал на залитый луною плац, думая вслух: «Ну, погодите! Хоть ночь, да моя. Тридцать патронов — и последний для себя. Вы у меня узнаете, собаки».
Он опустился на одно колено и выстрелил в группу солдат на галерее, но пуля пошла выше и вбуравилась в кирпичную кладку, просвистев у них над головами, и от этого зловещего посвиста кое-кто из молодых солдат стал белее полотна. Ибо, как утверждают специалисты по стрелковому делу, когда в тебя стреляют, это совсем не то, что стрелять самому.
И тогда в них вспыхнул инстинкт преследования. Весть пронеслась от барака к бараку, и солдаты высыпали беглым шагом ловить этого зверя Симмонса, который бежал через кавалерийский плац, время от времени оборачиваясь, чтобы послать пулю и ругательство своим преследователям.
— Я вам покажу, как за мной шпионить! — задыхаясь, кричал он на бегу. — Я вас научу обзываться! Давайте, давайте все сюда, сколько вас там есть! И полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани![243] — Симмонс оглянулся на офицерскую столовую и потряс винтовкой. — Думаете, вы такой франт и хват, дальше некуда? А я вам говорю, только высуньте свою чертову рожу из этой двери, я вас так изукрашу, во всей армии красивее не найдется. А ну, выходите, полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани! Выходите, полюбуйтесь на стрелковые ученья! Я в нашем батальоне лучший стрелок! — И в доказательство Симмонс выстрелил по освещенным окнам офицерской столовой.
— Рядовой пятой роты Симмонс на кавалерийском плацу, сэр, имеет при себе тридцать патронов, — пресекающимся голосом доложил полковнику сержант. — Палит направо и налево, сэр. Застрелил рядового Лоссона. Что будем делать, сэр?
Полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани, попробовал совершить вылазку, и сразу же у него из-под ног выбился фонтанчик каменной крошки.
— Не надо, полковник, — сказал его помощник. — Мне бы не хотелось таким образом получить ваше место. Он опасен, как бешеный пес.
— Вот и пристрелить его, как бешеного пса, — в сердцах проговорил полковник, — раз он никого не слушает. Подумать только, в моем полку! Будь это Ирландцы, я еще понимаю.
Рядовой Симмонс занял надежную позицию под прикрытием колодца на дальнем конце плаца и вызывал свой полк на продолжение военных действий. Полк не слишком-то рвался исполнить его призыв, ибо мало чести солдату пасть от пули своего же товарища. Один капрал Слейн с винтовкой в руке пополз по плацу на животе в сторону колодца.
— Не стреляйте, — велел он своим солдатам. — За милую душу в меня попадете. Возьму голубчика живым.
Когда Симмонс сделал передышку и перестал стрелять и орать, стало слышно, что через поле к военному городку едет рессорная двуколка. Это возвращался со штатского обеда командир конной батареи майор Олдайн, по своей всегдашней привычке гоня лошадь во весь опор.
— А! Офицер едет! — закричал Симмонс. — Офицер, чтоб ему подавиться! Ладно, сделаем пугало огородное из этого офицера!
Двуколка подкатила и остановилась.
— В чем дело? — строго спросил артиллерист. — Эй, вы там! Бросьте винтовку!
— Да это Джерри Черт! Проезжай подобру-поздорову, Джерри Черт, я тебя не трогаю, и ты меня не тронь.
Но Джерри Черт вовсе не собирался проезжать подобру-поздорову мимо опасного преступника. Как изощренно и любовно клялись солдаты его батареи, он не ведал страха, а уж кому и судить, если не им, ведь, как известно, когда батарея выезжала в поход, их майор всякий раз лично убивал хоть одного противника.
Он пошел прямо на Симмонса в намерении наброситься на него и сбить с ног.
— Не вынуждайте меня, сэр, — предостерег его Симмонс. — Мне с вами делить нечего. А-а, ты свое? — Майор перешел на бег. — Так вот тебе!
Майор упал, получив пулю в плечо, и Симмонс встал над ним. Он упустил случай расправиться с Лоссоном так, как ему мечталось, но вот теперь перед ним лежало беззащитное тело. Дослать еще один патрон и снести ему голову или расквасить прикладом белое лицо? Он встал в нерешительности, а на другом конце плаца раздался крик: «Он убил Джерри Черта!» Но под прикрытием колодца Симмонс был в безопасности, пока не высовывался, чтобы произвести выстрел. «Я снесу тебе голову с плеч, Джерри Черт, — думал вслух Симмонс. — Шесть да три — девять, да один — десять, значит, у меня еще девятнадцать и последний для меня». И он распечатал вторую пачку патронов. Из-под насыпи колодца на яркий лунный свет выполз капрал Слейн.
— Вижу тебя! — крикнул Симмонс. — Иди, иди сюда, я тебя ухлопаю.
— Иду, — коротко отвечал Слейн. — Натворил ты дел, Сим. Выходи оттуда, и пошли со мной.
— Иди ты знаешь куда, — засмеялся Симмонс, загоняя патрон большим пальцем. — Мне надо сначала разделаться с тобой и с Джерри Чертом.
Капрал лежал, распластавшись во весь рост на земле. Винтовка была под ним. Издали, забывшись, кто-то крикнул: «Стреляй, Слейн! Стреляй!»
— Шевельни только рукой или ногой, Слейн, — проговорил Симмонс, — и я расквашу сапогом лицо Джерри Черту, а потом пристрелю тебя.
— Я и не шевелюсь, — сказал Слейн, подымая голову. — Ты небось сам же струсишь, если человек будет стоять на ногах. Ты вот оставь Джерри Черта и выходи со мной на кулаки. Давай, ну? Боишься, собачья душа?
— Не боюсь.
— Врешь, кровосос несчастный! Врешь, мясник жидовский, все врешь! Гляди! — Слейн отбросил винтовку и встал во весь рост под дулом Симмонса. — А ну?
Искушение было сильнее Симмонса. Капрал в белой рубахе представлял собою превосходную мишень.
— А, ты обзываться? — заорал Симмонс и нажал спуск. Выстрел не пришелся в цель, и стрелок, в слепой ярости швырнув оземь винтовку, выскочил из своего укрытия и бросился на капрала. С разбегу он занес ногу, целя Слейну в живот, но долговязый капрал знал слабости своего солдата и владел убийственным приемом защиты от такого удара. Он наклонился навстречу Симмонсу и, высоко поджав согнутую в колене правую ногу, встретил его удар, стоя на одной ноге, — так стоят гонды, когда они заняты медитацией. Раздался возглас — капрал повалился на левый бок, в падении захватив ногу Симмонса, голень скрестилась с голенью, и солдат очутился на земле с переломанной берцовой костью.
— Надо было знать этот прием, Сим, — сказал Слейн, поднимаясь и выплевывая землю. И крикнул товарищам: — Эй, идите берите его. Я сломал ему ногу! — что, строго говоря, было неверно, рядовой Симмонс сломал себе ногу сам, вся хитрость этого защитного приема как раз в том и состоит, что чем сильнее бьешь, тем хуже тебе же приходится.
Плачущего от боли Симмонса унесли, а Слейн подошел к Джерри Черту и склонился над ним с подчеркнутой озабоченностью.
— Надеюсь, вы не очень пострадали, сэр? — спросил он. Но майор был без сознания, и в плече у него зияла большая рваная рана. Слейн опустился на колени и в растерянности пробормотал:
— Да он, никак, помер, ей-богу! Вот дьявольщина, везет же мне.
Однако майору написано было на роду еще много дней, не дрогнув душой, водить в походы свою батарею. Его увезли и выходили, окружив любовью и заботой, а батарейские солдаты всерьез раздумывали, не захватить ли им Симмонса, не привязать ли его к жерлу пушки, а потом выстрелить. Они боготворили своего майора, и, когда он наконец снова появился на смотру, произошла сцена, отнюдь не предусмотренная армейским уставом.
И Слейну тоже досталось немало славы. Пушкари готовы были поить его допьяна трижды в день в течение полумесяца. Даже сам командир полка похвалил его за хладнокровие, а местная газетенка провозгласила его героем. Но капрал нисколько не зазнался. Когда майор предложил ему свою благодарность и денежное вознаграждение, он скромно отвел первую и принял второе. Но со своей стороны у него была просьба к майору, и он ее высказал, предварив несколькими «Прошу прощения, сэр»: не сочтет ли майор возможным, чтобы свадьбу Слейна — Мак-Кенна украсили своим присутствием четыре батарейские лошади и чтобы именно они везли карету с молодоженами? Майор счел это возможным. Солдаты его батареи тоже. Еще бы! Свадьба получилась на славу.
* * *
— Зачем мне все это надо было? Да из-за лошадей, понятное дело, — объяснял капрал Слейн. — Джэнси с лица не так чтобы красавица, но все равно, куда это годится, — наемные лошади. Джерри Черт? Да не будь у меня своего интереса, по мне, пусть бы Сим расквасил ему голову в манную кашу. Пожалуйста.
И рядового Симмонса повесили — высоко, как Амана,[244] — на пустом полковом плацу; полковник сказал, что всему виною пьянство, а полковой капеллан уверял, что это козни Диавола, а Симмонс считал, что и того и другого понемногу, но точно сказать не мог и только надеялся, что его пример послужит наукой другим, а с полдюжины «проницательных журналистов» настрочили шесть прекрасных очерков на тему о распространении преступности в армии.
И никому не пришло в голову сравнивать «кровожадного Симмонса» и закатывающуюся, визжащую школьницу, с которой начинается наш рассказ.
Это прозвучало бы так нелепо!
«ВОРОТА СТА ПЕЧАЛЕЙ»[245]
Что вам завидовать мне, если я могу достичь небес ценою одной пайсы?

Это не мое сочинение. Мой приятель метис Габрал Мискитта рассказал мне обо всем этом в часы между закатом луны и утром, за шесть недель до своей смерти, а я только записывал его ответы на мои вопросы.
Итак:
Они находятся между улицей медников и кварталом торговцев трубочными чубуками, ярдах в ста по прямой от мечети Вазир-Хана. Я готов кому угодно сообщить эти сведения, но ручаюсь — ни один человек не найдет «Ворот», даже если он уверен, что отлично знает город. Можете хоть сто раз пройти по тому переулку, где они находятся, все равно вы их не найдете. Этот переулок мы прозвали улицей Черного Курева, но настоящее его название, конечно, совершенно иное. Навьюченный осел не смог бы пролезть между его стенами, а в одном месте, как раз перед тем, как поравняешься с «Воротами», один из домов выступает вперед, вынуждая прохожих протискиваться боком.
На самом деле это вовсе не ворота. Это дом. Пять лет назад им владел старик Фун Чин — первый его хозяин. Он раньше был сапожником в Калькутте. Говорят, что там он спьяну убил свою жену. Вот почему он бросил пить базарный ром и взамен его пристрастился к черному куреву. Впоследствии он переселился на север и открыл «Ворота», иначе говоря — заведение, где можно покурить в тишине и спокойствии. Имейте в виду, эта курильня опиума была пакка — солидное заведение, не то что какая-нибудь жаркая, душная чандухана, из тех, что попадаются в городе на каждом шагу. Нет, старик отлично знал свое дело и для китайца был очень опрятен.
Это был маленький одноглазый человек, не более пяти футов росту, и на обеих руках у него не хватало средних пальцев. И все же он, как никто, умел скатывать черные пилюли. Казалось также, что курево ничуть на него не действует, хотя он курил днем и ночью, ночью и днем невероятно много. Я занимался этим пять лет и с кем угодно могу потягаться в курении, но в сравнении с Фун Чином я был просто младенцем. Тем не менее старик очень любил деньги, очень, и вот этого я и не могу понять. Я слышал, что при жизни он успел накопить порядочное состояние; оно теперь досталось его племяннику, а старик вернулся в Китай, чтобы его похоронили там.
Большую комнату наверху, где собирались его лучшие клиенты, он держал чистенькой, как новая булавка. В одном углу стоял Фун Чинов идол — почти такой же безобразный, как и сам Фун Чин, — и под носом у него всегда тлели курительные свечки, но когда трубочный дым густел, запаха их не было слышно. Против идола стоял гроб Фун Чина. Хозяин потратил на него добрую часть своих сбережений, и когда в «Воротах» впервые появлялся свежий человек, ему всегда показывали гроб. Он был покрыт черным лаком и расписан красными и золотыми письменами, и я слышал, будто Фун Чин вывез его из самого Китая. Не знаю, правда это или нет, но помню, что, когда я под вечер приходил первым, я всегда расстилал свою циновку около него. Здесь, видите ли, был спокойный уголок и в окно иногда веяло легким ветерком с переулка. Если не считать циновок, в комнате не было никакой обстановки — только гроб да старый идол, весь синий, зеленый и пурпурный от времени и полировки.
Фун Чин никогда нам не говорил, почему он назвал свое заведение «Воротами Ста Печалей». (Он был единственный знакомый мне китаец, употреблявший неприятно звучащие названия. Большинство склонно давать цветистые имена, в чем вы можете убедиться по Калькутте.) Мы старались догадаться об этом сами. Если вы белый, ничто не сможет вас так захватить, как черное курево. Желтый человек устроен иначе. Опиум на него почти не действует, а вот белые и черные, те страдают жестоко. Конечно, есть и такие, на которых курево влияет не больше, чем табак, когда они впервые начали курить. Они только подремлют немножко, как бы заснув естественным сном, а наутро уже почти способны работать. И я был таким, когда начал, но я занимался этим весьма усердно целых пять лет, а теперь я уже не тот. Была у меня старуха тетка, которая жила близ Агры, и после ее смерти мне досталось небольшое наследство. Около шестидесяти рупий дохода в месяц. Шестьдесят рупий — это не очень много. Вспоминается мне время — кажется, что с тех пор прошло много-много сотен лет, — время, когда я получал триста рупий в месяц да еще кое-какие доходы, работая по крупной поставке строевого леса в Калькутте.
На этой работе я пробыл недолго. Черное курево не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень слабо, я даже ради спасения своей жизни не смог бы проработать целый день, как работают другие люди. Впрочем, шестьдесят рупий — это все, что мне требуется. Пока старик Фун Чин был жив, он обычно получал эти деньги вместо меня, давал мне из них половину на жизнь (я ем очень мало), а остальное забирал себе. Я мог свободно приходить в «Ворота» в любое время дня и ночи, курить там и спать, если хотел, и потому не спорил. Я знал, что старик хорошо на мне заработал, но это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения; к тому же деньги продолжают поступать из месяца в месяц.
Когда заведение впервые открылось, в «Воротах» нас встречалось всего десять человек. Я, двое бабу — они тогда служили в государственном учреждении где-то в Анаркали, но потом их уволили, и они уже не могли платить за себя (ни один человек, обязанный работать днем, не может регулярно предаваться черному куреву в течение долгого времени); китаец — племянник Фун Чина; уличная женщина, каким-то образом добывшая кучу денег; бездельник англичанин — кажется, фамилия его начиналась на «Мак», впрочем, не помню, — который курил без передышки и как будто ничего не платил (говорили, что в бытность свою адвокатом в Калькутте он на каком-то судебном разбирательстве спас жизнь Фун Чину); другой евразиец, как и я, родом из Мадраса; женщина-метиска и двое мужчин, говоривших, что они переехали сюда с севера. Должно быть, это были персы, или афганцы, или что-то в этом роде. Теперь из всех нас осталось в живых не более пяти человек, но зато приходим мы постоянно. Не знаю, что сталось с обоими бабу, а уличная женщина умерла после того, как полгода посещала «Ворота», и я подозреваю, что Фун Чин присвоил ее браслеты и носовое кольцо. Но не уверен. Англичанин — тот пил так же много, как и курил, и наконец перестал приходить. Одного из персов давно уже убили в драке ночью у большого колодца близ мечети, и полиция закрыла колодец, — говорили, что оттуда несет гнилью. Его нашли мертвым на дне колодца. Так вот, значит, остались только я, китаец, метиска, которую мы прозвали мем-сахиб (она жила с Фун Чином), другой евразиец да один из персов. Теперь мем-сахиб очень постарела. Когда «Ворота» впервые открылись, она была молодой женщиной, но уж коли на то пошло, все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В «Воротах» очень трудно вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения. Каждый месяц я все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий. Давным-давно, когда я зарабатывал триста пятьдесят рупий в месяц да вдобавок еще кое-что на крупной поставке строевого леса в Калькутте, у меня было что-то вроде жены. Теперь ее нет в живых. Люди говорили, что я свел ее в могилу тем, что пристрастился к черному куреву. Может, и правда свел, но это было так давно, что уже потеряло всякое значение. Когда я впервые начал ходить в «Ворота», мне иной раз бывало жаль ее, но все это прошло и кончилось уже давно, а я каждый месяц все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий и вполне счастлив. Счастлив не так, как бывают счастливы пьяные, а всегда спокоен, умиротворен и доволен.
Как я к этому пристрастился? Это началось в Калькутте. Я пробовал покуривать у себя дома — просто хотелось узнать, что это такое. Я еще не очень этим увлекался, но, должно быть, жена моя умерла именно тогда. Так или иначе, но я очутился здесь и познакомился с Фун Чином. Не помню точно, как все это было, но он мне рассказал про «Ворота», и я стал туда ходить, и как-то так вышло, что с тех пор я уже не покидал их. Не забудьте, что в Фун Чиновы времена «Ворота» были очень солидным заведением, где вам предоставлялись все удобства, — не чета какой-нибудь там чандухане, куда ходят черномазые. Нет, здесь было чисто, спокойно и не людно. Конечно, кроме нас десятерых и хозяина, бывали и другие посетители, но каждому из нас всегда давалось по циновке и по ватной подушечке в шерстяной наволочке, сплошь покрытой черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе, стоявшем в углу.
После третьей трубки драконы начинали двигаться и драться. Я смотрел на них много-много ночей напролет. Так я определял меру своему курению, но теперь уже требуется не меньше дюжины трубок, чтобы принудить их зашевелиться. Кроме того, все они истрепались и загрязнились не хуже циновок, а старик Фун Чин умер. Он умер года два назад, подарив мне трубку, которую я теперь всегда курю, — серебряную, с причудливыми зверями, ползущими вверх и вниз по головке под чашечкой. До этого у меня, помнится, был длинный бамбуковый чубук с медной чашечкой, очень маленькой, и мундштуком из зеленой яшмы. Он был чуть потолще тросточки для гулянья, и курить из него было приятно, очень приятно. Очевидно, бамбук всасывал дым. Серебро не всасывает, так что мне время от времени приходится чистить трубку, а с этим много возни, но я курю ее в память о старике. Он, должно быть, хорошо на мне нажился, но он всегда давал мне чистые подушки и циновки и товар, лучше которого нигде не достанешь.
Когда он умер, племянник его Цин Лин вступил во владение «Воротами» и назвал их «Храмом Трех Обладаний», но мы, завсегдатаи, по-прежнему называем их «Воротами Ста Печалей». Племянник очень прижимисто ведет дело, и мне кажется, что мем-сахиб поощряет его в этом. Она с ним живет, как прежде жила со стариком. Оба впускают в заведение всякий сброд — черномазых и тому подобных типов, и черное курево уже не такого хорошего качества, как бывало. Я не раз и не два находил в своей трубке жженые отруби. Старик — тот умер бы, случись это в его времена. И еще: комнату никогда не убирают, все циновки рваные и обтрепались по краям. Гроба нет, он вернулся в Китай со стариком и двумя унциями курева внутри — на случай, если мертвецу захотелось бы покурить в дороге.
Под носом у идола уже не горит столько курительных свечек, как бывало, а это, бесспорно, недобрый знак. Да и сам идол весь потемнел, и никто за ним больше не ухаживает. Я знаю, всему виной мем-сахиб: ведь когда Цин Лин захотел было сжечь перед ним золотую бумагу, она сказала, что это пустая трата денег, и еще — что курительные свечки должны только чуть теплиться, так как идол все равно не заметит разницы. И вот теперь в свечки подмешивают много клея, так что они горят на полчаса дольше, но зато скверно пахнут. Я уже не говорю о том, как воняет сама комната. Никакое дело не пойдет, если вести его таким образом. Идолу это не нравится. Я это вижу. Иногда поздно ночью он вдруг начинает отливать какими-то странными оттенками цветов — синим, и зеленым, и красным, совсем как в те времена, когда старик Фун Чин был жив; и он вращает глазами и топает ногами, как демон.
Не знаю, почему я не бросаю этого заведения и не курю спокойно в своей собственной комнатушке на базаре. Скорей всего потому, что, уйди я, Цин Лин убил бы меня, — ведь теперь мои шестьдесят рупий получает он, — да и хлопот не оберешься, а я мало-помалу очень привязался к «Воротам». Ничего в них нет особенного. Они уже не такие, какими были при старике, но покинуть их я бы не смог. Я видел столько людей, приходивших сюда и уходивших. И я видел столько людей, умиравших здесь, на циновках, что теперь мне было бы жутко умереть на свежем воздухе. Я видел такие вещи, которые людям показались бы довольно странными, но если уж ты привержен черному куреву, тебе ничто не кажется странным, за исключением самого черного курева. А если и кажется, так это не имеет значения. Фун Чин — тот был очень разборчив: никогда не впускал клиентов, способных перед смертью наделать неприятностей. Но племянник далеко не так осторожен. Он повсюду болтает, что держит «первоклассное заведение». Никогда не старается тихонько впускать людей и устраивать их удобно, как это делал Фун Чин. Вот почему «Ворота» получили несколько большую известность, чем прежде. Само собой разумеется — среди черномазых. Племянник не смеет впустить белого или хотя бы человека смешанной крови. Конечно, ему приходится держать нас троих: меня, и мем-сахиб, и другого евразийца. Мы тут укоренились. Но он не даст нам в долг и одной трубки; ни за что на свете.
Я надеюсь когда-нибудь умереть в «Воротах». Перс и мадрасец теперь здорово сдали. Трубки им зажигает мальчик. Я же всегда это делаю сам. Вероятно, я увижу, как их унесут раньше, чем меня. Вряд ли я переживу мем-сахиб или Цин Лина. Женщины дольше мужчин выдерживают черное курево, а Цин Лин — тот хоть и курит дешевый товар, но он стариковой крови. Уличная женщина за два дня до своего смертного часа знала, что умирает, и она умерла на чистой циновке с туго набитой подушкой, а старик повесил ее трубку над самым идолом. Мне кажется, он всегда был привязан к ней. Однако браслеты ее он забрал.
Мне хотелось бы умереть, как эта базарная женщина, — на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда я почувствую, что умираю, я попрошу Цин Лина дать мне то и другое, а он пусть себе все вновь и вновь получает мои шестьдесять рупий в месяц. И тогда я буду лежать спокойно и удобно и смотреть, как черные и красные драконы бьются в последней великой битве, а потом…
Впрочем, это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения… Хотелось бы только, чтобы Цин Лин не подмешивал отрубей к черному куреву.
ЖИЗНЬ МУХАММЕД-ДИНА[246]
Какой человек называется счастливым человеком?
Тот, у кого в доме бегают, падают и плачут перепачканные малые дети.
Шар для игры в поло был старый, растресканный и щербатый. Он лежал на каминной полке рядом с трубками, которые прочищал для меня Имам-Дин, мой слуга.
— Этот шар нужен Небеснорожденному? — почтительно спросил меня Имам-Дин.
Небеснорожденному шар для поло был в общем-то ни к чему, непонятно только, зачем он мог понадобиться Имам-Дину.
— С позволения вашей милости, у меня есть малютка сын. Он видел этот шар и хотел бы поиграть им. Я не для себя прошу.
Никому бы и в голову не пришло, что дородный, пожилой Имам-Дин хочет поиграть в поло. Он вынес обшарпанный шар на веранду, и тотчас же послышался бурный, радостный писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю.
Значит, малютка сын дожидался вожделенного сокровища за дверью. Но каким образом он его углядел?
Назавтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой маленького человечка — крохотного, пухлого человечка в несуразно короткой рубашонке, едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам и при этом тихо то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка сын.
Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти. Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим последует, и поспешил вон. Вслед мне понесся протяжный, громкий плач, который достиг ушей моих слуг гораздо быстрее, чем любое мое приказание. Через десять секунд Имам-Дин уже был в столовой. Оттуда послышались горькие рыдания, я вернулся и застал Имам-Дина отчитывающим юного грешника, который вместо носового платка пользовался своей куцей рубашонкой.
— Этот мальчик, — укоризненно произнес Имам-Дин, — настоящий бадмаш. Большой бадмаш. Он, несомненно, попадет в тюрьму за свое дурное поведение.
Раздались новые рыдания обвиняемого и церемонные извинения Имам-Дина.
— Скажи малышу, — ответил я, — что сахиб не сердится. И уведи его.
Имам-Дин сообщил преступнику о прощении, и тот, собрав всю рубашонку хомутом вокруг шеи, перестал рыдать, только еще всхлипывал. Отец и сын направились к двери.
— Его зовут Мухаммед-Дин, — объяснил мне Имам-Дин, словно имя тоже входило в состав преступления. — И он большой бадмаш.
Мухаммед-Дин, избавленный от страшной опасности, обернулся ко мне, сидя на руках у отца, и серьезно сказал:
— Это правда, сахиб, что меня зовут Мухаммед-Дин. Но я не бадмаш. Я мужчина.
Так началось мое знакомство с Мухаммед-Дином. В столовой у меня он больше не появлялся, но на нейтральной территории сада мы часто встречались и церемонно приветствовали друг друга, хотя он только и произносил, что «Салам, сахиб», и «Салам, Мухаммед-Дин» — только и отвечал ему я. Каждый день, возвращаясь со службы, я видел пухлого человечка в белой рубашонке, подымающегося мне навстречу из тени увитой виноградом беседки; и каждый день я на этом месте придерживал лошадь, чтобы не смазать, не испортить нашей торжественной встречи.
Малыш всегда играл один. Он часами копошился в кустах клещевины и сновал по саду, занятый какими-то своими таинственными заботами. Однажды в глубине сада я напал на его произведение. У моих подошв, врытый до половины в песок, лежал шар для игры в поло, а вокруг были кольцом натыканы шесть завядших бархатцев. Снаружи этого кольца был квадрат, выложенный битым кирпичом вперемешку с черепками фарфора. А квадрат, в свою очередь, окружал низенький песчаный вал. Водонос у колодца решился замолвить слово за маленького строителя: это всего лишь детская забава и моему саду не будет от нее ущерба.
Видит бог, у меня и в мыслях не было портить его работу — ни тогда, ни потом; но в тот же вечер, прогуливаясь по саду, я сам не заметил, как наступил на нее и нечаянно растоптал и бархатцы, и песчаный вал, и черепки от разбитой мыльницы и все безнадежно испортил. Утром мне попался на глаза Мухаммед-Дин, тихо проливающий слезы над причиненными мною разрушениями. Кто-то безжалостно сказал ему, что сахиб рассердился на беспорядок в саду, страшно ругался и самолично разбросал все его хозяйство. И Мухаммед-Дин целый час трудился, чтобы уничтожить все следы песчаного вала и ограды из черепков. Он поднял мне навстречу голову, произнося свое обычное: «Салам, сахиб», — и личико у него было заплаканное и виноватое. Устроили расследование, и Имам-Дин объявил Мухаммед-Дину, что по моей величайшей милости ему разрешается делать в саду все, что он пожелает. Малыш воспрянул духом и занялся разбивкой сооружения, которое должно было затмить конструкцию из бархатцев и деревянного шара.
Несколько месяцев это толстенькое диво тихо вращалось по своей орбите в песке и кустах клещевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завялых цветов, выкинутых уборщиком на свалку, гладких речных голышей, каких-то стеклышек и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, — всегда в одиночестве и всегда то ли напевая, то ли мурлыча себе под нос.
Однажды рядом с его очередной постройкой очутилась как бы ненароком пестрая морская раковина; и я стал ждать, чтобы Мухаммед-Дин возвел на таком основании что-нибудь особенно великолепное. Ожидания мои не были обмануты. Добрый час Мухаммед-Дин провел в размышлениях, и вот мурлыкание его зазвучало как победная песнь. Он стал чертить на песке. Да, то должен был получиться сказочный дворец, ведь он имел в плане целых два ярда в длину и ярд в ширину. Но величественному замыслу не суждено было осуществиться.
На следующий день, возвращаясь со службы, я не увидел Мухаммед-Дина на дорожке и не услышал его приветствия: «Салам, сахиб!» Я успел к нему привыкнуть, и перемена встревожила меня. А еще через день Имам-Дин сказал мне, что малыша слегка лихорадит и неплохо бы дать ему хинин. Хинин он получил, а заодно с хинином и доктора-англичанина.
— Никакой сопротивляемости у этой публики, — сказал доктор, выходя от Имам-Дина.
Спустя неделю я встретил Имам-Дина (хотя дорого бы дал, чтобы избежать этой встречи) на дороге к мусульманскому кладбищу. В сопровождении еще одного человека он шел и нес на руках белый полотняный сверток — все, что осталось от маленького Мухаммед-Дина.
СВИНЬЯ[248]
Затравишь оленя за целый день,
Убьешь, если ты не калека!
Но разве сравнить эту дребедень
С охотой на человека?
Как славно загнать человека в капкан,
Как славно травить человека!
Пожалуй, весь сыр-бор разгорелся из-за норовистой лошади. Пайнкоффин продал ее Нэффертону, и она едва не пришибла покупателя. Впрочем, для обиды могли быть и какие-то другие причины, потому что лошадь вроде бы была ученая. Нэффертон ужасно разозлился. Пайнкоффин же умирал со смеху и твердил, что никаких гарантий относительно манер животины не давал. Нэффертон тоже, правда, смеялся, но в душе поклялся расквитаться, пускай через пять лет. Да, горец из-за Скиптона так же способен простить оскорбление, как Стрид — пощадить человека, а уроженец Южного Девона раскисает, как дартмурское болото.[250] Фамилия «Нэффертон» звучит поблагороднее, чем «Пайнкоффин»; кстати, и кровь у Нэффертона явно поголубее. Человек он был не такой, как все, и шутки у него были злые. Он научил меня новому и, надо сказать, очаровательному виду шикара. Он охотился за Пайнкоффином от Митанкота до Джагадри и от Гургаона до Абботабада — вдоль и поперек Пенджаба, провинции немалой, и в местах невероятно засушливых. Он заявил, что не позволит этим помощникам комиссаров, всяким там деревенским пройдохам, водить его за нос; он уж им-де покажет.
У большинства помощников комиссаров, стоит им пожариться под здешним солнцем, возникает склонность к необычным занятиям. Парни себе на уме имеют дальний прицел и дерутся за такие богом забытые места, как Банну и Кохат. Желчные личности пролезают в Секретариат, который, кстати, дурно влияет на печень. Другие помешаны на работе в Округе, газнивидских монетах или персидской поэзии. А те, у которых в жилах течет крестьянская кровь, чувствуют, как после дождей запах земли пронизывает их до мозга костей и зовет «возделывать нивы Провинции». Эти люди — энтузиасты. К их породе принадлежит Пайнкоффин. Он знает уйму всякой всячины — сколько стоят волы, и временные колодцы, и скребки для опия, и что случается, если перестараться с пожогом травы и сушняка на полях, удобряя истощенную почву. Все Пайнкоффины — исконные землевладельцы, а земля просто-напросто получает обратно то, что принадлежит ей. Но несчастьем, самым большим несчастьем для Пайнкоффина было то, что он был не только фермером, но и Гражданином. Нэффертон наблюдал за ним и все время думал о лошади. Он мне сказал: «Погоняю-ка я, пожалуй, этого парня, пока он себе шею не сломает». Я возразил: «Вы не имеете права измываться над помощником комиссара». Нэффертон на это заявил, что я ничего не смыслю в провинциальном управлении.
Правительство наше не без причуд. Оно заваливает всех уймой сельскохозяйственной и другой информации, а уж человека, достаточно уважаемого, снабдит любыми видами «экономической статистики», если тот к нему подобающе обратится. Вот вы, к примеру, интересуетесь промывкой золотоносных песков Сатледжа. Только дерните за веревочку, и вы сами убедитесь, что откликнется полдюжины департаментов и в конце концов вас свяжут, скажем, с вашим же коллегой по «Телеграфу», который когда-то где-то черкнул пару строк об обычаях золотопромывщиков, побывав на строительных работах в этой части Империи. Еще неизвестно, понравится ему или нет по указке выложить вам все, что он знает. Тут все зависит от темперамента. Чем значительней ваша персона, тем обширнее будут полученные вами сведения и тем больше поднятая суматоха.
Нэффертон не был большим человеком, но репутация у него была личности крайне «серьезной». Человек серьезный может себе кое-что позволить с правительством. Был однажды один такой серьезный человек, который чуть не погорел… да вся Индия наслышана про эту историю. Я лично не знаю, что такое истинная «серьезность». Под серьезного человека, кстати, вполне сносно можно подделаться — одевайтесь с нужной долей небрежности, слоняйтесь с отрешенным и мечтательным видом, забирайте деловые бумаги домой, после того как уже просидели на службе до семи, и принимайте толпы местных джентльменов по воскресеньям — вот вам один из видов «серьезности».
Нэффертон долго думал, как сыграть на своей серьезности и как похлестче разыграть Пайнкоффина. Он убил двух зайцев одним ударом — этим ударом была Свинья. Нэффертон стал самым серьезным образом наводить справки о свиньях. Он сообщил правительству, что разработал план, который даст возможность с невероятной экономичностью прокормить свининой значительную часть британской армии в Индии. Затем он намекнул, что Пайнкоффин может предоставить ему разнообразную информацию, «столь необходимую для правильного подхода к делу». Правительство, в свою очередь, наложило резолюцию на обратной стороне письма: «Уведомляем мистера Пайнкоффина в необходимости сообщить мистеру Нэффертону все сведения, которыми он располагает». Правительство вообще чрезвычайно склонно делать всякие пометки на обороте писем, что приводит в конечном итоге лишь к беспорядку и путанице.
У Нэффертона не было ни малейшего интереса к свиньям, но он прекрасно знал, что Пайнкоффин попадется в ловушку. Пайнкоффин был вне себя от возможности дать консультации по свиньям. В Индии свинья, собственно, не столь уж важный фактор в сельском хозяйстве. Но Нэффертон растолковал Пайнкоффину, что в этой области имеются резервы для развития, и попал прямо в точку.
Вы, видимо, думаете, что от свиньи нет особого проку. Все зависит от того, как поставить дело. Пайнкоффин был Гражданином и, стремясь делать все тщательно, начал с трактата о примитивной свинье, мифологии свиньи и о дравидской свинье. Нэффертон подшил эту информацию — двадцать семь листов отнюдь не малого формата — и пожелал узнать, как свинья распространена в Пенджабе и как она переносит жару в долинах. При дальнейшем чтении прошу вас помнить, что освещаю вам дело в самых общих чертах — это как бы отдельные ванты в паутине, которой Нэффертон оплел Пайнкоффина.
Пайнкоффин составил цветную карту распространения свиных популяций и собрал данные по сравнительной продолжительности жизни свиньи: (а) у подножья Гималаев и (б) в Рехна Доаб. Нэффертон подшил к делу и это, а затем спросил, какие люди смотрят за свиньями. Этот вопрос дал толчок рассуждениям об этнологии свинопасов, и из Пайнкоффина посыпались бесконечные таблицы, показывающие число представителей данной касты на тысячу жителей в Дераджате. Нэффертон подшил и эту кипу и объяснил, что хотел бы располагать цифрами по штатам, расположенным за Сатледжем, где, по его разумению, были превосходные крупные свиньи и где было бы целесообразней всего развивать свиноводство. К этому времени люди в правительстве совсем забыли о своих распоряжениях мистеру Пайнкоффину. Они были как те джентльмены из поэмы Китса,[251] которые ловко вращали жернова, чтобы ободрать кожу с других. Но Пайнкоффин уже с головой ушел в свиноискательство, на что Нэффертон и рассчитывал. У него была уйма своей работы, но он просиживал ночи напролет, переводя свиней в стотысячные дроби, дабы не ударить в грязь лицом. Он не собирался прослыть неосведомленным по такому ерундовому вопросу, как свинья.
В это время правительство направило его со специальным заданием в Кохат, для того чтобы «ознакомиться» с большими, в семь футов, железными заступами. Этими мирными орудиями люди приканчивали друг друга, и правительство желало знать, «не мог ли какой-нибудь модифицированный тип орудия в опытном порядке и как временная мера быть введен в употребление среди земледельческого населения без ненужного и чрезмерного обострения существующих религиозных чувств крестьянства».
Пайнкоффин буквально разрывался между этими заступами и Нэффертоновыми свиньями.
Нэффертон опять принялся за свое: «(а) как обеспечить местных свиней кормами с расчетом на улучшение их мясообразовательных способностей; (б) как акклиматизировать привозных свиней, сохранив их отличительные особенности». Пайнкоффин исчерпывающе ответил, что чужеземная свинья сольется с местной породой; для доказательства он приводил статистику по выведению пород лошадей. Этот несущественный вопрос подробно и нудно обсасывался самим Пайнкоффином до тех пор, пока Нэффертон не признал, что был неправ, и не поставил предыдущий вопрос. Когда Пайнкоффин совсем исписался на тему и о мясообразовании, и о фибрине, и о глюкозе, и об азотистых компонентах кукурузы и люцерны, Нэффертон поднял вопрос о затратах. Ко времени возвращения из Кохата у Пайнкоффина была разработана своя собственная теория о свиньях, которую он развивал на тридцати трех страницах in folio — все до одной были заботливо подшиты Нэффертоном, но ему и этого было мало.
Прошло десять месяцев, и интерес Пайнкоффина к потенциальному свиноводству стал вроде бы затихать, особенно с тех пор, как он стал развивать собственные воззрения. А от Нэффертона все продолжали сыпаться письма с вопросами «об общегосударственном аспекте этой проблемы, исходя из намерения легализовать продажу свинины, что может вызвать недовольство мусульманского населения Верхней Индии». Он догадывался, что после всех этих пустяков, занудств и мелочных ковыряний Пайнкоффину явно не хватает размаха, работы с развязанными руками. И действительно, Пайнкоффин расправился с последним вопросом мастерски и доказал, «что нет оснований опасаться взрыва народного гнева». Нэффертон ответил, что только Гражданин может так глубоко проникнуть в суть дела, и походя искусил его «возможными выгодами, которые может получить правительство от продажи свиной щетины». По свиной щетине имеется огромная литература, а обувщики и торговцы щетками и красками различают гораздо больше разновидностей щетины, чем вы можете себе представить. Слегка поразившись Нэффертоновой страсти к информации, Пайнкоффин выслал монографию на пятидесяти одной странице: «Продукты, получаемые из свиньи». Тут уж его понесло, под чутким руководством Нэффертона, прямиком к фабрикам Канпура, где свиные кожи идут на седла, а оттуда к дубильщикам. Пайнкоффин написал, что лучшее средство для обработки свиных кож — семя граната, и заметил (минувшие четырнадцать месяцев изрядно измотали его), что Нэффертону «поначалу надо бы развести свиней, а уж потом дубить их кожу».
Нэффертон вернулся ко второму разделу пятого вопроса. Каким образом можно добиться, чтобы чужеземная свинья давала столько же свинины, сколько она дает на Западе, и при этом «приобрела бы ту же волосатость, что и ее восточный сородич»? У Пайнкоффина мороз пошел по коже, потому что он уже забыл все, о чем писал шестнадцать месяцев назад, и был близок к тому, чтобы начать все сначала. Он слишком далеко зашел в дебри, чтобы отступиться, и в порыве минутной слабости написал: «Обратитесь к моему первому письму»; оно касалось дравидской свиньи. На самом деле Пайнкоффин должен был добраться до акклиматизации, а скатился на второстепенный вопрос о скрещивании видов.
Вот уж когда Нэффертон полностью раскрыл свои карты! Он величавым слогом выразил правительству недовольство «недостаточностью предоставленной помощи в моих серьезных намерениях положить начало предприятию, которое воздастся сторицей, и легкомысленным отношением к моим запросам об информации со стороны джентльмена, чья псевдоученость едва позволяет ему понять основные различия хотя бы между дравидской и беркширской разновидностью рода Sus.[252] Если следует понимать, что письмо, к которому он меня отсылает, содержит его серьезные воззрения на акклиматизацию этого ценного, хотя, возможно, и не слишком чистоплотного животного, то я с трудом вынужден поверить» и т. д. и т. п.
Во главе отдела жалоб был новый человек. Несчастному Пайнкоффину было заявлено, что Служба создана для Страны, а не Страна для Службы и что для него было бы лучше добросовестно предоставлять информацию о свиньях.
Пайнкоффин ответил, как безумный, что он написал все, что может быть вообще написано о свиньях, и что ему полагается отпуск.
Нэффертон получил копию этого письма и послал его вместе с опусом о дравидской свинье в центральную газету, которая напечатала и то и другое полностью. Опус был написан в довольно возвышенных тонах, но если бы редактор видел на столе Нэффертона груды бумаги, исписанные рукой Пайнкоффина, он бы не был так саркастичен насчет «расплывчатых разглагольствований и вопиющей самоуверенности современного карьериста, а также его крайней неспособности постичь практическую суть практического вопроса». Многие из знакомых вырезали эти заметки и послали их Пайнкоффину.
Я уже констатировал, что Пайнкоффин был человеком мягкотелым. Этот последний удар испугал и потряс его. Он ничего не мог понять, но чувствовал, что Нэффертон так или иначе одурачил его самым бессовестным образом. Он понимал, что сам без надобности влез в свиную шкуру и уже не сможет вывести правительство из заблуждения. Все знакомые осведомлялись о его «расплывчатых разглагольствованиях» и «вопиющей самоуверенности», и это убивало его.
Он сел в поезд и отправился к Нэффертону, которого не видел с тех пор, как началось все это свинское предприятие. Он размахивал вырезкой из газеты, кричал что-то невразумительное и оскорблял Нэффертона, а потом сник и еле слышно промямлил: «Я-говорю-это-слишком-гадко-вы-знаете».
Нэффертон проявил необычайное участие.
— Боюсь, что задал вам порядочно хлопот, не правда ли? — сказал он.
— Хлопот! — прохныкал Пайнкоффин. — Хлопоты — это еще ничего, хоть радости мало… но меня возмущает, что это обнародовано. Эта история, как репей, пристанет ко мне на всю жизнь. А я-то делал все, что мог, для вашего неиссякаемого хряка. Гадко вы поступили, ей-богу!
— Не знаю, — сказал Нэффертон. — Вас когда-нибудь ударяла лошадь? Выброшенные деньги — это еще ничего, хоть радости мало, но меня возмущает, что надо мной смеются, причем смеется тот, кто меня же надул. Ну, я думаю, мы можем пойти на мировую.
Пайнкоффину только и оставалось, что крепко выразиться; а Нэффертон чрезвычайно приветливо улыбнулся и пригласил его к ужину.
БИМИ[253]

Беседу начал орангутанг в большой железной клетке, принайтованной к овечьему загону. Ночь была душная, и, когда мы с Гансом Брайтманом прошли мимо него, волоча наши постели на форпик парохода, он поднялся и непристойно затараторил. Его поймали где-то на Малайском архипелаге и везли показывать англичанам, по шиллингу с головы. Четыре дня он беспрерывно бился, кричал, тряс толстые железные прутья своей тюрьмы и чуть не убил матроса-индийца, неосторожно оказавшегося там, куда доставала длинная волосатая лапа.
— Тебе бы не повредило, мой друг, немножко морской болезни, — сказал Ганс Брайтман, задержавшись возле клетки. — В твоем Космосе слишком много Эго.
Орангутанг лениво просунул лапу между прутьями. Никто бы не поверил, что она может по-змеиному внезапно кинуться к груди немца. Тонкий шелк пижамы треснул, Ганс равнодушно отступил и оторвал банан от грозди, висевшей возле шлюпки.
— Слишком много Эго, — повторил он, сняв с банана кожуру и протягивая его пленному дьяволу, который раздирал шелк в клочья.
Мы постелили себе на носу среди спавших матросов-индийцев, чтобы обдавало встречным ветерком — насколько позволял ход судна. Море было, как дымчатое масло, но под форштевнем оно загоралось, убегая назад, в темноту, клубами тусклого пламени. Где-то далеко шла гроза: мы видели ее зарницы. Корабельная корова, угнетенная жарой и запахом зверя в клетке, время от времени горестно мычала, и в тон ей отзывался ежечасно на оклик с мостика впередсмотрящий. Внятно слышался тяжелый перебор судовой машины, и только лязг зольного подъемника, когда он опрокидывался в море, разрывал эту череду приглушенных звуков. Ганс лег рядом со мной и закурил на сон грядущий сигару. Это, естественно, располагало к беседе. У него был успокаивающий, как ропот моря, голос и, как само море, неисчерпаемый запас историй, ибо занятием его было странствовать по свету и собирать орхидеи, диких животных и этнологические экспонаты для немецких и американских заказчиков. Вспыхивал и гас в сумраке огонек его сигары, накатывалась за фразой фраза, и скоро я стал дремать. Орангутанг, растревоженный какими-то снами о лесах и воле, завопил, как душа в чистилище, и бешено затряс прутья клетки.
— Если бы он сейчас выходил, от нас бы мало что оставалось, — лениво промолвил Ганс. — Хорошо кричит. Смотрите, сейчас я его буду укрощать, когда он немножко перестанет.
Крик смолк на секунду, и с губ Ганса сорвалось змеиное шипение, настолько натуральное, что я чуть не вскочил. Протяжный леденящий звук скользнул по палубе, и тряска прутьев прекратилась. Орангутанг дрожал, вне себя от ужаса.
— Я его остановил, — сказал Ганс. — Я научился этот фокус в Могун Танджунге, когда ловил маленькие обезьянки для Берлина. Все на свете боятся обезьянок, кроме змеи. Вот я играю змея против обезьянки, и она совсем замирает. В его Космосе было слишком много Эго. Это есть душевный обычай обезьян. Вы спите или вы хотите послушать, и тогда я вам расскажу история, такая, что вы не поверите?
— Нет такой истории на свете, которой бы я не поверил, — ответил я.
— Если вы научились верить, вы уже кое-чему научились в жизни. Так вот, я сделаю испытание для вашей веры. Хорошо! Когда я эти маленькие обезьянки собирал — это было в семьдесят девятом или восьмидесятом году на островах Архипелага, вон там, где темно, — он показал на юг, примерно в сторону Новой Гвинеи, — Майн Готт![254] Лучше живые черти собирать, чем эти обезьянки. То они откусывают ваши пальцы, то умирают от ностальгия — тоска по родине, — потому что они имеют несовершенная душа, которая остановилась развиваться на полпути, и — слишком много Эго. Я был там почти год и там встречался с человеком по имени Бертран. Он был француз и хороший человек — натуралист до мозга костей. Говорили, что он есть беглый каторжник, но он был натуралист, и этого с меня довольно. Он вызывал из леса все живые твари, и они выходили. Я говорил, что он есть Святой Франциск Ассизский, произведенный в новое воплощение, а он смеялся и говорил, что никогда не проповедовал рыбам. Он продавал их за трепанг — bêche-de-mer.
И этот человек, который был король укротителей, он имел в своем доме вот такой в точности, как этот животный дьявол в клетке, — большой орангутанг, который думал, что он есть человек. Он его нашел, когда он был дитя — этот орангутанг — и он был дитя и брат и комише опера для Бертрана. Он имел в его доме собственная комната, не клетка — комната, — с кровать и простыни, и он ложился в кровать, и вставал утром, и курил своя сигара, и кушал свой обед с Бертраном, и гулял с ним под ручку — это было совсем ужасно. Герр Готт! Я видел, как этот зверь разваливался в кресле и хохотал, когда Бертран надо мной подшучивал. Он был не зверь, он был человек: он говорил с Бертраном, и Бертран его понимал — я сам это видел. И он всегда был вежливый со мной, если только я не слишком долго говорил с Бертраном, но ничего не говорил с ним. Тогда он меня оттаскивал — большой черный дьявол — своими громадными лапами, как будто я был дитя. Он был не зверь: он был человек. Я это понимал прежде, чем был знаком с ним три месяца, — и Бертран тоже понимал; а Бими, орангутанг со своей сигарой в волчьих зубах с синие десны, понимал нас обоих.
Я был там год — там и на других островах — иногда за обезьянками, а иногда за бабочками и орхидеями. Один раз Бертран мне говорит, что он женится, потому что он нашел себе хорошая девушка, и спрашивает, как мне нравится эта идея жениться. Я ничего не говорил, потому что это не я думал жениться. Тогда он начал ухаживать за этой девушкой, она была французская полукровка — очень хорошенькая. Вы имеете новый огонь для моей сигары? Погасло? Очень хорошенькая. Но я говорю: «А вы подумали о Бими? Если он меня оттаскивает, когда я с вами говорю, что он сделает с вашей женой? Он растащит ее на куски. На вашем месте, Бертран, я бы подарил моей жене на свадьбу чучело Бими». В то время я уже кое-что знал про эта обезьянья публика. «Застрелить его?» — говорит Бертран. «Это ваш зверь, — говорю я, — если бы он был мой, он бы уже был застрелен».
Тут я почувствовал на моем затылке пальцы Бими. Майн Готт! Вы слышите, он этими пальцами говорил. Это был глухонемой алфавит, целиком и полностью. Он просунул своя волосатая рука вокруг моя шея и задрал мне подбородок и посмотрел в лицо — проверить, понял ли я его разговор так хорошо, как он понял мой.
«Ну, посмотрите! — говорит Бертран. — Он вас обнимает, а вы хотите его застрелить? Вот она, тевтонская неблагодарность!»
Но я знал, что сделал Бими моим смертельным врагом, потому что его пальцы говорили убийство в мой затылок. В следующий раз, когда я видел Бими, я имел на поясе пистолет, и он до него дотронулся, а я открыл затвор — показать ему, что он заряжен. Он видел, как в лесах убивают обезьянки, и он понял.
Одним словом, Бертран женился и совсем забыл про Бими, который бегал один по берегу, с половиной человечьей душа в своем брюхе. Я видел, как он там бегал, и он хватал большой сук и хлестал песок, пока не получалась яма, большая, как могила. И я говорю Бертрану: «Ради всего на свете, убей Бими. Он сошел с ума от ревности».
Бертран сказал: «Он совсем не сошел с ума. Он слушается и любит мою жену, и если она говорит, он приносит ей шлепанцы», — и он посмотрел на своя жена на другой конце комната. Она была очень хорошенькая девушка.
Тогда я ему сказал: «Ты претендуешь знать обезьяны и этот зверь, который доводит себя на песках до бешенства, от того что ты с ним не разговариваешь? Застрели его, когда он вернется в дом, потому что он имеет в своих глазах огонь, который говорит убийство — убийство». Бими пришел в дом, но у него в глазах не был огонь. Он был спрятан, коварно — о, коварно, — и он принес девушке шлепанцы, а Бертран, он повернулся ко мне и говорит: «Или ты лучше узнал его за девять месяцев, чем я за двенадцать лет? Разве дитя зарежет свой отец? Я выкормил его, и он мое дитя. Больше не говори эта чепуха моей жене и мне».
На другой день Бертран пришел в мой дом, помогать мне с деревянные ящики для образцов, и он мне сказал, что пока оставлял жену с Бими в саду. Тогда я быстро кончаю мои ящики и говорю: «Пойдем в твой дом, промочим горло». Он засмеялся и говорит: «Пошли, сухой человек».
Его жена не была в саду, и Бими не пришел, когда Бертран позвал. И жена не пришла, когда он позвал, и он стал стучать в ее спальня, которая была крепко закрыта — заперта. Тогда он посмотрел на меня, и лицо у него было белое. Я сломал дверь сплеча, и в пальмовой крыше была огромная дыра, и на пол светило солнце. Вы когда-нибудь видели бумага в мусорной корзине или карты, разбросанные по столу во время вист? Никакой жены увидеть было нельзя. Вы слышите, в комнате не было ничего похожего на женщина. Только вещество на полу, и ничего больше. Я поглядел на эти вещи, и мне стало очень плохо; но Бертран, он глядел немножко дольше на то, что было на полу, и на стенах, и на дырка в крыше. Потом он начал смеяться, так мягко и тихо, и я понял, что он, слава Богу, сошел с ума. Совсем не плакал, совсем не молился. Он стоял неподвижно в дверях и смеялся сам с собой. Потом он сказал: «Она заперлась в комнате, а он сорвал крыша. Fi donc. Именно так. Мы починим крыша и подождем Бими. Он непременно придет».
Вы слышите, после того как мы снова превратили комната в комната, мы ждали в этом доме десять дней и раза два видели, как Бими немножко выходил из леса. Он боялся, потому что он нехорошо поступал. На десятый день, когда он подошел посмотреть, Бертран его позвал, и Бими побежал припрыжку по берегу и издавал звуки, а в руке имел длинный прядь черного волоса. Тогда Бертран смеется и говорит: «Fi donc!» — как будто он просто разбил стакан на столе; и Бими подходил ближе, потому что Бертран говорит с таким сладким нежным голосом и смеется сам с собой. Три дня он ухаживал за Бими, потому что Бими не давал до себя дотронуться. Потом Бими сел обедать с нами за один стол, и шерсть на его руках была вся черная и жесткая от… от того, что на его руках засохло. Бертран подливал ему сангари, пока Бими не стал пьяный и глупый и тогда…
Ганс умолк, попыхивая сигарой.
— И тогда? — сказал я.
— И тогда Бертран убивал его голыми руками, а я пошел погулять по берегу. Это было Бертрана частное дело. Когда я пришел, обезьяна Бими был мертвый, а Бертран, он умирал на нем; но он все еще так немножко тихо смеялся, и он был совсем довольный. Вы ведь знаете формула для силы орангутанг — это есть семь к одному относительно человека. А Бертран — он убивал Бими тем, чем его вооружал Господь. Это есть чудо.
Адский грохот в клетке возобновился.
— Ага! Наш друг все еще имеет в своем Космосе слишком много Эго. Замолчи, ты!
Ганс зашипел протяжно и злобно. Мы услышали, как большой зверь задрожал у себя в клетке.
— Но почему, скажите, ради Бога, вы не помогли Бертрану и дали ему погибнуть? — спросил я.
— Друг мой, — ответил Ганс, поудобнее располагаясь ко сну, — даже мне было не слишком приятно, что я должен жить после того, что я видел эта комната с дыркой в крыше. А Бертран — он был ее муж. Спокойной вам ночи и приятного сна.
АГАСФЕР[255]

— Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день, — говорили Джону Хэю люди науки. В последующие годы Джон Хэй ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям, и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других, столь же важных.
Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка — мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше даже, чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшемся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что не долго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнать в гроб племянника. И вот, под острием этого постоянного напоминания, Джон Хэй, продолжая носить маску тяжеловатой, деловитой тупости, скрывавшей тень на его душе, обратил ценные бумаги, дома, земли в соверены — полновесные, круглые, червонные английские соверены стоимостью в двадцать шиллингов каждый. Земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени, но соверен до самого Судного дня останется совереном, то есть владыкой наслаждений.
Обладая этими соверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе; но его преследовал неотвязный страх смерти; ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома, рядом с вешалкой для шляп, и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни и что гробовщики уже обтесывают гроб для его племянника. Джон Хэй обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернела. Страх смерти сводил Джона Хея с ума.
И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться и жить, некий еще более пронзительный голос крикнул:
— Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день.
Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джону Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности, но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из всех труждающихся человеческих поколений удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерениям творца, заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, пароходы оказались бы тогда переполненными, что лишает путешествие удобств, а Джон Хэй превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в два месяца, — он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние в восемьдесят дней, — то он выиграет целые сутки, а если будет упорно продолжать это в течение тридцати лет, то выиграет сто восемьдесят дней, то есть почти полгода. Это не много, но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Евфрата, он сможет увеличить скорость.
Вооруженный многими соверенами, Джон Хэй на тридцать пятом году от рождения пустился в путь, и два голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Евфратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты — тринадцать дней в поезде. Тринадцать дней в поезде плохо отзываются на нервах, но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в два месяца и двенадцать дней, и начал сызнова, выиграв двадцать четыре часа драгоценного времени. Три года прошло, а Джон Хэй упорно ездил вокруг земли в поисках лишнего времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих соверенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал:
— Я человек, решивший жить вечно, и я пытаюсь добиться этого.
Дни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных пароходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов, и он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им у безжалостной вечности.
— Это лучше, чем молиться о долгой жизни, — произнес Джон Хэй, обратив лицо к востоку и приступая к своему двадцатому путешествию. Годы сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брамапутры, соединявшейся теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить в сорок семь дней с небольшим, и тут, охваченный роковым ликованием, Джон Хэй поведал тайну своего долголетия единственному своему другу — женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал, но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много соверенов, и другой Хэй жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты.
Погоня была очень долгой, ибо, когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. Хэй снова обежал вокруг света и в Мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть в маленьком домике, стоявшем у самого мадрасского взморья. Все, что требуется Хэю, это — висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день, уподобляясь тем самым неумирающему солнцу. Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности.
Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через пятнадцать лет это будет возможно, но говорят, что, если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком бангала на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, — которая, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, — старого дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца; с секундомером в руке он бежит наперегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают двадцать пять рупий в месяц, но он Бессмертный Джон Хэй. Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений. Но если вы скажете, что это только шум прибоя, он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу, и он иногда сомневается в том, что доктор говорил правду.
Почему солнце не остается всегда у меня над головой? — спрашивает Джон Хэй.
МОТИ-ГАДЖ, МЯТЕЖНИК[256]
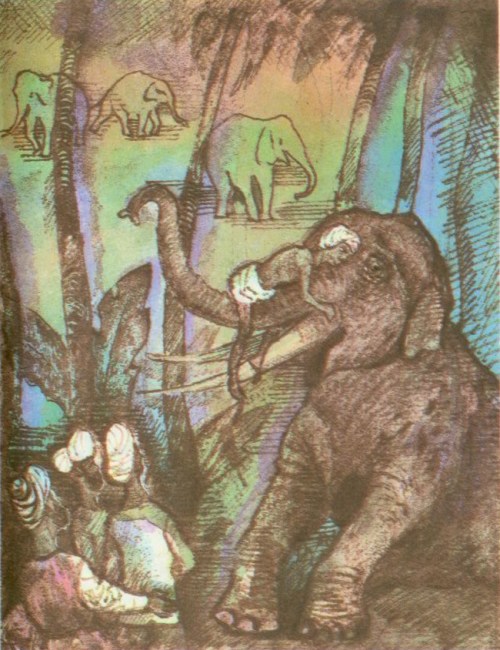
Жил-был некогда в Индии один плантатор, решивший расчистить участок леса под кофейные плантации. Когда он срубил все деревья и выжег подлесок, остались еще пни. Динамит дорог, медленный огонь действует медленно. Лучшее орудие для корчевания пней — владыка всех зверей слон. Он либо выкапывает пень из земли своими бивнями, если сохранил их, либо вытаскивает его при помощи канатов. Итак, плантатор стал нанимать слонов поодиночке, по два, по три и приступил к работе. Лучший из слонов принадлежал худшему из махаутов, и звали это великолепное животное Моти-Гадж. Он был неотъемлемой собственностью своего махаута, что было бы немыслимо при туземном самоуправлении, ибо Моти-Гадж был животным, достойным царей, а имя его в переводе значит «слон-перл». Но страной управляла Британия, и махаут Диса невозбранно владел своей собственностью. Это был беспутный малый. Заработав много денег с помощью своего слона, он вдребезги напивался и бил Моти-Гаджа шестом от палатки по чувствительным ногтям передних ног. Моти-Гадж тогда не затаптывал Дису до смерти лишь потому, что знал: после побоев Диса будет обнимать его хобот, плакать и называть его своей любовью, и своей жизнью, и печенью своей души и напоит его каким-нибудь крепким напитком. Моти-Гадж очень любил спиртные напитки, особенно арак, но охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали. Потом Диса ложился спать между передними ногами Моти-Гаджа, обычно располагаясь поперек большой дороги, а Моти-Гадж сторожил его, не пропуская ни конных, ни пеших, ни повозок, поэтому все движение останавливалось, и пробка не рассасывалась, пока Диса не соблаговолял проснуться.
Днем на плантаторской вырубке спать не приходилось: нельзя было рисковать большим жалованьем. Диса сидел на шее Моти-Гаджа и отдавал ему приказания, а Моти-Гадж выкорчевывал пни — ибо он владел парой великолепных бивней, или тянул канаты — ибо у него была пара великолепных плеч, а Диса хлопал его по голове за ушами и называл царем слонов. Вечером Моти-Гадж запивал свои триста фунтов свежей зелени квартой арака, а Диса тоже получал свою долю и пел песни, сидя между ногами Моти-Гаджа, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Диса уводил Моти-Гаджа вниз, на реку, и Моти-Гадж блаженно лежал на боку в мелком месте, а Диса прохаживался по нему с кокосовой шваброй и кирпичом в руках. Моти-Гадж прекрасно отличал тяжелый удар второго от шлепка первой, возвещавшего, что нужно встать и перевалиться на другой бок. Потом Диса осматривал его ноги и глаза и отвертывал края его огромных ушей, ища, нет ли где язв и не началось ли воспаление глаз. После осмотра оба «с песней вставали из моря», и Моти-Гадж, черный и блестящий, обмахивался сорванной с дерева двенадцатифутовой веткой, которую держал хоботом, а Диса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы.
Мирная, выгодная работа продолжалась, пока Диса вновь не ощутил потребности напиться вдребезги. Он жаждал настоящей оргии. Скудные, тихие выпивки только расслабляли его.
Он подошел к плантатору и сказал, рыдая:
— Моя мать умерла.
— Она умерла на прежней плантации, два месяца назад, а еще раньше умерла, когда ты работал у меня в прошлом году, — сказал плантатор, неплохо знакомый с нравами местного населения.
— Значит, это моя тетка, она была мне все равно что мать, — еще горше заплакал Диса. — Она оставила восемнадцать человек малолетних детей совершенно без хлеба, и я обязан наполнить их животики, — продолжал Диса, стукаясь головой об пол.
— Кто тебе сообщил об этом? — спросил плантатор.
— Почта, — ответил Диса.
— Почты не было уже целую неделю. Ступай обратно на свой участок!
— На деревню мою напала опустошительная хворь, и все жены мои умирают! — завопил Диса, теперь уже искренне заливаясь слезами.
— Кликните Чихана — он из той же деревни, что и Диса, — приказал плантатор. — Чихан, есть у этого человека жена?
— У него?! — воскликнул Чихан. — Нет. Ни одна женщина из нашей деревни на него и не взглянет. Они скорей выйдут замуж за слона.
Чихан фыркнул. Диса плакал навзрыд.
— Еще минута, и тебе плохо придется, — сказал плантатор. — Ступай на работу.
— Ну, теперь я скажу всю истинную правду, — вдохновенно всхлипнул Диса. — Я уже два месяца не напивался. Я хочу уйти, чтобы выпить как следует вдали от этой райской плантации. Так я не причиню никакой неприятности.
По лицу плантатора пробежала улыбка.
— Диса, — начал он, — ты сказал правду, и я сейчас же отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Моти-Гаджем в твое отсутствие. Но ты знаешь, что он слушается только тебя.
— Да живет Сияние Небес сорок тысяч лет! Я уйду только на десять коротеньких деньков. А потом, клянусь моей верой, и честью, и душой, я вернусь. Ну а насчет того, что делать, пока я совсем недолго буду в отлучке, то не соизволит ли Небеснорожденный милостиво разрешить мне позвать сюда Моти-Гаджа?
Разрешение было дано, и в ответ на пронзительный крик Дисы величественный бивненосец выплыл из тени рощицы, где он обсыпал себя струей пыли в ожидании хозяина.
— Свет моего сердца, покровитель пьяниц, гора мощи, преклони ухо, — произнес Диса, становясь перед слоном.
Моти-Гадж преклонил ухо и в знак приветствия помахал хоботом.
— Я ухожу, — промолвил Диса.
Глаза Моти-Гаджа блеснули. Он не меньше хозяина любил прогулки. Ведь, гуляя, можно срывать с обочин всякие лакомства.
— Но ты, настырная старая свинья, ты останешься здесь и будешь работать.
Блеск глаз потух, хотя Моти-Гадж и старался казаться довольным. Он терпеть не мог таскать пни на плантации. От этого у него болели зубы.
— Я уйду на десять дней, о сладостный! Подними вот эту переднюю ногу, и я вдолблю тебе на ней мой приказ, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи.
Диса схватил шест от палатки и десять раз ударил Моти-Гаджа по ногтям. Моти-Гадж, ворча, переступал с ноги на ногу.
— Десять дней, — продолжал Диса, — ты должен будешь работать, таскать и вырывать с корнем деревья, как прикажет тебе вот этот человек, Чихан. Возьми Чихана и посади его себе на шею!
Моти-Гадж подвернул конец хобота, Чихан поставил на него ногу и взлетел на шею слона. Диса передал Чихану тяжелый анкуш — железную палку, которой погоняют слонов.
Чихан стукнул Моти-Гаджа по лысой голове, как мостильщик бьет по булыжнику.
Моти-Гадж затрубил.
— Тише, кабан из дремучего леса! Чихан будет десять дней твоим махаутом. А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца. О мой владыка, царь мой! Драгоценнейший из всех сотворенных слонов, лилия стада, береги свое почтенное здоровье, будь добродетелен! Прощай!
Моти-Гадж обвил хоботом Дису и дважды поднял его на воздух. Так он всегда прощался с хозяином.
— Он теперь будет работать, — уверял Диса плантатора. — Можно мне уйти?
Плантатор кивнул, и Диса нырнул в чащу леса. Моти-Гадж опять принялся вытаскивать пни.
Чихан обращался с ним очень хорошо, но, несмотря на это, слон чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихан кормил его катышками из пряностей, после работы ребенок Чихана ласкался к нему, а Чиханова жена называла его милашкой, но Моти-Гадж, как и Диса, был убежденный холостяк. Он не понимал семейных чувств. Ему хотелось вернуть свет своей жизни — хмель, и хмельной сон, и дикие побои, и дикие ласки.
Тем не менее он, к удивлению плантатора, хорошо работал. А Диса — тот бродил по дорогам, пока не наткнулся на свадебную процессию членов своей касты, и тут он, пьянствуя, танцуя и кутя, понесся вслед за нею, потеряв всякое представление о времени.
Настал рассвет одиннадцатого дня, но Диса не вернулся. Моти-Гаджа отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно у него было дело в другом месте.
— Хай! Хо! Ступай назад, ты! — кричал ему вслед Чихан. — Ступай назад, недоношенная гора, и подними меня на свою шею. Вернись, о великолепие гор. Краса всей Индии, подними меня, не то я отобью тебе все пальцы на твоей толстой передней ноге!
Моти-Гадж мягко заворковал, но не послушался. Чихан помчался за ним с веревкой и поймал его. Моти-Гадж насторожил уши, а Чихан знал, что это значит, хоть и пытался еще настоять на своем при помощи ругательств.
— Не дури у меня! — кричал он. — Назад в загон, сын дьявола!
— Хррамп! — произнес Моти-Гадж и этим ограничился, если не считать настороженных ушей.
Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, Моти-Гадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами, которые только что принялись за работу.
Чихан доложил о положении дел плантатору; тот вышел из дома с собачьей плеткой и в ярости защелкал ею. Моти-Гадж оказал белому человеку честь прогнать его чуть не четверть мили по вырубке и своими «хррампами» загнал его на веранду его дома. Затем он стал около этого дома и стоял там, смеясь про себя и, как все слоны, трясясь всем телом от смеха.
— Мы его выдерем, — решил плантатор. — Высечем так, как не секли еще ни одного слона. Дайте Кала-Нагу и Назиму по двенадцатифутовой цепи и велите им отвесить ему по двадцати ударов.
Кала-Наг — что значит «Черный змей» — и Назим были самыми крупными слонами на всем участке, и выполнение жестоких наказаний было их обязанностью, ибо ни один человек не может как следует побить слона.
Они взяли хоботами предназначенные для порки цепи и, гремя ими, двинулись к Моти-Гаджу, намереваясь стиснуть его с обеих сторон. Моти-Гаджа не секли ни разу за всю его тридцатидевятилетнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой справа налево и целясь на то самое место в жирном боку Кала-Нага, куда тупой бивень мог проникнуть глубже всего. У Кала-Нага не было бивней, знаком его власти служила цепь; но в последнюю минуту он счел за лучшее отойти подальше от Моти-Гаджа и притвориться, будто он принес цепь только ради потехи. Назим повернулся и быстро ушел домой. В это утро он не был расположен драться, так что Моти-Гадж остался в одиночестве и стоял, насторожив уши.
Это заставило плантатора отступиться, а Моти-Гадж пошел прогуляться по вырубке. Когда слон не хочет работать и не привязан, с ним приблизительно так же легко справиться, как с корабельной пушкой весом в восемьдесят одну тонну, оторвавшейся во время сильной морской качки. Он хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни, нес всякую чепуху о работе и неотъемлемом праве слонов на долгий полуденный отдых и, бродя взад и вперед, успел перемутить все стадо еще до заката, а тогда вернулся в свой загон на кормежку.
— Не хочешь работать — не будешь есть, — сердито отрезал Чихан. — Ты дикий слон, а вовсе не благовоспитанное животное. Ступай в свои джунгли.
Крошечный смуглый ребенок Чихана, перекатываясь по полу хижины, протянул пухлые ручонки к огромной тени в дверях. Моти-Гадж отлично знал, что Чихану это существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазнительно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Моти-Гадж быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе, на двенадцать футов выше головы своего отца.
— Великий владыка! — взмолился Чихан. — Самые лучшие мучные лепешки, числом двенадцать, по два фута в поперечнике и вымоченные в роме, будут твоими сию минуту, а кроме того, получишь двести фунтов свежесрезанного молодого сахарного тростника. Соизволь только благополучно опустить вниз этого ничтожного мальчишку, который для меня — как сердце мое и жизнь моя.
Моти-Гадж удобно устроил смуглого младенца между своими передними ногами, способными растоптать и превратить в зубочистки всю Чиханову хижину, и стал ждать пищи. Он съел ее, а смуглый ребенок уполз. Потом Моти-Гадж дремал, думая о Дисе. Одно из многих таинственных свойств слона заключается в том, что огромному его телу нужно меньше сна, чем любому другому живому существу. Ему довольно четырех или пяти часов сна за ночь: два часа перед полночью он лежит на одном боку, два после часу ночи — на другом. Прочие часы безмолвия он заполняет едой, возней и долгими ворчливыми монологами.
Поэтому в полночь Моти-Гадж вышел из своего загона, ибо ему пришло в голову, что Диса лежит пьяный где-нибудь в темном лесу и некому присмотреть за ним. И вот он всю эту ночь напролет шлялся по зарослям, пыхтя, трубя и тряся ушами. Он спустился к реке и затрубил над отмелями, где Диса обычно купал его, но ответа не было. Дису он найти не смог, но зато переполошил всех слонов на участке и чуть не до смерти напугал каких-то цыган в лесу.
На рассвете Диса вернулся на плантацию. Он попьянствовал всласть и теперь ждал, что ему влетит за просрочку отпуска. Но увидев, что и хозяйский дом, и вся плантация целы и невредимы, он облегченно вздохнул (ведь он кое-что знал о характере Моти-Гаджа) и пошел доложить о себе, а докладывая, сопровождал свою речь многочисленными поклонами и безудержным враньем. Моти-Гадж ушел завтракать в свой загон. Он проголодался после ночной прогулки.
— Позови своего зверя, — приказал плантатор, и Диса что-то выкрикнул на том таинственном слоновьем языке, который, как верят некоторые махауты, возник в Китае и распространился здесь еще в те времена, когда рождался мир и когда слоны, а не люди были господами. Моти-Гадж услышал его и пришел. Слоны не скачут галопом. Они передвигаются с места на место с различной скоростью. Если слон захочет догнать курьерский поезд, он не помчится галопом, но поезд он догонит. Итак, Моти-Гадж очутился у дверей плантатора чуть ли не раньше, чем Чихан заметил, что он ушел из загона. Тут слон упал в объятия Дисы, трубя от радости, и оба они — человек и животное — расплакались и принялись лизать и ощупывать друг друга с головы до пят, чтобы убедиться, что ничего худого с ними не случилось.
— Теперь мы пойдем на работу, — сказал Диса. — Подними меня, сын мой, радость моя.
Моти-Гадж вскинул его себе на шею, и оба они пошли на кофейную вырубку за трудными пнями.
Плантатор был до того изумлен, что даже не очень сердился.
ДЖОРДЖИ-ПОРДЖИ[257]
Джорджи-Порджи, ну и нахал!
Всех девчонок целовал.
А девчонки — обижаться,
Да за Джорджи не угнаться.[258]

Если вы считаете, что человек не в праве войти рано утром в собственную гостиную, когда горничная наводит там порядок и стирает пыль, то имейте в виду, что понятия добра и зла, существующие у цивилизованных людей, которые едят на фарфоре и носят в нагрудном кармане визитные карточки, неприменимы в стране, где жизнь еще только входит в колею. Когда другие, высланные вперед на черную работу, все приготовят к вашему приему, тогда, в свой черед, можете приезжать и вы, захватив с собой светские нравы, Десять Заповедей и все прочие причиндалы в сундуках со своими пожитками. Там, куда не распространяются законы Ее Королевского Величества,[259] бессмысленно ожидать соблюдения иных, менее великих предписаний. К людям, идущим впереди колесницы Приличия и Порядка, нельзя подходить с теми же мерками, что и к домоседам, достигающим известных степеней.
Не так давно область распространения законов Ее Величества кончалась в нескольких милях к северу от населенного пункта Таемьо на реке Иравади.[260] Достигало сюда и Общественное Мнение, не очень могущественное, но достаточное, чтобы держать людей в рамках. Но потом Министерство объявило, что законы Ее Величества надо продвинуть до Бамо и китайской границы, войскам был дан приказ, и некоторые частные лица, всегда стремящиеся быть чуть впереди наступления цивилизации, двинулись на север вместе с нашими частями. Это были люди, в жизни не сдавшие ни одного экзамена и не годившиеся для службы в бюрократическом аппарате старых колоний из-за своей излишней прямолинейности. Правительство поспешило прибрать к рукам и новую Бирму, сведя в ней жизнь к бесцветному среднеиндийскому уровню; но перед этим был короткий период, когда сильные мужчины были там остро необходимы и пользовались правом свободной инициативы.
Среди таких предтеч Цивилизации был некто Джорджи-Порджи, которого все знакомые признавали сильным мужчиной. К тому времени, когда пришел приказ нарушить границу, он служил в Нижней Бирме, а звали его так потому, что он умел, совсем как бирманцы, петь туземную песню, в которой первые слова звучат очень похоже на «Джорджи-Порджи». Кто бывал в Бирме, знает ее, в ней говорится про большую лодку, которая пыхтит: «Пуф! Пуф! Пуфф!» Джорджи пел ее, аккомпанируя себе на банджо, а слушатели восторженно кричали, и шум разносился далеко по тиковому лесу.
Потом он подался в Верхнюю Бирму — человек, не верящий ни в бога, ни в черта, зато умеющий внушить к себе уважение и успешно выполняющий сложные полувоенные обязанности, которые выпадали в те дни на долю многих. Он работал у себя в конторе и время от времени угощал за своим столом молодых офицеров, когда измотанный лихорадкой карательный отряд забредал к нему на пост. Он и сам не давал спуску орудовавшим в тех краях бандитам, ведь земля еще дымилась под ногами, и в любую самую неожиданную минуту мог вспыхнуть пожар. Эти стычки с улюлюканьем и гиком доставляли ему большое удовольствие, но бандитам было отнюдь не до смеха. Все чиновные лица, посещавшие Джорджи-Порджи, выносили из своих встреч с ним убеждение, что он ценный работник и совершенно не нуждается в помощи, на этом основании ему предоставлялась полная свобода действий.
Но прошло несколько месяцев, и Джорджи-Порджи прискучило одиночество. Ему захотелось приятного общества, захотелось к себе душевного участия. Законы Ее Величества только-только начинали проникать в те края, не пришло туда еще и Общественное Мнение, которое могущественнее любых законов. Зато там был местный обычай, позволявший белым мужчинам за определенную плату брать в жены дщерей хеттовых.[261] Такой брак не очень связывал, в отличие от мусульманского никкаха, но жена в доме — это всегда приятно.
Когда-нибудь, когда наши солдаты вернутся из Бирмы, они привезут с собой поговорку: «Бережлива, как бирманская жена», — и изящные английские дамы будут недоумевать: что бы это могло значить?
У старейшины ближайшей от Джорджи-Порджи деревни была миловидная дочь, она видела Джорджи-Порджи с большого расстояния, и он ей нравился. Когда стало известно, что англичанин, у которого тяжелая рука, ищет хозяйку в свой дом за частоколом, старейшина явился к нему и объяснил, что за пятьсот рупий наличными готов доверить ему свою дочь, дабы он содержал ее в чести и холе и наряжал в красивые платья, как велит обычай страны. Дело быстро порешили, и Джорджи-Порджи потом не раскаивался.
Благодаря этой сделке холостяцкое неустройство его домашнего уклада уступило место порядку и удобству, безалаберные хозяйственные расходы были урезаны наполовину и сам он был окружен заботой и поклонением молодой хозяйки, которая сидела у него во главе стола, пела ему песни и управляла его мадрасскими слугами, — словом, была во всех отношениях такой милой, жизнерадостной, преданной и обворожительной женушкой, какую только может себе пожелать придирчивый холостяк. Знающие люди утверждают, что лучших жен и домоправительниц, чем бирманки, не встретить ни в одной стране. Когда очередной британский отряд брел мимо военной тропой, молодого лейтенанта угощала за столом Джорджи-Порджи приветливая женщина, которой он оказывал все знаки внимания и уважения, полагающиеся гостеприимной хозяйке дома. На заре, выстроив свой отряд, он снова углубился в джунгли, не без сожаления вспоминая о вкусном обеде и хорошеньком личике и завидуя Джорджи-Порджи до глубины души. У самого-то у него была невеста на родине, и так уж он был устроен, что — увы…
Имя бирманской жены Джорджи-Порджи было довольно неблагозвучное, но он быстро перекрестил ее в Джорджину и так исправил этот недостаток. Быть объектом внимания и нежной заботы ему понравилось, он считал, что употребил свои пять сотен рупий с несомненной пользой.
После трех месяцев счастливой семейной жизни Джорджи-Порджи пришла в голову блестящая мысль: пожалуй что, брак — настоящий английский брак — не такая уж плохая штука. Если так приятно, оказывается, жить здесь, на краю света, с этой бирманочкой, которая курит сигары, насколько же должно быть приятнее взять в жены милую английскую барышню, которая сигар в рот не берет и будет играть не на банджо, а на фортепьяно. И потом ему хотелось вернуться в общество себе подобных, услышать опять, как играет духовой оркестр, испытать еще раз, что чувствует человек, на коем фрак. Ей-богу, женитьба, наверно, неплохая вещь. Он всесторонне обдумывал эту тему по вечерам, пока Джорджина пела ему или озабоченно спрашивала, отчего он так молчалив и не обидела ли она его нечаянно. Думая, он курил и, куря, посматривал на Джорджину, сквозь табачный дым рисуя себе на ее месте белокурую, веселую и хозяйственную англичаночку со взбитой челкой и, в крайнем случае, с сигаретой во рту. Но, уж конечно, не с толстой бирманской сигарой, какие курит Джорджина. Он возьмет себе в жены барышню с такими же глазами, как у Джорджины, и вообще во всем на нее похожую. Или почти во всем. Кое-что в Джорджине оставляет желать лучшего. И Джорджи-Порджи, потягиваясь в кресле, пускал через нос густые кольца дыма. Да, надо ему вкусить женатой жизни. Благодаря Джорджине у него скопилось немного денег, и в ближайшее время ему полагался шестимесячный отпуск.
— Вот что, моя красавица, — сказал он ей, — надо нам за будущие три месяца отложить побольше денег. Мне деньги нужны.
Это был прямой выпад против ее хозяйственных талантов, ведь она так гордилась, что экономно ведет его дом! Но раз у ее божества нужда в деньгах, она готова на все.
— Тебе нужны деньги? — с улыбкой переспросила она. — У меня есть немного денег. Смотри! — Она сбегала к себе в комнату и принесла мешочек рупий. — Я все время откладывала из того, что ты мне давал. Видишь? Сто семь рупий. Тебе ведь не больше нужно, чем сто семь рупий? Возьми их. Мне будет приятно, если я этим тебе помогу.
И она, разложив деньги на столе, подвинула их к Джорджи-Порджи своими быстрыми желтыми пальчиками.
Больше Джорджи-Порджи не заикался об экономии.
А еще через три месяца, отправив и получив несколько таинственных писем, непонятных и потому ненавистных Джорджине, Джорджи-Порджи сказал ей, что ему надо уехать, а она пусть возвращается жить в дом отца.
Джорджина заплакала. Она готова ехать за своим божеством хоть на край света. Зачем же ей расставаться с ним? Она же его любит.
— Мне нужно только в Рангун, — ответил ей Джорджи-Порджи. — Я буду обратно через месяц, но тебе лучше пока пожить у отца. Я оставлю тебе двести рупий.
— Если ты едешь всего на месяц, зачем же двести? И пятидесяти за глаза хватит. Нет, тут что-то плохое. Не езди или хотя бы возьми меня с собой!
Эту сцену Джорджи-Порджи не любит вспоминать и поныне. В конце концов он отделался от Джорджины, сговорившись на семидесяти пяти рупиях. Больше взять она не соглашалась. А потом морем и железной дорогой он отправился в Рангун.
Посредством своей таинственной переписки Джорджи-Порджи выправил себе полагавшийся ему полугодовой отпуск. Самое бегство и сознание того, что он, быть может, совершает предательство, причинили ему немало боли, но как только большой пароход затерялся в безбрежной синеве, все стало казаться гораздо проще — лицо Джорджины, дом за частоколом, ночные нападения завывающих бандитов, стон и агония первого человека, которого он убил собственными руками, и сотни других, так много значивших для него прежде вещей начали бледнеть в его памяти и отступать на задний план, и образ приближающейся родины вновь завладевал его сердцем. На пароходе было много таких же, как он, отпускников — все, как один, веселые ребята, отряхнувшие прах и пот Верхней Бирмы и беззаботные, точно резвящиеся школьники. Они помогли Джорджи-Порджи забыться.
А потом была Англия, уютная, щедрая и благопристойная, и Джорджи-Порджи, точно во сне, ходил по улицам, радостно узнавая почти забывшийся звук шагов по мостовым и диву даваясь, как может человек в здравом уме добровольно уехать из столицы. Он вкушал отпускные восторги как заслуженную награду за все свои труды. Но судьба уготовила ему еще более приятный подарок: скромную прелесть традиционного английского ухаживания, такого непохожего на беззастенчивые колониальные романы на глазах у почтеннейшей публики, когда половина зрителей сочувствует и заключает пари, а другая предвкушает скандал, который закатит миссис Такая-то.
Девушка была милая, лето — прекрасное, и был большой загородный дом близ Петворта, а вокруг — лиловые вересковые пустоши для прогулок и заливные луга, где так приятно бродить по пояс в сочном разнотравье. Джорджи-Порджи чувствовал, что наконец существование его обрело смысл, и поэтому, как полагается, предложил милой девушке разделить с ним его жизнь в Индии. Та по простоте душевной согласилась. На сей раз ему не пришлось заключать сделки с деревенским старейшиной. Вместо этого была добропорядочная английская свадьба, солидный папаша, и плачущая маменька, и шафер в костюме с фиолетовым отливом и белоснежной сорочке, и курносые девчонки из Воскресной школы, усеивающие розами путь между могилами от ворот до паперти. В местной газете опубликовали подробное описание всей церемонии и даже привели полностью текст исполнявшихся псалмов. Причиной тому, впрочем, был обычный редакционный голод.
Они провели медовый месяц в Аренделе, и маменька, пролив потоки слез, отпустила свою единственную дочку на пароходе в Индию в сопровождении новобрачного Джорджи-Порджи. Не подлежит сомнению, что Джорджи-Порджи обожал свою молодую жену, а она видела в нем лучшего и величайшего из мужчин. Явившись в Бомбей, он счел себя морально вправе, ради жены, просить место получше; и поскольку он неплохо показал себя в Бирме и его начинали ценить, прошение его было почти полностью удовлетворено — его назначили на службу в поселение, которое мы будем называть Сутрейн. Оно было расположено на нескольких холмах и официально именовалось «санаторием», по той причине, что санитарное состояние там было никуда не годным. Здесь и поселился Джорджи-Порджи. Ему легко дался переход на семейное положение, он не дивился и не восторгался, как многие молодожены, тем, что его богиня каждое утро садится против него за стол завтракать — словно так и надо; для него это была уже освоенная территория, как говорят американцы. И сопоставляя достоинства своей теперешней Грейс с достоинствами Джорджины, он все больше убеждался, что не прогадал.
Но не было мира и довольства по ту сторону Бенгальского залива, где под сенью тиковой рощи в доме отца жила Джорджина, поджидая своего Джорджи-Порджи. Деревенский старейшина прожил долгую жизнь и помнил еще войну пятьдесят первого года. Он побывал тогда в Рангуне и имел представление о нравах куллахов. И теперь, сидя вечерами перед своей хижиной, он наставлял дочь в трезвой философии, отнюдь не дававшей ей утешения.
Вся беда была в том, что она любила Джорджи-Порджи так же горячо, как французская девушка из английских учебников истории любила священника, которому проломили голову королевские молодчики. И в один прекрасный день она исчезла из деревни, взяв с собой в дорогу все рупии, которые оставил ей Джорджи-Порджи, и кое-какие крохи английского языка, полученные из того же источника.
Старейшина сначала рассвирепел, но потом закурил новую сигару и высказал несколько неодобрительных замечаний обо всем женском роде в целом. А Джорджина отправилась на поиски Джорджи-Порджи, хотя где он находится, в Рангуне или за морем, и вообще жив ли он, не имела ни малейшего представления. Но удача улыбнулась ей: от старого сикха-полицейского она узнала, что Джорджи-Порджи уплыл на пароходе за море. Она купила в Рангуне билет четвертого класса и на нижней палубе добралась до Калькутты; цель своего путешествия она держала в секрете.
В Индии след Джорджины на шесть недель затерялся, и никому не известно, через какие муки она прошла.
Объявилась она в четырех милях к северу от Калькутты, измученная, исхудавшая, но упорно продвигавшаяся дальше на север в поисках своего Джорджи-Порджи. Язык местных жителей был ей непонятен; но Индия — страна бесконечного милосердия, и по всему пути вдоль Главной Магистрали женщины кормили ее. Откуда-то у нее сложилось убеждение, что Джорджи-Порджи находится где-то там, где кончается эта жестокая дорога. Может быть, ей повстречался сипай, знавший Джорджи-Порджи по Бирме. Об этом остается только гадать. Наконец она попала в расположение одного полка на марше, а в нем служил молодой лейтенант из числа тех, кто пользовался гостеприимством Джорджи-Порджи в далекие золотые дни охоты на бирманских бандитов. Много было смеху в лагере, когда Джорджина упала к его ногам и заплакала. Но никто не смеялся, когда она рассказала свою печальную повесть. Вместо этого пустили шапку по кругу, что было гораздо уместнее. Один из полковых офицеров знал, где служит Джорджи-Порджи, но ничего не слышал о его женитьбе. Он объяснил Джорджине, куда ей надо ехать, и она, радостная, продолжила свой путь на север в поезде, где могли отдохнуть ее натруженные ноги и была крыша над опаленной головой. От железной дороги до Сутрейна добраться нелегко, но у Джорджины были деньги, и попутные крестьяне на возах, запряженных быками, подвозили ее. Все это было очень похоже на чудо, и Джорджина верила, что ей покровительствуют добрые духи Бирмы. Правда, на горных перевалах, ведущих в Сутрейн, она жестоко простудилась. Но зато она знала: там, в конце пути, после всех мучений, ее ждет Джорджи-Порджи, и он обнимет ее и приласкает, как бывало когда-то, после того как запирали ворота поста и ужин был ему по вкусу. Джорджина спешила к цели, и добрые духи сослужили ей последнюю службу.
Под вечер у самого въезда в Сутрейн ее остановил англичанин.
— Господи! — воскликнул он. — Ты-то откуда здесь взялась?
Это был Джиллис, он работал под началом Джорджи-Порджи в Верхней Бирме и жил на соседнем посту. Джорджи-Порджи любил его и похлопотал, чтобы его перевели к нему помощником в Сутрейн.
— Я приехала, — просто отвечала Джорджина. — Такая дальняя дорога, я добиралась много месяцев. Где его дом?
Джиллис разинул рот. Он был достаточно близко знаком с Джорджиной и понимал, что никакие объяснения тут не помогут. Жителям Востока нельзя объяснять. Им надо показывать.
— Я провожу тебя, — сказал он и повел Джорджину задами по крутой тропе в гору, где стоял на вырубленной в скале террасе большой красивый дом.
В доме только что зажгли лампы и еще не задернули шторы.
— Смотри, — сказал Джиллис, остановившись под окном гостиной.
Джорджина посмотрела и увидела в окно Джорджи-Порджи и его молодую жену.
Она провела рукой по волосам, которые выбились у нее из пучка на макушке и свешивались на лицо. Потом попробовала было одернуть на себе платье, но оно пришло в такое состояние, что одергивать его было бесполезно. И при этом слегка кашлянула — у нее был довольно неприятный кашель, ведь она очень сильно простудилась по дороге в Сутрейн. Джиллис тоже смотрел в окно, но Джорджина на молодую жену только взглянула и стояла, не отрывая глаз от Джорджи-Порджи, а Джиллис так же безотрывно смотрел на беленькую англичанку.
— Ну? Что ты собираешься делать? — спросил Джиллис, на всякий случай взяв Джорджину за руку, чтобы она не вздумала полететь прямо на свет лампы. — Войдешь в дом и скажешь этой английской леди, что жила с ее мужем?
— Нет, — чуть слышно ответила Джорджина. — Отпусти мою руку. Я уйду. Клянусь, что уйду.
И вырвавшись от него, убежала в темноту ночи.
— Бедная девушка, — говорил себе Джиллис, спускаясь по тропе. — Надо бы дать ей денег на обратную дорогу в Бирму. Ну, пронесло, однако же. Этот ангел никогда бы не смог простить.
Как видите, его преданность была вызвана не только хорошим отношением Джорджи-Порджи.
После ужина молодожены вышли посидеть на веранде, заботясь о том, чтобы дым от сигары Джорджи-Порджи не пропитал новые шторы в гостиной.
— Что это там внизу за шум? — спросила вдруг молодая. Оба прислушались.
— Наверно, какой-нибудь здешний горец побил свою жену, — равнодушно объяснил Джорджи-Порджи.
— Побил — жену?! Какой ужас! — воскликнула молодая. — Вообрази, что ты побил меня! — Она обвила рукой мужа за талию и, положив голову ему на плечо, удовлетворенно и уверенно посмотрела вдаль на горные пики по ту сторону укрытой облаками долины.
Но это была Джорджина. Одна-одинешенька она плакала у ручья среди камней, на которых в деревне стирают белье.
ВСЕГО ЛИШЬ СУБАЛТЕРН[262]
…Не только понуждать приказом, но и воодушевлять примером ревностного выполнения долга и стойким несением тягот и лишений, неизбежных в военной службе.
В Сэндхерсте[263] Бобби Вика заставили сдавать экзамен. Джентльменом он был и до того, как его произвели в чин, а когда королева объявила, что «джентльмен-юнкер Роберт Ханна Вик назначается вторым лейтенантом в полк Тайнсайдских Хвостокрутов, расквартированный в Краб-Бокхаре», он разом стал и офицером и джентльменом, — а что может быть завиднее? То-то ликовали в доме Виков, и мама Вик, и все маленькие Вики пали на колени и воскурили фимиам Бобби за его доблестные свершения.
Папа Вик в свое время был комиссаром, повелевал тремя миллионами человек в округе Чхота-Балдана, ворочал большими делами на благо страны и прилагал все силы, чтобы вырастить две травинки там, где дотоле росла лишь одна. Разумеется, в тихой английской деревушке, где он был известен просто как «старый мистер Вик», никто не знал о его прошлом; забылось и то, что он имел Звезду Индии третьей степени.
Он потрепал Бобби по плечу и сказал: «Отлично, мой мальчик!»
За сим — пока шился мундир — последовала восхитительная передышка, во время которой Бобби получил внеочередной чин «кавалера» на местных теннисных кортах и чайных посиделках, где всегда была пропасть дам, и рискну утверждать, буде ему разрешили приступить к несению службы чуть позже, непременно бы влюбился — и не в одну, а в нескольких девушек. В таких тихих деревушках всегда переизбыток прелестных девушек, ибо все молодые люди покидают родину в поисках счастья.
— Индия, — сказал папа Вик, — самое подходящее для тебя место. Я оттрубил там тридцать лет, а вот, ей-ей, хоть сейчас готов туда вернуться. Если там еще не забыли Вика из Чхота-Балданы, Хвостокруты примут тебя как родного, и многие будут к тебе добры в память о нас. Мать тебе лучше может рассказать о тамошних; но твердо помни одно: держись своего полка, Бобби, держись своего полка. Ты встретишь там людей, которые будут рваться в штаб корпуса и заниматься какими угодно делами, кроме непосредственно полковых, их пример может тебя соблазнить. Так вот, постарайся укладываться в свое содержание — а тут я не поскупился; в остальном же держись строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы. За чужие векселя ручайся с оглядкой, а если тебя угораздит влюбиться в женщину двадцатью годами старше, не вздумай делиться со мной, вот и все.
Таковыми, а также многими другими столь же ценными советами папа Вик подбодрял Бобби вплоть до последней жуткой ночи в Портсмуте, когда офицерские казармы оказались переполнены противу устава, уволенные на берег матросы схватились с новобранцами, направляющимися в Индию, и бой бушевал, долго не затихая, на всем расстоянии от ворот Верфи вплоть до трущоб Лонгпорта, а тем временем фэаттонские шлюхи ворвались в порт и попортили физиономии офицерам королевы.
У Бобби Вика, на чьем веснушчатом носу красовался устрашающий синяк, в чьи обязанности входило загнать на судно отряд, который шатало и мутило с перепою, а также заботиться об удобствах не менее полусотни весьма презрительно настроенных дам, не оставалось ни минуты, чтобы предаться тоске по родине до тех пор, пока «Малабар» не пересек канал наполовину, но и тогда ему пришлось урывать время от этих возвышенных чувств для нечастой проверки караулов и частых рвот.
Хвостокруты были полком весьма взыскательным. Те, кто знал их хуже всего, говорили, что они снедаемы «спесью». Но их сдержанность и оградительные меры являлись по преимуществу защитной дипломатией. Лет этак четырнадцать назад полковой командир, взглянув в четырнадцать бестрепетных глаз семи пухлых, наливных субалтернов, которые обратились к нему с просьбой перевести их в штаб корпуса, возопил: с какой стати, о звезды, ему, строевому командиру, руководить треклятой детской для трижды треклятых сосунков, нацепляющих запрещенные уставом шпоры и тиранящих круглых олухов, командующих безмозглыми, забытыми богом туземными полками. Он был грубиян и страшилище. После чего оставшиеся позаботились (использовав кий в качестве орудия общественного мнения), чтобы на родину полетели слухи, что молодым людям, которые склонны рассматривать Хвостокрутов как ступеньку, с которой можно перескочить в штаб корпуса, предстоят многочисленные и разнообразные испытания. Но так или иначе, полк имеет такое же право на свои тайны, как женщина.
Когда Бобби прибыл из Деолали и занял свое место в рядах Хвостокрутов, ему деликатно, но твердо дали понять, что отныне полк для него отец, мать и навеки вечные венчанная жена и что под шатром небес нет преступления более ужасного, чем покрыть позором полк — полк, равного которому нет ни в стрельбе, ни в строевой подготовке, самый славный и во всех отношениях самый замечательный полк в пределах Семи Морей. Его заставили вызубрить назубок все легенды офицерского собрания от истории улыбающихся золотых божков из Летнего Пекинского дворца до истории оправленной в серебро табакерки из рога дикой козы — дара последнего П. К. (того самого, который вещал перед семью субалтернами). И каждая из этих легенд рассказывала о битвах с превосходящими силами противника, которые полк вел, не ведая страха и не рассчитывая на подкрепление; о гостеприимстве, беспредельном, как гостеприимство араба, о дружбе, бездонной, как море, и стойкой, как линия фронта, о славе, добытой нелегким путем и одной лишь славы ради, и о безоговорочной и беспрекословной преданности полку — полку, который предъявляет права на жизнь всех и каждого, отныне и во веки веков.
Неоднократно ему по долгу службы случалось иметь дело с полковым знаменем, больше всего оно напоминало подкладку шляпы каменщика, вздетую на обглоданную палку. Бобби не преклонял пред ним колен и не боготворил его, ибо это не свойственно британским субалтернам. Напротив, в то самое время, когда оно преисполняло благоговением и прочими благородными сантиментами, Бобби роптал на то, что его так тяжело тащить.
Однако самое большое счастье он испытал на рассвете того ноябрьского дня, когда, облаченный в парадную форму, шагал в рядах Хвостокрутов. За вычетом дневальных и больных, полк насчитывал одну тысячу восемьдесят человек, и Бобби чувствовал себя частью полка: разве не был он субалтерном строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы, о чем свидетельствовал грохот двух тысяч ста шестидесяти тяжелых походных сапог? Он не поменялся бы местами ни с Дейтоном из конной артиллерии, во весь опор промчавшимся мимо него в облаке пыли под выкрики «Право, лево», ни с Хоган-Йейлем из полка белых гусар, гнавшим свой эскадрон вперед, не щадя ни людей, ни подков, ни с «Клещом» Буало, который пыжился изо всех сил, дабы не посрамить своего блистательного голубого с золотом тюрбана, в то время как бенгальская кавалерия, растянувшись рысью, преследовала, словно рой ос, могутных, переваливающихся с боку на бок коней белых гусар.
Они сражались весь ясный, нежаркий день, и Бобби почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, когда вслед за громыханьем очередного залпа послышалось позвякиванье пустых гильз, выскакивающих из затворов; он знал, что настанет день — и ему доведется участвовать в настоящем деле. Учения закончились грандиозными скачками по равнине: батареи с грохотом неслись за кавалерией, к великому неудовольствию белых гусар, а Тайнсайдские Хвостокруты гоняли Сикхский полк до тех пор, пока не загнали вконец сухопарых, долговязых сикхов.
Бобби еще задолго до полудня был с ног до головы запорошен пылью, пот тек с него ручьями, но энтузиазм его не угас, а лишь нашел себе применение.
И по возвращении он сел у ног Ривира, своего «ротного», правильнее сказать, капитана роты, постигать темное и таинственное искусство управления людьми, которое составляет немалую часть воинского ремесла.
— Если у тебя нет данных, — говорил Ривир, попыхивая манилой, — тебе ни за что не освоить этой премудрости, но запомни, Бобби, самая хорошая строевая подготовка не выведет полк из пекла. Вывести его может только человек, который умеет управлять людскими тварями всяческих пород — кобелями, свиньями, баранами и так далее.
— Такими, к примеру, как Дормер, — сказал Бобби. — Его, по-моему, можно причислить к породе дураков. Он куксится, как хворая сова.
— Вот тут-то ты и ошибаешься, сынок. Дормер пока еще не дурак, просто он зверски грязный солдат, и старший по комнате вывешивает его носки всем на посмешище перед смотром ранцев. Дормер же — а он на две трети животное — забивается в угол и огрызается.
— Откуда вы все это знаете? — восхищенно спросил Бобби.
— Ротному командиру положено все знать; если он не будет знать таких вещей, он может прозевать преступление, которое назревает у него под самым носом, да что там преступление, убийство. Дормера сейчас так травят, что он вот-вот рехнется: хоть он парень и здоровый, у него не хватает ума дать отпор. Вот он и повадился надираться втихомолку. Учти, Бобби, когда объект издевок всей казармы запил или хандрит в одиночку, необходимо принять меры, чтобы его отвлечь.
— Какие еще такие меры? Нельзя же вечно нянчиться с солдатами.
— Нельзя. Солдаты живо дадут тебе понять, чтобы ты оставил их в покое. А вот поехал бы ты…
Их прервал приход старшего сержанта с бумагами; пока Ривир просматривал бланки, Бобби предался размышлениям.
— Дормер чем-нибудь занимается? — спросил Бобби небрежно, будто продолжая прерванный разговор.
— Нет, сэр. Делает машинически, что велено, — сказал сержант, питавший слабость к ученым словам. — А уж грязный он, хуже некуда, сейчас у него чуть не все жалованье идет в начет за новое обмундирование. Он с ног до головы перемазан в чешуе, сэр.
— Чешуе? Какой такой чешуе?
— Рыбной, сэр. Он целый день торчит у реки, копается в грязи, чистит эту самую рыбу мачли, прямо пальцами ее чистит.
Ривир углубился в ротные бумаги, и сержант, который на свой грубоватый манер был привязан к Бобби, продолжал:
— Он, как надерется, прямиком идет на реку, и, говорят, чем больше он под мухой, точнее сказать, нетверезый, тем лучше ему рыба идет в руки. В роте, сэр, его кличут Малохольный Рыбник.
Ривир поставил подпись на последнем бланке, и сержант удалился.
«Гнусная забава», — вздохнул Бобби про себя. А вслух сказал:
— А вас, и правда, беспокоит Дормер?
— Несколько. Понимаешь, он не настолько спятил, чтобы отправить его в госпиталь, и не настолько пьян, чтобы посадить на гауптвахту, но раз он хандрит и куксится, он, того и гляди, закусит удила. Он не выносит, когда в нем принимают участие, как-то я взял его на охоту, так он ненароком чуть не подстрелил меня.
— Я отправляюсь на рыбную ловлю, — сказал Бобби с кислой миной. — Найму в деревне лодку и с четверга до субботы спущусь вниз по реке, а этого молодчагу Дормера прихвачу с собой — если вы тут сумеете обойтись без нас обоих.
— Дубина ты стоеросовая! — сказал Ривир, но про себя поименовал Бобби куда более лестно.
И Бобби — капитаном, а рядовой Дормер — подручным капитана спустили лодку на воду в четверг утром; рядовой сел на нос, субалтерн — за руль. Рядовой смущенно поглядывал на субалтерна; тот, понимая чувства рядового, не трогал его.
По прошествии шести часов Дормер перешел на корму, отдал честь и сказал:
— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вам приходилось бывать на Дэрхемском канале?
— Нет, — сказал Бобби Вик. — Садитесь, перекусим.
Завтрак прошел в молчании. Когда спустились сумерки, рядового Дормера вдруг прорвало, и он сказал, ни к кому не обращаясь:
— Точь-в-точь такой же выдался вечерок, когда я был на Дэрхемском канале, тому аккурат год стукнет через неделю, я еще ногами болтал в воде. — Он закурил и не проронил больше ни слова, пока не пришло время ложиться спать.
Колдовские краски зари залили серую гладь реки пурпуром, золотом, перламутром; казалось, неуклюжая лодка медленно прокладывает путь по великолепию новых, невиданно прекрасных небес.
Рядовой Дормер высунул голову из-под одеяла и загляделся на окружающую его красоту.
— Ах ты, лопни мои глаза! — сказал он испуганным шепотом. — Ну, право слово, волшебный фонарь, да и только! — Весь остаток дня он не проронил ни звука, зато ухитрился, чистя рыбу, перемазаться кровью и чешуей.
В субботу вечером они вернулись. Начиная с полудня Дормер пытался побороть собственное косноязычие. Дар речи он обрел, лишь когда принялись выгружать удочки и багаж.
— Не сердитесь, сэр, — сказал он. — Но вы не побрезгуете пожать мне руку, сэр?
— Конечно, нет, — сказал Бобби и в подтверждение своих слов пожал протянутую ему руку. После чего Дормер отправился в казармы, а Бобби — в офицерское собрание.
— Видно, ему всего-то и нужно было, чтобы его оставили в покое, ну и еще немного поудить, — сказал Бобби. — Но, бог ты мой, до чего он грязный! Вам доводилось видеть, как он чистит эту самую рыбу мачли пальцами?..
— Как бы там ни было, — сказал Ривир через три недели, — он теперь изо всех сил старается содержать себя в чистоте.
Когда весна пришла к концу, Бобби не остался в стороне от всеобщей потасовки за право провести лето в горах и, к своему изумлению и восторгу, получил три месяца отпуска.
— Такой славный малый, что лучше и желать нельзя, — похвалил Бобби Ривир, его ротный.
— Лучший из всех новичков, — сказал начальник штаба полковнику. — Оставьте здесь этого желторотого сачка Поркисса, и пусть Ривир покажет ему, где раки зимуют.
И Бобби, ликуя, отбыл в Симлу-Пахар, прихватив с собой жестяной сундук, набитый великолепными нарядами.
— Это сын Вика, старины Вика из Чхота-Балданы? Пригласи его на обед, дорогая, — говорили почтенные мужи.
— Какой милый мальчик! — говорили дамы и девицы.
— Отличное местечко Симла. По-о-отрясающе! — сказал Бобби Вик и по этому случаю заказал себе новые плисовые бриджи.
…«Дела наши плохи, — писал Ривир Бобби Вику, когда второй месяц отпуска подходил к концу. — С тех пор как ты уехал, полк треплет лихорадка, и нешуточная: двести человек в госпитале и чуть не сотня на гауптвахте — запили в надежде отогнать лихорадку. На плацу набирается от силы пятнадцать шеренг. В окрестных деревнях так свирепствует эпидемия, что даже думать об этом страшно, впрочем, меня замучила потница, и я готов хоть сейчас в петлю. Ходят слухи, что ты покорил сердце некоей мисс Хэверли, правда? Надеюсь, это не серьезно? Ты еще слишком молод, чтобы повесить такой жернов себе на шею, к тому же, если ты предпримешь нечто подобное, полковник в два счета вытребует тебя из Симлы».
Однако из Симлы Бобби вызвал не полковник, а куда более почтенное начальство. Эпидемия разрасталась, базар отнесли подальше от военного городка, а затем разнесся слух, что Хвостокруты получили приказ выступить из городка и стать лагерем. Телеграф домчал эту весть до горных курортов: «Холера — Отпуска приостановлены — Офицеры отзываются в полки». Прощайте, белые перчатки в жестяных коробках, намечавшиеся верховые прогулки, балы и пикники, любовь, оставшаяся в намеке, долги, оставшиеся неоплаченными! Не ропща и не прекословя, нещадно погоняя своих коней, мчались субалтерны — кто на двуколке, кто на пони — к своим полкам и батареям, так, будто спешили на собственные свадьбы.
Бобби получил приказ, когда он возвращался с бала в охотничьем доме вице-короля, где… впрочем, одной лишь мисс Хэверли ведомо, что говорил Бобби и на сколько вальсов он претендовал на следующем балу. Рассвет застал Бобби в конторе, где он под проливным дождем нанимал двуколку; вихревая мелодия последнего вальса все еще звучала в его ушах, а голова кружилась, но причиной тому было не вино и не вальс.
— Молодчик! — прорвался сквозь пелену дождя голос Дейтона из конной артиллерии. — Как тебе удалось достать двуколку? Я еду с тобой. Охо-хо! Ну и перебрал я вчера. Правда, я-то до конца не досидел. Говорят, на батарее дела плохи. — И он уныло пропел:
Брось, все брось — чего уж тут!
Брось отару в гиблом месте,
Брось непогребенным труп,
Брось у алтаря невесту.
— Но, ей-ей, тут дело пахнет не невестой, а трупом. Прыгай, Бобби.
На платформе в Умбалле группа офицеров в ожидании поезда обсуждала последние новости из пораженного эпидемией военного городка; только тут до Бобби дошло, как плохи дела у Хвостокрутов.
— Они получили приказ выступить из городка и стать лагерем, — сказал пожилой майор, отозванный от ломберных столов в Массури в пораженный эпидемией туземный полк, — и им пришлось везти двести десять человек в повозках. Только лихорадкой больны двести десять человек, да и у остальных вид неважный — глаза больные, ни дать ни взять — привидения. Даже Мадрасский полк их шутя разбил бы наголову.
— Но, когда я уезжал, все были здоровехоньки, — сказал Бобби.
— Надо надеяться, что, когда вы вернетесь, они от радости снова станут здоровехоньки, — жестко сказал майор.
Пока поезд мчался по раскисшим полям Доаба, Бобби стоял, прижав лоб к залитому дождем оконному стеклу, и молился за здоровье Тайнсайдских Хвостокрутов. Наини Таль, не медля ни минуты, выслала всех до одного офицеров, взмыленные пони Дальхузироуд, чуть не падая, вошли в Патханкот, а тем временем калькуттская почта подобрала в затянутом облаками Дарджилинге последнего отставшего воина маленькой армии, которой предстояло дать бой, где победителя не ждали ни медали, ни почести, против такого врага, как «зараза, опустошающая в полдень».
Когда очередной офицер являлся к нему доложить о прибытии, он говорил: «Да, плохи наши дела», — и не мешкая возвращался к своим занятиям, так как все без исключения полки и батареи городка лежали по палаткам, и зараза стояла у их изголовья.
Бобби под проливным дождем еле добрался до времянки, где разместили офицерское собрание, и Ривир, увидев его неказистую, пышущую здоровьем физиономию, от радости чуть не кинулся ему на шею.
— Постарайся развлечь и занять их, — сказал Ривир. — Не успели заболеть первые два, как остальные, бедолаги, запили с перепугу, а с тех пор никаких изменений к лучшему не наблюдается. Ох, и рад же я, Бобби, что ты вернулся! Что до Поркисса… даже говорить не хочется.
Из артиллерийского лагеря к ним прибыл Дейтон, разделил с ними скучный обед в офицерском собрании и усугубил общее уныние, описав со слезой судьбу своей любимой батареи. Поркисс настолько забылся, что посмел утверждать, будто от офицеров все равно нет никакого толку и что разумнее всего было бы отправить полк в госпиталь, «и пусть за ними там ходят доктора». Поркисс от страха совсем потерял голову, не привела его в чувство и отповедь Ривира:
— Если вы придерживаетесь такого мнения, тогда чем скорее вы отсюда уберетесь, тем лучше. Любая частная школа может прислать нам полсотню отличных малых взамен вас, но полк, Поркисс, делают время, деньги и упорный труд. Вот представьте-ка на минуту, что это вы заболели и в палатки нам пришлось переселиться из-за вас?
Вследствие чего у Поркисса пошел по коже мороз, прогулка под дождем отнюдь не улучшила его состояния, и двумя днями позже он отошел из нашего мира в тот, где, как мы наивно полагаем, к плотским слабостям питают снисхождение. Полковой старшина, когда ему сообщили эту новость, окинул усталым взглядом сержантскую столовую.
— Господь прибрал худшего из них, — сказал он. — Когда он приберет лучшего, тогда, даст бог, эта напасть кончится.
Сержанты помолчали, потом один из них сказал:
— Только б не его! — И все поняли, о ком думал Трэвис.
Бобби Вик носился по палаткам своей роты, подбодрял, отчитывал, мягко, как того требует устав, подтрунивал над слабыми духом, а чуть прояснялось, выгонял здоровых греться под едва пробивающееся сквозь водяные испарения лучи солнца, уговаривал их не вешать носа, ибо близится конец невзгодам, скакал на своем мышастом пони по окрестностям и загонял обратно в лагерь солдат, которые по извращенности, присущей британским солдатам, вечно забредали в зараженные деревни или утоляли жажду из затопленных дождями болот, подбодрял руганью впавших в панику и не раз ходил за теми умирающими, у которых не завелось друзей, солдатами без «земляков»; устраивал при помощи банджо и жженой пробки любительские концерты, на которых полковые таланты могли блеснуть во всей красе, словом, как он сам говорил, был «всякой бочке затычкой».
— Ты стоишь едва ли не десятка таких, как мы, Бобби, — сказал как-то ротный в приступе восторга. — Как только тебя на все хватает?
Бобби не ответил, но, загляни Ривир в нагрудный карман его мундира, он увидел бы пачку писем, в которых, по всей вероятности, Бобби черпал силы. Письма эти приходили через день. Что касается орфографии, письма могли вызвать нарекание, зато выраженные в них чувства явно были на высоте, ибо по получении очередного письма глаза Бобби начинали сиять, и он на какое-то время впадал в сладостное забытье, вслед за чем, мотнув коротко остриженной головой, вновь окунался в работу.
Но чем он завоевал сердца самых отчаянных сорвиголов (а в рядах Хвостокрутов насчитывалось немало молодцов с золотым сердцем, но буйным нравом), не мог понять ни ротный, ни полковой командир, который знал от священника, что в госпитальных палатах на Бобби куда больший спрос, чем на его преподобие Джона Эмари.
— Похоже, что солдаты к тебе привязаны. Ты часто бываешь в госпиталях? — сказал полковник, он в этот день, как обычно, обходил госпиталь, приказывая солдатам выздоравливать как можно скорее — с суровостью, которая не скрывала его глубокой скорби.
— Случается, сэр, — сказал Бобби.
— Я бы на твоем месте ходил туда пореже. Хоть и говорят, что эта зараза не прилипчива, не стоит рисковать зря. Знаешь ли, мы не можем себе позволить тебя потерять.
А через шесть дней почтальон, обвешанный тяжелыми сумками, едва дотащился до лагеря по непролазной грязи: дождь лил как из ведра. Бобби получил письмо, унес его к себе в палатку, и едва программа очередного любительского концерта была успешно завершена, уселся за ответ. Целый час его неуклюжая рука прилежно водила пером по бумаге, а там, где чувства переполняли его, Бобби высовывал язык и сопел. У него не было привычки писать письма.
— Извиняюсь за беспокойство, сэр, — сказали в дверях. — Только Дормера прихватило, его свезли в госпиталь.
— Пропади он пропадом, твой Дормер, и ты вместе с ним, — сказал Бобби, промокая неоконченное письмо. — Передай ему, я приду утром.
— Его страсть как прихватило, сэр, — запинался голос. Грубые сапоги нерешительно чавкали по грязи.
— Ну? — нетерпеливо спросил Бобби.
— Извините великодушно, сэр, если я позволю себе лишнее, только он говорит, если вы с ним посидите, ему, мол, полегчает, а то…
— Вот тебе на! Заходи, не стой под дождем, подожди, пока я кончу свои дела. Ох, и надоели же вы мне! Вот бренди. Выпей. Тебе это сейчас нужно. А теперь держись за стремя, и если не будешь поспевать за мной, скажи.
Санитар, не моргнув глазом, хлопнул стаканчик горячительного и, подкрепившись таким образом, прошлепал по грязи всю дорогу до госпитальной палатки вровень с оскользающимся, заляпанным грязью и крайне раздосадованным пони.
Рядового Дормера и впрямь «здорово прихватило». Он был на грани кризиса и являл собой жалкое зрелище.
— Что это ты забрал себе в голову, Дормер? — сказал Бобби, нагибаясь к рядовому. — Нет, нет, не вздумай умирать. Мы еще с тобой съездим разок-другой на рыбную ловлю.
Синие губы раздвинулись, издав еле слышный шепот:
— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вы не побрезгуете подержать меня за руку.
Бобби присел на край кровати. Ледяная рука вцепилась в него клещами, вдавив надетое на мизинец маленькое женское колечко. Бобби, стиснув зубы, приготовился ждать. С брюк его капала вода.
Прошел час, Дормер не ослабил хватки, не изменилось и выражение его искаженного болью лица. Бобби с незаурядной ловкостью исхитрился закурить манилу левой рукой (его правая рука онемела до самого локтя) и приготовился к мучительной ночи.
Когда рассвело, изрядно побледневший Бобби все еще сидел на койке Дормера, а доктор стоял в дверях и осыпал его словами, не предназначенными для печати.
— Ты что, всю ночь здесь проторчал, остолоп? — сказал доктор.
— Более или менее, — сказал Бобби покаянно. — Он ко мне примерз.
Тут Дормер, лязгнув челюстями, закрыл рот, повернул голову и вздохнул. Пальцы его разжались, и рука Бобби, выпущенная из тисков, бессильно упала.
— Он выкарабкается, — сказал доктор тихо. — Похоже, он всю ночь висел между жизнью и смертью. — А тебя, видно, надо поздравить с удачным исцелением.
— Ерунда! — сказал Бобби. — Я думал, он давно испустил дух… просто как-то не хотелось отнимать у него руки. Разотрите-ка меня, вот так, спасибо! Ох, и хватка же у этого парня! Я промерз до костей. — И он, весь дрожа, вышел из палатки.
Рядовому Дормеру разрешили отпраздновать победу над смертью сильными возлияниями. А через четыре дня он сидел на койке и просветленно объяснял другим больным:
— Уж очень мне невтерпеж с ним поговорить — а то как же…
Бобби тем временем читал очередное письмо (никто в лагере не получал писем так часто, как он) и собирался было написать в ответ, что эпидемия затухает и, самое большее, через неделю-другую отступит окончательно. Он не хотел писать, что холод от руки больного просочился до того самого сердца, которое так умело любить. Зато он хотел вложить в письмо разукрашенную программу предстоящего любительского концерта, которым он немало гордился. Хотел он написать и о многом другом, что нас не касается, и непременно написал бы, если б не легкий жар и головная боль, по причине которых он просидел весь вечер в офицерском собрании вялый и ко всему безучастный.
— Ты слишком надрываешься, Бобби, — сказал ему ротный. — Мог бы передоверить часть работы нам. Ты так надсаживаешься, будто должен работать за нас всех. Передохни немного.
— Ладно, — сказал Бобби. — Я и впрямь несколько устал.
Ривир озабоченно посмотрел на него, но ничего не сказал.
В эту ночь по лагерю мелькали фонари; ходили слухи, которые подняли людей с постелей и заставили сгрудиться у дверей палаток. Чавкали по грязи босые ноги носильщиков, раздавался стремительный топот копыт.
— Что случилось? — спросили двадцать палаток, и по двадцати палаткам разнесся ответ:
— Вик захворал.
Когда эту новость сообщили Ривиру, он застонал:
— Заболей кто угодно, кроме Бобби, я бы смирился. Прав оказался полковой старшина.
— Нет, я не поддамся, — задыхаясь, шептал Бобби, когда его поднимали с носилок. — Нет, я не поддамся. — И добавил с глубочайшей уверенностью: — Понимаете, мне никак нельзя.
— Конечно, нет, если это только в моих силах, — сказал старший врач, который тотчас примчался из офицерского собрания, бросив на середине обед.
Он бок о бок с полковым врачом отвоевывал у смерти Бобби Вика. В разгар хлопот их прервало появление обросшего призрака в небесно-сером халате; призрак глядел на постель и причитал: «Ах ты, господи! Неужто это он!» — до тех пор, пока разгневанный санитар не прогнал его прочь.
Если б уход врачей и жажда жизни могли помочь, Бобби был бы спасен. Он и так целых три дня сопротивлялся смерти, отчего нахмуренный лоб старшего врача разгладился.
— Мы его спасем, — сказал он, и полковой врач, который хоть и приравнивался по рангу к капитану, был юн душой, выскочил из палатки на свет божий и, не помня себя от радости, заплясал по грязи.
— Нет, я не поддамся, — стойко шептал Бобби Вик на исходе третьего дня.
— Молодцом! — сказал старший врач. — Так держать, Бобби!
А вечером серые тени сгустились вокруг губ Бобби, и он в изнеможении отвернулся к стене. Старший врач свел брови.
— Я жутко устал, — сказал Бобби чуть слышно. — Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я… больше не… хочу их… Оставьте меня.
Жажда жизни покинула Бобби, и он охотно отдался медленно накатывавшей на него смертной волне.
— Мы напрасно стараемся, — сказал старший врач. — Он не хочет жить. Бедный мальчик, он ищет смерти. — И врач высморкался.
А за полмили от госпиталя полковой оркестр исполнял увертюру, начинался концерт: солдат уверили, что Бобби вне опасности. До Бобби донеслось громыханье медных тарелок и вой рожков.
Я радость знал, я знал печаль
И в горе не сробею.
Не любишь. Что ж… Скажи: прощай
И уходи скорее.
По лицу юноши промелькнуло выражение крайней досады, он попытался тряхнуть головой.
— В чем дело, Бобби? — нагнулся к нему старший врач.
— Только не этот вальс, — забормотал Бобби. — Только не наш… тот наш с ней… Мама, милая…
Произнеся эту загадочную фразу, он погрузился в забытье, а на следующее утро, так и не приходя в себя, умер.
Ривир, у которого веки стали совсем красными, а нос побелел, зашел в палатку Бобби — написать папе Вику письмо — письмо, которое неминуемо пригнет к земле седую голову бывшего комиссара Чхота-Балданы, ибо горя горше ему не пришлось испытать за всю его жизнь. Немногочисленные бумаги Бобби в беспорядке валялись по столу, среди них нашлось недописанное письмо. Оно обрывалось на предложении: «Так что, как видишь, любимая, опасаться нечего: пока я знаю, что ты любишь меня, а я тебя, со мной ничего не случится».
Ривир провел в палатке час. Когда он вышел, глаза его покраснели еще пуще.
* * *
Рядовой Конклин, примостившись на опрокинутом ведре, слушал музыку, которую ему доводилось нередко слышать в последнее время. Рядовой Конклин только что пошел на поправку и требовал особо бережного к себе отношения.
— Ишь ты! — сказал рядовой Конклин. — Еще один офицеришка окочурился.
В тот же миг он слетел с ведра, а из глаз его посыпался сноп искр.
Высоченный детина в небесно-сером халате разглядывал его с нескрываемым омерзением.
— Бесстыжий ты, Конки! Офицеришка? Офицеришка окочурился, говоришь? Я тебя научу, как его обзывать. Ангел! Всамделишный ангел окочурился! Вот как!
Санитар счел кару настолько справедливой, что не отправил рядового Дормера в постель.
МЭ-Э, ПАРШИВАЯ ОВЦА…
Мэ-э, паршивая овца.
Дай хоть шерсти клок!
Да, сэр, да, сэр, — три мешка,
Полон каждый мешок.
Хозяйке — мешок, и хозяину тоже,
И кукиш — мальчишке: быть плаксой негоже.
Взгляни, как публика грустит,
Покуда Панч за сценой скрыт.
Но раздается голосок —
Он хрипловат и так высок.
От всей души смеются люди —
На ширме появилась Джуди.
МЕШОК ПЕРВЫЙ
«Когда я в отчем доме жил, то мне жилось получше».
Панча укладывали сообща — айя, хамал и Мита, рослый, молодой сурти в красном с золотом тюрбане. Джуди давно подоткнули одеяльце, и она сонно посапывала за пологом от москитов. Панчу же позволили не ложиться до после обеда. Вот уже дней десять поблажки так и сыпались на Панча, и взрослые, населяющие его мир, смотрели добрей на его замыслы и свершения, по преимуществу опустошительные, точно смерч. Он сел на край кровати и независимо поболтал босыми ногами.
— Панч—баба, бай-бай? — с надеждой сказала айя.
— Не-а, — сказал Панч. — Панч—баба хочет сказку, как жену раджи превратили в тигрицу. Ты, Мита, рассказывай, а хамал пускай спрячется за дверью и будет рычать по-тигриному в страшных местах.
— А не разбудим Джуди—баба? — сказала айя.
— Джуди—баба и так разбудилась, — пропищал голосишко из-за полога. — Жила-была в Дели жена раджи. Говори дальше, Мита. — И не успел Мита начать, как она вновь уснула крепким сном.
Никогда еще эта сказка не доставалась Панчу ценой столь малых усилий. Тут было над чем призадуматься. Да и хамал рычал по-тигриному на двадцать разных голосов…
— Стой! — повелительно сказал Панч. — А что же папа не идет сказать кого-я-сейчас-отшлепаю?
— Панч—баба уезжает, — сказала айя. — Еще неделя, и некому будет больше дергать меня за волосы. — Она тихонько вздохнула, ибо очень дорог был ее сердцу хозяйский мальчик.
— На поезде, да? — сказал Панч, становясь ногами на кровать. — В Гхаты и по горам, прямо в Насик, где поселилась тигрица, бывшая жена раджи?
— Нет, маленький сахиб, — сказал Мита и посадил его себе на плечо. — В этом году — не в Насик. На берег моря, где так хорошо швырять в воду кокосовые орехи, а оттуда — за море на большом корабле. Возьмете Миту с собой в Белайт?
— Всех возьму, — объявил Панч, высоко вознесенный сильными руками Миты. — Миту, айю, хамала, Бхини-который-смотрит-за-садом и Салам-капитан—сахиба, заклинателя змей.
— Велика милость сахиба, — сказал Мита, и не было в его голосе усмешки. Он уложил маленького человека в постель, а айя, присев в лунном квадрате у порога, принялась убаюкивать его бормотанием, нескончаемым и певучим, как литания в парельской католической церкви. Панч свернулся клубочком и заснул.
Утром Джуди подняла крик, потому что в детскую забралась крыса, и замечательная новость вылетела у Панча из головы. Хотя не так уж важно, что он ей не сказал, ведь ей шел всего четвертый год, ей было все равно не понять. Зато Панчу сравнялось пять лет, и он знал, что в Англию ехать куда интересней, чем в Насик.
И вот продали карету и продали пианино, оголились комнаты, меньше стало посуды, когда садились за стол, и папа с мамой подолгу совещались, разбирая пачку конвертов с роклингтонским штемпелем.
— Хуже всего, что ни в чем нет твердой уверенности, — поглаживая усы, говорил папа. — Письма-то, вообще говоря, производят самое приятное впечатление, условия тоже вполне приемлемы…
Хуже всего, что дети будут расти без меня, думала мама, хотя вслух так не говорила.
— Мы не одни — сотни в таком же положении, — с горечью говорил папа. — Ничего, милая, пройдет пять лет, и ты опять поедешь домой.
— Панчу тогда будет десять, Джуди — восемь. Ох, как долго, как страшно долго будет тянуться время! И потом, их придется оставить на чужих людей.
— Панч у нас человек веселый. Такой сыщет себе друзей повсюду.
— А моя Джу — ну как ее не полюбить?
Поздно вечером они стояли у кроваток в детской, и мама, по-моему, тихо плакала. Когда папа ушел, она опустилась на колени возле кроватки Джуди. Айя увидела и помолилась о том, чтобы никогда не отвратилась от мэм-сахиб любовь ее детей и не досталась чужой.
Мамина же молитва получилась немножко непоследовательной. Общий смысл у нее был такой: «Пусть чужие полюбят моих детей, пусть обращаются с ними, как обращалась бы я сама, но пусть одна я на веки вечные сохраню их любовь и доверие. Аминь». Панч почесался во сне, Джуди немножко похныкала. Вот и весь ответ на молитву, а назавтра все отправились к морю, и был скандал в гавани Аполло Бандер, когда Панч обнаружил, что Мите с ними нельзя, а Джуди узнала, что остается на берегу айя. Правда, Мита и айя еще не вытерли слезы, как на большом пароходе Пиренейско-Восточной компании открылись и заворожили Панча тысячи увлекательнейших предметов — таких, как канаты, блоки, паровые трубы и тому подобное.
— Возвращайтесь, Панч—баба, — сказала айя.
— Возвращайтесь, станете бурра-сахибом, — сказал Мита.
— Ладно, — сказал Панч, и отец взял его на руки, чтобы он помахал им на прощанье. — Ладно, вернусь и буду бурра сахиб баха дур.
В первый же вечер Панч потребовал, чтобы его немедленно высадили в Англии, которая, по его расчетам, должна была находиться где-то под боком. На другой день задувал свежий ветерок, и Панч чувствовал себя совсем неважно.
— Назад в Бомбей поеду по твердой дороге, — сказал он, когда ему стало полегче. — В карете—гхарри. Этот пароход салютно не умеет себя вести.
Его ободрил боцман-швед, и чем они дальше плыли, тем больше менялись к лучшему первоначальные суждения Панча. Столько нужно было разглядеть, потрогать, обо всем расспросить, что почти изгладились из памяти и айя, и Мита, и хамал, и лишь с трудом удавалось припомнить отдельные слова на хиндустани, некогда втором его родном языке.
С Джуди дела обстояли и того хуже. За день перед тем, как им прибыть в Саутгемптон, мама спросила, хочется ли ей снова увидеть айю. Джуди устремила голубые глазки к просторам моря, без остатка поглотившего ее крошечное прошлое, и сказала:
— Айя! Какое такое айя?
Мама расплакалась над нею, а Панч изумился. Тогда-то и услышал он впервые горячую мамину мольбу, чтобы никогда он не давал Джуди забывать, кто такая мама. Уразуметь такое было трудно, поскольку Джуди была еще маленькая, маленькая до смешного, а мама весь месяц каждый вечер приходила к ним в каюту петь ей и Панчу на сон грядущий не очень понятную песенку, прозванную им «Сын, покров мой».[266] Несмотря на это, он честно старался исполнить возложенную на него обязанность и, как только за мамой закрывалась дверь, говорил Джуди:
— Джу, ты маму не забыла?
— Нискоечки, — говорила Джуди.
— И никогда в жизни не забывай, а то мне рыжий капитан-сахиб наделал голубейчиков из бумаги, а я тебе не дам.
И Джуди добросовестно обещала, что не забудет маму «никогда на свете».
Много, очень много раз обращены были к Панчу слова этого маминого заклинания, и с настойчивостью, нагонявшей на мальчика оторопь, то же самое твердил ему папа.
— Ты непременно поскорее выучись писать, Панч, — сказал как-то папа. — Тогда мы в Бомбее сможем получать от тебя письма.
— Я лучше буду заходить к тебе в комнату, — ответил Панч, и папа поперхнулся.
Папе с мамой в эти дни ничего не стоило поперхнуться. Примется Панч распекать Джуди за забывчивость — и готово, поперхнулись. Начнет, развалясь на диване в меблированной саутгемптонской квартире, расписывать в розовых и золотых тонах свое будущее — опять поперхнулись, а стоит Джуди сложить губки для поцелуя — тем более.
Много дней странствовали эти четверо по белу свету, и Панчу некому было отдавать приказания, и ничего было не поделать, что так отчаянно мала Джуди, и все тянуло поперхнуться серьезных, озабоченных папу и маму.
— И где только наша карета—гхарри, — спрашивал Панч, когда ему вконец опротивело тряское сооружение на четырех колесах, увенчанное горой тюков и чемоданов. — Ну, где? Эта штуковина так тараторит, что мне словечка не вставить. Где же наша карета-гхарри? В Банд-станде, когда еще мы не уезжали, в нее сел Инверарити—сахиб и сидит. Я спрашиваю, зачем это, а он говорит, она моя. Я говорю ему — он хороший, Инверарити—сахиб, — я подарю вам ее, только вам, наверное, слабо продеть ноги в лопоухие петли у окошек? Он говорит слабо и смеется. А мне — не слабо. Я и в эти продену. Вот, глядите! Ой, а мама опять плачет! Ну, откуда я знал. Мне не говорили, что так нельзя.
Панч выпростал ноги из петель наемной кареты, дверца распахнулась, и вместе с каскадом свертков он выпал на землю у ворот безрадостного на вид особнячка — дощечка на воротах гласила: «Даун-лодж». Панч поднялся с земли и обвел дом неодобрительным взглядом. Даун-лодж стоял у песчаной дороги, и ветер тронул холодными пальцами голые до колен ноги мальчика.
— Поехали отсюда, — сказал Панч. — Здесь некрасиво.
Но мама, папа и Джуди уже вышли из кареты, и все вещи уже вносили в дом. На пороге стояла женщина в черном, она широко растянула в улыбке растресканные, сухие губы. За ней стоял мужчина, большой, сухопарый, седой, хромой на одну ногу, за ним — черный, елейной наружности малый лет двенадцати. Панч оглядел троицу и бесстрашно шагнул вперед, как привык делать в Бомбее, когда приходили гости, а он играл на веранде.
— Здравствуйте, — сказал он. — Я — Панч. — Но все они смотрели на вещи — то есть все, кроме седого, тот поздоровался с Панчем за руку и сказал, что он «бравый малец». Поднялась беготня, со стуком ставили на пол дорожные сундуки, и Панч свернулся на диване в гостиной и стал обдумывать положение вещей.
— Не нравятся мне эти люди, — сказал Панч. — Но это ничего. Мы скоро уедем. Мы всегда отовсюду скоро уезжаем. Хорошо бы сразу назад в Бомбей.
Однако его желание не сбылось. Шесть дней мама плакала, а в промежутках показывала женщине в черном всю одежду Панча — непростительная, с точки зрения Панча, бесцеремонность. Впрочем, может быть, это новая белая айя, думал Панч.
— Ее велят звать тетя, а не роза, — по секрету рассказывал он Джуди, — а она меня не зовет сахиб. Просто Панч, и все. И так видно, что не роза, но что значит тетя?
Джуди не знала. Они с Панчем и не слыхивали, что это за зверь такой — тетя. В их мироздании был папа и была мама, они все знали, все позволяли и всех любили — даже Панча, когда ему в Бомбее по пятницам стригли ногти, и он тут же бежал в сад и наскребал себе под них земли, а то пальцам «чересчур ново на концах», как объяснял он меж двумя шлепками шлепанцем вконец потерявшему терпение отцу.
Повинуясь смутному чутью, Панч предпочитал при женщине в черном и черном малом держаться поближе к родителям. Они не нравились ему. Ему был по душе седой, который изъявил желание именоваться «Дядягарри». Встречаясь, они обменивались кивками, а один раз седой показал ему кораблик, на котором, как на взаправдашном корабле, поднимались и опускались паруса.
— Это модель «Бриза» — малютки «Бриза», который был один незащищен в тот день под Наварином,[267] — последние слова седой промолвил нараспев и впал в задумчивость. — Вот будем ходить вдвоем гулять, Панч, и я тебе расскажу про Наварин, только кораблик трогать нельзя, ведь это «Бриз».
Задолго до того, как состоялась их совместная, первая из многих, прогулка, Панча и Джуди студеным февральским утром подняли на рассвете с постели прощаться — с кем бы вы думали? — с папой и мамой, которые на этот раз плакали оба. Панч никак не мог окончательно проснуться, а Джуди капризничала.
— Не забывайте нас, — молила мама. — Ох, маленький сын мой, не забывай нас и смотри, чтобы Джуди тоже помнила.
— Я Джуди и так говорил, чтобы помнила, — сказал Панч, стараясь увернуться от отцовской бороды, щекочущей ему шею. — Тыщу раз говорил — сорок одиннадцать тыщ. Но Джу такая маленькая — совсем еще маленький ребеночек, правда?
— Правда, — сказал папа. — Совсем ребеночек, и ты с ней должен хорошо обращаться и выучиться поскорей писать, и… и…
Панч опять оказался в постели. Джуди сладко спала, внизу загромыхала карета. Папа с мамой уехали. Не в Насик, Насик за морем. Наверняка куда-нибудь поближе, и — опять-таки наверняка — они вернутся. Возвращались же они, когда бывали в гостях, возвратился же папа, когда уезжал с мамой в какие-то «Снега»; а Панч и Джуди оставались у миссис Инверарити в Марин-лайнз.[268] Значит, они и теперь обязательно приедут назад. И Панч уснул, а когда проснулся, было настоящее утро, и черный малый встретил его сообщением, что папа и мама уехали в Бомбей, а их с Джуди «насовсем» оставили в Даун-лодже. Тетя, а не роза, в ответ на слезную просьбу подтвердить, что это не так, сказала, что Гарри говорит правду, а вот Панчу не мешало бы перед тем, как ложиться спать, аккуратно складывать снятые вещи. Панч ушел и залился горючими слезами, а с ним — Джуди, ибо в ее белокурой головке, его стараниями, уже забрезжило представление о том, что такое разлука.
Когда взрослому человеку случится вдруг узнать, что он презрен провидением, оставлен богом и без участия, поддержки, сострадания брошен один в неведомом и чуждом ему мире, его скорее всего охватит отчаяние, и он, ища забвенья, быть может, погрязнет в пороке или начнет писать мемуары, а нет, так прибегнет к столь же драматическому, но еще более действенному средству — покончит с собой. От ребенка в таких же точно, сколько дано ему судить, обстоятельствах трудно ждать, что он пошлет проклятье небесам и покончит счеты с жизнью. Он просто будет реветь благим матом, покуда не покраснеет нос, не распухнут глаза, не разболится голова. Панч и Джуди, ничем того не заслужив, утратили все, что до сей поры было их вселенной. Они сидели в передней и плакали, а на них, стоя поодаль, глазел черный малый.
Не принесла утешения модель корабля, хотя седой уверял, что Панчу разрешается сколько душе угодно поднимать и спускать паруса, не помогло и обещание, что Джуди будет открыт свободный доступ на кухню. Они хотели к папе и маме, а папа и мама уехали за море, в Бомбей, и ничем не унять было горя, пока ему сам собой не вышел срок.
К тому времени, как слезы иссякли, все притихло в доме. Тетя, а не роза, решила не трогать детей, пока «не выплачутся вволю», малый ушел в школу. Панч приподнял с пола голову и горестно хлюпнул носом. Джуди одолевал сон. За три коротеньких года жизни она не научилась сносить беду, глядя ей прямо в лицо. В отдаленье раздавался глухой гул — мерные, тяжкие удары. Панчу этот звук был знаком по Бомбею в сезон муссонов. То было море — море, которое необходимо переплыть всякому, кто хочет добраться до Бомбея.
— Живей, Джу! — вскричал он. — Здесь рядом море. Его отсюда слышно. Слушай! Ведь они туда поехали. Может быть, мы их догоним, если не будем зевать. Они без нас и не собирались никуда. Просто забыли.
— Ну да, — сказала Джуди. — Просто забыли. Бежим к мою.
Дверь из передней стояла открытой, садовая калитка — тоже.
— Очень тут все далеко, — сказал Панч, опасливо выглянув на дорогу, — мы потеряемся, но будь покойна, уж я кого-нибудь найду и велю, чтобы проводили домой — в Бомбее сколько раз так бывало.
Он взял Джуди за руку, и с непокрытой головой они припустились в ту сторону, откуда раздавался шум моря. Даун-лодж стоял почти последним в ряду домов-новостроек, который, обегая беспорядочные нагромождения кирпича, вел на пустошь, где иногда становились табором цыгане и проводила учения роклингтонская крепостная артиллерия. Встречные попадались редко и, вероятно, принимали Панча и Джуди за детишек местной солдатни, которым не в диковинку было забираться в любую даль. Полчаса топали вперед детские слабые ноги — по пустоши, по картофельному полю, по песчаной дюне.
— Ой, как я устала, — сказала Джуди, — и мама будет сердиться.
— Мама никогда не сердится. Наверно, стоит и ждет у моря, а папа берет билеты. Сейчас мы их найдем и поедем вместе. Джу, ты не садись на землю, нельзя. Еще чуть-чуть, и мы выйдем к морю. Да не садись ты, Джу, а то как наподдам!
Они взобрались на вторую дюну и вышли к большому серому морю. Был час отлива, и по берегу улепетывали врассыпную сотни крабов, но мамы с папой не было и следа, и даже парохода не было на море — ничего, только грязь да песок на многие мили.
Здесь и наткнулся на них случайно «Дядягарри» — зареванный Панч мужественно пытался развлечь Джуди, показывая ей «бояку-краба», а Джуди, обливаясь слезами, взывала к безжалостному горизонту:
— Мама, мама! — И снова: — Мама!
МЕШОК ВТОРОЙ
О, этот мир — какой измерить мерой
Ограбленные души и умы:
Не верим, оттого что жили верой,
Не ждем, затем что чуда ждали мы.
Пока что — ни слова о Паршивой овце. Она явилась позже, и обязана своим появлением в первую очередь черному малому, Гарри.
Джуди — ну как было не полюбить малышку Джуди — получила по особому разрешению свободный доступ на кухню, а оттуда — прямехонько в сердце тети Анни-Розы. Гарри был у тети Анни-Розы единственный сын, а Панч оказался в доме сбоку припека. Для него и нехитрых его занятий места отведено не было, а валяться по диванам и излагать свои соображения насчет того, как устроен этот мир и чего лично он, Панч, ожидает от будущего, ему запрещали. Валяются одни лентяи, и нечего протирать обивку, и нехорошо, когда маленькие столько разговаривают. Пусть лучше слушают, что им говорят старшие, так как говорится это в назидание им и во благо. Полновластный владыка домашней империи в Бомбее никак не мог взять в толк, отчего в этом новом бытии он совсем ничего не значит.
Гарри, когда ему что-нибудь захочется, лез через стол и хватал без спроса, Джуди — показывала, и ей давали. Панчу и то и другое запрещалось. Долгие месяцы после того, как уехали мама с папой, у него оставалось одно-единственное прибежище и заступа — седой; кроме того, он совсем забыл, что надо говорить Джуди «помни маму».
Впрочем, такая оплошность простительна, ибо за это время тетя Анни-Роза успела приобщить его к двум чрезвычайной важности явлениям — он узнал, что есть на свете бесплотное существо по имени Бог, близкий друг и союзник тети Анни-Розы, обитающий, по всей видимости, за кухонной плитой, где всего жарче, а также коричневая замусоленная книжка, испещренная непонятными точечками и загогулинами. Панч был всегда рад удружить человеку. Поэтому он приправил повесть о сотворении мира уцелевшими в его памяти обрывками индийских сказок и преподнес эту смесь Джуди, чем привел тетю Анни-Розу в полное негодование. Он совершил грех, тяжкий грех, и за это должен был добрых пятнадцать минут слушать, что ему говорят старшие. В чем именно заключается прегрешение, он толком понять не мог, но все-таки старался не повторять его, так как Бог, по словам тети Анни-Розы, слышал все до последнего слова и очень разгневался. Если так, мог бы и сам прийти сказать, подумал Панч и выбросил этот случай из головы. После он твердо усвоил, что Господь — это тот, кто один в целом свете превосходит могуществом грозную тетю Анни-Розу; тот, кто стоит в тени и считает удары розгой.
Но пока гораздо существенней всякой веры было другое — чтение. Тетя Анни-Роза усадила его за стол и заявила, что А и Б — это «аб».
— Почему? — сказал Панч. — А — это «а», а Б — это «бэ». Почему же выходит, что А и Б — это «аб»?
— Раз сказано, значит, никаких «почему», — сказала тетя Анни-Роза. — Теперь повтори.
Панч послушно повторил, и месяц потом с великой неохотой одолевал коричневую книжку, не понимая при этом ни единого слова. Хорошо еще, что в детскую время от времени заглядывал дядя Гарри, который имел обыкновение подолгу, и чаще всего без спутников, где-то бродить, и говорил тете Анни-Розе, чтобы она отпустила Панча с ним погулять. Он мало разговаривал, зато он показал Панчу весь Роклингтон, от илистых отмелей и песчаных дюн закрытой бухты до огромной гавани, где стояли на якоре суда, и верфей, где ни на миг не смолкали молотки, и матросских лавок, где торговали всякой корабельной всячиной, до сверкающей ясной медью прилавков конторы, куда дядя Гарри раз в три месяца уходил с синенькой бумажкой, а взамен приносил соверены, потому что был ранен на войне и получал на это пенсию. А еще Панч услышал из его уст рассказ о Наваринской битве и как потом все военные моряки три дня ходили глухие, словно пень, и все объясняли друг другу руками.
— Это оттого, что так громко гремели орудия, — рассказывал дядя Гарри, — а у меня внутри где-то застрял с тех пор пыж от снаряда.
Панч поглядывал на него с любопытством. О том, что такое пыж, он не имел понятия, а снаряд представлял себе как пушечное ядро размером чуть побольше его головы, какие видел на верфи. Неужели дядя Гарри ухитряется носить в себе пушечное ядро? Спросить он не решался из страха, что дядя Гарри разозлится.
Раньше Панч вообще не знал, как это люди злятся всерьез, но настал страшный день, когда Гарри без спросу взял у него краски рисовать пароход, а Панч громко и плаксиво потребовал их назад. Тут и вмешался дядя Гарри, он буркнул что-то насчет несвоих детей и хватил черного малого тростью между лопаток, да так, что тот взвыл и разразился ревом, тогда прибежала тетя Анни-Роза и закричала, чтобы дядя Гарри не смел обижать родного ребенка, а Панч стоял и дрожал, как осиновый лист.
— Я не нарочно, — объяснял он черному малому, но тот, а с ним и тетя Анни-Роза сказали, что нет, нарочно и что Панч ябеда, и на целую неделю прогулки с дядей Гарри прекратились.
Но Панчу эта неделя принесла большую радость.
Он сидел и до одури бубнил волнующее сообщение: «Том, вот так кот вон там».
— Теперь я умею читать как следует, — сказал Панч, — и уж теперь-то я никогда в жизни ничего больше читать не стану.
Он сунул коричневую книжку в шкаф, где квартировали его учебники, сделал неловкое движение, и оттуда вывалился почтенный фолиант без переплета, на обложке которого значилось «Журнал Шарпа».[270] На первой обложке изображен был устрашающей наружности гриф, а ниже шли стихи. Каждый день этот гриф уносил из деревушки в Германии по овце, но вот пришел человек с «булатным мечом» и снес грифу голову. Что такое «булатный меч», оставалось загадкой, но гриф есть гриф, и куда было с ним тягаться опостылевшему коту.
— В этом, по крайней мере, виден смысл, — сказал Панч. — Теперь я буду знать про все на свете.
Он читал, покуда не угас дневной свет, читал, не понимая и десятой доли и все же не в силах оторваться от заманчивых и мимолетных видений нового мира, который ему предстояло открыть.
— Что такое «булатный»? И «ярочка»? И «гнусный потихитель»? И что такое «тучные пастбища»? — с пылающими щеками допытывался он перед сном у ошеломленной тети Анни-Розы.
— Помолись — и марш в постель, — отвечала она, и ни тогда, ни после не видел он от нее иной помощи в новом и упоительном занятии, имя которому чтение.
— У тети Анни-Розы все только бог да бог, она больше и не знает ничего, — рассудил Панч. — Мне дядя Гарри скажет.
На первой же прогулке выяснилось, что дяде Гарри тоже нечем ему помочь, но он хотя бы не мешал Панчу рассказывать и даже присел на скамейку, чтобы спокойно послушать про грифа. Другие прогулки сопровождались другими историями, ибо Панч все смелей совершал вылазки в область неизведанного, благо в доме обнаружились залежи старых, никогда и никем не читанных книг — от Фрэнка Фарли частями с продолжением, от ранних, неподписанных стихотворений Теннисона в «Журнале Шарпа», до ярких, разноцветных, восхитительно непонятных каталогов Выставки 1862 года и разрозненных страниц «Гулливера».[271]
Едва научась цеплять одну загогулину за другую, Панч написал в Бомбей, требуя, чтобы с первой же почтой ему выслали «все книги, какие только есть». Столь скромный заказ оказался папе не по плечу, и он прислал сказки братьев Гримм и еще томик Ганса Андерсена. Этого оказалось довольно. Отныне Панч мог во мгновение ока перенестись в такое царство, куда нет доступа тете Анни-Розе с ее Господином Богом и Гарри, который только и знает, что дразнится, и Джуди, которая вечно пристает, чтобы с ней поиграли. Лишь бы его оставили в покое.
— Не трогай меня, я читаю, — огрызался Панч. — Иди играй на кухне. Тебя-то пускают туда.
У Джуди резались настоящие зубы, и она нигде не находила себе места. Она пошла жаловаться, и на Панча обрушилась тетя Анни-Роза.
— Я же читал, — объяснил он. — Читал книжку. Если мне хочется!
— Выхваляться тебе хочется, больше ничего, — сказала тетя Анни-Роза. — Но это мы еще посмотрим. Чтобы сию минуту шел играть с Джуди и всю неделю не смей мне открывать книжку.
Не так-то весело играть с человеком, когда он весь кипит от возмущения, и Джуди убедилась в этом. Кроме всего прочего, в постигшей Панча каре угадывалось мелочное злорадство, труднодоступное его пониманию.
— Мне что-то нравится делать, — сказал Панч. — А она узнала и не дает. Не плачь, Джу, ты не виновата, ну не плачь, прошу тебя, а то она скажет, что это из-за меня.
Чтобы не подводить его снова, Джу вытерла слезы, и они пошли играть в детскую, комнатенку в полуподвале, куда их, как правило, отсылали днем, после обеда, когда тетя Анни-Роза ложилась соснуть, хлебнув перед тем — для пищеварения — вина или еще чего-то из бутылки, которая хранилась в погребце. Если заснуть не удавалось, она наведывалась в детскую удостовериться, действительно ли дети играют, как им надлежит. Но даже кубики, серсо, кегли и кукольная посуда в конце концов надоедают, особенно когда стоит лишь открыть книгу, и тотчас попадаешь в волшебную страну, а потому сплошь да рядом оказывалось, что Панч либо читает Джуди вслух, либо рассказывает нескончаемые сказки. Такое считалось прегрешением в глазах закона, и Джуди немедленно уволакивали прочь, а Панча оставляли в одиночестве с приказанием играть, «и смотри, чтобы мне слышно было, что ты играешь».
От него требовалось, иными словами, производить шум, как при игре, и унылое то было времяпрепровождение. В конце концов, проявив чудеса изобретательности, он приноровился подкладывать под три ножки стола по кубику, так чтобы четвертая не доставала до полу. Теперь можно было одной рукой со стуком раскачивать стол, а другой держать книгу. Так он и делал вплоть до того злополучного дня, когда тетя Анни-Роза застигла его врасплох на месте преступления и объявила, что он «занимается обманом».
— Ну а если ты дорос до такого, — сказала она, — после обеда она всегда была в особенно скверном расположении духа, — значит, ты дорос и до того, чтобы тебя выдрать.
— Но я… я ведь не собачонка! — в ужасе сказал Панч. Тут он вспомнил дядю Гарри с тростью в руках и побелел. Тетя Анни-Роза держала за спиной тонкий прут, и Панч был незамедлительно выдран между лопаток. В эту минуту свершилось для него потрясение основ. Затем дверь захлопнули, предоставив ему свободу наедине оплакать свой проступок, раскаяться и обдумать, как ему жить дальше.
На стороне тети Анни-Розы сила, рассуждал Панч, ей никто не запретит драть его хоть до полусмерти. Это несправедливо и жестоко, и папа с мамой не допустили бы такого ни за что. Если только, как на то намекает тетя Анни-Роза, все не делается по их же тайному указанию. Тогда его, значит, и правда бросили. В будущем разумней не давать тете Анни-Розе повода для недовольства, хотя, с другой стороны, в желании «выхваляться», скажем, его уличали, когда он и не помышлял ни о чем подобном. Так, например, он, оказывается, «выхвалялся» перед гостями, когда накинулся на незнакомого господина — который вовсе не ему, а Гарри приводился дядей — с расспросами о грифе и булатном мече, а заодно и о том, что за штука такая это самое тильбюри, в котором разъезжал Франк Фэрли, — то есть о материях крайне животрепещущих и требующих безотлагательного разъяснения. Не притворяться же ему, в самом деле, будто он любит тетю Анни-Розу.
В эту минуту вошел Гарри и остановился поодаль, гадливо разглядывая то, что недавно было Панчем, — взъерошенный комок, забившийся в угол комнаты.
— Ты — врун, маленький, а врун, — с явным удовольствием сказал Гарри. — Тебе не место за одним столом с нами, и ты будешь пить чай тут, внизу. И не смей больше без маминого разрешения разговаривать с Джуди. Ты и ее испортишь. Для тебя самое подходящее общество — прислуга. Это мама так говорит.
Вызвав у Панча новый приступ отчаянных рыданий, Гарри удалился наверх и сообщил, что Панч до сих пор не образумился.
Дядя Гарри сидел за столом, как на иголках.
— Черт знает что, Анни-Роза, — сказал он наконец, — неужели нельзя оставить ребенка в покое? Вполне славный мальчишка, во всяком случае, когда он со мной.
— При тебе-то, Гарри, он шелковый, — сказала тетя Анни-Роза, — но я опасаюсь — и очень, — что он паршивая овца в стаде.
Черный малый услышал и намотал на ус — такое прозвище могло пригодиться. Джуди расплакалась, но ей было велено сейчас же перестать, потому что о таком братце плакать нечего, а на исходе дня Панч водворен был обратно в верхние покои и высидел положенное один на один с тетей Анни-Розой и смолокипящими ужасами ада, живописуемыми ею всею образностью, на какую способно было ее убогое воображение.
Горше всего была укоризна в широко открытых глазах Джуди, и Панч пошел спать, горбясь под тяжестью унижения. Спал он в одной комнате с Гарри и заранее знал, какая ему уготована пытка. Полтора часа он был вынужден отвечать сему достойному отроку, каковы были побуждения, толкнувшие его на обман, обман вопиющий, и какое именно понес он за это наказание от тети Анни-Розы, и вдобавок изъявлять во всеуслышанье признательность за душеспасительные наставления, коими счел нужным снабдить его Гарри.
Этим днем ознаменовалось начало крушения Панча, отныне — Паршивой овцы или, для краткости, Паршивца.
— В одном обманул — ни в чем веры нет, — провозгласила тетя Анни-Роза, и Гарри понял, что сама судьба предает в руки его Паршивую овцу. Он завел привычку будить соседа среди ночи и вопрошать, отчего он такой нечестный.
— Не знаю, — отвечал Панч.
— А ты не думаешь, что тебе следует встать и помолиться, чтобы господь укрепил твой дух?
— Н-наверно.
— Тогда вставай и молись!
И Панч вылезал из постели, содрогаясь от невысказанной злости на весь мир, видимый и невидимый. Он теперь на каждом шагу попадал впросак. Гарри был большой любитель устраивать ему перекрестные допросы о содеянном за день с таким расчетом, чтобы раз десять поймать его, заспанного, осатанелого, на том, что он сам себе противоречит, — а наутро о том исправно докладывалось тете Анни-Розе.
— Да не сказал я неправду, — начинал Панч, пускаясь в сбивчивые объяснения, и с каждым словом лишь увязая все глубже. — Я сказал, что два раза не читал молитву в тот день, то есть во вторник. Но один-то раз я читал! Я точно знаю, что читал, а Гарри говорит — нет. — И так далее, пока все, что скопилось внутри, не прорывалось наружу слезами, и его с позором выдворяли из-за стола.
— Раньше ты не был такой скверный, да? — говорила Джуди, подавленная перечнем злодеяний Паршивой овцы. — А теперь почему стал?
— Сам не знаю, — отвечал ей Паршивец. — Я вообще не скверный, просто меня чересчур затормошили. Я же знаю, чего я делал, а чего нет, а когда хочу сказать, Гарри все обязательно вывернет наизнанку, а тетя Анни-Роза ни одному словечку моему не верит. Джу, ты-то хоть не говори, что я скверный.
— А тетя Анни-Роза говорит — скверный. Вчера приходил священник, она и сказала.
— И зачем она всем про меня рассказывает — даже кто не живет с нами? Так нечестно, — говорил Паршивец. — Вот когда мы жили в Бомбее, я что-нибудь сделаю — не напридумывают про меня, как здесь, а на самом деле — и мама скажет папе, а папа — мне, что ему про это известно, вот и все. А посторонние ничего не знали — Мита и то не знал.
— Я не помню, — печально говорила Джуди. — Я тогда была маленькая-маленькая. А правда, тебя мама любила так же сильно, как меня?
— Конечно. И папа. И все.
— Тетя Анни-Роза меня любит больше. Она говорит, что ты — тяжкий крест и паршивая овца и чтобы я с тобой без особой надобности не вступала в разговоры.
— Вообще? Не только в те разы, когда тебе совсем не велят со мной разговаривать?
Джуди горестно покивала головой. Паршивец отвернулся, пряча отчаяние, но его уже обхватили за шею ручки Джуди.
— Ну и подумаешь, — зашептала она. — А я с тобой как разговаривала, так и буду разговаривать целый век. Пускай ты… то есть пускай тетя Анни-Роза говорит, что ты скверный, пускай Гарри говорит, что ты трус, а все равно ты мой родной брат… Он говорит, если я тебя как следует дерну за волосы, ты расплачешься.
— А ну дерни, — сказал Панч.
Джуди потянула, осторожно.
— Сильней — дерни изо всех сил! Видишь? Сейчас можешь сто раз дернуть, и мне ничто. Если ты со мной будешь разговаривать, как всегда, то дергай сколько хочешь — хоть совсем вырви. А вот если бы пришел Гарри, если бы он стоял и подговаривал тебя дергать, тогда я расплакался бы, я знаю.
Дети скрепили уговор поцелуем, и у Паршивца немножко отлегло от души, и, соблюдая предельную осмотрительность, а также тщательно обходя стороною Гарри, он сподобился добродетели и получил разрешение читать без помех. Дядя Гарри брал его с собой гулять, утешал грубоватой лаской и никогда не называл Паршивцем.
— Хотя, видимо, Панч, это все — для твоей же пользы, — говаривал он. — Давай-ка присядем отдохнем. Что-то я устал.
Путь их теперь чаще лежал не к морю, а мимо картофельных полей, на роклингтонское кладбище. Здесь седой опускался на могильную плиту и просиживал так часами, а Паршивец тем временем читал надгробные надписи. Потом дядя Гарри вздыхал и, припадая на одну ногу, брел обратно к дому.
— Скоро и я тут буду лежать, — сказал он Паршивцу как-то зимним вечером, когда лицо его в свете, падающем из окон церковной сторожки, было белое, как стертая серебряная монета. — Тете Анни-Розе говорить про это не нужно.
Через месяц на утренней прогулке он, не пройдя и полпути, круто повернулся и заковылял обратно домой.
— Уложи меня, Анни-Роза, — прохрипел он. — Я отходил свое. Добрался до меня этот пыж.
Его уложили в постель, и две недели на доме тенью лежала его болезнь, а Паршивец был предоставлен самому себе. Ему только велели вести себя тихо, а от папы как раз пришли новые книжки, и он уединился в своем заповедном мире и был совершенно счастлив. Даже по ночам ничто не омрачало его блаженство. Гарри перешел вниз, и можно было лежать спокойно, снизывая вместе вереницы историй о путешествиях и приключениях в далеких странах.
— Дядя Гарри умирает, — сообщила Джуди, у которой чуть ли не вся жизнь теперь протекала подле тети Анни-Розы.
— Да, очень жаль, — спокойно сказал Паршивец. — Он это мне давно говорил.
Разговор услышала тетя Анни-Роза.
— Хоть тут попридержал бы свой поганый язык! — гневно оборвала она его. Под глазами у нее были синие круги.
Паршивец ретировался в детскую и с глубоким интересом принялся читать нечто глубоко непонятное под названием «Как цветок на заре».[272] Читать это произведение, по причине его греховности, воспрещалось, но что за важность, когда кругом рушатся основы вселенной и у тети Анни-Розы большое горе.
— Я рад, — сказал Паршивец. — Теперь ей плохо. И не врал я. Я-то знал. Он мне просто не велел говорить.
Ночью Паршивец внезапно проснулся. Гарри в комнате не было, с нижнего этажа доносились чьи-то рыдания. Вдруг темноту прорезал голос дяди Гарри, он пел Песнь о Наваринской битве:
Звались наши флагманы «Азия»,
«Генуя» и «Альбион»!
Ему лучше, подумал Паршивец, который знал наизусть все семнадцать куплетов этой песни. Но не успел он это подумать, как вся кровь отхлынула от детского его сердца. Голос взметнулся на октаву выше и зазвенел пронзительно, точно боцманская дудка:
За «Розой», замыкая строй,
Летела «Филомела» в бой,
Был «Бриз» один незащищен…
— В тот день под Наварином, дядя Гарри! — что было сил закричал Паршивец, не помня себя от возбуждения и страха, которому не знал причины.
Где-то открылась дверь, и с подножия лестницы долетел вопль тети Анни-Розы:
— Тихо! Тихо ты, нечистая сила. Дядя Гарри умер!
МЕШОК ТРЕТИЙ
Итог разлуки — встреча, и нет любви конца.
Вам это скажет всякий сын разумного отца.[273]
Что же теперь со мной будет, думал Паршивец, когда завершились полуязыческие обряды, которыми сопровождается в домах среднего достатка погребение усопших, и тетя Анни-Роза, зловещая в траурном крепе, вернулась к повседневной жизни. По-моему, я скверного ничего не натворил за это время, во всяком случае, чтобы она про то знала. Скоро натворю, наверное. Она теперь будет злая, раз умер дядя Гарри, и Гарри тоже будет злой. Надо сидеть в детской.
Панч строил планы напрасно, ибо решено было, что он поступит в школу, ту самую, куда каждый день ходил Гарри. Значит, утром, а иногда, вероятно, и вечером ему предстояла совместная прогулка с Гарри, зато обнадеживала мысль, что в промежутках он будет свободен.
— Гарри, конечно, станет доносить обо всем, что я делаю, но только я ничего такого не буду делать, — сказал Паршивец.
С этой благой решимостью он бодро отправился в школу, однако тотчас выяснилось, что раньше него туда дошел отзыв о его персоне, составленный Гарри, и что жизни ему не будет. Он стал приглядываться к одноклассникам. Одни ходили чумазые, другие умели объясняться лишь на местном наречии, многие коверкали слова, и были в его классе два еврея и один негр, или, во всяком случае — чернокожий.
— Это хубши, — сказал себе Паршивец. — А над хубши смеялся даже Мита. Я думаю, мне не подходит такая школа.
По крайней мере, час он возмущался, а там сообразил, что любое изъявление недовольства с его стороны тетя Анни-Роза истолкует, как желание «выхваляться», а Гарри разнесет о нем по всей школе.
— Ну, как тебе нравится в школе? — спросила в конце дня тетя Анни-Роза.
— По-моему, там очень хорошо, — не моргнув глазом, ответил Панч.
— Ты, полагаю, догадался предупредить мальчиков, что они имеют дело с Паршивой овцой? — сказала тетя Анни-Роза, обращаясь к Гарри.
— Еще бы, — ответствовал юный блюститель чужой нравственности. — Они про него все знают.
— Если бы здесь со мной был отец, — сказал глубоко уязвленный Паршивец, — я бы с такими мальчиками даже разговаривать не стал. Он не позволил бы. Они живут в лавках. Я сам видел, как они расходились по лавкам, там их отцы торгуют и живут прямо там же.
— Ах вот как, — с кривой усмешкой сказала тетя Анни-Роза. — Стало быть, такая школа тебе не хороша. Да ты скажи спасибо, Паршивец, что эти мальчики сами с тобой хотят разговаривать. Не во всякую школу согласятся принять врунишку.
Гарри не преминул распорядиться опрометчивым высказыванием Паршивца с примерной рачительностью, и как следствие этого, несколько мальчиков, в том числе хубши, наглядно доказали Паршивцу извечное равенство всех особей рода человеческого, надавав ему подзатыльников, а тетя Анни-Роза утешила его по этому поводу:
— Так и надо, не будешь слишком много понимать об себе.
Впрочем, это послужило ему уроком, он научился держать свои мнения при себе и, задабривая Гарри мелкими услугами — таская за него учебники в школу и так далее, — получал на какое-то время возможность вздохнуть свободно. Существование он вел не слишком радостное. С девяти до двенадцати и после, с двух до четырех, не считая воскресных дней, он был в школе. По вечерам его отсылали в детскую делать на завтра уроки, а вслед за тем наступал страшный час ежевечерних перекрестных допросов, которые учинял ему Гарри. С Джуди он виделся лишь урывками. Она сделалась очень набожной — в шесть лет от роду благочестие дается легко — и маялась, не зная, как примирить в своей душе естественную любовь к Паршивой овце с любовью к непогрешимой тете Анни-Розе.
Сухопарая праведница платила ей за любовь с лихвою, чем Джуди иной раз, набравшись храбрости, пользовалась, дабы смягчить для Паршивой овцы наказание за провинность. За неудачи на уроках в школе ему на неделю запрещали дома открывать какие бы то ни было книги, кроме учебников, и сообщения о таких неудачах Гарри приносил с торжеством. Мало того, перед сном Паршивцу вменялось в обязанность рассказывать Гарри выученные уроки, а тот неизменно ухитрялся выбить у него почву из-под ног и ободрял к тому же самыми зловещими предвещаниями назавтра. Он был на все руки мастер, этот Гарри: и соглядатай, и забавник на чужой счет, и инквизитор, и палач, приводящий в исполнение приговоры тети Анни-Розы. И справлялся со своими многочисленными должностями преотменно. Обжаловать его действия теперь, после смерти дяди Гарри, стало не у кого. Возможности восстановить свое поруганное достоинство в школе Паршивца лишили с самого начала, дома он был, разумеется, бесповоротно обесчещен, спасибо хоть служанки — а они то и дело менялись в Даун-лодже, так как все до единой тоже оказывались лгуньи — нет-нет да и жалели его.
— Вы, милая, я вижу, того же поля ягода, что и Паршивая овца, — вот заключение, которого смело могла ждать всякая новая Джейн или Элиза из уст тети Анни-Розы по истечении первого же месяца, и Паршивец со знанием дела осведомлялся у очередной служанки, говорила ей уже хозяйка или нет, что она похожа на него. Гарри был для прислуги «мистер Гарри», Джуди носила звание «мисс Джуди», ну а Паршивец был в лучшем случае tout court[274] Паршивой овцой.
Шло время, и мало-помалу всякую память о папе и маме начисто перекрыла тягостная повинность писать им каждое воскресенье письма под надзором тети Анни-Розы, и забыл Паршивец, какую он вел жизнь вначале. Даже призывы Джуди:
— Вспомни про Бомбей, ну постарайся! — бессильны были вызвать просветление.
— Не помню, — говорил он. — Знаю только, что я все время распоряжался, а мама все время меня целовала.
— И тетя Анни-Роза поцелует, если ты будешь хорошо себя вести.
— Бр-р! Очень мне нужно, чтобы меня целовала тетя Анни-Роза. Скажет еще, что это я выпрашиваю себе вторую порцию за столом.
Недели складывались в месяцы, уже и каникулы были не за горами, но как раз накануне каникул Паршивец совершил смертный грех.
Был среди многих мальчишек, которых Гарри подбивал «заехать Паршивцу кулаком по маковке, все равно побоится дать сдачи», один, который изводил его больше других, и этому одному вздумалось в недобрую минуту напасть на Паршивца, когда не было поблизости Гарри. Он дрался больно, и Паршивец, собрав все силы, стал наудачу отвечать ему. Мальчишка упал и захныкал. Паршивец был и сам ошарашен собственным поступком, но, ощутив под собою обмякшее тело, стал в слепой ярости трясти противника обеими руками, а там и душить его с искренним намерением прикончить. Тут подоспел Гарри с одноклассниками, и после короткой схватки Паршивца оторвали от поверженного врага, скрутили ему руки и избитого, но опьяненного победой препроводили восвояси. Тети Анни-Розы не было дома, и Гарри в ожидании ее прихода принялся вразумлять его насчет греховности смертоубийства — этого, по его определению, каинова преступления.
— Почему ты не дрался с ним честно? Зачем бил лежачего, подлая твоя душонка?
Паршивец взглянул на шею Гарри, потом на нож, лежащий на столе, накрытом для обеда.
— Не понимаю, — сказал он устало. — Не ты ли его постоянно натравливал на меня и обзывал меня трусом, когда я распускал нюни? Ты пока не трогай меня, а? Придет тетя Анни-Роза, ты скажешь, что меня надо выпороть, она выпорет — и все в порядке.
— Ничего не в порядке, — веско молвил Гарри. — Ты едва не убил человека, он и теперь еще, чего доброго, может умереть.
— Умрет, да? — сказал Паршивец.
— Вполне возможно, — сказал Гарри, — а тебя тогда повесят.
— Хорошо, — сказал Паршивец, беря в руки столовый нож. — Тогда сейчас я убью тебя. Ты что ни скажешь, что ни сделаешь… в общем, я и сам не знаю, как это получается, — и ни на миг не можешь оставить меня в покое — и мне уже все равно — будь что будет!
Он ринулся на малого с ножом, и Гарри, посулив Паршивой овце по возвращении тети Анни-Розы такую порку, каких еще свет не видывал, обратился в бегство и заперся у себя в комнате наверху. Паршивец сел с ножом в руке на нижнюю ступеньку лестницы и заплакал оттого, что не удалось убить Гарри. Из кухни вышла прислуга, отобрала нож, говорила что-то в утешение. Но Паршивец был безутешен. Теперь его жестоко высечет тетя Анни-Роза, а Гарри тоже добавит, потом Джуди запретят разговаривать с ним, потом обо всем растрезвонят в школе, потом…
Некому помочь, некому пожалеть, есть один только выход — умереть, и точка. Можно бы ножом, но это больно, а тетя Анни-Роза в прошлом году говорила, что он умрет, если будет сосать раскрашенные игрушки. Он пошел в детскую, раскопал засунутый куда-то за ненадобностью Ноев ковчег и принялся по очереди обсасывать птиц и зверей, какие еще уцелели. Противно было невероятно, но все-таки к тому времени, как вернулись домой тетя Анни-Роза и Джуди, он дочиста слизал краску с Ноевой голубки, которая была последней. После этого он поднялся из детской и встретил их словами:
— Тетя Анни-Роза, знаете, я чуть не убил одного мальчика в школе и хотел убить Гарри, так что, когда вы мне скажете все, что полагается про Бога и грешников в аду, выпорите меня поскорей, и дело с концом.
Эпизод с нападением, в том виде, как его изложил Гарри, поддавался единственному истолкованию: в Паршивца вселился бес. Вследствие чего Паршивца не только с усердием отодрали сперва тетя Анни-Роза, а затем, когда в нем были надежно подавлены последние остатки строптивости, — Гарри, но и молились всем семейством о спасении его души, а заодно и души Джейн, прислуги, которая стащила из буфетной холодный пирожок и, будучи призвана к ответу за свое черное дело, громко фыркнула в лицо Вершительнице правосудия. У Паршивца каждая клеточка болела и саднила, но душа была полна ликования. Сегодня же ночью он умрет и избавится от всех них. Нет, он не станет просить у Гарри прощения и не потерпит никаких допросов перед сном, пусть его сколько угодно называют маленьким каином.
— Меня уже выпороли, — сказал он, — и я сам тоже сделал одну вещь. Теперь мне все равно. Если ты, Гарри, начнешь сегодня заводить со мной на ночь разговоры, я встану и постараюсь тебя убить. А теперь, если хочешь, убивай меня.
Гарри перенес свою постель в пустую комнату, и Паршивую овцу на целый месяц оставили в покое.
По-видимому, люди, которые мастерят Ноевы ковчеги, знают, что зверям и птицам оттуда свойственно попадать в детские рты, и выбирают краски, памятуя об этом. Как бы то ни было, когда в окна заглянуло будничное скучное утро, оказалось, что Паршивец жив, здоров, изрядно пристыжен, но зато умудрен сознанием, что на будущее, на самый крайний случай, у него есть средство оградить себя от Гарри.
В первый же день каникул, когда он спустился к завтраку, его встретили известием, что тетя Анни-Роза уезжает с Гарри и Джуди в Брайтон, а его оставляют дома на прислугу. Последняя выходка Паршивой овцы пришлась как нельзя более на руку тете Анни-Розе. Она служила отличным предлогом не брать с собою того, кто сбоку припека. Папа, который, похоже, обладал у себя в Бомбее способностью минута в минуту угадывать желания юных грешников, прислал на этой неделе стопку новых книг. В обществе этих книг, а также — Джейн, получавшей за то скудные гроши, и оставили Паршивую овцу — оставили в покое на целый месяц.
Книг хватило на десять дней. Они проглатывались быстро, запоем, по двадцать четыре часа кряду. Потом наступили дни, когда заняться стало совершенно нечем, разве что мечтать наяву, водить за собою вверх и вниз по лестнице воображаемое войско, пересчитывать балясины перил да обмерять вдоль и поперек пальцами комнаты — пятьдесят шажков рукой по одной стенке, тридцать по другой, пятьдесят обратно. Джейн завела себе много знакомых и, заручась уверениями Паршивца, что он никому не расскажет о ее отлучках, каждый день надолго уходила из дому. Солнце клонилось к закату, и Паршивец переходил следом за ним из кухни в столовую, оттуда — наверх, к себе в спальню, а когда наползали серые сумерки, сбегал обратно на кухню и читал при свете очага. Он был счастлив, что никто его не трогает и можно читать, сколько хочется. Но поздним вечером, когда шевельнется тень от оконной занавески, или скрипнет дверь, или хлопнет на ветру ставня, ему делалось страшно. Он выходил в сад и пугался шороха листьев на лавровом кусту.
Он был рад, когда они все вернулись — тетя Анни-Роза, Гарри, Джуди — с ворохом новостей, а Джуди еще и с ворохом подарков. Ну, как было не любить верную маленькую Джуди? В ответ на все, что она весело ему лопотала, Паршивец поведал, что от входной двери до лестничной площадки ровно сто восемьдесят четыре шажка растопыренными пальцами. Он сам установил.
Потом жизнь потекла по-старому, правда, не совсем, ибо к числу его грехов прибавился еще один. В довершение прочих изъянов, Паршивец сделался отчаянно неуклюж — раньше нельзя было положиться на то, что он скажет, теперь — и на то, что сделает. Он сам не мог сказать, отчего все у него проливается на скатерть, отчего он непременно опрокинет стакан, если протянет руку, и стукается лбом о двери, когда они явно закрыты. Весь мир для него заволокло серой пеленой, и месяц за месяцем она подступала все ближе, пока наконец Паршивец не остался один на один с зыбкими, как привидения, занавесками и чем-то невыразимо страшным даже при свете дня, что в конце концов оказывалось не более как вешалкой с верхней одеждой.
Приходили и уходили каникулы, Паршивца водили по разным людям, похожим друг на друга, как две капли воды, и пороли по тому или иному поводу, и решительно по всякому поводу истязал его Гарри, зато стойко защищала Джуди, хоть и навлекала тем на себя немилость тети Анни-Розы.
Одна неделя сменяла другую, и так без конца, и папа с мамой были окончательно забыты. Гарри кончил школу и поступил на службу в банк. Избавясь от его присутствия, Паршивец твердо решил, что не даст больше урезывать себя в единственном удовольствии — чтении книг. Соответственно, когда в школе случались неудачи, он докладывал дома, что все идет хорошо, и проникся безмерным презрением к тете Анни-Розе, когда увидел, как ее легко обмануть. Когда говоришь ей правду, тебя называют врунишкой, думал Паршивец, а вот теперь я ей вру, а она и не догадывается. До сих пор тетя Анни-Роза уличала его в мелких хитростях и уловках, когда ничего похожего ему не приходило в голову. Теперь он платил ей полной мерой за ею же преподанную науку пакостничать. В доме, где самые невинные его побуждения, его естественную потребность хоть в какой-то ласке воспринимали как желание выклянчить себе еще хлеба с вареньем или подольститься к посторонним, оттеснив в сторону Гарри, это было делом нехитрым. Тетя Анни-Роза умела распознавать определенные виды лицемерия, но не все. Он выставил против ее сообразительности собственную, ребячью, и больше его не пороли. С каждым месяцем разбирать, что написано в учебниках, становилось все труднее, и даже крупные буквы на страницах сказок прыгали и расплывались у него перед глазами. В сумраке, который сгущался вокруг, отрезая его от мира, Паршивец угрюмо изобретал жуткие казни «милому Гарри» или обдумывал, как вплести новую нить в паутину обмана, сотканную им для тети Анни-Розы.
Потом грянула беда, и паутина разлетелась в клочья. Предусмотреть все было невозможно. Тетя Анни-Роза самолично навела справки, как подвигаются у Паршивой овцы дела в школе, и была потрясена тем, что узнала. Шаг за шагом, с тем же острым наслаждением, с каким обличала изголодавшуюся прислугу в краже черствого пирожка, она проследила путь Паршивой овцы по скользкой дорожке порока. Из месяца в месяц, дабы избегнуть отлучения от книжных полок, он дурачил тетю Анни-Розу, дурачил Гарри, Бога, целый свет! Чудовищно, поистине чудовищно и свидетельствует о безнадежной испорченности.
Паршивец подсчитывал, во что ему это обойдется.
— Один раз сильно выпорют, вот и все, а после она мне приколет на спину бумажку со словом «Лжец», так уже было. Гарри сперва поколотит, потом будет молиться за меня, она будет тоже каждый раз за меня молиться и говорить, что я исчадие ада, и велит разучивать псалмы. Зато я читал, сколько мне вздумается, а она и понятия не имела. А скажет, что знала с самого начала. Еще и врунья, хоть и старая, — сказал он.
На три дня Паршивца заперли в его комнате — укрепиться духом.
— Значит, будут пороть два раза. Один раз в школе, один здесь. Здесь будет больнее.
Все так и вышло, как он думал. В школе его высекли на глазах у евреев и хубши за то, что он посмел приносить домой ложные сведения о своих успехах. Дома — за то же гнусное преступление — его высекла тетя Анни-Роза, после чего не замедлила появиться и бумажка с надписью. Тетя Анни-Роза приколола ее ему на лопатки и велела идти в таком виде гулять.
— Только попробуйте заставьте, — очень спокойно сказал Паршивец. — Я тогда подожгу этот дом, а вас, наверно, убью. Не знаю, смогу ли — вы такая костлявая, — но постараюсь.
За этим кощунством не последовало никакого наказания, но на всякий случай Паршивец готов был в любую секунду вцепиться в жилистую шею тети Анни-Розы и держать мертвой хваткой, пока не оторвут. Может быть, тетя Анни-Роза боялась, ибо, дойдя до последней черты порока, Паршивец держался с бесшабашной отвагой, дотоле ему не свойственной.
В разгар всех неурядиц в Даун-лодж приехал заморский гость, папин и мамин знакомый, которому поручили проведать Панча и Джуди. Паршивец был призван в гостиную и с размаху налетел на тяжелый, уставленный чайной посудой стол.
— Осторожней, сынок, осторожнее, — сказал гость, мягко поворачивая Паршивца лицом к свету. — Что это за большая птица сидит на заборе?
— Где птица? — спросил Паршивец.
С минуту гость внимательно вглядывался в самую глубь Паршивцевых глаз.
— Боже ты мой, да ведь мальчик почти что слеп! — вдруг сказал он.
Это был на удивленье деловитый гость. Никого не спрашивая, он приказал, чтобы Паршивец до маминого приезда не ходил в школу и не притрагивался к книгам.
— Через три недели, как тебе, разумеется, известно, она будет здесь, — сказал он. — А я — Инверарити—сахиб. Я помогал тебе, молодой человек, явиться на нашу грешную землю, и славно же ты, я вижу, распорядился собою за это время, нечего сказать. Так вот, ты должен решительно ничего не делать. Справишься?
— Да, — неуверенно сказал Панч. Когда-то давно он знал, что мама приедет. По этому поводу ему, вероятно, опять предстоит порка. Слава богу, что хоть не приедет папа. Последнее время тетя Анни-Роза все говорит, что хорошо бы его выдрал мужчина.
На три недели Паршивцу строго-настрого запретили делать что бы то ни было. Целыми днями он просиживал все в той же детской, разглядывая сломанные игрушки, о которых придется давать подробный отчет маме. Тетя Анни-Роза шлепала его по рукам, даже если сломается какой-нибудь деревянный кораблик. Впрочем, что значили такие провинности в сравнении с тем, что тетя Анни-Роза с таким многозначительным видом грозилась открыть маме помимо этого?
— Вот приедет твоя мать, послушает, что я расскажу, и будет знать, чего ты стоишь, — зловеще говорила она, и с удвоенной бдительностью оберегала Джуди, чтобы невинная крошка не вздумала брать грех на душу, утешая братца.
И вот мама приехала — в наемной карете, взволнованная и нежная. И какая мама! Молодая — до неприличия молодая — и красивая, щеки у нее рдели мягким румянцем, глаза сияли, как звезды, а при звуке голоса так и подмывало кинуться ей на шею, даже не видя призывно протянутых рук. Джуди к ней бросилась, не раздумывая, но Паршивец медлил. А что, если это чудо просто «ломается»? Во всяком случае, она не станет протягивать руки ему навстречу, когда узнает о его преступлениях. А пока все эти нежности, может быть, только для того, чтобы чего-то добиться от Паршивой овцы? Только его любви, только его доверия — но об этом Паршивец не ведал. Тетя Анни-Роза удалилась, и в той самой передней, где пять лет тому назад заливались слезами Панч и Джуди, мама опустилась на колени и, смеясь и плача, притянула к себе детей.
— Ну, цыплята, помните вы меня?
— Нет, — честно сказала Джуди, — но я каждый вечер говорила: «Господи, спаси и сохрани папу и маму».
— Немножко, — сказал Паршивец. — Но ты все-таки помни, что я тебе писал каждую неделю. Это я не выхваляюсь, это из-за того, что разразится потом.
— Разразится! Что же такое потом разразится, милый ты мой? — И она вновь притянула его к себе. Он приблизился неловко, угловато. Не привык к ласке, мгновенно определило материнское сердце. Девочка привыкла.
Больно не будет, она слишком маленькая, думал Паршивец. Если я скажу, что убью ее, она сразу струсит. Интересно, что ей наговорит тетя Анни-Роза.
Обед проходил в принужденной обстановке и едва он кончился, мама взяла Джуди и, приговаривая ей что-то ласковое, повела ложиться спать. Вероломная Джуди, по всем признакам, уже изменила тете Анни-Розе, чем сия дама была жестоко оскорблена. Паршивец встал из-за стола и пошел к двери.
— Поди скажи спокойной ночи, — сказала тетя Анни-Роза, подставляя ему морщинистую щеку.
— Хм! — сказал Паршивец. — Никогда мы с вами не целуемся, и я не собираюсь ломаться. Скажите этой женщине про все, что я натворил, увидите, как она запоет.
Паршивец залез в постель, убежденный, что навеки лишился рая, который приоткрылся ему на минуту. Через полчаса «эта женщина» склонилась над его кроватью. Паршивец защитным движением вскинул вверх правую руку. Нечестно подкрадываться и бить его в темноте. Так не делала даже тетя Анни-Роза. Но удара не последовало.
— Подлизываешься, да? А я не буду ничего рассказывать, пусть рассказывает тетя Анни-Роза, только она не знает всего. — Паршивец старался говорить внятно, но мешали руки, которые обнимали его за шею.
— Ах, маленький сын мой, маленький мой сыночек! Это я виновата — я одна, — но что же нам оставалось делать? Прости меня, Панч. — Голос дрогнул, перешел в прерывистый шепот, и на лоб Паршивцу капнули две горячие слезы.
— Она тебя тоже довела до слез? — спросил он. — Посмотрела бы ты, как от нее плачет Джейн. Только ты хорошая, а Джейн — прирожденная лгунья, во всяком случае, так говорит тетя Анни-Роза.
— Тсс! Тише, Панч! Не надо так разговаривать, мальчик. Пожалуйста, полюби меня немножко — совсем немножечко. Ты не знаешь, как мне этого хочется. Вернись ко мне, Панч—баба! Ведь это я, мама — твоя мама, а все остальное пустяки. Я ведь знаю — да, милый, знаю. И это сейчас совсем неважно. Неужели ты не полюбишь меня, Панч, хоть чуточку?
Удивительно, какое количество нежностей способен вытерпеть большой мальчик десяти лет, когда он точно знает, что никто его не поднимет на смех. Панч не был избалован хорошим отношением, а тут, ни с того ни с сего, эта красивая женщина обращалась с ним, точно с маленьким божком, — с ним, Паршивой овцой, Исчадием ада, Нераскаявшимся грешником, которому уготована геенна огненная!
— Я очень тебя люблю, мамочка, — прошептал он наконец, — и я рад, что ты вернулась, только ты уверена, что тетя Анни-Роза тебе рассказала все?
— Все. Господи, какое это имеет значение? Но все-таки… — Голос прервался не то рыданием, не то смехом. — Панч, бедный мой, милый, полуслепой дурачок, тебе не кажется, что ты тогда вел себя не очень-то разумно?
— Нет. Зато меня не пороли.
Мама зябко поежилась и скользнула прочь в темноте, писать длинное письмо папе. Вот отрывок из него:
«…Джуди — прелестная толстушка, дышит благонравием, обожает эту особу, с важностью толкует о религии и с такою же важностью нацепляет на себя — и это в восемь лет, Джек! — не первой свежести кошмар из конского волоса, именуемый ею турнюром! Я его как раз только что сожгла, а девочка, пока я пишу письмо, спит у меня на кровати. С этой мы поладим сразу. С Панчем мне еще не все понятно. По-видимому, кормили его недурно, но изводили придирками, от которых он укрывался за нагромождением мелкого надувательства, а у этой особы оно разрасталось до размеров смертного греха. Помнишь, милый, как нас тоже воспитывали в страхе божьем и как часто с этого страха начиналась неправда? Пройдет немного времени, и Панч вернется ко мне. А пока, чтобы поближе познакомиться, я везу детей за город и, в общем, всем довольна, верней — буду довольна, когда и ты, дорогой мой, вернешься домой и мы все наконец-то будем опять, слава богу, под одною крышей!»
Через три месяца Панч — давно уже Панч, а не Паршивая овца — удостоверился, что у него и правда есть мама, настоящая, живая, замечательная мама, которая ему к тому же сестра, утешительница и друг, и пока нет папы, он — ее защитник. Обман защитнику как-то не к лицу, да и какой смысл обманывать, когда и так наверняка можно делать все, что вздумается?..
— Ох, и рассердится мама, если ты залезешь в эту лужу, — говорит Джуди, продолжая разговор.
— Мама никогда не сердится, — говорит Панч. — Скажет только: «Ах ты, пагал несчастный!» — Сейчас я тебе покажу, хоть это и не очень красиво с моей стороны.
Панч лезет в лужу и вязнет по колени в грязи.
— Мамочка-а! — кричит он. — Я вымазался с головы до ног!
— Тогда беги и переоденься с головы до ног! — доносится из дома звонкий мамин голос. — Пагал ты несчастный!
— Видела? Что я тебе сказал? — говорит Панч. — Теперь все переменилось, теперь мы снова мамины, как будто она и не уезжала.
Не совсем так, о Панч, ибо когда детским губам довелось испить полной мерой горькую чашу Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на свете Любви не хватит, чтобы однажды изведанное стерлось бесследно, даже если она ненадолго вернет свет померкшим глазам, и туда, где было Неверие, заронит зерна Веры.
ПОДГУЛЯВШАЯ КОМАНДА[275]
Идем домой, идем домой,
Уже гудки гудят,
На плечи лег тугой мешок,
Мы не придем назад!
Не плачь же, Мери Энн,
Без милой — не житье.
И как только вернусь, на тебе я женюсь,
Я отслужил свое.[276]
Произошло нечто чудовищное. Мой приятель рядовой Малвени, недавно отслуживший свой срок и отбывший в мундире без погон в родные края, опять вернулся в Индию, но уже штатским! А все из-за Дайны Шедд. Ей невмоготу было в тесной, маленькой квартирке, ей сильнее, чем можно выразить словами, недоставало ее слуги Абдаллы. Но главное не в этом: чета Малвени слишком долго прожила здесь и отвыкла от Англии.
На одной из железнодорожных линий, строящихся в Центральной Индии, у Малвени был знакомый подрядчик, которому он и написал, прося приискать ему место. Подрядчик ответил, что, если Малвени в состоянии оплатить проезд, он по старой памяти назначит его десятником, даст ему партию кули, а жалованья положит восемьдесят пять рупий в месяц. Дайна Шедд предупредила Теренса, чтобы он не вздумал отказываться, иначе она превратит его жизнь в «форменное чистилище», и супруги Малвени возвратились сюда в качестве «цивильных» — глубокое и постыдное падение, хотя мой приятель и пытался замаскировать его разговорами о том, что он теперь «шишка на железной дороге и вообще человек с положением».
Он написал мне на бланке для заказа инструментов, приглашая навестить его, и я приехал в смешное маленькое бунгало-времянку рядом с линией. Участок возле дома Дайна Шедд засеяла горохом, а природа заполонила его всеми мыслимыми видами растительности. Малвени не изменился, если не считать костюма. В новом своем наряде он выглядел довольно жалко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Он стоял на дрезине, отчитывая какого-то кули и щеголяя былой образцовой выправкой, а его массивный, выдающийся вперед подбородок был, как и встарь, безупречно выбрит.
— Вот я и штатский, — объявил Малвени. — Разве кто догадается, что я тоже когда-то военным был? Не спорьте, сэр. Комплименты мне ни к чему, а лгать грешно… С тех пор как у Дайны Шедд завелся собственный дом, с нею никакого сладу не стало. Зайдите к ней — пусть она вас чаем из фарфоровых чашек напоит, потом мы с вами, как добрые христиане, пропустим малость прямо здесь, под деревом. А вы, черномазые, марш отсюда! Сахиб приехал в гости не к вам — ко мне. Живо за лопаты и копать до самых сумерек!
Когда мы втроем удобно устроились под большим шишамом напротив бунгало и отгремел первый залп вопросов о рядовых Ортерисе и Лиройде, о прежних временах и местах, Малвени задумчиво сказал:
— Приятно, конечно, что завтра на ученье не идти и никакой дурак капрал на тебя не наорет. И все-таки тяжело на сердце, как подумаешь, что ты стал тем, чем никогда не был и быть не собирался, а дороги назад уже нет — бумага мешает. Эх, совсем я тут заржавел! Видать, не угодно господу богу, чтоб человек так рано служить бросал.
Он подлил себе виски с содовой и яростно вздохнул.
— А вы отпустите бороду, Малвени, — посоветовал я. — Тогда эти мысли перестанут вас тревожить, и вы сделаетесь заправским штатским.
Дайна Шедд еще в гостиной поведала мне, как она мечтает, чтобы Малвени отрастил бороду.
— Это так по-штатски! — вздыхала бедная Дайна, страдавшая от сознания, что супруг ее тоскует по прошлой жизни.
— Дайна Шедд, ты сущее наказание для честного бритого мужчины! — сказал Малвени, не удостоив меня ответом. — Сама себе бороду отпускай, дорогая, а моей бритвы не касайся. Только она и не дает мне вконец опуститься. Я же помру от жажды, ежели бриться перестану и козлиной бородищей обзаведусь: от нее сразу в глотке пересыхает. Или ты хочешь, чтоб я вечно под парами ходил? У меня от одних твоих разговоров все уже в нутре перегорело. Дай-ча я погляжу, как там насчет виски.
Он протянул бутылку мне, потом взялся за нее сам, и тут Дайна Шедд, до сих пор не отстававшая от мужа в расспросах о старых знакомых, неожиданно напустилась на меня:
— Постыдились бы вы, сэр, — хоть, видит бог, вам здесь больше, чем свету дневному, рады, — забивать Теренсу башку всякой чепухой насчет… насчет того, о чем всего лучше позабыть. Он теперь штатский, а вы никогда военным не были. Вот и оставьте армию в покое. Незачем о ней Теренсу напоминать.
Мне пришлось ретироваться под защиту Малвени: Дайна Шедд характером не обижена.
— Полно тебе! С кем же мне о старых временах словечком перекинуться? — остановил жену мой приятель и обратился ко мне. — Вы говорите, Барабанная Палочка (так прозвали командира полка, в котором служил Малвени) жив-здоров, и полковница тоже? Я даже не подозревал, как сильно привязан к старому мулу, пока не распростился с ним и с Азией. Вы его увидите, да? Тогда передайте, — глаза моего собеседника засверкали, — что рядовой Малвени…
— Мистер Малвени, Теренс, — поправила Дайна Шедд.
— А я говорю — рядовой. К дьяволу и всем чертям в пекло твоего мистера, Дайна Шедд! И не забудь прибавить на исповеди, что ввела меня в грех, заставив браниться. — Так вот, передайте старику нижайший поклон от рядового Малвени и скажите, что, не будь меня, последняя команда уволенных безобразничала бы до самой погрузки в порту.
Он откинулся на спинку кресла, хмыкнул и замолчал.
— Миссис Малвени, — сказал я, — уберите, пожалуйста, виски и не давайте ему ни капли, пока он все не расскажет.
Дайна Шедд проворно смахнула бутылку со стола, попутно бросив: «Ну, тут нечем гордиться!» — и Малвени, взятый противником в клещи, начал:
— Было это в прошлый вторник. Разгуливаю я со своими черномазыми по насыпи — учу этих кузнечиков в ногу ходить да по команде останавливаться. Вдруг подбегает ко мне их старшой. От рубахи один ворот остался, в глазах отчаяние.
«Сахиб, — говорит он, — на станции целый полк солдат. Бросаются горячим шлаком в кого попало. Меня чуть за подол не подвесили. К вечеру они все разнесут, всех обидят, всех поубивают. Они говорят, что придут сюда и дадут нам жару. А у нас женщины. Как быть?»
«Подавай дрезину! — командую я. Стоит мне слово услышать про тех, на ком мундир королевы, как сердце у меня наружу просится. — Подавай дрезину да выбери шестерых малых покрепче, чтоб они меня одним духом домчали».
— Он надел свой лучший костюм, — укоризненно вставила Дайна Шедд.
— Иначе нельзя было, — должен же я Вдове уважение оказать. А ты, Дайна Шедд, придержи язык — мне твоя болтовня рассказывать мешает. И подумай на свободе, хорошо ли я буду выглядеть, ежели мне и голову, как лицо, выбреют. То-то, дорогая.
Словом, полетел я на дрезине за шесть миль, чтобы на эту команду хоть глазком взглянуть. Я-то знал, что никакой на станции не полк, а просто команда уволенных — их всегда весною домой отправляют. Как ни жаль, но тут поблизости ни одна часть не квартирует.
— Слава тебе, дева пречистая! — негромко вставила Дайна Шедд, но Малвени не расслышал.
— Шпарим мы так, что машина вот-вот рассыплется, но хоть до лагеря еще почти миля осталась, а уже слышу, какой шум там стоит, и, клянусь душой, различаю голос Пега Барни — он ревел, как дикий буйвол, у которого брюхо разболелось. Помните Пега Барни, из роты «Д»? Ну, такой рыжий, волосатый, костлявый, со шрамом на щеке. Он еще морских пехотинцев, когда у них в прошлом году праздник был, шваброй один разогнал.
Я сразу понял, что это команда из прежнего моего полка, и прямо-таки расстроился за того, кто ее сопровождать назначен. Нас всегда было трудно в узде держать. Я вам рассказывал, как Хокер Келли скинул с себя все, сгреб под мышку рубахи да бумаги капрала и давай разгуливать нагишом, что твой Феб Аполлонский? А ведь Келли еще тихоня был. Но меня, кажется, в сторону заносит. Стыд и срам нашему полку и всей армии за то, что молоденьких офицеров, почти мальчиков, посылают сопровождать здоровенных парней, одуревших от спиртного и от радости, что они наконец из Индии вырвутся. К тому ж им на всем пути от части до порта и взыскания-то не дашь. Экая ведь нелепость! Пока я на службе, надо мной устав и меня в любое время прижать можно. А чуть отслужил срок, я уже запасной, и устав не для меня писан. На запасных у офицера одна управа — из казармы их не выпускать. Ничего не скажешь, умно придумано! Какие там казармы, если команда все время в движении? Поглядел бы я на того Соломона премудрого, который такой порядок завел! Легче перегнать табун неуков с Кеббиринской ярмарки в Голуэй, чем разгулявшихся запасных за десять миль доставить. Вот начальство и позаботилось, чтобы какой-нибудь молоденький офицер случайно их не обидел.
Но к делу. Чем ближе моя дрезина подъезжала к лагерю, тем громче становились шум и голос Пега Барни. «Хорошо, что поехал, — думаю я. — Тут на одного Пега несколько человек нужно». Я уже смекнул, что надрызгался он, как сапожник.
На лагерь, ей-богу, стоило посмотреть! Палаточные веревки перепутаны, приколыши шатаются, словно и они, как люди, перепились. А людей там было с полсотни, притом самых отпетых забулдыг и буянов в нашем полку. Верьте слову, сэр, вы в жизни таких пьянчуг не видывали. Знаете, как запасной пьет? Как лягушка жиреет. Он спиртное прямо через кожу впитывает.
Пег Барни сидел на земле в одной рубашке, одна нога обута, другая нет, и сапогом вгонял в землю приколыш, распевая так, что мертвец — и тот бы проснулся. Но горланил он не просто песню, а кой-что похуже — «Чертову обедню».
— Это еще что такое? — удивился я.
— Когда шелудивого пса вроде Барни вышибают из армии, он на радостях поет «Чертову обедню»: честит всех, от главнокомандующего до отделенного, разными словами, каких вы отродясь не знавали. Бывают такие ругатели, что от их брани молоко киснет. Приходилось вам слышать, как оранжисты на сходках сквернословят? Так вот, «Чертова обедня» раз в десять похлеще будет. Ее-то и распевает Пег Барни, поминая свое начальство, и как новое имя назовет, так сапогом по приколышу и припечатает. А голосина у него был здоровенный, и ругался он отчаянно, даже трезвый.
Я подхожу к нему и тут не только вижу, но и чую — он в стельку пьян. Кончил он генерального адъютанта костить и дух переводит. Тут я и говорю:
«Здорово, Пег! Видишь, я самый лучший костюм надел, чтоб с тобой повидаться».
«А ты его скинь да попляши, штафирка поганый!» — отвечает Пег, стукнув по приколышу сапогом, и сразу начинает Барабанную Палочку грязью поливать: он до того нализался, что начальника штаба бригады и военного судью пропустил.
«Не узнаешь меня, Пег Барни?» — спрашиваю я, а все во мне так и кипит — он же меня штафиркой обозвал.
— И это почтенный, женатый человек! — простонала Дайна Шедд.
«Не узнаю, — отвечает Пег. — Вот сейчас кончу петь и лопатой тебе зад отполирую, даром что я пьяный».
«Ну, коли так, Пег Барни, — говорю я, — дело ясное: ты меня позабыл. Давай-ка я тебе твою автобиографию напомню».
С этими словами я уложил Пега пятками вверх и пошел в лагерь, а там такая картина — просто жуть берет.
— Где офицер, который команду сопровождает? — спрашиваю я Малыша Грина, а уж это гаденыш, какого свет не видел.
«Нет здесь офицеров, старая ты поварешка! — отвечает Малыш. — У нас теперь республика, черт бы тебя побрал!»
«Вот оно что? — говорю я. — Ну, тогда я О'Коннел, ваш диктатор, и ты у меня отучишься язык распускать».
Тут я уложил Малыша Грина и прямиком в офицерскую палатку. Офицер, совсем еще мальчуган, был из новеньких — я его в полку не встречал. Сидит он в палатке и делает вид, что всего этого безобразия не слышит.
Я козыряю. Сказать по правде, я сперва руку подать хотел, но потом заметил, что сабля на палаточной стойке висит, и передумал.
«Я вам, часом, не пригожусь, сэр? — спрашиваю я. — Работка у вас такая, что не каждый здоровяк сдюжит, и вечером вам обязательно помощь потребуется».
Мальчуган этот был не робкого десятка и настоящий джентльмен.
«Садитесь», — предлагает он.
«При офицере не положено», — отвечаю я и рассказываю, где и как служил.
«Я о вас слышал, — говорит он. — Это вы город Лангтангпен нагишом брали?»
«Да, славное было дельце, почетное!» — думаю я. Нами тогда лейтенант Брейзноз командовал. И продолжаю:
«Я к вашим услугам, сэр, если, конечно, потребуется. Нельзя вас было с запасными посылать. Вы уж извините, сэр, но только во всем нашем полку один лейтенант Хэкерстон с этакой оравой справиться может».
«Да, у меня таких людей еще не бывало, — соглашается он, перебирая перья на столе. — А по уставу…»
«А вы, сэр, не глядите на устав, пока команду не погрузите, — отвечаю я. — По уставу вам полагается солдат на ночь в лагерь загнать, не то они всех моих кули покалечат и пол-округи вдребезги разнесут. Сержанты у вас надежные?»
«Вполне», — говорит он.
«Вот и хорошо, — говорю я. — Вечером шум будет. Вы куда следуете, сэр?»
«На ближайшую станцию».
«Еще лучше, — говорю я. — Значит, шум будет большой».
«Запасных не очень-то прижмешь, — вздыхает он. — Главное — посадить их на пароход».
«Половину урока вы, сэр, выучили, — говорю я. — Только не держитесь за устав, иначе вы их никогда в порт не доставите, а ежели и доставите, они раньше все с себя спустят».
Лейтенант был славный паренек, и, чтоб его поднакалить, я рассказал, что вытворяла одна такая вот команда. Я это в Египте своими глазами видел.
«И что же вы видели, Малвени?» — осведомился он.
«А видел я, как пятьдесят семь отслуживших срок верзил сидели на берегу канала и всячески измывались над бедным желторотым офицериком. Они его до того довели, что он, прости его господь всемогущий, сам в грязную воду полез и вещи из лодок таскать начал».
Мой лейтенантик слушает и от возмущения задыхается. А я ему:
«Не волнуйтесь, сэр. Вы же как выступили из полка, так ни разу команду прибрать к рукам не пытались. Дождитесь темноты, тогда и возьметесь за дело. А я, с вашего позволения, сэр, поброжу по лагерю да со старыми приятелями потолкую. Все равно сейчас никого в разум не приведешь».
Тут я пошел по лагерю, заговаривая с каждым, кто был еще не совсем пьян и узнавал меня. У себя в полку я кое-что значил, и встреча со мной порадовала наших, кроме, понятно, Пега Барни: один глаз у него стал как лежалый помидор на базаре, нос — тоже вроде этого. Ребята обступили меня, трясут, а я им рассказываю, что я теперь на частной службе, собственный доход имею и гостиная у меня получше, чем у самой королевы. Пошатался я с ними по лагерю, всяких басен, историй и прочей чепухи им наплел, но все-таки их успокоил, хоть нелегкая это штука ангелом-миротворцем быть.
Перебросился я словечком и с моими прежними сержантами — они-то были трезвые, и в положенное время мы с ними загнали людей в палатки. А тут мой лейтенантик с обходом идет, подтянутый такой, вежливый.
«Квартиры, конечно, у вас неважные, — говорит он. — Но что поделаешь, ребята! Здесь не казарма. Придется потерпеть. Сегодня я спустил вам ваши штучки, но чтоб больше этого не было».
«Не будет, сынок. Заходи-ка да выпей со мной», — отвечает Пег Барни, а сам шатается.
Лейтенантик сдержался — и ни слова.
«Зазнался, поросенок?» — продолжает Пег, и вся палатка как грохнет со смеху.
Я уже вам сказал: лейтенантик был не из робких. Он тут же въехал Пегу в глаз, под который я днем фонарь поставил, и Пег кубарем покатился на другой конец палатки.
«Растяните его, сэр», — шепчу я.
«Растянуть его!» — во весь голос командует лейтенантик, словно на батальонном ученье доклад сержанта подхватывает.
Пег Барни обмяк и завыл, а сержанты схватили его и растянули на земле, прикрутив ему руки и ноги к приколышам. Лежит он ничком и ругается так, что негр — и тот побелел бы.
Я беру приколыш, сую ему в поганую пасть и приговариваю:
«Ну-ка погрызи, Пег Барни. Надо ж тебе какое-нито развлечение до утра найти — ночью не жарко будет. Твое счастье, что устава над тобой больше нет, а то б лежал ты сейчас на кобыле и кляп зубами грыз».
Команда высыпала из палаток и смотрит на Барни.
«Не по уставу! Не положено офицеру драться!» — визжит Малыш Грин — он у нас всегда законник был.
Другие тоже заворчали.
«Растянуть и этого!» — спокойненько приказывает мой мальчуган.
Сержанты хватают Малыша Грина, растягивают рядом с Барни, и я сразу вижу: люди начали в себя приходить.
«По палаткам! — кричит лейтенантик. — Сержант, выставить пост рядом с наказанными».
Все, как шакалы, разбежались по палаткам, и до утра стало тихо. Слышно было только, как часовой возле растянутых топчется да Малыш Грин всхлипывает — ну, точь-в-точь ребенок. Ночь выдалась холодная, и Пег Барни совсем протрезвел.
Перед самым подъемом вышел мой лейтенантик и говорит:
«Отвязать обоих. Пусть идут в палатку».
Малыш Грин убрался, ни слова ни говоря, а Пег Барни — он за ночь вконец закоченел — стоит и блеет, как овца: перед офицером за дурость свою извиняется. Когда пришло время снимать с привала, команда построилась без разговоров, а уж насчет того, что по уставу, а что нет, — и подавно никто не пикнул.
Я подхожу к своему прежнему старшему сержанту и говорю:
«Теперь и помирать можно. Сегодня я настоящего мужчину видел».
«Верно, — отвечает старина Хосер. — Ребята у него прямо шелковые сделались. Теперь до самого моря, как ягнятки, пойдут. Даром что мальчонка, а характера на десять генералов хватит!»
«Аминь! — говорю я. — И дай ему бог удачи на суше и на море. А ты напиши мне, когда команду погрузите. Интересно, чем у вас кончится».
И знаете, чем все кончилось? Лейтенантик, как написали мне из Бомбея, так жучил в дороге наших ребят, что они на себя непохожи стали. С тех пор как я с ними расстался и до самой погрузки, ни один не набрался больше, чем положено. И клянусь всеми святыми уставами: отплывая, они кричали мальчику «ура», пока не охрипли, а уж такого отродясь не бывало. Да, не из робких этот лейтенантик оказался. Не каждый сосунок решится старую, дряхлую развалину вроде меня послушать и устав ко всем чертям послать. Я гордился б, служи я под его…
— Ты штатский, Теренс, — предостерегающим тоном напомнила Дайна Шедд.
— Знаю, знаю. Разве с тобой об этом забудешь? И все-таки мальчуган — молодчина. А я тут в земле копайся… Протяните руку, сэр. Виски у вас под ногами. Вот так, на три пальца. А теперь, с вашего позволения, встать! Выпьем за мой старый полк.
И мы выпили.
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА РОДИНЕ[277]
Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что он убит,
Ведь ни один из них не знает,
Где путь мой потаенный скрыт
Неподражаемо проглоченные «р», когда он объявил, что «первый раз приехал» в Англию, выдали коренного жителя Нью-Йорка; а когда он во время нашей долгой неторопливой поездки на запад с вокзала Ватерлоо пустился описывать красоты родного города, я, прикинувшись неосведомленным, помалкивал. Изумленный и растроганный учтивостью лондонского носильщика, он наградил его шиллингом за то, что тот перенес чемодан на пятьдесят шагов; он досконально обследовал уборную первого класса, которую Лондонская Юго-Западная иногда предоставляет без дополнительной оплаты; а теперь с полупрезрением-полутрепетом, но не в силах оторваться, он разглядывал опрятный английский пейзаж, объятый воскресным покоем, и я видел, как на лице его выражается все большее удивление. Почему вагоны такие короткие и так высоко сидят? Почему каждый второй товарный вагон затянут брезентом? Какое теперь жалованье у машиниста? Где же английское многолюдье, о котором он столько читал? Каково общественное положение всех этих людей, что едут по дорогам на трехколесных велосипедах? Когда мы будем в Плимуте?
Я объяснил ему все, что знал, и многое, чего не знал. Он ехал в Плимут консультировать по случаю нервной диспепсии одного соотечественника, поселившегося на покое в местности, называемой «Мыс», — это в центре или в жилой части города? Да, сам он врач, и как может быть у человека в Англии нервное расстройство — выше его понимания. Он и вообразить не мог такой умиротворяющей обстановки. Даже глухое громыхание лондонских улиц — монастырская тишь по сравнению с городами, которые он мог бы назвать; а сельская местность — да это просто рай. Конечно, признался он, от долгого пребывания здесь он бы сошел с ума; но несколько месяцев… — роскошнее отдыха он себе не представляет.
— Теперь я буду приезжать каждый год, — сказал он в порыве восторга, когда мы проезжали между трехметровых изгородей розового и белого боярышника. — Увидеть все, о чем читал в книгах. Вас это, конечно, не так поражает. Вы, должно быть, здешний? Какая ухоженная страна! Мы останавливаемся. Наверно, такой ее создала природа. А вот, где я живу… Эге! что это?
Поезд остановился под ярким солнцем у Фрамлингейм Адмирала, состоящего исключительно из доски с названием, двух платформ и пешеходного мостика — даже без обычного запасного пути. На моей памяти тут не останавливались даже самые медленные пригородные поезда; но в воскресение все возможно на Лондонской Юго-Западной. Стало слышно жужжание вагонных разговоров и едва ли тише — жужжание шмелей в желтофиолях на насыпи. Мой спутник высунул голову в окно и с наслаждением принюхался.
— Где мы сейчас? — спросил он.
— В Уилтшире, — сказал я.
— А! В такой стране можно писать романы левой ногой. Так, так! Значит, это примерно те края, откуда Тэсс?[279] Я чувствую себя, будто попал в книгу. Послушайте, провод… кондуктору что-то надо. О чем он там?
По перрону уставным официальным шагом двигался великолепный, в ремне и бляхах, кондуктор и уставным официальным голосом произносил у каждой двери:
— Джентльмены, нет ли у кого-нибудь флакона с лекарством? Один джентльмен принял флакон яда (настойки опия) за что-то другое.
Через каждые пять шагов он заглядывал в официальную депешу и, освежив ее в памяти, начинал сначала. Мечтательное выражение — он пребывал где-то далеко, с Тэсс, — слетело с лица моего спутника с быстротою створки в фотозатворе. Как истинный сын своей страны, он оказался на высоте положения: сдернув с верхней полки саквояж, он раскрыл его, и я услышал звон пузырьков.
— Выясните, где пострадавший, — кратко распорядился он. — Я его отпою, если он еще может глотать.
Я поспешил вдоль состава за кондуктором. В заднем купе было шумно: чей-то голос зычно требовал, чтобы его выпустили, чья-то нога пинала дверь. Краем глаза я увидел нью-йоркского врача, устремившегося в ту же сторону со стаканом из уборной, полным голубой жидкости. Кондуктора я настиг у паровоза: он неофициально чесал в затылке и бормотал:
— Я же вынес флакон с лекарством в Андовере, я точно помню.
На это машинист отвечал:
— Все равно объяви еще раз. Приказ есть приказ. Объяви еще раз.
Кондуктор зашагал назад, а я, пытаясь привлечь его внимание, затрусил следом.
— Минутку… минутку, сэр, — говорил он, помахивая рукой, способной одним взмахом остановить все движение на Лондонской Юго-Западной. — Джентльмены, нет ли у кого-нибудь флакона с лекарством? Один джентльмен принял флакон яда (настойки опия) за что-то другое.
— Где он?
— В Уокинге. Вот мой приказ. — Он показал депешу со словами, которые надо говорить. — Он, видно, оставил свой флакон в поезде, а принял за свой флакон какой-то другой. Жутко телеграфирует из Уокинга, а мне помнится, я выносил флакон с лекарством аккурат в Андовере.
— Значит, тот, кто принял яд, не в поезде?
— Боже упаси, сэр. Он яда не принимал. Он принял тот флакон за свой флакон и вынес. И телеграфирует из Уокинга. Мне приказано опросить всех пассажиров, я опросил, и мы уже опаздываем на четыре минуты. Вы садитесь, сэр? Нет? Такое опоздание!
За исключением, быть может, английского языка нет ничего ужаснее, чем порядки на наших железных дорогах. Секунду назад казалось, что мы останемся во Фрамлингейм Адмирале навеки, а сейчас я провожал глазами хвостовой вагон, исчезавший за поворотом в выемке.
Но я был не одинок. Чуть дальше по платформе на одной из скамеек сидел самый здоровенный землекоп, какого я видел в жизни, — размякший и добродушный (если судить по лучезарной улыбке) после хорошего возлияния. В ручище он держал пустой стаканчик с вензелями Л. Ю-З. Ж. Д. на стенках и серо-голубым осадком на донышке. Рядом, положив руку ему на плечо, стоял врач, и, когда я приблизился на расстояние слышимости, до меня донеслось: «Вы только потерпите минутку-другую, и все как рукой снимет. Я побуду с вами, пока вам не станет лучше».
— Господи! — отвечал землекоп. — Да мне и так неплохо. Сроду лучше не чувствовал.
Обернувшись ко мне, врач понизил голос.
— Он мог скончаться, пока этот болван провод… кондуктор твердил свое объявление. Но я его накачал. Подействует минут через пять, но уж больно он здоров. Просто не знаю, как заставить его двигаться.
Тут мне показалось, что к низу моего живота тихо приложили семь фунтов колотого льда в виде компресса.
— Как… как вам это удалось? — задохнулся я.
— Я спросил, не хочет ли он выпить. Он разносил вагон в щепки — видимо, в силу особой своей конституции. Чтобы выпить, сказал он, я, может, пойду на край света; ну, я его выманил на платформу и напоил. Хладнокровный вы народ, британцы. Поезд ушел, а никто и в ус не дует.
— Мы дали маху, — сказал я.
Он посмотрел на меня с любопытством.
— Ну, это беда поправимая: к вечеру сядем на другой. Носильщик, когда следующий поезд на Плимут?
— В семь сорок пять, — сказал единственный носильщик и вышел через турникет на природу. Было двадцать минут четвертого, сонный жаркий день. На станции было безлюдно. Землекоп уже клевал носом.
— Плохо дело, — сказал врач. — Я про него, не про поезд. Надо заставить его пройтись — походить немного.
Как можно короче я объяснил ему щекотливость положения, и нью-йоркский врач сделался цвета позеленевшей бронзы. Он всесторонне проклял нашу славную Конституцию и родную речь — в корень, в ветви и в парадигму, склоняя их на самые замысловатые лады. Его легкое пальто и саквояж лежали на скамейке около спящего. Туда он и двинулся, крадучись, и я прочел в его глазах вероломство.
Какой бес промедления толкнул его надевать пальто, не знаю. Говорят, тихий звук пробуждает скорее громкого, и не успел доктор просунуть руки в рукава, как великан очнулся и жаркою рукой сгреб его за шелковый ворот. Лицо землекопа выражало гнев — гнев и какие-то новые пробуждающиеся чувства.
— Мне… мне… уже не так хорошо, как раньше, — вырвалось из глубин его существа. — Вы уж тут побудете возле меня — побудете. — Он шумно выдыхал сквозь сжатые губы.
Надо сказать, что если в беседе со мной доктор распространялся о чем-нибудь особенно — то о природной законопослушности, если не сказать — миролюбии, своих многажды оклеветанных соотечественников. Тем не менее (может быть, конечно, ему просто мешала пуговица) я увидел, как рука его скользнула к правому бедру, подержалась за что-то и вернулась пустой.
— Он вас не убьет, — сказал я. — Скорее подаст на вас в суд, насколько я знаю моих соплеменников. Лучше давайте ему время от времени деньги.
— Если он посидит спокойно, пока оно не подействует, — отозвался доктор, — тогда слава богу. Если нет… — моя фамилия Эмори — Джулиан Б. Эмори — Шестнадцатая улица, сто девяносто три, угол Мэдисон…
— Мне сроду не было так худо, — внезапно произнес землекоп. — Зачем… ты… меня… опоил?
Вопрос был настолько личного свойства, что я занял стратегическую позицию на пешеходном мостике и, расположившись точно посередине, стал наблюдать издали.
Подо мной, по склону Солсберийской равнины, ничем не заслоненная, тянулась на мили и мили белая дорога, и где-то на среднем плане маячила пятнышком спина единственного носильщика, возвращавшегося до семи сорока пяти во Фрамлингейм Адмирал — если на свете существовало такое место. Мягко прозвонил колокол невидимой церкви. Послышался шорох в конских каштанах слева от полотна и передвижения овец, обстригавших окрестности.
Земля погрузилась в нирвану, и я, в задумчивости облокотясь на теплые железные перила мостика (за переход путей иным способом — штраф сорок шиллингов), с небывалой ясностью осознал, что следствия наших поступков простираются бесконечно в пространстве и времени. Стоит хотя бы слегка задеть жизнь другого смертного, и воздействие нашей личности, как круги по воде, расходится и расходится в запредельность, так что сами далекие боги не ведают, затухнет ли где это сотрясение. Ведь это я, между прочим, ни слова не говоря, поставил перед доктором пустой стакан из уборной первого класса, уносившейся сейчас к Плимуту. И, однако же, я, — духовно, по крайней мере, — находился в миллионах миль от несчастного иноземца, который решил поковыряться неловким пальцем в механизме чужой жизни. А теперь механизм таскал его туда и сюда по залитой солнцем платформе. Казалось, эти двое разучивают вместе польки-мазурки, а мотивчик для них выводил один густой голос: «Зачем ты меня опоил?»
Я увидел, как на ладони доктора блеснуло серебро. Землекоп принял его левой и отправил в карман; могучая же правая ни на миг не выпускала докторского ворота, и с приближением кризиса все громче и громче раздавался бычий рев: «Зачем ты меня опоил?»
Они проплыли под толстыми футовыми бревнами мостика к скамье, и я понял, что время близится. Зелье начинало действовать. Синее, белое и снова синее волнами прокатывались по лицу землекопа, покуда их не вытеснил прочный глинисто-желтый, и — чему быть, того не миновал он.
Я подумал о стремнине Адских Ворот, о гейзерах в Йеллоустонском парке,[280] о Ионе и его ките,[281] но живая модель, хотя и укороченная верхним ракурсом, превосходила все это. Он наткнулся на скамью, на тяжелые лафеты, прибитые железными скобами к вечному камню, и уцепился за нее левой рукой. Она затряслась и задрожала, как дрожит насыпной мол под натиском рвущегося на сушу моря, и вдоволь было — когда он перевел дух — «воплей брега, разъяренного битвою с прибоем». Правая его рука держала ворот доктора, так что в одном пароксизме бились двое — два маятника, колеблющихся вместе, — и я, на расстоянии, дрожал вместе с ними.
Это было колоссально — невероятно; но английский язык немеет перед некоторыми явлениями. Только французскому, кариатидному французскому Виктора Гюго, под силу это описать; и я скорбел, хотя смеялся, торопливо перебирая и отбрасывая бледные эпитеты. Начальная ярость приступа утихла, и страдалец то ли упал, то ли опустился коленями на скамью. Теперь он хрипло призывал Бога и свою жену — как раненый бык призывает свое невредимое стадо не покидать его. Как ни странно, он не употреблял ругательств — они вышли из него вместе с остальным. Доктор извлек золотой. Он был принят и удержан. Так же, как докторский воротник.
— Если бы я мог встать, — жалобно гудел великан, — я бы тебя изничтожил, с твоими пузырьками. Помираю… помираю… помираю!
— Это вы так думаете, — возразил врач. — Увидите, от этого не будет ничего, кроме пользы, — и, возводя несколько императивную необходимость в добродетель, добавил: — Я вас не покину. Если вы меня на секунду отпустите, я дам вам средство, которое вас успокоит.
— Ты и так меня успокоил, проклятый анархист. Оставил без кормильца семью английского рабочего! Но я тебя не выпущу, пока не умру или не поправлюсь. Я тебе ничего не сделал. Ну, положим, выпил малость. Меня выкачивали у Гая желудочным зонтом. Ну, то еще понятно — но это как понять — когда убивают медленной смертью?
— Через полчаса у вас все пройдет. Зачем мне, по-вашему, вас убивать? — сказал врач, как видно, тяготевший к логике.
— А я-то почем знаю? На суде все расскажешь. Тебе за это семь лет дадут, похититель трупов. Вот кто ты есть — похититель, будь ты неладен. В Англии с законом шутки плохи, это я тебе говорю, и профсоюз мой тоже тебя потягает. У нас мудровать над чужим нутром не позволено. Одна за ерунду против твоих штук десять лет получила. И еще сотни да сотни будешь платить моей хозяйке вдобавок к пенсии. Ты еще увидишь, знахарь заморский. Где твое разрешение на такие дела? Ты еще хлебнешь — это я тебе говорю!
Тут я заметил, как уже замечал не раз, что человек, вполне умеренно боящийся столкновения с иностранцем, испытывает самый дикий страх перед действием иностранного закона. Голос доктора своей изысканной вежливостью напоминал уже флейту:
— Но я ведь дал вам очень много денег — должно быть, фунтов пя… три.
— Три фунта за отравление такого, как я? У Гая мне за труп — вперед — давали двадцать. Уй! Опять начинается.
Второй раз великан был сражен, так сказать, на корню, и скамья под ним заходила, а я отвел взгляд.
В английском майском дне как раз наступил миг завершения. Невидимые токи воздуха повернули в другую сторону, и вся природа обращала свой лик с тенями конских каштанов к покою грядущей ночи. Но от конца день отделяли еще часы — я знал это, — долгие, долгие часы бесконечных английских сумерек. И мне было довольно того, что я жив; что плыву, куда несут меня Время и Судьба; что кожей впитываю этот великий покой; что люблю мою страну с нежностью, созревающей только тогда, когда между тобой и домом — три тысячи миль соленой воды. И что за райский сад была эта холеная, подстриженная, отмытая земля! Тут заночуй в чистом поле, и тебе будет покойней и уютней, чем в самых величественных зданиях чужих городов. И радостно чувствовать, что все это — мое, неотторжимо — чистая дорога, подстриженная изгородь, скромный каменный коттедж, густая рощица и пушистые кусты, белобокий боярышник, рослое дерево. Легкое дуновение ветерка — он разбросал лепестки боярышника по блестящим рельсам — донесло до меня слабый аромат будто свежего кокоса, и я понял, что где-то вдалеке цветет золотой утесник. Линней,[282] впервые увидев его в поле, благодарил Господа на коленях — на коленях, кстати, стоял сейчас и землекоп. Но он отнюдь не молился. Он был, прямо скажем, отвратителен.
Врачу пришлось склониться над ним, лицом к спинке скамьи, и из того, что я увидел, я заключил, что землекоп умер. Если так, то сейчас самое время уйти; но я знал, что, покуда человек вверяет себя течению Обстоятельств, ни за чем не гонясь, ни от чего не уклоняясь из их подарков, ему не страшна никакая беда. Ловкача, интригана настигает закон, но только не философа. Я знал, что, когда пьеса будет доиграна, сама Судьба уведет меня от трупа; и мне было очень жаль доктора.
Вдали — по-видимому, на дороге во Фрамлингейм Адмирал — показалась лошадь с экипажем — единственным древним фаэтоном, который в случае надобности может отыскаться в любой деревне. Колесница эта, мною не оплаченная, двигалась к станции; ей предстояло спуститься в выемку под железнодорожный мост и снова выехать с той стороны, где доктор. Я находился в центре событий, и все стороны были мне равно близки. Так вот она, следовательно, моя машина из машины.[283] Когда она прибудет, что-нибудь произойдет — или что-нибудь случится. В остальном моя полная любопытства душа была ко всему готова.
Врач у скамьи обернулся — насколько позволяло его стесненное положение — через левое плечо и приложил правую руку к губам. Я сдвинул на затылок шляпу и изобразил бровями вопрос. Доктор закрыл глаза и дважды или трижды медленно кивнул, тем самым призывая меня к себе. Я осторожно спустился и обнаружил, что не ошибся в своих предположениях. Землекоп, опорожненный до донышка, спал; тем не менее рука его по-прежнему держала ворот пальто и при малейшем движении доктора (тот действительно был очень стеснен) непроизвольно сжималась, как сжимается рука больной женщины на руке сиделки. Сползши со скамьи, он сидел почти на корточках и, сползая все ниже, стаскивал доктора влево.
Доктор сунул правую — свободную — руку в карман, вытащил ключи и покачал головой. Землекоп булькал во сне. Я безмолвно полез в карман, достал соверен и поднял, держа между большим и указательным пальцами. Доктор опять покачал головой. На деньги покоя не купишь. Его саквояж упал со скамьи на землю. Он устремил на него взгляд и раскрыл рот в форме буквы «о». Замок был несложный, и, когда я с ним совладал, доктор указательным пальцем правой руки стал пилить по воздуху. С бесконечной осторожностью я извлек нож, каким они срезают разные утолщения на ногах. Доктор, нахмурившись, указательным и средним пальцами изобразил действие ножниц. Я порылся еще и выудил какие-то дьявольские кривые ножницы, способные превратить в кружево внутренности слона. Тогда доктор стал плавно опускать левое плечо, пока запястье землекопа не оперлось на скамью, — сделав короткий перерыв, когда потухший вулкан зарокотал было снова. Все ниже и ниже приседал доктор, и наконец его голова оказалась на одном уровне — и совсем рядом — с огромным волосатым кулаком, и натяжение ворота ослабло. Тут меня осенило.
Я начал чуть правее спинного хребта и вырезал в его легком пальто громадный полумесяц, заведя его в левый бок (с точки зрения землекопа — правый) настолько, насколько у меня хватило выдержки. Затем, быстро обойдя скамью, я врезался между шлицами и вскрыл правый шелковый борт пальто, так что разрезы соединились.
Осторожно, как сухопутные черепахи его родины, врач отполз вправо и с видом незадачливого взломщика, вылезающего из-под кровати, выпрямился; черное плечо его косо выглянуло из бывшего серого пальто. Я убрал ножницы в саквояж, защелкнул замок и отдал саквояж ему как раз в ту минуту, когда под сводом моста глухо застучали колеса.
Упряжка шагом миновала станционный турникет, и доктор остановил ее шепотом. Она отправлялась за пять миль, к церкви, чтобы отвезти кого-то — я не расслышал имени — домой, потому что его собственные упряжные лошади захромали. Оказалось, что как раз в эту точку земного шара пылко стремился доктор, и он сулил кучеру золотые горы, если тот отвезет его к предмету давней и пламенной страсти — Еленины Огни было его название.
— А вы со мной не поедете? — спросил он, заталкивая пальто в саквояж.
Но фаэтон столь очевидно был ниспослан доктору и никому иному, что я не желал иметь к нему никакого касательства. Мне было ясно, что пути наши расходятся, и, кроме того, я испытывал потребность посмеяться.
— Побуду здесь, — сказал я. — Очень милое место.
— Боже мой! — пробормотал он так же тихо, как прикрыл дверцу, и я почувствовал, что это — молитва.
И он исчез из моего мира, а я направил стопы к железнодорожному мосту. Мне пришлось еще раз миновать скамью, но нас разделял турникет. Отъезд фаэтона разбудил землекопа. Он вскарабкался на скамью и злобным взглядом провожал возницу, нахлестывавшего свою лошадь.
— Там человек, — выкрикнул он, — который отравил меня. Похититель трупов. Он вернется, когда я умру. Вот у меня доказательство!
Он взмахнул своей долей пальто, а я пошел своей дорогой, потому что проголодался. От станции до деревни Фрамлингейм Адмирал добрых две мили, и на каждом шагу этого пути я нарушал благодатную вечернюю тишь криками и воплями, а когда ноги отказывались меня держать, валился в славную зеленую изгородь. В деревне был трактир — благословенный трактир с соломенной крышей и пионами в садике, — и, поскольку смех еще не отпускал меня, я потребовал отдельную горницу, где пировали когда-то Лесники. Озадаченная женщина подала мне яичницу с ветчиной, и я, высунувшись из окна, хохотал между глотками. Я долго сидел над пивом и с наслаждением курил, а когда на тихой улице стало смеркаться, вспомнил о поезде семь сорок пять на Плимут и о мире «Тысячи и одной ночи», который недавно покинул.
Спустившись, я прошел мимо великана в молескине, заполнившего собой всю невысокую пивную. Перед ним стояло множество пустых тарелок, а за ними — кольцо Фрамлингеймских адмиралтейцев, внимавших дивной повести об анархии, о похищении трупов, о подкупах и о Долине Смертной Тени, откуда он только что восстал. И, рассказывая, он кушал, и, кушая, он пил, потому что места в нем было много; и платил — по-царски, говоря о правосудии и законе, перед коим все англичане равны, а все иностранцы и анархисты — грязь и тля.
По дороге на станцию он обогнал меня широким шагом: голова его возвышалась над парящими низко летучими мышами, ноги ступали твердо по убитому щебню, кулаки были стиснуты, дыхание вырывалось с шумом. Воздух пах чудно — белой пылью, примятой крапивой, дымом — запахом, от которого слезы щекочут в горле у человека, редко видящего родину, запахом, подобным эху смолкших бесед влюбленных; бесконечно красноречивым ароматом седой цивилизации. Прогулка была замечательна, и я, задерживаясь на каждом шагу, явился на станцию, когда единственный носильщик зажигал последний фонарь, из стоявших на тележке, и ставил их все обратно в кладовую, продавая при этом билеты троим или четверым жителям, которым мало было здешнего покоя и захотелось странствий. Землекопу, по-видимому, был нужен вовсе не билет. Он сидел на скамье и мстительно давил каблуком осколки стакана. Я предпочел остаться в тени, на краю платформы, нисколько не потеряв, слава богу, интереса к окружающему. На дороге послышался стук колес. Когда он приблизился, землекоп встал, вышел за турникет и взялся за уздечку, отчего наемное животное поднялось на дыбы. Это возвращался назад спасительный фаэтон, и я, грешным делом, подумал, не возникло ли у доктора безумное желание вновь навестить пациента.
— Отойди, коли пьяный, — сказал возница.
— Я не пьяный, — возразил землекоп. — Я тут незнамо сколько жду. А ну, вылезай, шаромыжник.
— Трогай, — произнес голос, мне незнакомый, — твердый, чистый, английский голос.
— Ладно же, — сказал землекоп. — Добром не хочешь. А теперь ты вылезешь?
В боку фаэтона образовалось зияние, потому что он сорвал дверцу с петель и теперь методически шарил внутри. Поиски его были вознаграждены чисто обутой ногой, а за ней, прыгая на другой, но не от радости, появился кругленький седой англичанин, у которого из подмышек посыпались сборники гимнов, а с языка — тексты совсем другого духовного содержания.
— Вылезай, похититель, будь ты неладен! Ты думал, я помер, да? — гремел землекоп. И, вняв его слову, почтенный джентльмен, онемевший от ярости, вылез.
— Сквайра убивают! — закричал возница и пал с козел на спину землекопа.
Надо отдать им должное, люди Фрамлингейм Адмирала, сколько их было поблизости, поднялись на этот клич в лучших традициях феодализма. По носу землекопа ударил компостером носильщик-билетер, но к ногам его прикрепились, и пленника освободили — три билета третьего класса.
— Позовите констебля! Арестуйте его! — сказал пленник, поправляя воротник, и объединенными усилиями они ввергли землекопа в кладовую и заперли на ключ, между тем как кучер оплакивал свой фаэтон.
До сих пор землекоп, жаждавший только лишь правосудия, благородно сдерживал свой гнев. Теперь же перед нашими изумленными взорами он впал в боевую ярость. Дверь кладовой была построена добротно и не поддавалась ни на дюйм; зато окно он вырвал целиком и выкинул наружу. Единственный носильщик громко подсчитывал ущерб, а остальные, вооружившись сельскохозяйственными орудиями в станционном садике, беспрерывно бряцали ими подле окна, держась поближе к стенке, и призывали узника подумать о темнице. Призывы эти, насколько они могли понять, не находили в нем отклика; напротив, видя, что выход прегражден, он схватил фонарь и выкинул в пролом. Фонарь упал на щебень и погас.
За ним, как ракеты в сумраке, с немыслимой быстротой вылетели остальные, числом пятнадцать, и с последним (чего он не мог предвидеть) боевая ярость покинула его, а ужасное зелье доктора под влиянием энергичных движений и обильной трапезы, наоборот, взыграло, произведя еще один, последний катаклизм — и мы услышали гудок поезда семь сорок пять на Плимут.
Всем нам было крайне интересно поглядеть на разрушения, ибо паровоз пробежал по битому стеклу, как терьер по парнику с огурцами, и керосином от станции разило до небес. А кондуктору удалось еще и послушать — сквайр дал свою версию зверского нападения, и, когда я искал свободное место, все головы торчали из вагонов наружу.
— Что за шум? — спросил молодой человек, когда я вошел. — Пьяный?
— Ну, насколько мне позволяют судить мои наблюдения, симптомы скорее похожи на азиатскую холеру, чем на что-либо иное, — ответил я медленно и веско, дабы каждое слово встало на место в расчисленном ходе событий. До сих пор, напоминаю, я не принимал участия в военных действиях.
Он был англичанин, но собрал свое имущество так же быстро, как тысячу лет назад — американец, и выбежал на платформу с криком:
— Чем я могу помочь? Я доктор.
Из кладовой донесся измученный вопль:
— Еще один доктор, будь он неладен!
И поезд семь сорок пять понес меня дальше — еще на шаг ближе к Вечности, по колее, проторенной, изборожденной и взрытой страстями и слабостями и непримиримыми интересами человека — бессмертного хозяина своей судьбы.
В НАВОДНЕНИЕ[284]
Молвит Твид, звеня струей:
«Тилл, не схожи мы с тобой.
Ты так медленно течешь…»
Отвечает Тилл: «И что ж?
Но зато, где одного
Топишь ты в волнах своих,
Я топлю двоих».
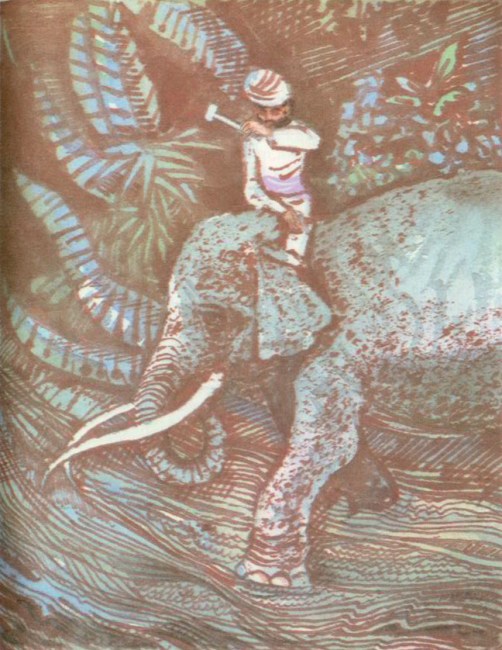
Нет, не переправиться нам этой ночью через реку, сахиб. Слыхал я, что сегодня уже снесло одну воловью упряжку, а экка, которую отправили за полчаса, до того как ты пришел, еще не приплыла к тому берегу. А что, разве сахиб спешит? Я велю сейчас привести нашего слона и загнать его в реку, тогда сахиб сам убедится. Эй, ты там, махаут, ну-ка выходи из-под навеса, выводи Рама Першада, и если он не побоится потока, тогда добро. Слон никогда не обманет, сахиб, а Рама Першада разлучили с его другом Кала-Нагом, так что ему самому хочется на тот берег. Хорошо! Очень хорошо! Ты мой царь! Иди, махаутджи, дойди до середины реки и послушай, что она говорит. Очень хорошо, Рам Першад! Ты, жемчужина среди слонов, заходи же в реку! Да ударь его по голове, дурак! Для чего у тебя бодило в руках, а, чтобы ты им свою жирную спину чесал, ублюдок? Бей! Бей его! Ну что для тебя валуны, Рам Першад, мой Рустам, о ты, моя гора мощи! Иди! Иди же! Ступай в воду!
Нет, сахиб! Бесполезно. Ты же слышишь, как он трубит. Он говорит Кала-Нагу, что не может перейти. Погляди! Он повернул обратно и трясет головой. Он ведь не дурак. Он-то знает, что такое Бархви, когда она злится. Ага! Ну конечно, ты у нас не дурак, сын мой! Салам, Рам Першад, бахадур. Отведи его под деревья, махаут, и смотри покорми его пряностями. Молодец, ты самый великий из слонов. Салам господину и иди спать.
Что делать? Сахибу придется ждать, пока река спадет. А спадет она, если богу будет угодно, завтра утром, а не то, так — уж самое позднее — послезавтра. Что же сахиб так рассердился? Я его слуга. Видит бог, не я устроил такой паводок. Что я могу сделать? Моя хижина и все, что в ней есть, — к услугам сахиба. Вот и дождь пошел. Пойдем, мой господин. Ведь река не спадет от того, что ты поносишь ее. В старые времена англичане были не такие. Огненная повозка изнежила их. В старые времена, когда они ездили в колясках и гнали лошадей днем и ночью, они, бывало, и слова не скажут, если река преградит им путь или коляска застрянет в грязи. Они знали — на то воля божья. Теперь все иначе. Теперь огненная повозка идет и идет себе, хотя бы духи всей страны гнались за ней. Да, огненная повозка испортила англичан. Ну, посуди сам, что такое один потерянный день, а то даже и два? Разве сахиб торопится на свою собственную свадьбу, что он в такой безумной спешке? Ох! Ох! Ох! Я старый человек и редко вижу сахибов. Прости меня, если забыл, что с ними нужно быть почтительным. Сахиб не сердится?
Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! Разум старого человека — словно дерево нума. На одном дереве вперемешку и плоды, и почки, и цветы, и увядшие листья прошлых лет. Так и у старика в голове — все перемешано: прошлое, новое и то, что давно позабыто. Сядь на кровать, сахиб, и выпей молока. А может, скажи правду, сахиб хочет отведать моего табачку? Хороший табак. Из Нуклао. Мой сын там служит в армии, так вот он прислал мне оттуда этот табак. Угощайся, сахиб, если только ты знаешь, как обращаться с такой трубкой. Сахиб держит ее, как мусульманин. Вах! Вах! Где он научился этому? Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! Сахиб говорит, что дело тут ни в какой не в свадьбе. Да разве сахиб скажет мне правду, я ведь всего лишь чернокожий старик. Чего же тогда удивляться, что он так спешит. Тридцать лет ударяю я в гонг на этой переправе, но никогда еще не видел, чтобы хоть один сахиб так спешил. Тридцать лет, сахиб! Это ведь очень много. Тридцать лет тому назад эта переправа была на пути караванов; однажды ночью здесь перешли на ту сторону две тысячи вьючных волов. Ну а теперь пришла железная дорога, гудят огненные повозки, и по этому мосту пролетают сотни тысяч пудов. Да, удивительное дело… А переправа теперь опустела, и нет больше караванов под этими деревьями.
Ну, что тебе зря себя утруждать и смотреть на небо. Все равно ведь дождь будет идти до рассвета. Прислушайся! Сегодня ночью валуны на дне реки разговаривают между собой. Послушай их! Они все начисто сдерут с твоих костей, сахиб, попробуй ты перебраться на тот берег. Знаешь, я лучше закрою дверь, чтобы здесь дождем не намочило. Вах!.. Ах! Ух! Тридцать лет на берегу этой переправы. Теперь уж я старик… Да где же это у меня масло для лампы?
Ты уж прости меня, но я по старости сплю не крепче собаки, а ты подошел к двери. Послушай, сахиб. Смотри и слушай. От берега до берега добрых полкоса — даже при свете звезд это видно, — да глубина сейчас десять футов. И сколько бы ты ни сердился, вода от этого не спадет и река не успокоится, как бы ты ни проклинал ее. Ну, скажи сам, сахиб, у кого голос громче, у тебя или у реки? Ну прикрикни на нее, может, ты ее и пристыдишь. Лучше ложись-ка ты спать, сахиб. Я знаю ярость Бархви, когда в предгорье идет дождь. Однажды я переплыл поток в паводок; ночь тогда была в десять раз хуже этой, но божьей милостью я спасся тогда от смерти, хоть и был у самых ее ворот.
Хочешь, я расскажу тебе об этом? Вот это хорошие слова. Сейчас, только набью трубку.
С тех пор прошло тридцать лет; я был совсем молодой и только что приехал сюда работать на переправе. Погонщики всегда верили мне, когда я говорил: «Можно переправляться, река спокойна». Как-то я всю ночь напролет напрягал свою спину в речных волнах среди сотни обезумевших от страха волов и переправил их на ту сторону и даже одного копыта не потерял. Покончил с ними и переправил трясущихся людей, и они дали мне в награду самого лучшего вола — вожака стада с колокольчиком на шее. Вот в каком я был почете! А теперь, когда идет дождь и поднимается вода, я заползаю в свою хижину и скулю, как пес. Сила моя ушла от меня. Я теперь старик, а переправа опустела с тех пор, как появилась огненная повозка. А прежде меня называли «Сильнейший с реки Бархви».
Взгляни на мое лицо, сахиб, это лицо обезьяны. А моя рука — это рука старухи. Но клянусь тебе, сахиб, женщина любила это лицо, и голова ее покоилась на сгибе этой руки. Двадцать лет тому назад, сахиб. Верь мне, говорю сущую правду — двадцать лет тому назад.
Подойди к двери и погляди туда через реку. Ты видишь маленький огонек далеко, далеко, вон там, внизу по течению. Это огонь храма. Там святилище Ханумана[285] в деревне Патира. Сама деревня вон там на севере, где большая звезда, только ее не видно за излучиной. Далеко туда плыть, сахиб? Хочешь снять одежду и попробовать? А вот я плавал в Патиру — и не один, а много раз; а ведь в этой реке водятся крокодилы.
Любовь не знает каст; а иначе никогда бы мне, мусульманину, сыну мусульманина, не добиться любви индусской женщины — вдовы индуса — сестры вождя Патиры. Но так оно и было. Когда Она только что вышла замуж, вся семья вождя отправилась на паломничество в Матхуру.[286] Серебряные ободья были на колесах повозки, запряженной волами, а шелковые занавески скрывали женщину. Сахиб, я не торопился переправить их, потому что ветер раздвинул занавески, и я увидел Ее. Когда они вернулись после паломничества, ее мужа не было. Он умер. И я снова увидел Ее в повозке, запряженной волами. Бог мой, до чего же они глупые, эти индусы! Какое мне было дело, индуска ли она, или джайна, или из касты мусорщиков, или прокаженная, или все это, вместе взятое? Я бы женился на ней и устроил бы для нее дом на переправе. Разве не говорит седьмая из девяти заповедей, что мусульманину нельзя жениться на идолопоклоннице? И шииты и сунниты[287] разве не запрещают мусульманам брать в жены идолопоклонниц? Может, сахиб священник, что он так много знает? А я вот скажу ему то, чего он не знает. В любви нет ни шиитов, ни суннитов, нет запретов и нет идолопоклонников; а девять заповедей — это просто девять хворостин, которые в конце концов сгорают в огне любви. Сказать тебе правду, я бы забрал ее, но как я мог это сделать? Вождь послал бы своих людей, и они палками разбили бы мне голову. Я не боюсь — я не боялся каких-нибудь пяти человек, но кто одолеет половину деревни?
Так вот, по ночам я, бывало, — так уж мы с Ней условились — отправлялся в Патиру, и мы с Ней встречались посреди поля, так что ни одна живая душа ни о чем не догадывалась. Ну, слушай дальше! Обычно я переплывал здесь на ту сторону и шел джунглями вдоль берега до излучины реки, где железнодорожный мост и откуда дорога поворачивала в Патиру. А когда ночи были темные, огни храма указывали мне путь. В этих джунглях у реки полно змей — маленьких карайтов, которые спят в песке. Ее братья, попадись я им в поле, убили бы меня. Но никто ничего не знал — никто, только Она и я; а следы моих ног заносило речным песком. В жаркие месяцы было легко добраться от переправы до Патиры, да и в первые дожди, когда вода поднималась медленно, было тоже нетрудно. Силой своего тела я боролся с силой потока, и по ночам я ел в своей хижине, а пил там, в Патире. Она рассказывала мне, что Ее добивается один мерзавец, Хирнам Сингх — из деревни на той стороне реки, вверх по течению. Все сикхи — собаки, они в своем безумии отказались от табака, этого дара божьего. Я убил бы Хирнама Сингха, приблизься он к Ней. К тому же он узнал, что у Нее есть любовник, и поклялся выследить его. Этот подлец грозил, что, если Она не пойдет с ним, он обо всем расскажет вождю. Что за мерзкие псы эти сикхи!
Как услышал я про это, больше уж без ножа к Ней не плавал. Маленький, острый, он всегда был у меня за поясом. Плохо бы пришлось этому человеку, если бы он встал у меня на пути. Я не знал Хирнама Сингха в лицо, но убил бы всякого, кто встал бы между мной и Ею.
Однажды ночью, в самом начале дождей, я решил плыть в Патиру, хотя река уже была сердитая. Уж такая у Бархви натура, сахиб. За двадцать дыханий с холмов накатилась стена высотой в три фута; пока я развел огонь и стал готовить чапатти, Бархви из речушки выросла в родную сестру Джумны.
Когда я отплыл от этого берега, в полмиле вниз по течению была отмель, и я решил плыть туда, чтобы передохнуть там, а потом плыть дальше; я уже чувствовал, как река своими тяжелыми руками тянет меня на дно. Но что не сделаешь в молодости ради Любви! Звезды едва светили, и на полпути к отмели ветка какого-то паршивого кедра прошлась по моему лицу, когда я плыл. Это было признаком сильного ливня у подножья холмов и за ними. Потому что кедр — это крепкое дерево, и его не так-то легко вырвать из склона. Я плыл, плыл быстро, река помогала мне. Но раньше чем я доплыл до отмели, там уже бушевала вода. Вода была внутри меня и вокруг меня, а отмель исчезла; меня вынесло на гребне волны, которая перекатывалась от одного берега к другому. Доводилось ли когда-нибудь сахибу очутиться в бушующей воде, которая бьет и бьет и не дает человеку двинуть ни рукой ни ногой? Я плыл, голова едва над водой, и мне казалось, что всюду, до самого края земли, одна вода, только вода, и ничего больше. И меня несло вниз по течению вместе с плавуном. Человек так ничтожно мал во вздутом брюхе потока. А это было — хотя тогда я этого еще не знал — Великое Наводнение, о котором люди еще до сих пор говорят. Во мне все оборвалось, я лежал на спине, словно бревно, и с ужасом ждал смерти. Вода была полна всякой живности, и все отчаянно кричали и выли — мелкие звери и домашний скот, — и один раз я услышал голос человека, который звал на помощь, но пошел дождь, он хлестал и вспенивал воду, и я не слышал больше ничего, кроме рева валунов внизу и рева дождя наверху. Меня все крутило и вертело потоком, и я изо всех сил старался глотнуть воздуха. Очень страшно умирать, когда молод. Видно сахибу отсюда железнодорожный мост? Посмотри, вон огни, это почтовый поезд. Он идет в Пешавар. Мост сейчас на двадцать футов выше воды, а в ту ночь вода ревела у самой решетки моста, и к решетке принесло меня вперед ногами. Но там и у быков сгрудилось много плавуна, поэтому меня не сильно ударило. Река только прижала меня, как может прижать сильный человек слабого. С трудом ухватился я за решетку и переполз на верхнюю ферму. Сахиб, рельсы были на глубине фута под водой, и через них перекатывались бурлящие потоки пены! По этому ты сам можешь судить, какой это был паводок. Я ничего не слышал и не видел. Я мог только лежать на ферме и судорожно хватать воздух.
Через некоторое время ливень кончился, в небе снова появились омытые дождем звезды, и при их свете я увидел, что не было края у черной воды и вода поднялась выше рельсов. Вместе с плавуном к быкам прибило трупы животных; некоторые животные застряли головой в решетке моста; были еще и живые, совсем изнемогающие, они бились и пытались забраться на решетку, — тут были буйволы, коровы, дикие свиньи, один или два оленя и змеи и шакалы — всех не перечесть. Их тела казались черными с левой стороны моста, самых маленьких из них вода протолкнула через решетку, и их унесло потоком.
А потом звезды исчезли, и с новой силой полил дождь, и река поднялась еще больше; я почувствовал, что мост стал ворочаться, как ворочается во сне человек, перед тем как проснуться. Мне не было страшно, сахиб. Клянусь тебе, мне не было страшно, хотя ни в руках моих, ни в ногах больше не было силы. Я знал, что не умру, пока не увижу Ее еще раз. Но мне было очень холодно, и я знал, что мост снесет.
В воде появилась дрожь, как бывает, когда идет большая волна, и мост поднял свой бок под натиском этой набегающей волны так, что правая решетка погрузилась в воду, а левая поднялась над водой. Клянусь бородой, сахиб, бог видит, я говорю сущую правду! Как в Мирзапоре накренилась от ветра баржа с камнями, так перевернулся и мост Бархви. Было так, а не иначе.
Я соскользнул с фермы и очутился в воде; позади меня поднялась волна разъяренной реки. Я слышал ее голос и визг средней части моста в тот момент, когда он стронулся с быков и затонул, а дальше я не помнил ничего и очнулся уже в самой середине потока. Я вытянул руку, чтобы плыть, и что же! Она коснулась курчавой головы человека. Он был мертв, потому что только я, Сильнейший с Бархви, мог выжить в этой борьбе с рекой. Умер он дня два тому назад, его уже раздуло, и он всплыл. И он оказался спасением для меня. И тогда я засмеялся. Я был уверен, что увижу Ее, что со мной ничего не случится. Я вцепился пальцами в волосы этого человека, потому что очень устал, и мы вместе двинулись по бурлящей реке — он мертвый, я живой. Без этой помощи я бы утонул: холод пронизывал меня до мозга костей, а все мое тело было изодрано и пропиталось водой. Но он не знал страха, он, познавший всю силу ярости реки; и я дал ему плыть туда, куда он захочет. Наконец мы попали в течение бокового потока, который мчался к правому берегу, и я стал яростно бить ногами, чтобы приплыть туда. Но мертвеца тяжело раскачивало в бурлящем потоке, и я боялся, как бы он не зацепился за какую-нибудь ветку и не пошел ко дну. Мои колени задевали верхушки тамариска, и я понял, что поток несет нас над посевами, и через некоторое время я опустил ноги и почувствовал дно — край поля, а потом мертвец застрял на холмике под фиговым деревом, и я, полный радости, вытащил свое тело из воды.
Знает ли сахиб, куда принесло меня потоком? К холмику, который был вехой на восточной границе деревни Патира. Не куда-нибудь еще! Я вытащил мертвеца на траву за ту услугу, которую он мне оказал, и еще потому, что не знал, не понадобится ли он мне опять. А потом я пошел, трижды прокричав, как шакал, к условленному месту встречи, недалеко от коровника вождя. Но моя Любовь была уже там и рыдала. Она боялась, что паводком снесло мою хижину у переправы на Бархви. Когда я тихо вышел из воды, которая была мне по щиколотку, Она подумала, что это привидение, и чуть не убежала, но я обхватил Ее руками и — я был отнюдь не привидение в те дни, хотя теперь я старик. Ха! Ха! Высохший кукурузный початок, по правде сказать. Маис без сока. Ха! Ха![288]
Я поведал Ей, как сломался мост через Бархви, и Она сказала, что я больше чем простой смертный, потому что никому не дано переплыть Бархви во время паводка и потому что я видел то, что никогда еще раньше не видел ни один человек. Держась за руки, мы подошли к холмику, где лежал мертвец, и я показал Ей, с чьей помощью я переплыл реку. Она посмотрела на труп при свете звезд — была вторая половина ночи, но еще не светало, — закрыла лицо руками и стала кричать: «Это же Хирнам Сингх!» Я сказал: «Мертвая свинья полезнее, чем живая, моя Любимая». И Она ответила: «Конечно, ведь он спас самую дорогую жизнь для моей любви. Но все равно, ему нельзя оставаться здесь, потому что это навлечет позор на меня». Тело лежало ближе, чем на расстоянии выстрела от Ее двери.
Тогда я сказал, перекатывая тело руками: «Бог рассудил нас, Хирнам Сингх, он не хотел, чтобы твоя кровь была на моей совести. А теперь, — пусть я и совершаю грех, и лишаю тебя гхата сожжения, — ты и вороны делайте, что хотите». И тогда я столкнул его в воду, и его понесло течением, а его черная густая борода раскачивалась, как проповедник на кафедре. И больше я не видел Хирнама Сингха.
Мы с Ней расстались перед рассветом, и я пошел той частью джунглей, которая не была затоплена. При свете дня я увидел, что я совершил в темноте, и все мое тело обмякло. Я увидел, что между Патирой и деревьями на том берегу было два коса разъяренной вспененной воды, а посредине торчали быки моста Бархви, похожие на челюсти старика со сломанными зубами. На воде не было никакой жизни — ни птиц, ни лодок, — одни только трупы, несметное множество — волы, и лошади, и люди, — а река была краснее, чем кровь, от глины с подножья холмов. Никогда еще раньше не видел я такого паводка и никогда больше с того года не видел ничего подобного; и, о сахиб, никогда еще ни один человек в жизни не совершил того, что совершил я. В этот день я не мог и думать о возвращении. Ни за какие земли вождя сейчас, при свете, не отважился бы я снова на это страшное дело. Я прошел один кос вверх по течению, до дома кузнеца, и сказал ему, что паводком меня смыло из моей хижины, и мне дали поесть. Семь дней жил я у кузнеца, пока не приплыла лодка и я не смог возвратиться домой. Но дома не было — ни стен, ни крыши — ничего, только немного вязкой грязи. По этому ты, сахиб, суди сам, как высоко поднялась река.
Так было предначертано, что мне не суждено было умереть ни у себя дома, ни посередине Бархви, ни под обломками моста через Бархви, потому что бог послал мне Хирнама Сингха, уже два дня как мертвого, хотя я и не знал, как и от чего умер этот человек, чтобы служить мне поплавком и поддержкой. Все эти двадцать лет Хирнам Сингх в аду, и для него мысль об этой ночи — самая ужасная из всех пыток.
Послушай, сахиб, голос реки изменился. Она собирается уснуть до зари, а до зари остается только час. С рассветом она спадет. Откуда я знаю? Да разве, если я пробыл здесь тридцать лет, я не знаю голос реки, как отец знает голос сына? С каждой минутой голос у нее все менее и менее сердитый. Я поклянусь, что через час, от силы через два, уже не будет никакой опасности. А за утро я не могу отвечать. Поторопись, сахиб! Я позову Рама Першада, и на этот раз он не повернет назад. Багаж хорошо обвязан брезентом? Эй, махаут, ты, тупица, слона для сахиба! И скажи им там, на том берегу, что днем переправы не будет. Деньги? Нет, сахиб. Я не из таких. Нет, нет, не возьму даже на леденцы ребятишкам. Посмотри сам, дом мой пуст, а я уж старик.
Иди, Рам Першад! Ну! Удачи тебе, сахиб.
КАК ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИЗНАЛИ ЗЕМЛЮ ПЛОСКОЙ[289]
До того мгновения мы ехали вполне благополучно. В автомобиле вместе со мною сидели мой друг Вудхаус, его дальний родственник молодой Оллиэтт и член парламента Поллент. Вудхаус по роду своей деятельности был человеком примечательным, он занимался врачеванием и исцелением захиревших газет. Безошибочным нюхом он угадывал на веку газеты точный срок, когда иссякает инерция, некогда обретенная ею благодаря умелому управительству, и она застывает на мертвой точке, где ее ждет либо медленный и разорительный крах, либо возрождение к новой жизни, которую могут ей дать многократные инъекции золота — а также вмешательство гения. В журналистике Вудхаус отличался невежеством на грани мудрости; но уж если он снисходил до того, чтобы заняться иссохшим скелетом, кости неизменно обрастали плотью. Всего неделю назад он пополнил свою коллекцию, состоявшую из процветающей лондонской ежедневной газеты, провинциальных, тоже ежедневных, ведомостей и захудалого коммерческого еженедельника, прибрав к рукам полудохлую и полужухлую вечернюю газетенку. Мало того, не прошло еще и часа, как он всучил мне толстый пакет акций этой самой газетенки, а теперь посвящал в тонкости издательского искусства Оллиэтта, молодого человека с волосами цвета кокосового волокна и лицом, на которое суровые жизненные испытания наложили столь же суровый отпечаток, хотя он всего три года назад окончил Оксфордский университет, а теперь, как я понял, стал соучастником в этом новом рискованном предприятии. Поллент, рослый, морщинистый парламентарий, чей голос напоминал даже не крик павлина, а скорей курлыканье журавля, акций не принял, зато щедро одарил всех советами.
— Вам, конечно, покажется, что это просто-напросто живодерня, — говорил между тем Вудхаус. — Да, я знаю, меня и впрямь прозвали Живодером, но не минет и года, как дело окупится. Так бывает со всеми моими газетами. Я признаю только один девиз: «Ратуй за свою удачу и ратуй за своих людей». Все будет хорошо.
Тут полисмен остановил наш автомобиль за превышение скорости и потребовал, чтобы мы назвали свои фамилии и адреса. Мы стали возражать, что впереди на добрых полмили дорога совершенно прямая и не пересекает даже ни единого проселка.
— Только это всех нас и поддерживает, — сказал полисмен противным голосом.
— Самое обычное вымогательство, — шепнул Вудхаус, а потом спросил громко: — Как называется это место?
— Хакли, — ответил полисмен. — Х-а-к-л-и.
И записал в блокнот нечто такое, от чего молодой Оллиэтт бурно возмутился.
Грузный рыжеволосый человек, который с самого начала разглядывал нас, восседая на сером коне по другую сторону живой изгороди, что-то повелительно крикнул, но слов мы не расслышали. Полисмен взялся рукой за бортик правой дверцы (Вудхаус возит запасное колесо позади кузова), захлопнул ее и при этом надавил кнопку электрического сигнала. Серый конь тотчас пустился вскачь, и мы слышали, как всадник ругался на всю округу.
— Черт бы вас побрал, вы же прижали ее своим дурацким кулачищем! Уберите руку! — завопил Вудхаус.
— Ха! — ответствовал блюститель порядка, созерцая свои пальцы с таким видом, словно их искалечили. — От этого вам тоже непоздоровится.
И прежде чем нас отпустить, он еще что-то записал в блокнот.
В тот день Вудхаус впервые соприкоснулся с правилами движения, и я, не предвидя лично для себя каких-либо неприятных последствий, сказал все же, что дело приняло очень серьезный оборот. В этом своем мнении я утвердился еще более, когда в надлежащее время сам получил повестку, из которой узнал, что мне предстоит отвечать перед судом по целому ряду обвинений — от употребления нецензурных слов до создания аварийной ситуации для транспорта.
Правосудие вершилось в захолустном городишке, где была рыночная площадь, окруженная желтоватыми домиками, невысокая башня с курантами, воздвигнутая по случаю юбилея королевы Виктории, и большая хлебная биржа. Вудхаус отвез нас туда в своем автомобиле. Поллент, хоть и не получил повестки, поехал тоже, дабы оказать нам моральную поддержку. Когда мы дожидались у дверей, подъехал тот самый толстяк на сером коне и затеял громкий разговор со своими коллегами из суда. Одному из них он сказал — я не поленился это записать — такие слова: «От самых моих ворот она пролегает прямо, как по линейке, на три четверти мили. Тут уж никто не устоит, голову даю на отсечение. За прошлый месяц мы слупили с них семьдесят фунтов. Ни один автомобилист не в силах устоять перед соблазном. Советую вам, Майкл, сделать у себя то же самое. Они попросту не в силах устоять».
— Фюить! — присвистнул Вудхаус. — Неприятностей нам не миновать. Вы лучше помалкивайте — и вы, Оллиэтт, тоже! Я уплачу штраф, и мы покончим с этим как можно скорей. А где Поллент?
— Где-то в кулуарах суда, — ответил Оллиэтт. — Я сейчас только видел, как он туда проскользнул.
Меж тем толстяк воссел на председательское место, и я узнал от какого-то зеваки, что это сэр Томас Ингелл, баронет, член парламента, владелец Ингелл-парка в Хакли. Начал он со столь громовой речи, словно обличал мятежи во всех империях мира. Свидетельские показания давались наскоро — в перерывах между фразами этой речи, если только публика, переполнившая тесный судебный зал, не заглушала свидетелей рукоплесканиями. Все очень гордились своим сэром Томасом и порой отрывали от него глаза, поглядывая на нас и удивляясь, почему мы не аплодируем вместе с прочими.
Изредка осмеливаясь прервать председателя, остальные члены суда потешались над нами ровно семнадцать минут. Сэр Томас объяснил, что ему осточертело видеть бесконечный поток невеж вроде нас, каковые принесли бы более пользы, если бы стали колоть щебень для мощения дороги, вместо того чтобы пугать лошадей, которые стоят дороже, чем они сами вкупе со своими предками. К этому времени уже было доказано, что шофер Вудхауса преднамеренно дал гудок, дабы досадить сэру Томасу, «случайно ехавшему мимо». Последовали еще высказывания — весьма немудрящие, — но даже не уровень, на каком вершилось правосудие, и не смех публики, а отвратительно грубый тон возмутил нас до глубины души. Когда с нами покончили — наложив штраф в двадцать три фунта двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — мы остались дожидаться Поллента и присутствовали при слушании следующего дела — кого-то обвиняли в том, что он ехал, не имея водительских прав. Оллиэтт уже записал для своей вечерней газетки все подробности суда над нами, но мы не хотели давать повод для упреков в предвзятости.
— Ничего, — утешал нас репортер местной газеты. — Мы никогда не сообщаем о сэре Томасе in extenso.[290] Даем лишь сведения о штрафах и взысканиях.
— Что ж, благодарю вас, — сказал Оллиэтт, и я слышал, как он расспрашивал о каждом из членов суда. Местный репортер оказался очень словоохотлив.
Очередная жертва, крупный мужчина с соломенно-желтыми волосами, был одет весьма странно, и когда сэр Томас, на сей раз с подчеркнутым благодушием, обратил на него внимание публики, он заявил, что позабыл права дома. Сэр Томас осведомился, не угодно ли ему, чтобы наряд полиции отправился к нему по месту жительства в Иерусалим и отыскал там права, суд покатился со смеху. Фамилию ответчика мэр Томас тоже признать не пожелал и упорно именовал его «мистер Маскарадный», неизменно вызывая громкий хохот у своих приспешников. Видимо, это было общепринятое здесь аутодафе.
— Надо полагать, меня он не вызвал в суд, потому что я член парламента. Пожалуй, придется мне сделать запрос, — сказал Поллент, вернувшись перед вынесением приговора.
— Пожалуй, придется и мне предать это дело гласности, — сказал Вудхаус. — Нельзя же допустить, чтобы такое безобразие продолжалось и впредь.
Лицо у него было застывшее и очень бледное. Лицо Поллента, напротив, потемнело, а у меня, помнится, все нутро выворачивало от ярости. Оллиэтт молчал, как немой.
— Ну ладно, пойдемте завтракать, — сказал наконец Вудхаус. — Тогда мы успеем уехать, прежде чем это сборище начнет расходиться.
Мы избавили Оллиэтта от навязчивого репортера, пересекли рыночную площадь и вошли в гостиницу «Рыжий лев», где человек, которого сэр Томас именовал «мистер Маскарадный», только что принялся за пиво, бифштекс и маринованные огурцы.
— Ага! — приветствовал он нас внушительным голосом. — Товарищи по несчастью. Не угодно ли вам, джентльмены, составить мне компанию?
— С удовольствием, — отвечал Вудхаус — Что думаете делать?
— Сам еще не решил. Все могло бы обернуться к лучшему, только вот… публика не доросла до таких штук. Это выше ее понимания. Иначе тот рыжий мужлан в судейском кресле приносил бы полсотни дохода в неделю.
— Где? — спросил Вудхаус.
Наш собеседник воззрился на него с непритворным удивлением.
— Повсюду в Моих краях, — ответил он. — Но, простите, может быть, вы живете здесь?
— Боже правый! — вскричал вдруг молодой Оллиэтт. — Значит, вы и есть сам Маскерьер? Я так и знал!
— Да, я Бэт Маскерьер. — Он произнес это так веско, словно предъявлял международный ультиматум. — Да, это я самый. Но у вас, джентльмены, есть преимущество.
Поначалу, когда мы знакомились, я был в недоумении. Но потом припомнил яркие многоцветные афиши мюзик-холлов — афиши чудовищной величины, — которые много лет назад были незаметной подоплекой моих поездок в Лондон. Афиши, возвещавшие о выступлениях мужчин и женщин, певцов, жонглеров, подражателей и авантюристов, тайных или явных, которых рассовывал повсеместно в Лондоне и в провинции Бэт Маскерьер — помню его подпись с длинным причудливым росчерком после конечного «р».
— Я вас сразу узнал, — сказал Поллент, опытный парламентарий, и я немедля подхватил эту ложь. Вудхаус промямлил какие-то извинения. Бэт Маскерьер проявил к нам не более расположения или враждебности, чем стена какого-нибудь из его шикарных заведений.
— Я всегда внушаю Своим людям, что размеры букв имеют предел, — сказал он. — Попробуйте только переступить этот предел, и глаз их не воспримет. Реклама — самая точная из всех наук.
— Кстати, я знаю одного человека, который намерен ею воспользоваться, если только мне не суждено помереть в ближайшие сутки, — сказал Вудхаус и объяснил, каким именно образом все произойдет.
Маскерьер долго и пристально рассматривал его голубыми со стальным отливом глазами.
— Вы это серьезно говорите? — спросил он с расстановкой; голос у него был такой же завораживающий, как и взгляд.
— Я говорю серьезно, — сказал Оллиэтт. — Одной этой истории с гудком достаточно, чтоб он вылетел из судейской коллегии не поздней чем через три месяца.
Маскерьер разглядывал его еще дольше, чем Вудхауса.
— Он посмел сказать мне, — произнес он вдруг, — что мое место жительства в Иерусалиме. Вы слышали?
— Но главное — в каком тоне, в каком тоне! — вскричал Оллиэтт.
— Вы и это заметили, да? — сказал Маскерьер. — Вот что значит артистический темперамент. С ним многого можно достичь. А я — Бэт Маскерьер, — продолжал он. Потом он положил на стол сжатые кулаки, подпер ими подбородок и мрачно уставился прямо перед собой… — Я создал «Силуэты», я создал «Трилистник» и «Джокунду». Я создал Дол Бензаген. — Тут Оллиэтт выпрямился на стуле, потому что он, подобно всей молодежи тех лет, обожал мисс Вайдол Бензаген из «Трилистника» неимоверно и беззаветно. — «А что, позвольте полюбопытствовать, на Вас надето, домашний халат или балахон?» Слышали вы это? «И еще, позвольте полюбопытствовать, вам недосуг было расчесать патлы?» Слышали вы это? А теперь послушайте меня!
Голос его гремел на всю кофейню, потом вдруг понизился до шепота, столь же зловещего, как шепот хирурга перед операцией. Он говорил несколько минут без умолку.
Поллент пробормотал:
— Правильно! Правильно!
Я заметил, как сверкают глаза Оллиэтта — именно к Оллиэтту Маскерьер главным образом обращался, — а Вудхаус подался вперед и скрестил руки на груди.
— Вы заодно со мной? — продолжал Маскерьер, объединяя нас всех единым взмахом руки. — Когда я берусь за дело, джентльмены, то довожу его до конца. Чего Бэт не может осилить, то осилит его самого! Но я еще не нанес удар. Это вам не одноактная комедия или интермедия. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вы заодно со мной, джентльмены? Превосходно! Что ж, давайте объединим наши активы. Одна лондонская утренняя газета и одна ежедневная провинциальная, кажется, вы так сказали? К тому же, один коммерческий еженедельник и один член парламента.
— Боюсь, что от всего этого маловато будет пользы, — сказал Поллент с усмешкой.
— Зато преимущества будут. Преимущества будут, — возразил Маскерьер. — И, кроме того, у нас имеются мои скромные владения — Лондон, Блэкберн, Ливерпуль, Лидс — насчет Манчестера я скажу особо — и сам Я! Бэт Маскерьер. — Имя и фамилию он тихо и благоговейно вымолвил в пивную кружку. — Джентльмены, когда мы сообща покончим с сэром Томасом Ингеллом, баронетом, членом парламента и прочая и прочая, Содом и Гоморра покажутся дивным уголком старой доброй Англии в сравнении с тем, что будет. Сейчас мне надо срочно возвращаться в Лондон, но надеюсь, джентльмены, вы окажете мне честь отобедать со мной в ресторане «Отбивная котлета» — в янтарном кабинете, и мы с вами хорошенько продумаем сценарий. — Он положил молодому Оллиэтту руку на плечо и присовокупил: — Ваша смекалка мне очень пригодится.
С этим он отбыл в роскошном лимузине, устланном мехами и сверкающем никелем, после чего в зале как будто стало гораздо просторней.
Несколько минут спустя мы велели подать и наш автомобиль. Когда Вудхаус, Оллиэтт и я садились в него, по другую сторону площади из Дома Правосудия вышел сэр Томас Ингелл, баронет, член парламента, и взгромоздился на своего коня. Позднее я часто думал о том, что, если бы он уехал молча, ему все же удалось бы спастись, но он, усевшись в седло, заметил нас и счел необходимым крикнуть:
— Вы все еще здесь? Мой вам совет, проваливайте, да впредь будьте поосмотрительней.
В тот же миг Поллент, который задержался, покупая почтовые открытки, вышел из гостиницы, перехватил взгляд сэра Томаса и неторопливо, с ленцой, уселся в автомобиль. На секунду мне показалось, что по лицу баронета, обрамленному седыми бакенбардами, скользнула тревожная тень.
— Надеюсь, — сказал Вудхаус, когда мы отъехали на несколько миль, — надеюсь, он вдовец.
— Да, — отозвался Поллент. — На счастье его бедной покойной супруги, и я надеюсь, право, очень надеюсь, что это так. Кажется, в суде он меня не видел. Кстати, вот история прихода Хакли, которую написал здешний священник, а вот ваша доля иллюстрированных открыток. Итак, сегодня все мы обедаем с мистером Маскерьером?
— Да! — ответили мы в один голос.
* * *
Если Вудхаус ничего не смыслил в журналистике, то молодой Оллиэтт, который прошел суровую школу, смыслил в этом деле изрядно. Наша полупенсовая вечерка, назовем ее, к примеру, «Плюшка», дабы как-то отличить ее от процветающей сестренки, утренней «Ватрушки», была не только больна, но и продажна. Мы убедились в этом, когда некий незнакомец принес нам проспект нового нефтяного месторождения и потребовал поместить на первой полосе статью о его доходности. Оллиэтт добрых три минуты толковал с ним, сыпля отборными студенческими словечками. Обычно он говорил и писал на профессиональном языке — выразительной смеси американизмов и хлестких острот. Но хотя жаргон разнообразен, правила игры всегда одинаковы, и мы с Оллиэттом, а под конец и некоторые другие, получили от нее огромное удовольствие. Прошла не одна неделя, за деревьями еще не было видно леса, но когда сотрудники поняли, что владельцы газеты поддержат их, будут ли они писать правду или неправду, особенно неправду (в чем и заключается единственный секрет журналистики), и судьба их не зависит от случайного настроения случайного же хозяина, они начали творить чудеса.
Но мы не обошли вниманием Хакли. Как выразился Оллиэтт, первой нашей заботою было создать вокруг этого места «притягательную атмосферу». Он стал ездить туда на мотоцикле с коляской по субботам и воскресеньям; поэтому я решил не бывать в тех краях, ограничиваясь наблюдениями со стороны. И все же именно мне довелось сделать первое кровопускание. Двое обитателей Хакли обратились в редакцию с письмами, оспаривая один-единственный абзац в «Плюшке», где всерьез сообщалось, что в Хакли видели удода, которого, «разумеется, немедленно подстрелили местные охотники». Оба письма отличались запальчивостью, и мы их напечатали. Собственные наши домыслы о том, как упомянутый удод получил свой хохолок непосредственно от царя Соломона, должен с прискорбием отметить, настолько противоречили истине, что сам приходский священник — отнюдь не охотник, как указал он, а поборник истины — написал нам, дабы исправить ошибку. Мы напечатали письмо на видном месте и выразили автору благодарность.
— Этот священник может нам пригодиться, — сказал Оллиэтт. — Он мыслит весьма беспристрастно. Я его расшевелю.
Незамедлительно он измыслил мистера М. Л. Сигдена, человека, далекого от изысканных вкусов, каковой на страницах «Плюшки» осведомился, возможно ли, что Хакли-на-Удоде попросту Хамли, где он провел детство, и не появилось ли случаем это искаженное название в результате тяжбы между каким-нибудь крупным землевладельцем и железной дорогой в ошибочно понятых интересах мнимой изысканности. «Ибо я знавал и любил это место наряду с девицами в моей юности — eheu ab angulo![291] — под названием «Хамли», — писал М. Л. Сигден из Оксфорда.
Невзирая на издевки других газет, «Плюшка» отнеслась к этому серьезно и сочувственно. Нашлись люди, которые отрицали возможность, что Хакли подменили при рождении. И лишь приходский священник — отнюдь не философ, как указал он, а поборник истины — выразил некоторые сомнения, каковые и предал гласности, возражая мистеру М. Л. Сигдену, который на страницах «Плюшки» высказал догадку, что первое поселение могло возникнуть еще во времена англосаксов и носило тогда название «Хрюкли», а нормандцы именовали его «Глиню», потому что там много глины. У священника были свои соображения на сей счет (он утверждал, что там преобладает галечник), а у М. Л. Сигдена был изрядный запас воспоминаний. И странное дело — такое редко случается, когда что-либо произвольно печатают из номера в номер, — читатели наши получили немало удовольствия от этой переписки, а другие газеты не скупились на цитаты.
— Секрет власти, — сказал Оллиэтт, — заключается отнюдь не в размерах дубинки. Важно, чтоб дубинку эту можно было поднять. (Под этим подразумевается «притягательная» цитата в шесть или семь строк.) — Видели вы на прошлой неделе в «Зрителе» целый подвал о «Сельском упорстве»? Это сплошь Хакли. На будущей неделе я напишу «Впечатления» о Хакли.
Мы опубликовали свои «Впечатления» в пятницу вечером, рассказав о приятных прогулках по окрестностям Лондона на мотоциклете-со-коляскою, к которым в виде иллюстраций (нам так и не удалось заставить машину работать как следует) были приложены расплывчатые карты. Оллиэтт обыграл этот материал с пылом и нежностью, которые я неизменно относил за счет мотоциклетной коляски. Его описание Эппингского леса, например, воплощало в себе самый дух юной любви. Но от его «Впечатлений» о Хакли стошнило бы и мыловара. Они являли собою химическое соединение мерзкой развязности, язвительнейших намеков, слюнявой добродетели и опостылевшего «попечения о благе общества», причем получился такой пахучий перегной, что я чуть не прыгал от восторга.
— Да, — сказал он, выслушав похвалы. — Это самая животрепещущая, притягательная и напористая штуковина, какую я сделал до сего дня. Non nobis gloria![292] Я повидался с сэром Томасом Ингеллом в собственном его парке. Он снова удостоил меня беседы. Он и вдохновил меня написать главное.
— Что же это? «Тягучая медлительность местного выговора» или «безразличие к аденоидам тамошних ребятишек»? — осведомился я.
— Ничуть не бывало! Это написано лишь для того, чтобы приплести медицинского эксперта из страховой кассы. Заключительные строки — вот чем мы… то бишь я горжусь всего более.
Здесь повествовалось о «мглистой полутьме, простирающей свои туманные длани над рощицей»; о «весело резвящихся кроликах»; о «суягных комолых шотландских овцах»; и о «притягательном, цыганского типа облике их смуглоликого высокоученого владельца — человека, известного на Королевских сельскохозяйственных выставках не менее, чем наш почивший Король-Император».
— «Смуглоликий» — это превосходно, равно как и «суягные», — сказал я, — но доктор из страховой кассы будет недоволен упоминанием про аденоиды.
— А сэр Томас будет недоволен вдвойне описанием своего лица, — сказал Оллиэтт. — Но если б вы только знали, что я вычеркнул!
Он оказался прав. Доктор потратил субботу и воскресенье (в этом главное преимущество статей, публикуемых в пятницу), стараясь сразить нас профессиональными возражениями, которые нисколько не интересовали наших подписчиков. Так мы ему и ответили, после чего он, безо всякого промедления, ринулся с этим ответом прямо в редакцию «Ланцета», где живо интересуются гландами, и решительно позабыл о нашем существовании. Зато сэр Томас Ингелл оказался не таков, он обладал большей твердостью. Он, надо полагать, тоже не скучал всю субботу и воскресенье. Письмо, которое мы получили от него в понедельник, свидетельствовало, что он одинокий отшельник, ведущий праведную жизнь, и ни одна женщина, сколь мало бы ни интересовали ее мужчины, не выбросила бы это письмо в корзинку для бумаг. Он решительно возражал против наших отзывов о его собственном стаде, о его собственноручных трудах в его собственных владениях, которые он именовал Образцовым Хозяйством, и против нашего дьявольского бесстыдства; но особенно яростно он возражал против нашей характеристики его внешности. Мы ответили ему по почте, вежливо осведомляясь, предназначено ли его письмо для опубликования. Он, вспомнив, как я полагаю, герцога Веллингтона, ответил, в свою очередь: «Публикуйте и катитесь ко всем чертям».[293]
— Эге! Так легко он не отделается, — сказал Оллиэтт и сел сочинять заголовок к письму.
— Минутку, — сказал я. — Не станем упускать свои преимущества в игре. Ведь сегодня вечером мы обедаем с Бэтом. (Кажется, я позабыл упомянуть, что с тех пор, как Бэт Маскерьер пригласил нас отобедать в янтарном кабинете «Отбивной котлеты», прошла целая неделя.) — Обождите, пускай сперва все наши ознакомятся с этим письмом.
— Пожалуй, вы правы, — сказал Оллиэтт. — Оно может пропасть зря.
Итак, за обедом письмо сэра Томаса было пущено по рукам. Похоже, что Бэта занимали совсем иные раздумья, зато Поллент проявил живейший интерес.
— Мне пришла в голову прекрасная мысль, — тотчас сказал он. — Вы не могли бы поместить в завтрашнем номере «Плюшки» какой-нибудь материал про ящур, который свирепствует в стаде этого деятеля?
— Да хоть про чуму, если угодно, — отвечал Оллиэтт. — Там всего-то навсего жалкие пять голов шортгорнской породы. Одну скотину я видел своими глазами, она лежала у него в парке. Она и послужит нам первоисточником.
— Так и сделайте, а письмо до времени придержите. Пожалуй, я самолично этим займусь.
— Но почему? — спросил я.
— Да потому, что в Палате общин скоро поднимется шум из-за ящура, и он обратился ко мне с письмом после того, как наложил на вас штраф. Потребовалось десять дней, чтобы это обдумать. Вот, пожалуйста, — сказал Поллент. — Сами видите — на бланке члена Палаты общин.
Вот что мы прочли:
«Уважаемый Поллент!
Невзирая на то, что в прошлом наши пути были весьма различны, я уверен, Вы согласитесь с тем, что на трибуне парламента все его члены обладают полнейшим равенством прав. Посему я беру на себя смелость обратиться к Вам в связи с делом, которое, осмелюсь полагать, заслуживает совершенно иного истолкования, нежели то, каковому его подвергли, по всей видимости, Ваши друзья. Не соблаговолите ли довести до их сведения, что все обстояло именно так и я действовал отнюдь не под влиянием предубеждения или враждебности, когда исполнял свой долг судьи, хотя долг этот, как вы, будучи моим собратом в сфере правосудия, можете себе представить, часто бывает неприятен
вашему покорнейшему слуге
Т. Ингеллу.
P. S. Я уже принял меры, дабы надзор за соблюдением правил дорожного движения в моей округе, где ваши друзья допустили грубое нарушение означенных правил, осуществлялся значительно мягче против прежнего».
— И что же вы ответили? — полюбопытствовал Оллиэтт после того, как все мы обменялись мнениями.
— Я написал, что в данном случае решительно ничем не могу быть полезен. Да я и вправду не мог — тогда. Во всяком случае, не забудьте, пожалуйста, поместить столбец про ящур. Мне нужен материал, который я мог бы использовать.
— На мой взгляд, «Плюшка» уже использовала весь наличествующий материал, — заметил я. — А «Ватрушка» когда вступит в игру?
— «Ватрушка», — объяснил Вудхаус, и впоследствии я вспомнил, что говорил он, словно член кабинета министров перед утверждением государственного бюджета, — сохраняет за собою полное право свободно освещать события по мере того, как они будут развиваться.
— Эге-ге! — Бэт Маскерьер отогнал прочь все мысли, в которые был погружен. — «События по мере того, как они будут развиваться». Да ведь и я не собираюсь пребывать в бездействии. Только какой прок ловить рыбу без приманки. Вы, — обратился он к Оллиэтту, — подготовьте хорошую приманку… Я всегда говорил Своим людям… Но что за дьявол?
В другом кабинете, через площадку, грянула песня.
— Там какие-то дамы из «Трилистника», — начал объяснять официант.
— Ну, это я и сам знаю. А вот что такое они поют?
Он встал и вышел за дверь, где веселое общество приветствовало его появление бурными аплодисментами. Затем воцарилась тишина, какая наступает в классе при входе учителя. Но вскоре голосок, который нам очень понравился, завел снова:
— «Как пойдем мы в мае собирать орешки, собирать орешки, собирать орешки».
— Это всего-навсего Дол и с нею там ядреные орешки, — объяснил он, когда вернулся. — Она обещала прийти сюда к десерту.
Он сел, напевая себе под нос этот старинный мотивчик, а потом стал занимать нас росказнями про артистический темперамент и не дал никому слова вымолвить до тех самых пор, покуда в наш кабинет не вошла мисс Вайдол Бензаген.
Мы послушались Поллента, по крайней мере отчасти, и тиснули в «Плюшке» коротенькую статейку про коров, которые лежат на земле и пускают изо рта слюни, причем статейку эту, в зависимости от желания, можно было равно счесть злобной клеветой или же, если б за дело взялся знающий юрист, достоверной картинкой, писанной с натуры.
— К тому же, — сказал Оллиэтт, — мы намекаем на «суягных комолых шотландских овец». Мне посоветовали никак не затрагивать целомудренных телок породы шортгорн. А Поллент приглашает нас побывать сегодня вечером в Палате общин. Он велел оставить нам места на галерее для посетителей. Право же, Поллент начинает мне нравиться.
— А вы, кажется, начинаете нравиться Маскерьеру, — заметил я.
— Да, но сам я его боюсь, — возразил Оллиэтт с полнейшей серьезностью. — Право слово. Он Абсолютно Аморальная Личность. До сих пор я таких не встречал.
Все вместе мы отправились в Палату общин. Обсуждался ирландский вопрос, и едва я заслышал крики и завидел довольно своеобразные физиономии, я сразу сообразил, что не миновать столкновений, но предсказать, сколько именно их будет, я, право же, не был способен.
— Ничего особенного, — успокоил нас Оллиэтт, которого слух в таких случаях не обманывал. — Просто они закрыли порты для экспорта — ну да, конечно, — для экспорта скота из Ирландии! В Баллихеллионе свирепствует ящур. Теперь я понимаю, что замыслил Поллент.
В тот миг свирепствовала вся Палата общин, и, как я понял, отнюдь не шутя. Один из министров с листком, где было напечатано что-то на пишущей машинке, едва отражал непрерывный град оскорблений. До известной степени он напомнил мне трепещущего охотника, который отбивает лису у разъяренных гончих псов.
— Начинаются прения. Они вносят запросы, — сказал Оллиэтт. — Глядите! Поллент встал с места.
Сомнений быть не могло. Звуки его голоса, который, по утверждению его врагов, давал ему единственное преимущество в парламенте, заставили утихнуть неистовый шум, подобно тому как иной раз зубная боль заставляет утихнуть обыкновенный звон в ухе. Он заявил:
— Исходя из сказанного, позволительно ли мне будет спросить, приняты ли за последнее время какие-либо меры для ликвидации возможной вспышки упомянутой болезни по эту сторону пролива?
Он поднял руку, а в руке у него был дневной номер «Плюшки». В редакции мы сочли за благо не включать эту статейку в следующий выпуск. Он хотел продолжать, но некто в сером сюртуке оглушительно взревел и вскочил на скамью напротив, размахивая другим номером той же «Плюшки». Это был сэр Томас Ингелл.
— Будучи владельцем стада, на каковое здесь столь презренно и трусливо намекают…
Тут голос его захлестнула волна криков: «К порядку» — причем преобладали голоса ирландцев.
— Что случилось? — спросил я у Оллиэтта. — Ведь он в своем праве, разве не так?
— Да, конечно, но ему следовало выразить свою ярость в форме запроса.
— Исходя из сказанного, мистер председатель, сэррр! — проревел сэр Томас, воспользовавшись коротким затишьем. — Известно ли вам, что… что все это попросту заговор… трусливый и презренный заговор, который замыслили нарочно для того, дабы выставить Хакли на посмешище — выставить нас на посмешище? Тайный заговор, дабы выставить на посмешище меня лично, да-с, мистер председатель, сэр!
Лицо его казалось совсем черным в обрамлении седых бакенбардов, и он бил руками по воздуху, словно барахтался в воде. На миг его неистовство озадачило и укротило членов Палаты, и председатель воспользовался этим, чтобы отвлечь внимание от Ирландии, пустив всю свору по другому следу. Он обратился к сэру Томасу Ингеллу со сдержанным порицанием, причем, я полагаю, предназначал свои слова для всех членов Палаты, которые, слушая его, несколько поостыли. Затем снова заговорил Поллент, возмущенный и обиженный.
— Я могу лишь выразить глубочайшее изумление по поводу того, что в ответ на мой простой вопрос предыдущий оратор, почтенный член нашей Палаты, счел возможным прибегнуть к личным нападкам. И если я как-либо невольно задел…
Тут снова вмешался председатель, который явно умел улаживать такие дела.
Он, в свою очередь, выразил изумление, и сэр Томас вынужден был сесть на место среди осуждающего молчания, за которым, казалось, таился холод минувших столетий. Государственная деятельность возобновилась.
— Замечательно, — сказал я, чувствуя, как меня попеременно бросает то в жар, то в холод.
— Вот теперь-то мы опубликуем его письмо, — сказал Оллиэтт.
Так мы и сделали — непосредственно вслед за подробнейшим отчетом о его яростном выступлении. От комментариев мы решили воздержаться. Обладая редкостным чутьем, которое позволяет прозревать подоплеку событий и свойственно англосаксам, все прочие газеты, а также приблизительно две трети наших корреспондентов пожелали знать, каким именно образом можно выставить на посмешище человека в большей мере, нежели он сделал это сам. Но мы позволили себе лишь слегка исказить его фамилию, напечатав «Инджл», а в остальном не сочли возможным бить лежачего.
— Да в этом и нет никакой надобности, — сказал Оллиэтт. — И без того вся пресса подняла шумиху.
Даже Вудхаус слегка подивился той легкости, с какой все произошло, и сказал нам об этом.
— Вздор! — воскликнул Оллиэтт. — Мы еще не взялись за дело всерьез. Хакли покуда еще не сенсация.
— Как прикажете вас понимать? — осведомился Вудхаус, который теперь испытывал глубочайшее уважение к своему молодому, но уже отнюдь не дальнему родственнику.
— Понимать? Господь с вами, достопочтенный наставник, — понимать надо так, что в результате моих стараний едва жители Хакли начнут ворочаться с боку на бок во сне, сотрудники агентств «Рейтер» и «Пресс» повыскакивают из постелей и бегом кинутся на телеграф.
Далее он принялся с жаром говорить о каких-то реставрационных работах, необходимых для церкви в Хакли, к которой, по его словам, — а он, видимо, проводил там каждую субботу и воскресенье, — предшественник нынешнего приходского священника относился с преступной небрежностью и уничтожил «окошко для прокаженных» или «наблюдательное отверстие» (не знаю уж, право, что это могло бы значить), дабы устроить в ризнице уборную. Мне это не показалось столь сенсационным материалом, чтобы сотрудники агентств «Рейтер» или «Пресс» охотно пожертвовали ради него своим сном, и я ушел, предоставив Оллиэтту разглагольствовать перед Вудхаусом о купели четырнадцатого века, которую, по его словам, он отыскал в закутке, где церковный сторож держит свои метлы и лопаты.
Сам я предпочел тактику более мирного проникновения во вражеский стан. Я откопал в захламленной библиотеке при редакции «Плюшки» случайный экземпляр «Календаря» Хона[294] и вычитал там, что существует некий крестьянский танец, основанный, подобно всем крестьянским танцам, на таинствах, которые некогда свершали друиды по случаю летнего солнцестояния (каковое наступает непреложно) и также поутру в Иванов день, а это свежо и живительно для взора лондонского жителя. Моей заслуги тут нет никакой: книга Хона — сущий клад, откуда всякий может черпать сокровища, — если не считать того, что я переосмыслил упомянутый танец и дал ему название «Дрыгли», стяжавшее бессмертную славу. Танец этот, написал я, и поныне можно видеть «во всей его потрясающей первозданной чистоте в Хакли, единственном месте, где еще живы важнейшие обряды средневековья»; и сам я так полюбил собственную выдумку, что много дней не желал с нею расстаться, всячески ее украшая и совершенствуя.
— Пожалуй, пора пускать это в дело, — сказал наконец Оллиэтт. — Сейчас нам самое время вновь предъявить свои права. Всякие чужаки уже начинают пользоваться нашим молчанием. Читали вы статейку в «Бельведере» про Образцовое Хозяйство сэра Томаса? Наверняка он возил туда кого-то из сотрудников редакции.
— Ни с чем не сравнимы укоризны от любящего, — сказал я. — Одно упоминание о трактире, где продают только безалкогольные напитки, само по себе…
— Мне больше понравилось то место, где описана прачечная, крытая белой черепицей, и Падшие Девственницы, которые стирают сэру Томасу ночные рубашки. Нашему брату, знаете ли, до этого далеко. Нет у нас настоящего нюха, чтобы разводить слюнявую болтовню на сексуальные темы.
— Я всегда говорил то же самое, — возразил я. — Пускай себе усердствуют. Теперь эти чужаки работают на нас. А кроме того, мне хочется еще немного усовершенствовать мое описание танца «Дрыгли».
— Не надо. Вы его только испортите. Давайте протолкнем ваш материал в сегодняшний номер. Ведь прежде всего это литературное произведение. Я вовсе не намерен говорить вам комплименты, но… и прочее и прочее.
Я с полнейшим основанием подозревал молодого Оллиэтта в чем угодно, но хотя и знал наперед, что мне придется заплатить за это дорогой ценой, все же поддался на его лесть, и моя бесценная статья о танце «Дрыгли» была напечатана. В следующую субботу он попросил меня выпустить «Плюшку» самостоятельно, поскольку ему необходимо отлучиться, и я естественно предположил, что отлучка эта связана с бордовой мотоциклетной коляской. Но я ошибся.
В понедельник утром, за завтраком, я просмотрел «Ватрушку», дабы убедиться, по обыкновению, насколько она хуже моей любимой, хоть и убыточной «Плюшки». Едва я развернул газету, мне бросился в глаза заголовок: «Как голосованием признали Землю плоской». И я прочел… прочел о том, что «Геопланарное общество» — общество, которое твердо придерживается убеждения, что Земля плоская, — в субботу устроило ежегодный банкет и сессию в Хакли, и после убедительных речей, под выражения самого пылкого восторга, жители Хакли численностью в 438 человек единогласно признали, что Земля плоская. Кажется, я ни разу не перевел дух, покуда не проглотил залпом два следующих столбца. Написать такое мог один-единственный человек на свете. Это было само совершенство — звучные, взволнованные, суровые и вместе с тем глубоко человечные строки, сильные, живые, захватывающие — прежде всего, захватывающие, — достаточно напористые, чтобы потрясти целый город, и всякий мог найти там подходящую цитату. А еще в номере была статья, серьезная и сдержанная, так что я чуть не лопнул от восхищения, но вдруг вспомнил, что меня обошли — бесчестно и непростительно отвергли. Я побежал к Оллиэтту на дом. Он завтракал, и, надо отдать ему справедливость, по лицу его было видно, что он терзается угрызениями совести.
— Я не виноват… — начал он. — Это все Бэт Маскерьер. Клянусь, я непременно позвал бы вас, если б только…
— Неважно, — сказал я. — Это лучшее из всего, что вы когда-либо написали или напишете впредь. Скажите, а есть там хоть доля истины?
— Истины? Боже правый! Да неужто вы думаете, будто я мог такое сочинить?
— И это предназначено исключительно для «Ватрушки»? — воскликнул я.
— Это обошлось Бэту Маскерьеру в две тысячи, — ответил Оллиэтт. — Можете ли вы полагать, что он допустил бы кого-нибудь еще? Но клянусь вам всем святым, я ничего не знал, пока он не позвал меня и не попросил написать репортаж. Он велел развесить по Хакли афиши в три краски: «Ежегодный банкет и сессия геопланариев». Да, он выдумал «геопланариев». Хотел, чтоб в Хакли подумали, будто это такие аэропланы. Конечно, я знаю, что действительно существует общество, члены которого считают Землю плоской — пускай теперь благодарят за рекламу, — но Бэт своего добился. Уж это точно! Вся затея — его рук дело, верьте слову. Ради этого он закрыл половину своих мюзик-холлов. И подумать только — в субботу. Они — то бишь мы — отправились туда в автобусах, их было три, один — розовый, другой — бледно-желтый, а третий — голубой, как незабудка, — в каждом двадцать человек, а по бокам и сзади надписи: «Признаем Землю плоской». Я ехал с Тедди Рикетсом и Лэйфоуном из «Трилистника», и с обеими сестрами из «Силуэтов», и — обождите минутку — с трио Кросслиф. Вы ведь знаете «Постоянное драматическое трио» из «Джокунды» — Ада Кросслиф, «Кумпол» Кросслиф и малютка Викторина. Они самые. А еще там был Хоук Рэмсден, главный осветитель в «Марджане и Дрекселе», и Билли Тэрпин тоже. Ну конечно, вы его знаете! Гордость северного Лондона. «Я арбитр, который добился, что меня невзлюбили в Блэкхите». Да, это он! А еще был там Макглаз — тот самый одноглазый малый, от которого без ума весь Глазго. Разговор о подчинении себя интересам Искусства! Макглаз задавал серьезные вопросы и принял эту веру только в конце прений. Была там целая куча девчонок, совсем мне незнакомых, и — да, конечно, — была Дол!.. Сама Дол Бензаген! Мы сидели рядом, когда ехали туда и обратно. В жизни не видал такой прелести. Она просила передать вам привет и заверить, что никогда не забудет про Нелли Фэррен. Говорит, что вы указали ей идеал, к которому надо стремиться. Она? Ну, она, конечно, была секретарем женской секции «геопланариев». Я уже позабыл, кто ехал в других автобусах, — все больше всякие провинциальные звезды — но играли они великолепно. Со времен вашей юности искусство мюзик-холла изменилось до неузнаваемости. Они ничуть не переигрывали. Понимаете, люди, которые верят, что Земля плоская, одеваются совсем не так, как все остальные. Вероятно, вы заметили, что я намекнул на это в своем репортаже. Они предпочитают плоскокройный ионический стиль — неовикторианский, если не считать турнюров, так мне сказала Дол, — но сама Дол выглядела в этом наряде просто божественно! И малютка Викторина тоже. А еще была одна девушка в голубом автобусе — правда, провинциалочка, но этой зимой она переберется в Лондон и всех затмит, — Уинни Динс. Попомните мое слово! Она рассказала в Хакли, сколько ей пришлось выстрадать во имя Великого Дела, служа гувернанткой в богатом семействе, где все были убеждены, что Земля — шар, и она предпочла отказаться от места, нежели учить столь безнравственным основам географии. Это было на многолюдном собрании перед баптистским молитвенным домом. И она всех повергла в грязь! Мы должны что-нибудь подыскать для Уинни… Но Лэйфоун! Лэйфоун не имел себе равных. Эффект, личное обаяние, убедительность — сплошные сюрпризы! Он прямо из кожи вылез, чтоб добиться убедительности. Черт побери, да он и меня убедил своей речью! (Он-то? Он, само собой, был президентом «геопланариев». Разве вы не читали мой репортаж?) Эта теория дьявольски правдоподобна. В конце концов никто по-настоящему не доказал, что Земля шар, верно?
— Оставим Землю в покое. А что же Хакли?
— Ого, в Хакли все были на взводе. Таковы уж эти образцовые хозяйства, нет ничего хуже, чем дать людям понюхать огненного зелья. Там остался один-единственный трактир, где подают спиртное, его сэру Томасу прикрыть не удалось. Бэт этим воспользовался. Велел отвезти туда в двух грузовиках угощение — обед на пятьсот персон и выпивки на десять тысяч. Жители Хакли проголосовали, как миленькие. Уж будьте уверены. Кто не голосует, тот не обедает. Принято единогласно — в точности, как я сказал. По крайней мере, только приходский священник да местный доктор были против. Но они не в счет. Ну да сэр Томас тоже был там. Подошел и глядел на нас из-за ворот своего парка да скалил зубы. Ничего, сегодня он еще не так оскалится. Есть такая анилиновая краска, ее наносят по трафарету, а она на целый фут въедается даже в камень, и уж это навсегда. Так вот, Бэт распорядился на обеих створах парковых ворот и на всех сараях и стенках, куда только можно добраться, написать по трафарету: «Признали Землю плоской!» Господи, ну и пьянка была в Хакли! Пришлось дать им выпить вволю, только бы они простили нам, что мы не аэропланы. Неблагодарное мужичье! Понимаете ли вы, что никакой император не властен был бы над теми талантами, какие излил на них Бэт? Право, одна Дол чего стоит… А к восьми часам на месте не осталось даже клочка бумаги! Вся наша компания упаковалась и отбыла, а в Хакли кричали «ура» в честь того, что Земля плоская.
— Прекрасно, — начал я, — как вам известно, я один из трех совладельцев «Плюшки»…
— Я не забыл про это, — перебил он меня. — Все время помнил, и не было в моей голове мысли важнее. Я написал для сегодняшнего номера «Плюшки» особый репортаж — в идиллической форме — и, чтобы показать, как я о вас думаю, на обратном пути рассказал про ваш танец «Дрыгли» Дол, а она рассказала Уинни. Уинни возвращалась в нашем автобусе. Мы отъехали немного, вылезли и сплясали его в открытом поле. У нас и вправду получился танец — в конце Лэйфоун придумал еще «арестанец», вроде шествия арестованных бандитов. Бэт послал с нами одного кинооператора на случай, если понадобится что-нибудь заснять. Этот малый — сын священника — очень напористый человек. Он сказал, что кинематограф не интересуют собрания qua[295] собраний — там мало действия. Фильмы сами по себе — вид искусства. Но от «Дрыгли» он пришел в восторг. Сказал, что это совсем как видение апостола Петра в Иоппии. И отснял чуть не миллион футов пленки. А потом я сфотографировал танец — исключительно для «Плюшки». Фотографии уже в редакции, только не забудьте, надо заретушировать левую ногу Уинни в первой фигуре танца. Это слишком захватывающее зрелище… Вот и все! Но говорю вам, Бэта я боюсь. Это сам Дьявол во плоти. Он обделал все это дельце. А сам даже не поехал. Сказал, что только отвлекал бы своих людей.
— Но почему же он меня не позвал? — допытывался я.
— Да потому, как он объяснил, что вы отвлекали бы меня. Как он объяснил, ему нужна моя смекалка при полном хладнокровии. И взял свое. По-моему, это лучшее, что я написал. — Он протянул руку, схватил номер «Ватрушки» и с наслаждением перечитал свое сочинение. — Да, бесспорно, лучшее — и всякий найдет здесь подходящую цитату, — заключил он, еще раз пробежал столбец глазами, потом сказал: — А, черт, до чего же я вчера был гениален!
Сердиться на него у меня не оказалось времени. Все утро в редакции «Плюшки» агенты «Пресс» униженно вымаливали разрешение, зависевшее, как они слышали, от меня, опубликовать некие фотографии некоего танца на лоне природы. Когда я прогнал пятого по счету просителя, который ушел, чуть не плача, ко мне хоть отчасти вернулось прежнее самоуважение. Настало время выпускать рекламный номер «Плюшки». Поскольку искусство говорит за себя, я велел напечатать всего два слова (из которых одно, как стало ясно впоследствии, оказалось лишним): «Это Дрыгли!» — красными буквами, против чего возражал наш редактор; но уже в пять часов дня он сказал мне, что я подлинный Наполеон всей Флит-стрит. Репортаж Оллиэтта в «Плюшке» о развлечениях и любовных празднествах «геопланариев» не обладал тем потрясающим совершенством, с которым он выступил в «Ватрушке», но зато разил глубже; а уж фотографии (из-за них, сохранив левую ногу Уинни, я и поспешил пустить в ход нашу сомнительную газетку) стяжали бессчетное множество похвал, а через сутки — и денег. Но даже тогда я не все понимал.
Спустя неделю, насколько мне помнится, Бэт Маскерьер по телефону пригласил меня в «Трилистник».
— Ну, теперь ваша очередь, — сказал он. — Оллиэтта я не зову. Приходите в мою ложу.
Я пришел, и мне, гостю Бэта, оказали такой прием, какой самому королю не снился. Мы сидели в глубине ложи и оглядывали зал, куда набились тысячи зрителей. Шло обозрение «Марджана и Дрексел», захватывающая, ослепительная программа, истинным создателем которой был Бэт — хоть он и уступил эту честь Лэйфоуну.
— Да-а, — сказал Бэт мечтательно, когда Марджана «задала жару» сорока разбойникам, которые «разместились» в сорока кувшинах для масла. — Это называется попасть в самую точку. Не так уж важно, что человек делает; и как делает, тоже неважно. Главное, когда, — надо выбрать психологический момент. Пресса на это не способна; деньги тоже; и смекалка тоже. Много значит удача, остальное — гениальность. Сейчас я говорю не о Своих людях. Я говорю о Себе.
А потом Дол — кроме нее, никто на это не осмелился — постучала в дверь и встала позади нас, тяжело дыша, словно живая Марджана. Тем временем Лэйфоун разыгрывал сцену в полицейском суде, и весь зал вдоль и поперек надрывался со смеху.
— Ага! Признайся, дружок, — спросила она меня в двадцатый раз, — любили вы Нелли Фэррен в своей молодости?
— Любили ли мы ее? — отозвался я. — «Если б земля, и небо, и море…» Нас было три миллиона, Дол, и все мы перед ней преклонялись.
— Как же ей это удалось? — допытывалась Дол.
— На то она и была Нелли. При каждом ее выходе зрители ворковали, как голуби.
— Я имела довольно успеха, но ни разу еще не заставила их ворковать, — сказала Дол с тоской.
— Важно не как, а когда, — повторил Бэт. — Ага, вот оно!
Он подался вперед, а публика начала волноваться и орать во всю глотку. Дол убежала. Извилистая, безмолвная процессия входила в зал полицейского суда под едва слышную музыку. Участники ее были одеты… но весь мир благодаря кинематографу знает теперь, как они были одеты. И они танцевали, танцевали, танцевали тот самый танец, который потом полгода отплясывало все человечество, и завершили его «арестанцем», после чего зрители чуть не попадали с кресел, рыдая в изнеможении. На галерке кто-то простонал: «Господи, это «Дрыгли»!» — и мы услышали, как это слово подхватили прерывающимися голосами, потому что зрители еще не могли перевести дух. А потом появилась Дол с электрической звездой в черных волосах, на трехдюймовых каблуках, сверкавших брильянтами, — чудесное видение оставалось недвижимым ровно тридцать секунд при смене декораций, но вот полицейский суд на заднем плане превратился в Маникюрный дворец Марджаны, и зрители очнулись. Звезда на ее челе погасла, и она, заливаемая мягким светом, выступила — медленно, очень медленно, под влюбленный напев струн — на восемнадцать шагов вперед. Вначале перед нами предстала лишь ослепительная королева; потом эта королева впервые заметила своих подданных; и наконец к нам простерла трепетные руки счастливая женщина, которая внушала глубокое благоговение, но преобразилась и озарена была простой пленительной нежностью и добротою. Я расслышал бессвязный восторженный лепет — те самые воркующие звуки, с которыми не сравнится целая буря рукоплесканий. Звуки эти затихали, возобновлялись и очарованно затихали снова.
— Ей это удалось, — прошептал Бэт. — Никогда еще я не видел ее в таком ударе. Я ей советовал зажечь звезду, но был неправ, и она это знала. Она подлинная актриса.
— Дол, ты прелесть, — сказал кто-то негромко, но слышно было на весь зал.
— Благодарю вас! — отвечала Дол, и ее отрывистый возглас прозвучал, как последний удар, замкнувший железные оковы. — Добрый вечер, мальчики! Я только что была… обождите… где же я, черт побери, была? — Она обернулась к бесстрастным рядам танцоров и продолжала: — Ах, как мило, что вы мне напомнили, мои славные, румяные мордашки. Я только была там, где… ну, где «голосованием признали Землю плоской».
И она грянула песню в сопровождении всего оркестра. За ближайшие полгода песня эта сотрясла всю обитаемую землю. Постарайтесь же представить себе страсть и бешеный ритм, которые прорвались наружу в блистательный миг ее рождения! Дол исполнила припев только раз. После второго куплета она воскликнула: «Вы заодно со мной, ребята?» — и весь зал дружно подхватил: «Земля плоска, плоска, как доска, потому что доски очень даже плоски», — заглушив все инструменты, кроме фаготов и контрабасов, которые выделяли главное слово.
— Великолепно, — сказал я Бэту. — А ведь это всего лишь вариации на тему детской песенки про орешки.
— Да, но вариации эти сочинил я, — отвечал он.
Дойдя до последнего куплета, она сделала знак дирижеру Карлини, и тот бросил ей свою палочку. Она поймала палочку с мальчишеской ловкостью. «Вы заодно со мной?» — воскликнула она снова и — поддерживаемая обезумевшей публикой — заставила смолкнуть весь оркестр, одни только контрабасы глухо взревывали при слове «Земля»… «Как голосованием признали Землю плоской, признали Землю плоской!» Это было похоже на бред. Потом Дол увлекла за собой танцоров, и они трижды пронеслись вокруг сцены, с грохотом отплясывая импровизированный «арестанец», а под конец она дрыгнула ножкой, и ее туфелька, сверкающая брильянтами, взлетела к люстре, словно ракета.
Я видел, как над залом вырос лес рук, стремившихся ее поймать, слышал, как рев и топот, вздымаясь вихрями, слились в неистовом урагане; слышал, как песня, на которую преданные контрабасы набрасывались, словно бульдог на норовистого быка, звучала, несмотря ни на что; но вот, наконец-то, занавес опустился, и Бэт повел меня в артистическую уборную, где лежала обессиленная Дол, только что со сцены, куда ее уже в седьмой раз вызывали раскланиваться. А песня проникала сквозь все оштукатуренные перегородки и сотрясала железобетонное здание «Трилистника», как паровые копры сотрясают стенки дока.
— Я достигла своей вершины — впервые в жизни. Ага! Признайся, дружок, удалось мне это? — спросила она хриплым шепотом.
— Конечно, да, вы же сами знаете, — ответил я, а она взяла склянку и понюхала какое-то снадобье. — Вы заставили их ворковать.
Бэт кивнул.
— А бедняжка Нелли умерла где-то в Африке, если не ошибаюсь?
— Я хотела бы умереть раньше, чем они перестанут ворковать, — сказала Дол.
— «Признали Землю плоской… признали Землю плоской!»
Теперь могло показаться, будто это насосы откачивают воду из затопленного рудника.
— Они разнесут театр на куски, если вы опять не выйдете! — крикнул кто-то.
— О господи, — пробормотала Дол, пошла на сцену в восьмой раз и теперь, чтобы остановить эту лавину, сказала, зевая: — Не знаю, как вы, ребята, а я еле жива. Уймитесь-ка лучше.
— Обождите минуточку, — сказал мне Бэт. — Сейчас я выясню, хорошо ли прошло это обозрение в провинции. Уинни Динс гастролировала в Манчестере, а Рэмсден — в Глазго, да еще выпущены кинофильмы. У меня выдались нелегкие суббота и воскресенье.
Вскоре телефон принес ему самые утешительные известия.
— Ну вот и все, — заключил Бэт. — А он сказал, что мое место жительства в Иерусалиме.
И он расстался со мною, мурлыкая себе под нос «Священный град». Подобно Оллиэтту, я почувствовал, что боюсь этого человека.
Когда я вышел на улицу и увидел, как из кинематографов толпами извергаются люди, скачут по тротуару и напевают эту песню (Бэт позаботился, чтобы фильм всюду показывали под граммофон), когда далеко на юге, за Темзой, я увидел слово «Дрыгли», сверкающее красными электрическими буквами, страх мой возрос неизмеримо.
* * *
Ближайшие дни не принесли, пожалуй, ничего особенного, кроме ожидания, мучительного, как в бреду, когда больному чудится, будто прожектора соединенных военно-морских сил всего мира нашаривают крохотный обломок крушения — совсем одинокий среди темного, зловещего моря. Потом эти лучи скрестились. Земля, как мы ее себе представляли, — вся поверхность нашего шара — обрушила свое безликое и уничтожающее любопытство на Хакли, где голосованием ее признали плоской. Земля желала знать о Хакли подробности — где это и что это за место и как там разговаривают, — она уже знала, как там танцуют, — и как думают тамошние жители в своих загадочных душах. И тогда вся наша ретивая, беспощадная пресса выставила Хакли на всеобщее обозрение, словно капельку воды из пруда, которую волшебный фонарь крупно показывает на экране. Но экран, доставшийся Хакли, лишь соответствовал тому значению, какое имела печать в жизни человечества. Волею судьбы именно тогда, в нужную минуту, праздный взор нашего мира не находил ничего, воистину достойного внимания. Одно зверское убийство, политический кризис, неосмотрительный или рискованный шаг какого-нибудь европейского политикана, легкая простуда у короля заслонили бы важность наших стараний, подобно тому как случайное облачко затмевает пылающий лик солнца. Но погода была самая благоприятная во всех смыслах. Нам с Оллиэттом не пришлось и пальцем пошевелить, дальнейшее зависело от нас не более, чем от бессильного альпиниста, который последним своим криком уже вызвал падение лавины. Эта стихия бушевала, и ширилась, и летела в незримую даль сама собой — сама собой. Когда она вырвалась на простор, ее не остановило бы даже крушение царств.
Но Земля наша все-таки проникнута добротою. В то самое время, когда Песня изводила и терзала ее до умопомрачения своими неотразимыми раскатами «та-ра-ра-бам-ди-эй», которые надо помножить на серьезность западноафриканского напева «Каждый делает вот так», да еще прибавить вдвойне адское неистовство известного мотива из «Доны и Гаммы»; когда все насущные задачи, литературные, драматургические, художественные, общественные, муниципальные, политические, торговые и административные, требовали, чтобы люди признали Землю плоской, приходский священник из Хакли обратился к нам с письмом — опять же как поборник истины, — где указывал, что «мнимая плоскообразность сей юдоли наших бренных трудов» была признана в Хакли отнюдь не единогласно: он и местный доктор голосовали против. И сам великий барон Рейтер (я уверен, что именно он, а не кто иной) распространил письмо полностью вдаль, вглубь и вширь по сей юдоли наших трудов. Ведь Хакли окружала Сенсация. «Плюшка» тоже поместила фотографию, которую я сфабриковал не без труда.
— Отважный у нас народ, — сказал Оллиэтт, когда мы обсуждали положение дел за обедом у Бэта. — Только англичанин мог написать такое письмо при нынешних обстоятельствах.
— А мне вспомнился некий турист в Пещере Ветров под Ниагарой. Одинокий человек в макинтоше. Но вы, вероятно, видели нашу фотографию? — сказал я с гордостью.
— Да, — отвечал Бэт. — Я ведь тоже побывал на Ниагаре. А как относятся ко всему этому в Хакли?
— Само собой, они в некотором недоумении, — сказал Оллиэтт. — Но деньги загребают лопатой. С тех пор как начались автобусные экскурсии…
— А я и не знал этого, — ввернул Поллент.
— Ну как же. Комфортабельные рейсовые автобусы — обеспечивается экскурсовод в форменной одежде и музыкальный рожок. Мотивчик там уже приелся за последнее время, — продолжал Оллиэтт.
— Этот мотив играют у него под окнами, правда? — осведомился Бэт. — Он не может запретить ездить через свой парк.
— Не может, — подтвердил Оллиэтт. — Кстати, Вудхаус, я приобрел для вас у церковного сторожа ту купель. Заплатил пятнадцать фунтов.
— И что же прикажете мне с нею делать? — спросил Вудхаус.
— Подарите ее музею Виктории и Альберта.[296] Кроме шуток, это работа четырнадцатого века. Верьте моему слову.
— Но теперь… стоит ли? — сказал Поллент. — Не подумайте, что я готов отступиться, а все же, много ли мы выиграем?
— Да ведь я говорю правду, — настаивал Оллиэтт. — Помимо всего прочего, это мое увлечение. Я всегда мечтал стать архитектором. Беру все на себя. Для «Плюшки» этот материал слишком серьезен, а для «Ватрушки» уж слишком хорош.
Он прорвался в редакцию солидного архитектурного еженедельника, где и слыхом не слыхали про Хакли. Публикация его была сугубо беспристрастна и содержала лишь достоверный факт со ссылками на многочисленные авторитеты. Он с несомненностью установил, что двадцать лет назад в Хакли, по указке сэра Томаса, вышвырнули прочь старинную купель и заменили ее новой, из Батского камня с цветной инкрустацией; и с тех самых пор старинная купель валялась за церковной сторожкой. Он доказал, при поддержке крупнейших ученых, что во всей Англии лишь одна-единственная купель может сравниться с этой. Теперь Вудхаус купил ее и преподнес благодарному Южному Кенсингтону, получив заверение, что скорей Земля станет хоть трижды плоской, чем Хакли, где не видят дальше своего носа, получит назад это сокровище. Многие епископы и почти все члены Королевской академии, не говоря уже про общество «Бисер перед свиньями», усердно писали письма в газеты. В связи с этим «Панч» поместил политическую карикатуру; «Таймс» — небольшую редакционную статью под заголовком «Страсть к новшествам»; а «Наблюдатель» — научно обоснованный и весьма занятный очерк «Земля Хаусмания». Огромный, далекий мир развлекался, повторяя на всех языках и на все лады: «Еще бы! Этого и следовало ожидать от Хакли!» И ни сэр Томас, ни приходский священник, ни церковный сторож — вообще никто не осмелился выступить с опровержением.
— Поймите, — сказал Оллиэтт, — удар, нанесенный Хакли, гораздо сильней, чем кажется, — именно потому, что здесь каждое слово — правда. Согласен, ваш танец «Дрыгли» породило вдохновение, но он не имеет корней в…
— Пока что хватит двух земных полушарий и четырех континентов, — ввернул я.
— Он не имеет корней в сердце Хакли, вот что я хотел сказать. Отчего вы ни разу не съездили туда? Ведь вы не видели Хакли с тех самых пор, как нас там задержали.
— Я свободен только по субботам и воскресеньям, — сказал я, — а в эти дни туда обычно ездите вы… и некая особа в мотоциклетной коляске. Я опасался даже…
— Ну, на этот счет будьте спокойны, — отвечал он весело. — Мы уже давным-давно помолвлены. Собственно говоря, дело сладилось, когда я написал про «суягных комолых овечек». Поедемте туда в субботу. Вудхаус предложил отвезти нас сразу после завтрака. Он тоже хочет посмотреть на Хакли.
Поллент не мог составить нам компанию, зато Бэт поехал вместо него.
— Странно все-таки, — сказал Бэт, — что с того первого раза никто из нас, кроме Оллиэтта, даже не взглянул на Хакли. Но я всегда так и говорю Своим людям. Местный колорит хорош, когда замысел уже созрел. А до этого он только мешает.
По дороге Бэт рисовал нам головокружительные картины успеха — международного и финансового, — который стяжали «Дрыгли» и Песня.
— Между прочим, — сказал он. — Я уступил Дол все права на граммофонные записи «Земли». Она прирожденная актриса. Не сообразила даже потребовать с меня тройной гонорар наутро после премьеры. Только бы зрители ворковали, чего ж еще.
— Подумать только! А какая ей выгода от граммофонных записей? — спросил я.
— Бог знает! — ответил он. — Я лично на этом деле заработал пятьдесят четыре тысчонки, а ведь главное впереди. Вот послушайте!
Бледно-розовый автобус с ревом катил вслед за нами, и музыкальный рожок играл: «Как голосованием признали Землю плоской». Через несколько минут мы обогнали другой автобус с красивым деревянным кузовом, где пассажиры гнусаво распевали все то же.
— Не знаю, чье это агентство. Вероятно, Кука, — сказал Оллиэтт. — Да, тяжело им приходится.
Мотив неотступно преследовал нас до Хакли.
Хоть я и не ожидал ничего иного, все же я был разочарован, когда увидал воочию то место, которое мы — могу сказать без преувеличения — создали и явили перед народами. Трактир, где подают спиртное; зеленая лужайка посередине; баптистская молельня; церковь; сторожка при ней; домик приходского священника, откуда мы получали такие изумительные письма; ворота в парк сэра Томаса, красноречиво возвещающие доныне: «Признали Землю плоской!» — все это было так ничтожно, так заурядно, так невыразительно, как фотография комнаты, где совершилось убийство. Оллиэтт, разумеется, знал здесь каждый уголок и стремился показать нам все в самом выгодном свете. Бэт уже срисовал отсюда фон для одной из своих пьес и теперь утратил любопытство к тому, что исчерпано до конца, но Вудхаус сказал, выразив и мои чувства:
— Неужели это все… ради чего мы так старались?
— Ну, я-то знаю, — возразил Оллиэтт, желая нас утешить. — «Я слышал, как пел Аполлон незнакомую песнь: Илиона туманные башни открылися взору». Порой я сам испытывал такое ощущение, хотя для меня здесь был сущий рай. Но им приходится тяжко.
Еще один автобус, четвертый за последние полчаса, свернул в парк сэра Томаса, дабы возвестить усадьбе: «Признали Землю плоской»; какие-то туристы, вероятно, американцы, дружно фотографировали ворота парка; а в кафе, напротив кладбищенской часовни, нарасхват раскупали открытки с изображением старинной купели, которая двадцать лет провалялась за церковной сторожкой. Мы вошли в трактир и пожелали хозяину новых прибылей.
— Деньги мы загребаем вовсю, — сказал он. — Но ежели рассудить, деньги иногда достаются уж больно дорого. Они не идут нам впрок. Над нами смеются. Право слово… Да вы небось слышали, какое тут у нас было голосование…
— Побойся бога, хватит поминать про голосование! — возопил с порога какой-то пожилой мужчина. — Плывут к нам денежки или не плывут, все одно мы сыты этим по горло.
— И я, стало быть, так думаю, — сказал трактирщик, не вступая в пререкания, — я думаю, сэр Томас мог бы получше устроить иные дела.
— Он мне велел… — Пожилой мужчина протиснулся к стойке, плечом расталкивая посетителей. — Двадцать лет назад он велел мне уволочь ту купель в закуток, где я инструмент держу. Велел самолично. И вот теперь, через двадцать лет, собственная моя жена обходится со мной так, будто я отпетый палач.
— Это церковный сторож, — объяснил нам трактирщик. — Его хозяюшка торгует открытками — ежели хотите, можете купить. А только нам сдается, сэр Томас мог бы получше управиться.
— Но при чем здесь он? — спросил Вудхаус.
— Доподлинно мы ничего сказать не беремся, только мы так думаем, он мог бы избавить нас от этой кутерьмы с купелью. Ну а ежели говорить про голосование…
— Хватит! Ох, хватит! — взревел сторож. — Не то я перережу себе глотку нынче ночью. Вон прикатили еще любители поразвлечься!
У дверей остановился автобус, и оттуда во множестве высыпали мужчины и женщины. Мы вышли взглянуть. Они привезли свернутые хоругви, аналой из трех отдельных частей и, чему я особенно подивился, разборную фисгармонию, какую обычно берут на корабль, уходящий в море.
— Армия спасения? — предположил я, хотя форменной одежды не видел.
Двое из прибывших развернули на древках полотнище с лозунгом: «Земля воистину плоская!» Мы с Вудхаусом взглянули на Бэта. Он покачал головой.
— Нет, нет. Я здесь ни при чем… Если б я только видел их наряды раньше!
— Боже правый! — вскричал Оллиэтт. — Да ведь это члены настоящего «Общества»!
Вся братия прошествовала на луг с уверенностью, которая показывала, что люди взялись за привычное дело. Рабочие сцены не могли бы быстрей собрать из трех частей кафедру, а стюарды — установить фисгармонию. Едва крестовидные ноги успели втолкнуть в гнезда, прежде чем туристы успели двинуться от ворот парка, какая-то женщина уселась за фисгармонию и запела гимн:
Слову истины внемлите,
Свет да виждет человек,
Создал Бог ему обитель, —
Землю, плоскую вовек.
И когда не стало боле
Бездны с Первозданной Тьмой,
Здесь, согласно высшей воле,
Поселился род людской.
Я увидел на лице Бэта выражение черной зависти.
— Будь проклята Натура, — пробормотал он. — Никогда ее не ухватишь. Подумать только, я забыл про гимны и фисгармонию!
Тут вступил хор:
Слову истины внемлите,
Свет да виждет человек —
О признайте! О примите
Землю, плоскую вовек!
Они пропели еще несколько куплетов с истовостью ранних христиан, обреченных на растерзание львам. А потом раздался свирепый рык. Сторож вместе с повиснувшим на нем трактирщиком, приплясывая, выскочил из дверей. Каждый норовил переорать другого.
— Загодя прощенья просим за его выражения! — крикнул хозяин. — И лучше вам уехать отсюдова. (Тут-то сторож разразился бранью.) — Вот уж, ей-ей, не время и не место, чтоб… чтоб сызнова про это языком трепать.
А толпа густела. Я видел, как полицейский сержант вышел из своего домика, подтягивая пояс.
— Но помилуйте, — сказала женщина, сидевшая за фисгармонией, — право же, это какое-то недоразумение. Ведь мы не суфражистки.
— К чертовой матери! Они дали бы нам хоть передохнуть! — вскричал сторож. — А вы проваливайте! Да без разговоров! Лопнуло мое терпение! Проваливайте живо, не то мы вам попомним ту купель!
Толпа, которую непрестанно пополняли жители всех близстоящих домов, дружно вторила этому напутствию. Сержант протолкался вперед.
Мужчина, который стоял у аналоя, сказал:
— Но поверьте, мы ваши добрые друзья и благожелатели. Послушайте меня хоть минуту.
И в эту самую минуту автобус, проезжавший мимо, как нарочно, сыграл Песню. Дальнейшие события развивались стремительно. Бэт, Оллиэтт и я, различными путями постигшие психологию толпы, поспешно отступили к дверям трактира. Вудхаус, владелец стольких газет, жаждал, я полагаю, близкого общения с читающей публикой и нырнул в самую людскую гущу. Все прочие требовали, чтобы члены «Общества» убрались, пока не поздно. Когда дамочка, сидевшая за фисгармонией (тут я начал понимать, почему иногда нужно убивать женщин) указала на ворота парка с трафаретными надписями и назвала эти ворота «святынею нашей общей веры», толпа зарычала и всколыхнулась. Полицейский сержант восстановил порядок, но посоветовал «Обществу» не медлить. Члены «Общества» отступили к автобусу, ведя, так сказать, арьергардные словесные бои на каждом шагу. Разобранную фисгармонию погрузили последней, и толпа, бессмысленная, как все толпы, проводила ее приветственными кликами, а потом шофер дал газу, и автобус умчался прочь. Тогда люди начали расходиться, одобряя всех победителей, кроме церковного сторожа, который, по общему мнению, осрамил свою должность, так как позволил себе неприлично выражаться о дамах. Мы пошли через луг к Вудхаусу, который разговаривал с полисменом у ворот парка. Приблизясь десятка на два шагов, мы увидели, как из привратницкой опрометью выбежал сэр Томас Ингелл и ринулся на Вудхауса с занесенной тростью, вопя в исступлении:
— Я тебя научу надо мной смеяться, ах ты…
Но полностью слова его записаны у Оллиэтта. Когда подоспели мы, сэр Томас уже лежал на земле; Вудхаус, смертельно бледный, держал трость и говорил сержанту:
— Я требую привлечь этого господина к ответственности за оскорбление действием.
— Но боже мой! — воскликнул сержант, который был еще бледнее Вудхауса. — Ведь это же сам сэр Томас.
— Кто бы он ни был, его нельзя оставлять на свободе, — сказал Вудхаус.
Толпа, почуяв неладное, вновь начала скапливаться, и страх перед назревающим скандалом, свойственный всякому англичанину, побудил нас вслед за сержантом скрыться в привратницкой. Ворота и дверь мы предусмотрительно заперли.
— Сержант, вы видели, как он совершил на меня нападение, — продолжал Вудхаус. — Будьте свидетелем, что я применил силу лишь в пределах самообороны. Будьте свидетелем, что я даже не нанес ущерба собственности этого господина. (Эй, вы! Нате, вот ваша трость!) Вы слышали, какой грязной бранью он меня осыпал.
— Я… я осмелюсь сказать, что не все разобрал, — произнес сержант, запинаясь.
— Ну что ж, зато мы разобрали! — сказал Оллиэтт и повторил все, к ужасу жены привратника, которая закрыла передником лицо.
Сэр Томас, усевшись на табуретку, снова обрел дар речи. Он сказал, что «довольно натерпелся с тех пор, как его фотографируют, словно дикого зверя», и открыто выразил сожаление, что не убил «этого типа», который «хотел снюхаться с сержантом, дабы выставить его на посмешище».
— Вы его знаете, сэр Томас? — осведомился сержант.
— Нет! Но пора всем здесь дать наглядный урок. А этого мерзавца я в жизни не видел.
Думается мне, неотразимый взгляд Бэта Маскерьера воскресил прошлое в его памяти, потому что он вдруг переменился в лице и у него отвисла челюсть.
— Да ведь я его знаю! — простонал он. — Теперь я вспомнил.
Тут какой-то трясущийся человек вошел через заднюю дверцу. Он назвался местным ходатаем. Не стану утверждать, что он лизал пятки Вудхаусу, но даже это мы сочли бы более достойным, чем его старания. Он уверял, что дело можно уладить тихо, мирно и к обоюдному согласию, если предложить золото — побольше золота. Сержант тоже так считал. Однако Вудхаус вывел их обоих из заблуждения. Сержанту он сказал:
— Выступите вы свидетелем или нет?
А ходатаю назвал своих адвокатов, и тот, ломая руки в отчаянье, воскликнул фальцетом:
— Ох, сэр Т.! Сэр Т.!
Потому что фирма пользовалась не меньшей знаменитостью, чем сам Бэт Маскерьер.
И они начали совещаться трагическим шепотом.
— Я вовсе не поклонник Диккенса, — сказал Оллиэтт Бэту и мне, отведя нас к окну, — но всякий раз, как я сталкиваюсь со скандалом, оказывается, что полицейский суд буквально кишит героями его книжек.
— Я и сам давно это заметил, — сказал Бэт. — Но странно, публика не принимает Диккенса без обработки — по крайней мере, в Моем деле. Любопытно, почему это так.
Тут сэр Томас снова рассвирепел и проклял день своего или, быть может, нашего рождения. Хоть он и был радикалом, я опасался, что он снизойдет до извинений и сумеет извернуться с помощью лжи, на то он и член парламента. Но он целиком и полностью утратил власть над собой. Он задавал дурацкие вопросы — например, зачем нас вообще занесло в эти края и какую сумму Вудхаус рассчитывает с него заполучить путем вымогательства. Но ни Вудхаус, ни сержант, ни трясущийся ходатай его даже не слушали. После заключительных переговоров, которые состоялись в дальнем углу, у очага, было решено, что в понедельник сэру Томасу надлежит предстать перед своими собратьями в сфере правосудия и ответить за преднамеренное оскорбление действием, нарушение общественного порядка, бранные слова и прочее. Оллиэтт особо выделил бранные слова.
Потом мы уехали. В вечерних сумерках местность казалась прелестной, и мелодичные звуки лились нам вслед, как из соловьиного гнездышка.
— Надеюсь, в понедельник свидимся, — сказал Вудхаус, когда мы вернулись в город.
До тех пор он даже не обмолвился о происшедшем.
И мы свиделись — а весь мир по-прежнему распевал, как Землю признали плоской, — в том же желтом, как глина, городишке, где была рыночная площадь, большая хлебная биржа и маленький юбилейный памятник. Не без труда нашли мы себе места в судебном зале. Адвокат, которого Вудхаус выписал из Лондона, оказался человеком решительным и умел говорить так, что самые звуки его голоса содержали потрясающие улики. Когда началось разбирательство, он встал и заявил, что его клиент намерен отказаться от обвинения. Его клиент, продолжал он, не принял и, разумеется, не мог при данных обстоятельствах принять от имени общественной благотворительности любую денежную компенсацию, каковую ему могли бы предложить, учитывая состояние сэра Томаса. В то же время его клиент, как никто другой, с искренней признательностью оценил дух, в котором упомянутое предложение было сделано лицами, облеченными соответствующими полномочиями. Но, в сущности, — здесь он заговорил как светский человек среди равных себе — некоторые… э… подробности стали известны его клиенту уже после того прискорбного неистовства, каковое… Он выразительно пожал плечами. Нет нужды входить в эти подробности, однако он смеет заверить, что, если бы только печальная истина обнаружилась ранее, его клиент — тут он опять ввернул «разумеется» — даже не помыслил бы… Не договорив, он только махнул рукой, и одураченные судьи уже по-иному, с опаской поглядели на сэра Томаса. Поистине, продолжал адвокат, теперь им самим ясно, что было бы по меньшей мере жестоко продолжать разбирательство этого… э… злополучного дела. А посему он просит разрешить ему отказаться от обвинения in toto[297] и одновременно выразить от имени своего клиента глубочайшее сожаление всем, кому данный процесс и широкая огласка причинили неприятности, подобно его клиенту, который, да будет ему позволено заверить еще раз, даже не помыслил бы, разумеется, возбуждать иск, если бы, как он уже, можно надеяться, ясно изложил, клиент его располагал определенными фактами в то время, когда… Но довольно, больше он не станет говорить. И я подумал, что он довольно наговорил за свой гонорар.
По наитию свыше адвокат сэра Томаса — готовый из кожи вылезти, только бы не зашла речь о бранных словах его подзащитного, — встал и поблагодарил коллегу. Потом сэр Томас — еще не сознававший, что его постигло бедствие хуже проказы, но готовый откупиться любой ценой — последовал этому примеру. Его выслушали с молчаливым любопытством, и народ поспешно расступился, когда прошел Гиезий.
— Ваш удар был жесток, — сказал Бэт Вудхаусу, когда все кончилось. — Даже его люди думают, что он помешался.
— Неужели? Сегодня за обедом я покажу вам несколько его писем, — отвечал Вудхаус.
Он принес письма в янтарный кабинет «Отбивной котлеты». Мы забыли даже то удивление, которое вызывали у нас и Песня, и «Дрыгли», и все щедроты судьбы, которые только нам, казалось, и были предназначены. Оллиэтта даже не заинтересовало, что словечко «прихаклить» вошло в язык авторов газетных статей. Мы прозревали наготу души, ярко освещенной до самых темных глубин и терзаемой страхом «потерять положение».
— А потом это ничтожество поблагодарило вас за то, что вы прекратили процесс? — спросил Поллент.
— Да, и подтвердило свою благодарность телеграммой. — Вудхаус повернулся к Бэту. — Вы по-прежнему считаете, что мой удар был слишком жесток?
— Не-ет! — отвечал тот. — В конце концов — я сейчас говорю о всяком поприще — Искусство, вопреки всем нашим стараниям, никогда не может сравниться с Натурой в любых перипетиях жизни. Подумать только, как это вышло…
— Дайте-ка мне еще разок просмотреть ваше дельце, — сказал Поллент и взял «Плюшку», где был напечатан полный отчет.
— Кстати, Дол сегодня не заглянет сюда?.. — начал Оллиэтт.
— Она занята своим Искусством, — ответил Бэт с горечью. — А что толку в Искусстве? Пускай кто-нибудь мне объяснит! — Уличная шарманка тотчас возвестила о том, как признали Землю плоской. — Граммофоны вытесняют шарманки, но уже через двенадцать часов после рождения Песни я выпустил на улицы сто семьдесят четыре таких вертушки, — сказал он. — Это не считая провинции.
Его хмурое лицо несколько прояснилось.
— Послушайте, — сказал Поллент, оторвавшись от газеты. — Едва ли вы или эти ослы из парламента могли знать, но ваш адвокат должен был знать, что все вы неслыханно осрамились, когда затеяли этакое дело об оскорблении действием.
— Но почему же? — осведомился Вудхаус.
— Это смехотворно. Это нелепо. Во всей процедуре не было и на грош законности. Разумеется, вы могли отказаться от обвинения, но что за форму вздумалось вам избрать, ведь это ребячество — и к тому же нарушение закона. Куда, черт побери, смотрел начальник полиции?
— Ну, он ведь друг сэра Томаса. Впрочем, как и остальные, — ответил я.
— Повесить его надо. А заодно и председателя суда. Это я вам как юрист говорю.
— Позвольте, но что же вменяется нам в вину? Недонесение о государственной измене, или уголовное преступление, или что еще? — спросил Оллиэтт.
— Потом объясню.
И Поллент снова углубился в газету, хмуря брови и время от времени недобро усмехаясь. Наконец он расхохотался.
— Благодарю вас! — сказал он Вудхаусу. — Это должно принести изрядную пользу нам.
— Как вас понимать? — спросил Оллиэтт.
— Нашим сторонникам. Тут замешаны сплошь радикалы во главе с начальником полиции. Нужен запрос. Непременно нужен запрос.
— Но я желал отказаться от обвинения так, как это угодно мне, — настаивал Вудхаус.
— Само обвинение тут ни при чем. Встает вопрос о законности ваших дурацких методов. Только вам все равно не понять, толкуй я хоть до утра. — Он принялся расхаживать по кабинету, держа руки за спиной. — Любопытно, удастся ли мне вдолбить в тупую башку нашего лидера, какие последствия… Вот что бывает, когда в судебную коллегию сажают радикально настроенных тупиц, — пробормотал он.
— Да сядьте вы! — сказал Вудхаус.
— Где мне сейчас разыскать вашего адвоката? — спросил Поллент отрывисто.
— В «Трилистнике», — ответил Бэт, не задумываясь. — Я предоставил ему на сегодняшний вечер свою ложу. Он ведь тоже по-своему человек искусства.
— В таком случае я съезжу и потолкую с ним, — сказал Поллент. — Ведь для нас это поистине дар божий, надо только действовать умеючи.
И он ушел, даже не извинившись.
— Право, сколько можно, конца-то все нет и нет, — заметил я с глупым видом.
— Это выше моего понимания! — сказал Бэт. — Пожалуй, знай я, что так выйдет, я нипочем не стал бы… Впрочем, все равно. Ведь он сказал, что мое место жительства…
— Но главное, в каком тоне — в каком тоне! — Оллиэтт чуть не сорвался на крик.
Вудхаус промолчал, погруженный в задумчивость, но лицо его покрылось бледностью.
— Ну, как бы там ни было, — продолжал Бэт, — к счастью, я всегда полагался на бога, и провидение, и все прочее. Иначе я давно пал бы духом. Мы покорили весь мир — всю поверхность земного шара. Теперь мы даже при желании не можем это дело остановить. Оно должно заглохнуть само собой. Я больше ни за что не отвечаю. Чего теперь, по-вашему, ожидать? Помощи ангелов?
Я не ожидал ничего. Не ожидал ничего похожего на то, что мне довелось увидеть. К политике я равнодушен, но коль скоро она, видимо, норовила «прихаклить» остальных, заинтересовался ею и я. У меня создалось впечатление, что это собачья жизнь, которой сами собаки не позавидуют, в чем я окончательно уверился однажды утром, когда небритый и неумытый Поллент ввалился ко мне в десять часов и попросил позволить ему принять ванну и поспать.
— А на поруки вас взять не надо? — спросил я.
Он был во фраке, и глаза у него глубоко ввалились.
— Нет, — сказал он хрипло. — Мы всю ночь заседали. Голосовали пятнадцать раз. Сегодня вечером продолжим. Я живу далеко, а вы тут рядом, поэтому…
И он начал раздеваться в передней.
Он проспал до часу дня, а потом мрачно поведал мне, как, по его словам, вершилась история, хотя на деле это была всеобщая истерия. Разразился политический кризис. Поллент и прочие члены парламента «решали дела» — я так и не понял, что это были за дела, — восемнадцать часов кряду, и безжалостные лидеры уже названивали по телефонам, созывая их для новой грызни. Поэтому он злобно фыркал и опять распалял себя, вместо того чтобы отдохнуть.
— Сегодня я буду добиваться ответа на свой запрос о нарушении процессуальных норм применительно к Хакли, можете, если угодно, послушать, — сказал он. — Из этого решительно ничего не выйдет — положение наше сейчас шаткое. Я их предупредил: но другого случая мне надо неделями дожидаться. Пожалуй, Вудхаус тоже захочет пойти туда.
— Без сомнения. Все, что касается Хакли, нас интересует, — сказал я.
— Боюсь, это никого не поразит. Обе стороны выдохлись окончательно. Теперешняя ситуация складывалась исподволь. Назревал скандал, и прочее, и прочее.
Он снова дал себе волю.
Я позвонил Вудхаусу, и мы вместе отправились в парламент. День был пасмурный, в воздухе парило, чувствовалось приближение грозы. По той или иной причине каждая сторона была исполнена решимости непреложно доказать свою доблесть и стойкость. Отовсюду раздавались свирепые голоса: «Если они не уступят, мы им не дадим пощады». «Доконаем этих скотов сразу. За ночь они совсем сникли». «Смелей! Без уверток! Я же знаю, вы побывали в турецкой бане». Все это и еще многое я расслышал мимоходом. Зал парламента был уже переполнен, и чувствовалось, как наэлектризована эта измученная толпа, которая сама себя взвинчивала, омрачая спокойствие дня.
— Плохо дело! — шепнул Вудхаус. — Заседание кончится скандалом. Поглядите на передние скамьи!
И он условными знаками дал мне понять, что каждый там едва сдерживается. Но старания его были излишни. Я видел, что они готовы перегрызться, как собаки, хотя кость им еще не бросили. Какой-то хмурый министр встал, чтобы ответить на отрывистый вопрос. Его сторонники разразились вызывающими криками. «Довольно! Довольно!» — долетало с задних скамей. Я видел, что лицо председателя застыло, как у рулевого, который выравнивает капризную яхту, настигнутую волной. Он едва успел предотвратить беду. Через несколько минут налетел новый, как будто беспричинный шквал, грозный, яростный и все же бессильный. Но порыв иссяк — слышен был его последний вздох, — каждый вдруг вспомнил с досадой, сколько еще тягостных часов предстоит высидеть, и государственный корабль поплыл дальше.
Потом встал Поллент — и при звуках его неумолимого голоса по рядам пробежала мучительная дрожь. Он зачитал длинный запрос, полный юридических тонкостей. Суть же сводилась к тому, что он желал бы знать, известно ли соответствующему министру, что такого-то числа, в таком-то месте такие-то мировые судьи допустили грубое нарушение процессуальных норм при слушании дела, возбужденного… Я услышал лишь отчаянный, безнадежный возглас: «К черту!» — который прорвался сквозь эту невыносимую пытку. Но Поллент гнул свое:
— …вследствие известных событий, каковые имели место в Хакли.
Депутаты замерли, приоткрыв рты, будто собирались икнуть, и я вдруг заподозрил… А Поллент повторил:
— В Хакли, где…
— «Голосованием признали Землю плоской».
Эти слова пропел на задней скамье одинокий голос, словно сиротливая лягушка квакнула в дальнем пруду.
— «Признали Землю плоской», — каркнул кто-то с другой стороны зала.
— «Признали Землю плоской».
Вступили сразу несколько голосов. И еще несколько.
Поймите, наконец-то всеобщее изматывающее нетерпение изливалось наружу, и депутаты рявкали на все лады, проворно, как моряки отдают швартовы.
— «Там голосованием Признали Землю плоской».
Уже угадывался знакомый мотив. Грянули новые голоса, ноги начали отбивать такт. Но даже тогда мне не пришло в голову, что вскоре…
— «Там голосованием Признали Землю плоской!»
Теперь легче было уследить, кто не поет. Такие еще оставались. И вдруг (вот доказательство, на какой шаткой основе держатся убеждения независимой фракции) один из независимых вскочил на скамью и заиграл на воображаемом контрабасе, взмахивая рукой с ловкостью истого виртуоза.
Последний швартов был отдан. Государственный корабль беспомощно поплыл по бурным волнам мелодии.
— «Там голосованием Признали Землю плоской!
Там голосованием Признали Землю плоской!»
Ирландцы первыми сообразили свернуть листки, на которых была отпечатана повестка дня, в трубки и при слове «Земля» искусно дудели «друм-друм». Лейбористы, всегда верные традициям и приличиям во время кризиса, сдерживались дольше других, но стоило им начать, как они взревели неистовей всяких синдикалистов. И без различия между партиями, без оглядки на избирателей, позабыв о честолюбии или выгоде, депутаты пели кто во что горазд, раскачивали свои дряблые тела, судорожно топотали распухшими ногами. Они распевали «Там голосованием Признали Землю плоской»: во-первых, потому что им самим хотелось, а во-вторых — такова эта чудовищная песня, — потому что они не могли остановиться. Ни в коем случае не могли остановиться.
Поллент все еще стоял. Кто-то показал на него пальцем, раздался хохот. Другие тоже начали тыкать пальцами, словно фехтовали под собственное пение. В этот миг из-за председательского кресла чуть ли не плечом к плечу появились двое и замерли, объятые ужасом. Как оказалось, один был премьер-министр, а другой — просто курьер. Они сразу завладели вниманием депутатов, по щекам у которых катились слезы. Шесть сотен указательных пальцев обратились в их сторону. При этом депутаты раскачивались, подпрыгивали, корчились и все-таки пели. Когда они ослабевали хоть на мгновение, ирландцы вопили: «Вы со мной заодно, ребяты?» — и все, подобно Антею, обретали новые силы. Позже никто не мог сказать, что происходило на галереях для прессы и для гостей. Только Палата, исступленная и обезумевшая Палата представителей, приковала к себе все взгляды, оглушила все уши. Я видел, как сидевшие на обеих передних скамьях подались вперед, некоторые уткнули лбы в свои портфели, остальные закрыли лица руками; и плечи их так тряслись, что депутаты презрели последние приличия. Лишь председатель сохранил невозмутимость. На другой день все газеты Великобритании засвидетельствовали, что он даже не наклонил головы. Сам Ангел Конституции, поскольку ни один смертный не мог бы тут помочь, безошибочно предрек ему мгновение, когда в зале начнут отплясывать «Дрыгли». По газетным сообщениям, он сказал: «Я услышал, как ирландцы стали пританцовывать. Тогда я объявил перерыв». А Поллент утверждал, будто он добавил: «И в жизни не был я благодарен рядовому члену парламента так горячо, как мистеру Полленту».
Он ничего не стал объяснять. Он не упомянул о порядках или беспорядках. Он попросту объявил перерыв до шести вечера. И депутаты покинули зал — иные чуть ли не на четвереньках.
Я погрешил против истины, когда сказал, что не смеялся один лишь председатель. Вудхаус все время сидел рядом со мной. Лицо у него было суровое и очень бледное — мне рассказывали, что столь же бледен был сэр Томас Ингелл, когда по специальному приглашению явился для личной беседы к лидеру своей партии.
«ЖЕНА МОЕГО СЫНА»[298]
С юношеских лет он страдал болезнью века, и к тридцати годам был основательно поражен этим тяжким недугом. С несколькими друзьями он очень ловко реорганизовал Небеса, однако реорганизация Земли, которую они называли Обществом, оказалась еще более увлекательным делом. Оно требовало Работы, которая заключалась в ежедневных разъездах по всему городу на такси, в замечательных беседах с замечательными собеседниками, длившихся часами, в переписке, отмеченной блеском ума и знаний, в умении помолчать (но с убеждением, что скоро настанет и твой черед сказать свое веское слово), пока другие излагают свои умозаключения, в посещении картинных галерей, чаепитий, концертов, театральных представлений, мюзик-холлов и кинематографов, и все это в атмосфере любви к прекрасным дамам, волосы которых насквозь пропахли сигаретным дымом. И каждый вечер, возвращаясь домой после столь насыщенного делами трудового дня, Фрэнкуэл Мидмор был уверен, что он со своими друзьями еще на шаг приблизил Мир к Истине, Рассвету и Новому Общественному Порядку.
Он говорил, что по своему темпераменту более склонен оперировать конкретными фактами, нежели абстрактными идеями. Люди же, которые весь день занимаются исследованием фактов, к вечеру обычно устают. И именно в силу особенностей своего характера, а может быть, и из-за женщины, он с самого начала примкнул к Радикально Левым в качестве исследователя, экспериментирующего в области Социальных Отношений. А поскольку среди Радикально Левых было немало женщин, искренне желавших помочь юным экспериментаторам с солидным независимым доходом в их стремлении постигнуть основные ценности бытия, то Фрэнкуэл Мидмор отнюдь не мог пожаловаться на судьбу.
Но однажды судьбе было угодно сыграть с ним злую шутку. Его тетушка, вдова, которая в значительной мере по складу своего характера и еще более в результате брака была отгорожена от всего того, к чему так стремилась матушка Фрэнкуэла, неожиданно умерла и оставила ему кое-какое имущество. А поскольку как раз этим летом миссис Мидмор исповедовала учение, категорически отрицавшее существование смерти, то естественно она не могла снизойти до присутствия на похоронах, и вот в самый разгар сезона, когда борьба за Социальное Возрождение происходит наиболее плодотворно, принимая форму продолжительных и весьма интимных дискуссий в самом узком кругу после вечернего чая, Фрэнкуэлу пришлось покинуть Лондон и отправиться в пропитанное сыростью имение. Там он смог оценить по достоинству бодрящий ритуал английских похорон, и у свежей могилы на него роняла слезы пожилая гробообразная женщина с длинным носом, называвшая его «мастер Фрэнки», а потом его поздравил с прибытием, прикрывая рот отлично резонирующим цилиндром, какой-то господин, которого он сначала принял за немого и который оказался адвокатом его покойной тетушки. Вот что он написал миссис Мидмор на другой день, вслед за красочным описанием похорон:
«Насколько мне известно, она оставила мне что-нибудь около четырех-пяти сотен в год. Эти деньги дает Тэр-Лэнд, как они называют здешнее имение. Бесподобный Сперрит, адвокат, и его зеленоглазая дочь, которая все время что-то мурлыкает себе под нос, но упорно молчит, о чем бы ни зашла речь, кроме охоты, пожелали показать мне мои новые владения. Весь Тер-Лэнд похож на шоколадно-фисташковый торт — коричневый и зеленый в полоску, с отдельными вкраплениями в виде крестьян, которые вообще не говорят ни слова. На случай, если здесь будет недостаточно сыро, через имение протекает вполне сырой ручей. Усадьба стоит на самом берегу ручья. Загляну туда позднее. Если тебе хочется получить что-нибудь на память о Дженни, напиши мне. По-моему, ты говорила, что средневикторианская мебель снова пользуется спросом? Старая служанка Дженни — ее зовут Рода Долби — сказала, что Дженни обещала ей тридцать фунтов в год. В завещании об этом нет ни полслова. Отсюда, как я полагаю, слезы на похоронах. Все-таки это почти десять процентов дохода. Полагаю, что Дженни уничтожила все свои личные бумаги и все записи, касающиеся ее vie intime,[299] если только в такой дыре вообще возможна хоть какая-нибудь жизнь. Этот Сперрит сказал, что если я располагаю собственными средствами, то смогу жить в имении. Я не стал говорить ему, что готов заплатить любую сумму, только бы не жить здесь. Это несправедливо и жестоко, когда один человек угнетает других людей в духе нашей дурацкой социальной системы, и поскольку это все мое, я продам имение, как только окаянный Сперрит найдет покупателя».
На другой же день, перед тем как вернуться в город, Мидмор отправился к мистеру Сперриту, чтобы высказать ему эту идею.
— Именно так, — сказал адвокат. — Я вас понял, разумеется. Но сам по себе дом довольно старомодный: у покупателей такие дома сейчас не пользуются спросом. Нет парка, а кроме того, большая часть земли сдана в бессрочную аренду мистеру Сиднею. До тех пор пока он вносит арендную плату, вы не имеете права согнать его с земли, и даже если он перестанет платить, — на лицо мистера Сперрита набежала тень, — вам будет не так-то просто с ним расстаться…
— Кажется, имение дает около четырехсот фунтов в год? — спросил Мидмор.
— Ну, едва ли… е-два-ли. За вычетом поземельного и подоходного налогов, церковной десятины, взносов по страхованию от пожара и всякого рода денежных сборов и расходов на ремонт, в прошлом году у нас осталось двести пятьдесят четыре фунта. Ремонтные работы — довольно большая статья расходов… из-за ручья. Я называю его Лирис… помните, из Горация.
Мидмор нетерпеливо взглянул на часы.
— Надеюсь, вы все-таки найдете покупателя? — спросил он.
— Разумеется, я сделаю все возможное, если таковы ваши инструкции. Итак, мы обсудили все, кроме… — тут Мидмор немного привстал, но маленькие серые глазки мистера Сперрита спокойно выдержали взгляд его больших карих глаз, — кроме будущего Роды Долби, служанки миссис Уэрф. Должен вам сказать, что мы не успели оформить в виде завещания последнюю волю вашей тетушки. Незадолго до смерти она стала очень скрытной — с пожилыми людьми это случается часто — и написала его в Лондоне. Думаю, что ее подвела память, или она потеряла свои записи. Обычно она прятала их в футляр для очков… не беспокойтесь, мистер Мидмор, на моей машине вы доедете до станции за восемь минут… Но как я уже сказал, всякий раз, когда миссис Уэрф составляла свое завещание здесь, она всегда оставляла Роде тридцать фунтов в год. Чарли, покажите завещания!
Лысоватый клерк с длинным носом быстро разложил по столу бумаги, словно сдал карты, и тяжело вздохнул, стоя за спиной у Мидмора.
— Конечно, эти документы не имеют законной силы, — заметил мистер Сперрит. — Взгляните, вот этот датирован одиннадцатым января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года…
Мидмор посмотрел на часы и неожиданно для себя самого вдруг сказал не слишком любезно:
— Весьма сожалею, что они не имеют законной силы… во всяком случае, на сегодняшний день.
По дороге на станцию он с досадой думал о том, что двести пятьдесят четыре фунта — это не совсем четыреста фунтов и что ему действовал на нервы длинный нос Чарли. Потом он сел в вагон первого класса, и мысли его вернулись в Лондон.
Из двух или трех экспериментов в области Социальных Отношений, которые Мидмор тогда проводил, один вызывал у него особенный интерес. Эксперимент этот продолжался уже несколько месяцев и обещал дать совершенно удивительные результаты, о которых он с наслаждением размышлял всю дорогу до города. Поэтому он почувствовал себя немного застигнутым врасплох, когда, войдя в свои апартаменты, прочитал письмо на двенадцати страницах, объясняющее ему в стиле, принятом у Радикально Левых, которые всегда пишут «я» с красной строки и тщательно выводят все «т», что даме его сердца открылись величайшие ценности в душе другого человека. Она не ссылалась на кредо Радикально Левых в оправдание этого шага, а просто процитировала его основные положения, закончив письмо страстным призывом предоставить ей право на самовыражение и возможность самой распоряжаться своей жизнью, тем более что, как она подчеркнула, живем мы только раз. Если же она когда-нибудь почувствует, что общество Фрэнкуэла Мидмора «в полной мере отвечает ее духовным потребностям», то она непременно поставит его об этом в известность. Фрэнкуэл не нашел утешения в том, что всего три года назад сам направил подобного же рода послание, без обратного адреса, женщине, которая в результате его упражнений в самовыражении основательно ему наскучила.
Поскольку в данный момент у него не было другого собеседника, он обратился к газовой плите в выражениях достаточно сильных, хотя и не слишком изысканных. Затем он подверг острой критике своих лучших друзей, и ее лучших друзей, мужчин и женщин, с которыми и он, и она, и все остальные так мило болтали, когда их веселое приключение было в самом расцвете. А потом припомнил — вероятно, где-то около полуночи, — какому критическому анализу в плане не только общечеловеческом, но и весьма интимном, она подвергала того, с кем была осуждена сосуществовать на основе того крайне эфемерного союза, что именуется браком. Еще позднее, в тот мрачный час, когда в хлевах начинает просыпаться скот, ему вспомнились некоторые другие аспекты ее естества, и тут земля разверзлась, и ад поглотил его, терзаемого желанием и всеми покинутого, даже самим господом богом. На следующее утро часов в одиннадцать к нему зашли Элифаз из Теманы, Билдад из Шуаха и Цофар из Наамы,[300] которые договорились встретиться, чтобы узнать, как он принял это известие; однако швейцар сказал им, что Иов уехал… вероятно, в имение.
Мидмор с радостью убедился в том, что на его стучащих болью висках не написано ничего такого, что мистер Сперрит мог бы истолковать как историю его поражения — ведь несчастные любовники, так же как и счастливые, почему-то полагают, что весь мир посвящен в их сердечные дела. Во всяком случае, мистер Сперрит объяснил радость Мидмора совершенно иными причинами. Он проводил Фрэнкуэла в малую гостиную. Казалось, весь дом был полон гостей, которые во весь голос распевали какие-то дурацкие песни о коровах, а в прихожей пахло мокрыми плащами.
— Сегодня вечером мы поем зимнюю кантату «Высок прилив на бреге Линкольншира»,[301] — объяснил мистер Сперрит. — Я знал, что вы вернетесь. Нам надо еще обсудить с вами кучу всяких мелочей. Что же касается дома, то там все готово, и вы можете в любой момент переехать туда. Правда, я не мог выгнать оттуда Роду… и Чарли тоже не мог. Ведь она родная сестра вашей няни, которая привезла вас сюда, когда вам было всего четыре года, и нужно было как можно скорее поставить вас на ноги после кори.
— Правда? Я болел корью? — рассеянно спросил Мидмор, ощущая какой-то неприятный вкус во рту. — Как вы думаете, я смогу переночевать там сегодня?
В это время тридцать развеселых юных голосов громко призвали кого-то «поднять бокалы — и до дна, до дна, до дна!».
Мистеру Сперриту пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум:
— Разумеется. Если бы я попросил вас остаться у меня, этого Рода мне никогда бы не простила… Конечно, она немного не в своем уме, но это чистая, преданная душа, всегда готовая вам помочь. Ne sit ancillae,[302] я бы сказал.
— Спасибо. Мне пора. Я немного пройдусь.
Ошеломленный, с ощущением дурноты, он, спотыкаясь, вышел на улицу и в обступивших его зимних сумерках увидел массивный квадратный дом на берегу ручья.
Его прибытие в этот дом отнюдь нельзя назвать триумфальным, ибо, как только дверь была отперта и у Роды вырвалось изумленное восклицание, он храбро шагнул и тут же потерял сознание, как это нередко бывает с теми, кто в течение двадцати двух часов много предается эмоциям и мало ест.
— Извините, — сказал он, когда к нему вернулся дар речи.
Он лежал возле самой лестницы, а его голова покоилась на коленях у Роды.
— Ваш дом — ваша крепость, сэр, — сказала она ему прямо в волосы. — Я поняла сразу по запаху, что вы не пили. Ложитесь на диван, а я пока приготовлю ужин.
Рода помогла ему добраться до гостиной, обитой желтым шелком и пропитанной запахом засохших листьев и керосиновой лампы. До него доносилось какое-то умиротворяющее мурлыканье, и оно заглушало пронзительные звуки, от которых у него раскалывалась голова. А потом ему показалось, будто он слышит топот копыт по мокрому гравию и чей-то голос, поющий песню о кораблях, овечьих стадах и зеленой траве. Голос приблизился к самому окну, плотно закрытому ставнями:
Хоть обыщите целый свет,
Среди всех женщин, не секрет,
Милейшая — Элизабет,
Жена моего сына.
Копыта стали отбивать легкий галоп, и в этот момент в комнату вошла Рода с подносом.
— А потом я уложу вас в постель, — сказала она. — Утром придет Сидней.
Мидмор не стал задавать вопросов. Оплакивая свою бедную истерзанную душу, он с трудом дотащился до постели и уже хотел было снова предаться горестным размышлениям, но еда и горячий херес мгновенно усыпили его.
Утром его разбудил голос Роды, которая спрашивала, что он хочет — «лежачую, стоячую или сидячую», и Фрэнкуэл догадался, что речь идет о ваннах.
— Вы можете воспользоваться всеми тремя, — предложила Рода. — Здесь все ваше, сэр.
Мидмор уже собрался было снова возроптать на судьбу, на этот раз при дневном свете, но последние слова Роды приятно поразили его. Оказывается, все, на что он здесь ни посмотрит, принадлежит ему и только ему. Резная чиппендейлская кровать[303] с четырьмя столбиками по углам, которая стоила, очевидно, несколько сот фунтов; великолепные кресла орехового дерева в стиле эпохи короля Вильгельма и королевы Марии (он видел кресла похуже, которые продавались по двадцать гиней каждое); овальное зеркало в виде медальона; каминная решетка искусной работы — XVIII век; тяжелые парчовые шторы — все было его и только его. А потом еще огромный сад с великим множеством птиц, на которых он с удовлетворением поглядывал, когда брился; тутовое дерево, солнечные часы и ручей стального цвета, монотонно журчащий на одном уровне с лужайкой в каких-нибудь ста ярдах от дома. Его личной и весьма специфической собственностью был запах сосисок и кофе, который он с наслаждением вдыхал, стоя на широкой квадратной лестничной площадке второго этажа, окруженный со всех сторон какими-то таинственными дверями и развешанными по степам гравюрами Бартолоцци.[304] После завтрака он в течение двух часов исследовал свои новые владения. Его сердце радостно прыгало в груди, когда он находил такие вещи, как швейные машины, кресло на колесах с резиновыми шинами в выложенном кафелем коридоре, малаккская трость с малахитовым набалдашником, десятки нераспечатанных коробок с канцелярскими принадлежностями, перстни с печатью, связки ключей, а на самом дне ридикюля из стальной сетки лежал маленький кожаный кошелек, в котором было семь фунтов десять шиллингов золотом и одиннадцать шиллингов серебром.
— Вы очень любили играть с этим кошельком, когда моя сестра привезла вас сюда после кори, — сказала Рода под звон монет, которые Мидмор пересыпал к себе в карман. — А вот здесь был кабинет вашей бедной дорогой тетушки.
Она открыла низкую дверь.
— Ах да! — воскликнула Рода. — Я совсем забыла про мистера Сиднея. Вот и он.
В большом кресле в стиле ампир сидел старик огромного роста с красными веками, которые непрерывно моргали из-под густых седых бровей; в руках он держал шапку. Выразительно сопя, Рода вышла из комнаты.
Мистер Сидней молча оглядел Мидмора с головы до ног, потом ткнул большим пальцем в сторону двери.
— Думаю, она сказала вам, кто я такой, — начал он. — Я ваш единственный арендатор. И мое хозяйство не даст никакого дохода, если не будет твердо стоять на собственных ногах. Как насчет моего свинюшника?
— А в чем дело? — осторожно спросил Мидмор.
— За этим я к вам и пришел. Советы графств становятся все более привередливыми. Вы знаете, что в Пашелле была свиная лихорадка? Да, была. Свинюшники должны быть из кирпича.
— Понятно, — вежливо согласился Мидмор.
— Я много раз заходил к вашей тетке по этому поводу. Не скажу, что она была несправедлива, но она понимала условия аренды не так, как я. Я уже привык к тому, что меня все водят за нос, но без свинюшника мне никак не обойтись.
— Когда бы вы хотели выстроить его? — спросил Мидмор, полагая, что выбрал самый легкий путь.
— Когда угодно, мне все равно. Ему несладко приходится в старом свинюшнике. А я заплатил за него восемнадцать шиллингов.
Мистер Сидней скрестил руки на своей палке и больше не подавал признаков жизни.
— Это всё? — запинаясь, спросил Мидмор.
— Пока всё… кроме… — он раздраженно посмотрел на стол, — кроме моих обычных… Где Рода?
Мидмор поднял колокольчик и позвонил. В комнату вошла Рода с бутылкой виски и стаканом. Мистер Сидней налил себе виски, придерживая бутылку четырьмя негнущимися пальцами, резким движением поднялся на ноги и, ковыляя, вышел из комнаты. В дверях он сердито прокричал:
— Может быть, для вас и безразлично, утону я или нет, но шлюзы давно пора оборудовать колесом и воротом. Я слишком стар, чтобы поднимать их ломом… в мои-то годы.
— Вот мы и избавились бы от него, если бы он утонул, — пробурчала Рода. — И не обращайте на него внимания. Это он дурака валяет. Ваша бедная дорогая тетушка давала ему «его обычное» — это не то виски, которое пьете вы, — и отправляла его домой.
— Понимаю. А свинюшник — это то же самое, что свинарник?
Рода кивнула головой.
— Ему, действительно, нужен свинарник, — сказала она, — но вы вовсе не обязаны обеспечивать его строительными материалами. Загляните в договор об аренде — третий ящик слева в бомбейском бюро, — и, когда он придет в следующий раз, попросите его перечитать договор. Он задохнется от злости, потому что не умеет читать!
Мидмор не обладал знаниями, которые позволили бы ему постигнуть сокровенный смысл и значение договора об аренде, написанного от руки в конце восьмидесятых годов, но Рода растолковала ему, о чем шла речь в этом документе.
— Здесь вообще ничего не поймешь, — бодро заключила она, — если не считать того, что вы не можете согнать его с земли, а он может делать все, что ему заблагорассудится. Нам еще повезло, это он ведет хозяйство, и если бы не эта женщина…
— Да? Оказывается, есть еще миссис Сидней?
— О боже, конечно, нет! Никто из Сиднеев никогда не женится. Они содержат женщин. Эта уже четвертая с тех пор, как… насколько мне известно. Когда-то он был очень привлекательным мужчиной.
— А дети?
— Если они и есть, то, наверное, уже взрослые. Но, в конце концов, не можете же вы думать с утра до ночи о том, как бы соблюсти его интересы. Кстати, ваша бедная дорогая тетушка заболела от этих мыслей несварением желудка. Вы уже были в оружейной комнате?
Мидмор придерживался весьма твердых взглядов относительно того, что убийство животного ради удовольствия аморально. Но нельзя было не согласиться, что ружья покойного полковника Уэрфа, которые стоили семьдесят гиней каждое, были великолепны, хотя и выполняли грязную работу. Мидмор зарядил одно из ружей, взял его наизготовку и прицелился — просто прицелился — в фазана, который взлетел из кустарника за кухней. Раздался выстрел, и огненно-золотистая птица, убитая наповал, рухнула на лужайку. Рода, которая мыла посуду в помещении при кухне, похвалила его за прекрасный выстрел и сказала, что ленч уже на столе.
Всю вторую половину дня он потратил на то, что с картой в одной руке и ружьем в другой обходил границы своих владений. Они лежали в неглубокой и совсем неживописной долине, окруженной со всех сторон лесами и разрезанной пополам ручьем. В верхнем течении ручья находился его собственный дом, а менее чем в полумиле от него, вниз по течению, посреди старого фруктового сада расположилась приземистая крестьянская усадьба красного цвета, возле которой громоздилось нечто напоминающее шлюзные ворота на Темзе, но только поменьше. Фрэнкуэл сразу сообразил, кому принадлежит этот дом. Мистер Сидней еще издали заметил его и что-то промычал насчет свинюшников и шлюзов. Эти последние представляли собой огромные раздвигающиеся ворота из довольно трухлявого дуба, перегораживающие ручей. Их массивные створы приходилось двигать ломом вдоль зазубренной железной балки, и когда мистер Сидней открыл их, вода в ручье сразу убыла наполовину. Завороженными глазами Мидмор следил за тем, как, словно по волшебству, понижается уровень воды меж заросших ольхой берегов. И это тоже принадлежало ему.
— Понимаю, — сказал Мидмор. — Как интересно! А что это за колокол? — продолжал он, указывая на старый корабельный колокол, висящий на грубо сколоченной башне в конце флигеля. — Это что, бывшая часовня?
Некоторое время гигант с красными глазами безуспешно пытался что-то ответить и только яростно моргал.
— Да, — сказал он наконец. — Моя часовня. Когда вы услышите, как звонит этот колокол, вы поймете, что такое настоящий звон. И это все я построил. Никто другой не взялся бы за такое дело. Но думаю, вам это все равно.
Он закрыл шлюзные ворота, и вода в ручье с ворчаньем и чмоканьем снова поднялась до прежнего уровня.
Мидмор отправился дальше, сознавая, что, если бы в беседе участвовала Рода, ему было бы спокойнее.
Проходя мимо окон, он заметил в одном из них гладкую полную женщину с седыми волосами, аккуратно разделенными на прямой пробор под вдовьим чепцом; женщина сделала ему почтительный реверанс. И хотя в соответствии с кредо Радикально Левых она имела полное право на самовыражение всеми доступными ей способами, этот реверанс возмутил Мидмора до глубины души. А по дороге домой его окликнул из-за забора какой-то явный идиот, который завывал и пританцовывал вокруг него, пытаясь что-то сказать.
— Что было надо от меня этому чудовищу? — спросил Мидмор за чаем.
— Джимми? Он всего-навсего хотел узнать, не нужно ли вам отправить какую-нибудь телеграмму, — ответила Рода. — Он совершенно нормальный, пока не наткнется на текущую воду. Тогда у него будет припадок. И даже если в разговоре с ним просто упомянуть про воду, у него начинаются судороги.
— Почему же его не поместят туда, где за ним будет соответствующий уход?
— А кому он мешает? Он незаконный ребенок, дитя любви, но его родители могут содержать его. Если его запереть в сумасшедшем доме, он сразу умрет от тоски, как дикий кролик в неволе. Не хотите ли взглянуть на аллею, сэр?
В сгущающихся сумерках Мидмор разглядел на посыпанной гравием аллее большие круглые следы, и такие же следы были на лужайке.
— Это ваши соседи возвращались с охоты, — объяснила Рода. — После смерти полковника ваша бедная дорогая тетушка всегда разрешала им ездить по нашей аллее, чтобы не делать крюк. Полковник не пускал сюда посторонних, так как считал, что надо беречь природу, но ваша тетушка увлекалась охотой и была прекрасной наездницей, пока ее не скрутил радикулит.
— А нельзя ли найти кого-нибудь, кто заровнял бы дорогу граблями? — неопределенно спросил Мидмор.
— Конечно. И завтра утром здесь все будет в полном порядке. Но… вас не было, когда они возвращались домой; мистер Фишер — он хозяин имения — просил передать вам привет и сказать, что если вы разрешите им ездить по вашей аллее и старая договоренность останется в силе, то его карьер для добычи гравия будет всегда, как и прежде, к вашим услугам. Он подумал, что вам, возможно, об этом ничего не известно, и я тоже забыла поговорить с вами. Гравий у мистера Фишера прекрасный и очень украшает нашу аллею. Конечно, мы должны возить его из карьера, но…
Мидмор беспомощно посмотрел на нее.
— Рода, — сказал он, — что я должен сделать?
— О сэр, пусть они ездят по нашей аллее, — ответила она. — Кто знает, быть может наступит день, когда и вы сами захотите поохотиться.
Вечером пошел дождь, и к Мидмору снова вернулось плохое настроение, с чем, как известно, труднее всего бороться. И вот он очутился в отделанной деревянными панелями комнате, именуемой «библиотека», и, пролистав несколько десятков томов, с трепетом осознал, какие ужасные наклонности крылись в душе покойного полковника Уэрфа. От этих фолиантов веяло смертью так же основательно, как и плесенью. Мидмор открывал и снова ставил на место книгу за книгой, пока внимание его не привлекли грубые цветные иллюстрации с изображением всадников.[305] Он наугад прочитал несколько страниц, потом перешел в гостиную и, не переставая читать, удобно устроился возле камина. Это был грязный, отвратительный мир, куда он заглянул первый раз в жизни, мир пьяниц и обжор, настоящий ад, населенный барышниками и мошенниками, старыми своднями и юными девственницами без средств к существованию, стыдливо продававшими себя за недвижимость и просто за наличные богатым евреям, мелким лавочникам и всякому сброду в «диккенсовско-навозном духе» (по определению самого Мидмора). Но он все читал и читал, зачарованный сюжетом, и со страниц книги сходили ее персонажи: один из них, очень похожий на человека с красными веками у ручья, просил своего помещика (здесь Мидмор сообразил, что именно он был тем самым помещиком) построить ему новый сарай, а другой, тоже похожий на него самого, высказывал недовольство по поводу следов, оставленных на гравии лошадиными копытами. Каким бы чудовищным по своей концепции ни было содержание романа, кое-что в нем, несомненно, было списано прямо с натуры. Мидмор долго еще копался в книгах того же автора, пока в комнату не вошла Рода с серебряным подсвечником в руках.
— Рода, — спросил он, — вы когда-нибудь слышали о персонаже, которого звали Джеймс Пиг… и еще Бэтсей?[306]
— Конечно, слышала, — ответила Рода. — Полковник частенько захаживал на кухню в халате и читал нам вслух про всех этих Джороксов.
— О господи! — воскликнул Мидмор и, взяв под мышку книгу под названьем «Хэндлей Кросс», отправился в спальню, и луна в туманном ореоле еще никогда не видела более одинокого Колумба, странствующего в неведомых мирах.
* * *
Теперь мы опустим множество важных событий. Ведь Мидмор никогда не отрицал, что для подлинного эпикурейца важнейшим стимулом в проведении социальных исследований служат насущные потребности старого дома, очень четко сформулированные Родой, которая заметила, что сквозь черепицу над карнизом, лишь слегка скрепленную мхом, пробивается дневной свет. Кроме того, результаты пролонгированного исследования кажутся не такими уж убийственно мрачными, когда подумаешь, что можешь в любой момент попасть в общество водопроводчиков (все водопроводы страдают хроническим аппендицитом), деревенских идиотов (Джимми уже взял Мидмора под свое хилое крыло, ежедневно поджидая его у ворот) и гиганта с красными веками, каждое действие которого — это непрогнозируемое надругательство над нормами поведения. Ближе к весне в доме появилось несколько друзей Мидмора из Радикально Левых. И вот настал день, когда одна подвода с кирпичами, а другая с песком и мешками извести двинулись к дому Сиднея, чтобы обеспечить строительство свинюшника, о котором он ежедневно напоминал. Мидмор пригласил своих друзей на небольшую экскурсию, чтобы показать им Сиднея как «тип крестьянина». Они подъехали к его дому как раз в тот момент, когда Сидней, охрипший от гнева, приказывал каменщику с его помощником и всеми подводами поворачивать оглобли. Расположившись поудобнее, гости приготовились послушать, что здесь происходит.
— Вы не предупредили меня заранее, что поросенка надо будет переместить в коровник, — кричал Сидней.
Между тем поросенок — по крайней мере, восемнадцати дюймов в длину — поднял голову и добродушно улыбнулся из своего свинарника.
— Но, дорогой мой… — начал Мидмор.
— Никакой я вам не дорогой! Вы не имеете права являться сюда и учинять здесь произвол. А вы учиняете произвол! Убирайтесь все отсюда, и чтобы ноги вашей не было на моей земле, пока я вас сам не позову.
— Но вы же сами просили… — Мидмор почувствовал, что у него срывается голос, — чтобы вам построили свинюшник.
— Допустим, просил. Но это еще не значит, что вы можете не ставить меня в известность о перемещении поросенка. Явились сюда без всякого предупреждения! А поросенка надо переводить в коровник…
— Тогда откройте дверь, и пусть он бежит в свой коровник, — сказал Мидмор.
— Не учиняйте здесь произвола! И убирайтесь к черту с моей земли. Я не потерплю произвола.
Подводы развернулись и двинулись в обратный путь, а Сидней вошел в дом, хлопнув дверью.
— Утверждаю, что это чрезвычайно знаменательный факт, — заявил один из гостей. — В сущности говоря, это логическое следствие многовекового феодального гнета — неистовство страха.
Вся честная компания взирала на Мидмора с глубоким сожалением.
— Он же мне плешь проел со своим свинарником, — вот и все, что нашелся ответить Мидмор.
Пустившись в рассуждения, друзья Мидмора неопровержимо доказали, что если бы он более последовательно исповедовал учение Радикально Левых, то уже давным-давно вся земля была бы застроена «прелестными маленькими свинарниками», и строили бы их сами крестьяне в антрактах между спектаклями с исполнением народных танцев.
Мидмор почувствовал немалое облегчение, когда дверь снова распахнулась и мистер Сидней предложил им незамедлительно удалиться на дорогу, которая, как он подчеркнул, была в общественном пользовании. Повернув за угол, они увидели в окне полную женщину во вдовьем чепце, которая сделала каждому из них реверанс.
Они мгновенно нарисовали весьма драматическую картину жизни этой женщины, начисто лишенной каких-либо средств самовыражения — «прожив монотонную серую жизнь, она равнодушно встретила смерть», процитировал один из них, — и принялись рассуждать о той огромной роли, которую призваны сыграть в провинции любительские спектакли. Всего лишь месяц назад Мидмор непременно выложил бы им все, что сам узнал и что рассказала ему Рода о способах самовыражения, к которым частенько прибегал мистер Сидней. Но в данном случае он почему-то не стал вмешиваться в беседу, предоставив своим друзьям полную возможность перейти от провинциального театра к театру столичному и, наконец, к театру в мировом масштабе.
После того как гости разъехались, Рода посоветовала ему самому съездить в город, «если ему уж очень захочется снова их увидеть».
— Но мы только немножко посидели на полу на диванных подушках… — начал оправдываться ее хозяин.
— Они уже не дети, чтобы устраивать такую возню, — возразила Рода. — И это только начало. Я видела то, что видела. И потом они черт знает что болтали и смеялись в коридоре, когда шли в ванные комнаты… и когда принимали ванну.
— Рода, не валяйте дурака, — сказал Мидмор.
Но ни один мужчина не сможет заставить замолчать женщину, на коленях которой лежала его голова.
— Очень хорошо, — фыркнула Рода, — но это не меняет дела. А теперь вот что я вам скажу: отправляйтесь сегодня же вечером к Сиднею и поставьте его на место. Он был прав, когда говорил, что вы были обязаны заранее известить его о перемещении поросенка, но он не имел никакого права делать вам выговор в присутствии ваших гостей. Не умеет себя вести, не получит свинюшника. Он сообразит, чем это пахнет.
Мидмор приложил все усилия к тому, чтобы поставить мистера Сиднея на место. Он вдруг заметил, что ругает старика с удовольствием и в выражениях, какие еще никогда не употреблял в своей жизненной практике. Он завелся — заимствование из языка водопроводчиков — и объявил мистеру Сиднею, что тот похож на индюка, аморален, как приходский бык-производитель, и может выбросить из головы всякую надежду на новый свинюшник, пока он, Мидмор, жив.
— Очень хорошо, — согласился гигант. — Думаю, вы здорово разозлились на меня, раз пришли и выложили все начистоту, как мужчина мужчине. И правильно сделали. Я не сержусь. А теперь пришлите мне кирпичи и песок, и я сам построю этот свинюшник. Если вы заглянете в мой договор об аренде, то прочтете там, что обязаны обеспечивать меня строительными материалами для ремонта помещений. Только… только я подумал, что не будет большой беды, если я попрошу вас… сделать всю работу.
Мидмор даже рот раскрыл от удивленья.
— Тогда какого же черта вы отослали обратно подводы и каменщиков, которых я прислал сюда именно для того, чтобы они сделали всю работу?
Мистер Сидней присел на шлюзные ворота, задумчиво сдвинув брови.
— Понимаете, — медленно ответил он, — это было бы, черт побери, все равно что обмануть младенца. И моя баба сказала то же самое.
В течение нескольких секунд учение Радикально Левых с их специфически радикальным чувством юмора боролось с учением Матери-Земли, у которой было свое чувство юмора. И тогда Мидмор расхохотался так, что едва мог устоять на ногах. Потом мистер Сидней тоже расхохотался; сначала это было хриплое рычание, которое, нарастая crescendo, в конце концов превратилось в могучий рев. Они пожали друг другу руки, и Мидмор отправился домой, нисколько не жалея, что в обществе своих друзей держал язык за зубами.
Подходя к дому, он встретил на дороге небольшую кавалькаду из нескольких мужчин и женщин. Одежда и лица их были покрыты пылью. Мидмор уже сам порядком проголодался и потому спросил у них, не хотят ли они перекусить. Они ответили, что хотят, и Мидмор пригласил их в дом. Джимми принял у них лошадей, которые, видимо, были ему знакомы. Рода забрала их измятые шляпы, проводила дам наверх, чтобы они могли поправить прически, а потом накормила всех свежими булочками, яйцами-пашот и гренками с анчоусами; в завершение трапезы были поданы напитки из буфета Коромандельского дерева, о существовании которого Мидмор даже не подозревал.
— И я утверждаю, — сказала мисс Конни Сперрит, которая положила ногу на каминную решетку, а в руке с висящим на ней хлыстом держала горячую сдобу, — что Рода готовит замечательно. И всегда готовила замечательно. Я помню это с восьми лет.
— Вам было семь, мисс, когда вы начали охотиться, — заметила Рода.
— Итак, — продолжал мистер Фишер, магистр английских гончих — МАГ, обращаясь к Мидмору, — когда он обосновался на земле этого разбойника Сиднея, вашего арендатора, нам пришлось всех их выгнать отсюда вон. Этим подонкам здесь настоящее раздолье. И они знают об этом. Да что там… — он вдруг понизил голос. — Я, конечно, не хочу сказать ничего плохого о Сиднее как об арендаторе, но я уверен, что старый негодяй способен отравить кого угодно.
— Сидней на многое способен, — прочувственно согласился Мидмор, но, как и в прошлый раз, распространяться на эту тему не стал.
Это была очень странная компания, и все же после того, как они с шумом и топотом высыпали во двор к своим лошадям, Мидмору показалось, что его дом — ужасно большой и весь какой-то взбудораженный.
Можно считать, что с этого дня началась его сознательно двойная жизнь. И проходила она в то лето в несколько необычных местах, как, например, в манеже возле Хейес Коммон или в тире неподалеку от Уормвуд Скрабз. Если полдня седло натирает вам ссадины, а ружейный приклад набивает синяки, то вечером вы чувствуете себя на лондонских раутах немного не в своей тарелке, а когда вам приходится платить по счетам за эти удовольствия, вы, естественно, сокращаете другие статьи расходов. И вот на доброе имя Мидмора упала тень. Его лондонские друзья начали поговаривать о том, что сердце его становится все черствей, а узел на кошельке все туже, и это, несомненно, свидетельствует о его измене Делу, которому они служат. Один из них, наперсник прежних дней, потребовал у Мидмора отчета о его нравственном самосовершенствовании за последние несколько месяцев. Такового он не получил, ибо Мидмор в данный момент подсчитывал, во сколько ему обойдется ремонт конюшни, которая так обветшала, что даже деревенский идиот Джимми извинился перед гостями, заводя в стойла их лошадей. Бывший наперсник удалился и, чтобы досадить Мидмору, состряпал из эпизода со свинюшником газетный фельетон. Мидмор прочитал этот фельетон глазом не менее практичным, чем глаз женщины, а поскольку наибольшим опытом он обладал в сфере общения с прекрасным полом, то моментально нашел одну даму, которой мог рассказать о своих горестях, связанных с изменой близкого друга. Она проявила столько сочувствия, что Мидмор даже поведал ей о том, как его истерзанное сердце — о, как ей это знакомо — нашло у-утешение совсем в другом районе Лондона, местонахождение которого он охарактеризовал весьма неопределенно на случай, если об этом прознают его дорогие друзья. И поскольку его прозрачные намеки указывали прямо на снисходительный Хэмпстед, а его самым неотложным делом была покупка лошади у барышника на Бэкингем-уэй,[307] он почувствовал, что провернул весьма удачную операцию. Через пару дней, когда его друг-борзописец заговорил с ним, соблазнительно улыбаясь, о «тайных садах» и тех у-утехах, на которые имеет право каждый, кто следует нормам Расширенной Морали, Мидмор одолжил ему пять фунтов, которые, когда он получил их обратно, пошли в уплату за гнедого мерина стоимостью девяносто гиней. Так что нельзя не согласиться с высказыванием, которое он прочитал в одной из книг покойного полковника Уэрфа: «Современный молодой человек предпочтет, чтобы поставили под сомнение его нравственность, нежели его умение разбираться в лошадях».
Более всего другого в данный момент Мидмор желал ездить верхом и не просто верхом, а гарцевать на гнедом мерине в черных яблоках, который стоил девяносто гиней и имел досадную привычку задевать за препятствия. И если не считать мистера Сиднея, любезно предоставившего в его распоряжение свой роскошный луг за шлюзными воротами, Мидмор никого не хотел посвящать в суть проблем, которые, как он справедливо полагал, возникнут у него осенью. Поэтому он сообщил друзьям, которые недвусмысленно намекали на свою готовность навестить его в имении в конце недели, что сдал в наем свой полученный в наследство дом. Эти деньги, сказал он, позволят ему поправить дела, поскольку за последнее время он потратил большие суммы на не совсем разумные благотворительные мероприятия. Он не хочет называть имен, но они могут сами догадаться. И они догадались и, как истинные друзья, предали весьма широкой огласке эту новость, которая проливала свет на многое.
Оставалась еще одна супружеская пара, его бывшие соратники, которых надо было как-то успокоить. Они были преисполнены сочувствия и самого дружеского расположения, но их вечно снедало любопытство, как и всех обезьян, чье вегетарианское меню стало составной частью их воинствующего радикализма. Мидмор встретил их в пригородном поезде, возвращаясь в город, когда не прошло и двадцати минут с тех пор, как кончился его двухчасовой урок в манеже (одна гинея за час) по преодолению препятствий по программе курса повышенного типа. Конечно, он успел переодеться, но его левая рука, онемевшая от поводьев, слегка дрожала, придерживая газету. По наитию, которое является лучшим помощником настоящего лжеца, Мидмор тут же объяснил им, что врачи осудили его на полный покой. Вот уже много недель он лежит один в полутемной комнате, лишенный даже писем, и пьет молоко. Его удивило и обрадовало, как легко, оказывается, самая обыкновенная ложь воздействует на необыкновенный интеллект. Они проглотили ее в мгновение ока и даже посоветовали ему питаться орехами и фруктами; однако в глазах женщины он прочитал истинную причину, на которую она будет ссылаться, объясняя его вынужденное уединение… В конце концов она имеет такое же право на самовыражение, как и он сам, а Мидмор твердо верил в полное равенство полов.
Это уединение вызвало лишь один маленький всплеск в могучем потоке жизни. Дама, которая десять месяцев назад написала ему письмо на двенадцати страницах, теперь написала еще одно, на восьми страницах, с анализом мотивов, по которым ей следовало бы вернуться к нему — хочет ли он этого? — раз он болен и одинок. И если очистить память от мелких ссор и горестных недоразумений, то многое можно еще вернуть. Было бы желание…
Но все желания и помыслы Мидмора были в данный момент сосредоточены на том дьявольском развлечении меж мокрых от росы рощиц, которое называется охотой на лис. Охота была назначена на утро.
— У вас неплохая посадка, — заметила мисс Сперрит, глядя на него сквозь утренний туман. — Но вы все время его осаживаете.
— Он очень натягивает поводья, — промычал в ответ Мидмор.
— Так оставьте его в покое. И не наткнитесь на ветку, — крикнула мисс Сперрит, когда они понеслись во весь опор через лес.
Лисы здесь водились в изобилии. Гончие подняли одного лисенка, который помчался из леса в направлении широкого поля.
— Стой! Назад! — закричал кто-то. — Верните их, Мидмор. Это земля вашего негодяя Сиднея. Здесь всюду проволока.
— О Конни, остановись! — взвизгнула миссис Сперрит, глядя, как ее дочь атакует живую изгородь на границе владений мистера Сиднея.
— К черту проволоку! Я убрал ее еще две недели назад. Вперед!
Это был голос Мидмора, который проделал брешь в изгороди немного ниже по склону.
— Я знала об этом! — крикнула Конни и поскакала через луг, по обыкновению что-то мурлыкая себе под нос.
— Ну конечно! Если у кого-то есть собственные источники информации, он может позволить себе толкаться, — заявила дама в амазонке табачного цвета, которую мисс Сперрит чуть не сшибла с лошади.
— Что? Мидмор обуздал Сиднея? Вам, Сперрит, этого никогда не удавалось, — сказал мистер Фишер, МАГ, расширяя брешь, проделанную Мидмором.
— Нет, черт его побери! — ответил мистер Сперрит запальчиво. — И скачите дальше, сэр! Injecto ter pulvere,[308] скоро ваша лошадь забьет мне все глаза землей из этой канавы.
Они убили лисенка совсем рядом с убежищем, в которое он бежал по совету своей мамы: это были те самые два акра земли, заросшей можжевельником, куда мистер МАГ не имел доступа последних пятнадцать сезонов. Стоя перед домом мистера Сиднея, он выразил благодарность всем участникам охоты и самому мистеру Сиднею.
— А если у вас будут какие-нибудь к нам претензии… — продолжал он, обращаясь к Сиднею.
— Никаких претензий не будет, — ответил Мидмор. — Ведь это было бы все равно, что обмануть младенца… Правда, мистер Сидней?
— Ваша взяла! — вот и все, что мог сказать мистер Сидней. — Вообще-то меня не возьмешь голыми руками, но… на этот раз ваша взяла, мас Мидмор.
Мидмор показал на новый свинюшник, выстроенный в нарушение условий договора о пожизненной аренде. Жест этот поведал историю свинюшника тем, кто еще не был в нее посвящен, и они одобрительно зашумели.
Эти языческие радости сменялись для Мидмора не менее языческой ленью вечеров, когда другие люди предаются безудержному веселью. Однако Мидмор предпочитал полежать на желтой шелковой кушетке с книгой самого возмутительного содержания или пойти в гости к Сперритам или еще каким-нибудь дикарям их пошиба. Там не требовалось игры ума или полета фантазии. Они лгали без подъема и по необходимости, не из любви к искусству, и все они, и мужчины и женщины, придерживались раз и навсегда выработанной линии поведения со спокойным безразличием крупных животных. Потом он возвращался домой и узнавал их на страницах книг по естественной истории мистера Сэртиса, что лежали у него на столе рядом с диваном. Сначала эти люди относились к нему довольно равнодушно, но когда история об убранной проволоке и отвоеванных для охоты двух акрах, поросших можжевельником, получила широкую огласку, они признали его как партнера, принимающего их правила игры. Правда, они не торопились с вынесением окончательного решения, поскольку были страстными охотниками и опасались, что Мидмор скорее будет служить прекрасной маммоне, разводя фазанов, чем преследовать лис во славу страшноватого бога охоты. Но после того, как он выбрал охоту, они не стали спрашивать, какой интеллектуальный процесс привел его к этому выбору.
Он охотился три, а иногда и четыре раза в неделю, для чего ему понадобился не только гнедой мерин (94 фунта 10 шиллингов), но и хорошо воспитанный гнедой жеребец в белых чулках (114 фунтов), а также вороная кобыла с несколько длинноватым крупом, но зато с губами мягкими, как шелк (150 фунтов), настолько явно оказывающая предпочтение дамам, что было бы просто жестоко упустить ее. Кроме того, Мидмор справедливо полагал, что при таком деликатном обращении это восхитительное существо можно будет с выгодой продать. И потом их охота — это спокойная, почти интимная, милая, маленькая охота, без участия посторонних, не жаждущая хвалебных отзывов в «Филде»,[309] где заправляет некий малоприятный МАГ, охота, исполненная радушия, имеющая своих собственных лошадей и к тому же состоящая не из новичков, за исключением Мидмора, а из опытных охотников. Правда, после того как мистер МАГ сделал несколько замечаний Мидмору, мисс Сперрит сказала:
— Очень жаль, но пока что вы действительно ничего не знаете, кроме собственной лошади. Однако придет время, и вы всё узнаете. Для этого нужны годы и го-о-ды. Вот я занимаюсь этим пятнадцать лет и все еще только учусь. А вы совсем неплохо начинаете.
И Мидмор начал учиться, не обращая внимания на ветер, дождь и грязь и совершенно искренне удивляясь, чем его притягивают бурлящие под ливнем канавы и залитые водой луга и почему он с таким упоением гоняет по двору конюхов и каменщиков.
Чтобы ответить на эти вопросы, он вырвался в конце недели из царства зимних проливных дождей и снова вступил в некогда покинутый им мир, подобно Галахаду,[310] исцеленному отдыхом. Глядя через его плечо в ожидании следующего гостя, его прежние друзья все, как один, согласились, что Мидмор стал совершенно другим человеком. Когда же они спросили у него о симптомах нервного истощения и перешли к своим собственным недугам, он понял, что в значительной мере утратил свое прежнее искусство лжи. Кроме того, за три месяца отсутствия в лондонском обществе он безнадежно отстал от жизни. Здесь изменилось все — тактика игры, характер намеков и даже жаргон. Старые пары распались и образовались новые пары, а порой и целые треугольники, в результате чего Мидмор не раз попадал впросак. Лишь один великий муж (тот, кто сделал репортаж об эпизоде со свинюшником) не дрогнул под натиском времени, и Мидмор одолжил ему еще пять фунтов за стойкость и прямоту. Промозглым утром некая дама пригласила его присутствовать при провозглашении Единства Импульса в Человечестве, что было воспринято Мидмором как многосложное выражение повседневной практики мистера Сиднея плюс громогласный призыв «вернуть цивилизации здравый смысл».
— Вы не зайдете ко мне завтра к чаю? — спросила она после ленча, разгрызая орешки, которые брала из блюдечка.
Мидмор ответил, что, когда долго отсутствуешь, накапливается множество неотложных дел.
— Но вы вернулись такой сильный и здоровый… И я надеюсь, что Дэфни — так звали автора писем на двенадцати и восьми страницах — тоже будет с нами. Она не разобралась тогда в своих чувствах, как это часто бывает… — бормотала собеседница Мидмора, — но я думаю, в конце концов… — и она всплеснула своими тонкими маленькими ручками. — Во всяком случае, подобного рода недоразумения каждая мятущаяся душа должна улаживать в своих же собственных интересах.
— Да, конечно, — согласился Мидмор с глубоким вздохом.
Эти грязные уловки произрастали в этой грязной атмосфере так же изобильно, как грибы в навозной яме. Внезапно он погрузился в глубокую задумчивость, потом покачал головой, словно его терзали какие-то неясные воспоминания, и тут же удалился без всяких церемоний, не прощаясь, чтобы успеть к двенадцатичасовому экспрессу, где всегда можно встретить приятелей, которые всю дорогу говорят о лошадях и о погоде и о том, как погода влияет на лошадей. Больше всего его огорчало то, что он потерял целый день, который мог провести со своими гончими.
Он, не дрогнув, выдержал пристальный взгляд Роды; в этот сырой и холодный вечер в гостиной, где они пили чай, было тепло и уютно. В конце концов его поездка в Лондон была не такой уж неудачной. Он сжег целый мешок писем у себя в квартире. Квартира… — он машинально подошел к истрепанным томам возле софы, — квартира — это прожорливый зверь. А что касается Дэфни… он открыл наугад одну из книг и прочитал: «И его светлость увидел картину необыкновенной красоты и силы…» Но мысли его возвращались к Дэфни: «И я все время думал… А она… Мы все были болтуны и комедианты… Я болтал не так уж много, слава богу… зато вдохновенно ломал комедию». Он перелистал назад несколько страниц Sortes Surteesianae и прочитал: «Когда гости наконец встали, чтобы идти спать, и начали подниматься по лестнице, у каждого вдруг возникла мысль, что все они еле волочат ноги, с трудом переступая со ступеньки на ступеньку». Мидмор громко рассмеялся, глядя на огонь в камине.
— Как насчет завтра? — спросила Рода, входя в комнату; на плече у нее висела одежда. — Все время, пока вас не было, лил дождь. За пять минут вас всего залепит грязью. Сейчас лучше не ходить в парадном костюме. Боюсь, после стирки ваша одежда немножко села. Померьте-ка, пожалуйста.
— Здесь?
— Где вам будет угодно. Я купала вас, когда вы были меньше, чем нога ягненка, — заявила бывшая служанка его тетушки.
— Рода, на днях я найму камердинера и женатого дворецкого.
— Много разумных вещей, к сожалению, говорят только в шутку… Но завтра никто не поедет на охоту.
— Почему? Они отменили встречу?
— Они сказали, что в такой грязи лошади скользят и засекаются, и сегодня они уже испытали это удовольствие. Я только что говорила с Чарли.
— Ого!
Видимо, слово личного секретаря мистера Сперрита имело вес.
— Чарли приходил помочь мистеру Сиднею поднять ворота, — продолжала Рода.
— Шлюзные ворота? Но теперь они открываются очень легко. Я оборудовал их колесом и воротом.
— Когда вода в ручье прибывает, створы нужно совсем поднять, чтобы их не забило всяким хламом. Вот почему пришел Чарли.
Мидмор нетерпеливо проворчал:
— С тех пор как я здесь, мне все уши прожужжали про этот ручей. Но пока что он ничего такого не натворил.
— Лето было сухое, — ответила Рода. — Если хотите взглянуть, я принесу фонарь.
И они окунулись в бескрайнюю промозглую ночь. На полпути к лужайке свет фонаря отразился в мелкой, бурой от грязи воде, проколотой по краям стебельками травы. А дальше, за полосой света, между кустами и стволами деревьев, извивался и неистовствовал ручей.
— Что же теперь будет с нашим розарием? — были первые слова Мидмора.
— Обычно после наводнения клумбу приходится насыпать заново. Ах! — Рода подняла фонарь. — Вон, смотрите, два садовых кресла ударяются о циферблат солнечных часов. Да, розам от этого не поздоровится!
— Какой абсурд! — воскликнул Мидмор. — Ведь должна же быть какая-то продуманная система… чтобы… бороться с такими вещами.
Он долго вглядывался в стремительно несущуюся муть. Казалось, воде и грохоту не будет конца. А пока он был в городе, он не заметил ничего такого, что его могло бы насторожить…
— Тут уж ничего не поделаешь, — сказала Рода. — Каждый раз одно и то же и, к сожалению, слишком часто. Пойдемте-ка лучше домой.
Казалось, вся земля у них под ногами, превратившись в тысячи хлюпающих звуков, медленно сползает к хрипло ревущему ручью. В доме кто-то отчаянно завывал:
— Боюсь воды! На помощь! Боюсь воды!
— Это Джимми. Вода всегда действует на него таким образом, — объяснила Рода.
Несчастный бросился к ним навстречу, дрожа от страха.
— Молодец, Джимми! Какой ты молодец, Джимми! Иди в комнату. А что Джимми нам принес? — говорила Рода нараспев.
Джимми принес промокшую записку, которая гласила:
«Дорогая Рода! Мистер Лоттен, с которым я возвращалась сегодня вечером домой, сказал, что, если дождь не прекратится, пруд, который он вырыл у старой мельничной плотины Коксена, может разлиться, как это уже было однажды, когда размыло плотину. Если это произойдет, вся вода хлынет в ручей. Может быть, все и обойдется, но, вероятно, вам надо быть настороже. К. С.».
— Если плотину Коксена прорвет, это означает… Я пойду заберу ковер из гостиной и отнесу его наверх, так будет спокойнее. Молоток с клещами в библиотеке.
— Одну минуту. Вы сказали, что шлюзные ворота Сиднея подняты?
— Да, оба створа. Это может выручить его, если пруд Коксена разольется… Один раз я уже видела, как это происходит.
— Я только схожу к Сиднею. Рода, зажгите, пожалуйста, фонарь.
— Его вы с места не сдвинете. Он живет там с самого дня рождения. Но она ничего этого еще не знает. Я схожу за вашим плащом и высокими сапогами.
— Боюсь воды! Боюсь воды! — рыдал Джимми, забившись в угол и закрыв глаза руками.
— Все в порядке, Джимми! Джимми может поиграть с ковром, — говорила Рода, когда Мидмор выходил из дома в окружающий мрак и рев стихии.
Он никогда еще не попадал в такое нелепое положение, когда ровным счетом ничего нельзя поделать. Внезапно он увидел в бушующем потоке отражение еще одного фонаря.
— Эй! Рода! Вы получили мою записку? Я пришла, чтобы знать это наверняка. А потом подумала: а вдруг Джимми испугался воды!
— Это я, мисс Сперрит, — закричал Мидмор. — Да, мы получили вашу записку, спасибо.
— Тогда возвращайтесь домой. О господи!.. У вас что-нибудь случилось?
— Нет, ничего. Я просто иду к Сиднею посмотреть, что у него там делается.
— Его вы не убедите оставить дом. Хорошо, что я встретила Боба Лоттена. Я говорила ему, что нельзя запруживать воду из-за этих дурацких форелей, пока он не перестроил плотину.
— Это далеко отсюда? Я был там только один раз.
— Всего каких-нибудь четыре мили — и вода будет здесь. Он сказал, что открыл все шлюзы.
Конни повернулась и пошла рядом с ним, наклонив голову в надвинутом на лоб капюшоне, по которому сбегали последние струйки дождя. Как обычно, она что-то мурлыкала себе под нос.
— Ради всего святого, зачем вы вышли в такую погоду? — спросил Мидмор.
— Когда вы ездили в Лондон, здесь было еще хуже. Теперь дождь почти прекратился. Если бы не этот пруд, я бы так не беспокоилась. Слышите, колокол Сиднея! Скорее!
Она бросилась бежать. Надтреснутый звон колокола слабо разносился над долиной.
— Не сходите с дороги! — крикнул Мидмор.
В канавах, полных до краев, хлюпала вода, поля по берегу ручья были тоже залиты водой и, казалось, медленно плыли во мраке ночи.
— Не беспокойтесь, с дороги я не сойду, — ответила Конни. — У него горит свет, значит, там все в порядке.
Облегченно вздохнув, она остановилась.
— Но вода уже в саду. Посмотрите!
И она стала размахивать фонарем, освещая передний ряд старых яблонь, отражавшихся в тихой, широко разлившейся воде за полузатопленной изгородью. Сверху доносилось глухое постукивание шлюзных ворот да еще какой-то прерывистый визг на два голоса, монотонный, как сирена.
— Верхний голос — это поросенок, — рассмеялась мисс Сперрит.
— Прекрасно! Я заберу ее отсюда. А вы стойте там, где стоите; потом я провожу вас домой.
— Но вода еще только-только перелилась через дорогу, — запротестовала она.
— Неважно. И не двигайтесь с места. Обещаете?
— Ладно. Тогда возьмите мою палку и ощупывайте дорогу, чтобы не попасть в какую-нибудь яму. Вода могла смыть сейчас все что угодно. Послушайте, ведь это жаворонок!
Мидмор взял палку и ступил в воду, которая медленно заливала дорогу, что вела к дому Сиднея от самого шоссе. Вода уже доходила ему до колен, когда он постучал в дверь. Оглянувшись назад, он увидел, что фонарь мисс Сперрит словно плавает посреди океана.
— Я не могу вас впустить, а то вместе с вами сюда попадет вода, — закричал мистер Сидней. — Я заткнул все щели. Кто вы?
— Заберите меня отсюда! Заберите меня отсюда! — отчаянно завизжала женщина, и ее энергично поддержал поросенок из свинарника за домом.
— Я — Мидмор! Старую мельничную плотину Коксена, говорят, вот-вот прорвет. Выходите!
— Я говорил, что ее прорвет, когда они выкопали там пруд и стали разводить рыбу. А плотину-то как следует не укрепили. Впрочем, долина довольно широкая. Воде есть где разлиться… Замолчи, а то я засуну тебя в погреб!.. Идите домой, мас Мидмор, и подайте в суд на маса Лоттена, как только смените носки.
— Черт бы вас подрал! Скоро вы вылезете из своей берлоги?
— Зачем? Чтобы умереть от холода? Мне и здесь хорошо. Я все это уже видел. А вот ее вы можете забрать. От нее ни радости, ни пользы… Лезь через окно. Я же говорил тебе, дура ты этакая, что заткнул все дверные щели.
Окно открылось, и женщина бросилась на руки к Мидмору, чуть не сбив его с ног. Мистер Сидней высунулся из окна с трубкой во рту.
— Заберите ее к себе домой, — сказал он и пророчески добавил:
Две женщины в одном домишке,
Две кошки в ссоре из-за мышки,
Две собачонки — кость одна:
Пусть их рассудит сатана.
Я все это уже видел.
Он плотно закрыл и запер окно.
— Повозку! Повозку! Вы должны были достать мне повозку. Я промокну и утону, — причитала женщина.
— Перестаньте! Мокрее, чем вы есть, вы уже не будете. Пошли!
Ему не доставляло ни малейшего удовольствия ощущение воды, заливающей ноги выше голенищ.
— Ура-а-а! Скорее! — Фонарь мисс Сперрит весело раскачивался в каких-нибудь пятидесяти ярдах от них.
Женщина метнулась к фонарю, как перепуганная гусыня, споткнулась и упала на колени, однако Мидмор одним рывком поднял ее, и она снова побежала, пока не свалилась у ног Конни.
— Если вы тотчас же не отправитесь в дом к мистеру Мидмору, то схватите бронхит, — сказала мисс Сперрит без капли сочувствия в голосе.
— О боже! О боже! Да простит мне наш небесный отец мои прегрешения и призовет меня вернуться домой, — рыдала женщина. — Но я не хочу идти в этот дом! Не хочу!
— И прекрасно. Оставайтесь здесь. Если мы побежим, — шепотом сказала мисс Сперрит Мидмору, — она последует за нами. Только не слишком быстро!
Они пустились легкой рысцой, а женщина заковыляла следом за ними, стеная на ходу, как вдруг они увидели третий фонарь: это были Рода и Джимми, которого она держала за руку. Рода сказала, что отнесла ковер наверх, и теперь провожала Джимми домой, потому что он боялся воды.
— Все в порядке, — сказала мисс Сперрит. — Рода, заберите миссис Сидней и уложите ее в постель, а я возьму Джимми с собой. Ведь ты больше не боишься воды, Джимми, правда?
— Теперь я ничего не боюсь. — Джимми взял ее за руку. — Только уйдем подальше от этой воды. Ладно?
— Я пойду с вами, — вмешался Мидмор.
— Никуда вы не пойдете. Вы насквозь промокли. Ведь эта дура дважды обрызгала вас с головы до ног. Идите домой и переоденьтесь. Возможно, вам всю ночь придется шлепать по воде. Сейчас только половина восьмого. А мне ничто не угрожает.
Легко перескочив через перелаз, Конни стала быстро подниматься по тропинке по склону холма и скоро была почти в полной безопасности вдали от бурного потока, заливавшего долину.
Рода молча препроводила миссис Сидней домой.
— Ваша одежда на кровати, — сказала она Мидмору, когда тот вошел в комнату. — А за этой я присмотрю. Нечего ей реветь.
Мидмор поспешил переодеться в сухой костюм и быстро взбежал по склону холма; в награду за свое проворство он успел заметить свет фонаря, заворачивающего в ворота дома, где жили Сперриты. Возвращаясь домой мимо усадьбы Сиднея, он увидел там слабый свет, мерцающий над тремя акрами блестящей, как зеркало, воды, потому что дождь прекратился и небо почти очистилось от облаков, хотя ручей шумел громче, чем когда бы то ни было. Теперь оставался лишь этот сомнительный пруд, который в любой момент мог дать о себе знать… пруд да еще этот захлестнутый наводнением мир, брошенный на его и только его попечение.
— Нам придется не спать всю ночь, — сказала Рода после ужина.
А поскольку из гостиной открывался самый лучший вид на панораму поднимающейся воды, они сидели там долго-долго, глядя в окно, и все часы в доме составили им компанию.
— Нет, не вода, а грязь, которая останется на плинтусе после того, как вода сойдет, — вот что меня беспокоит больше всего, — прошептала Рода. — Прошлый раз, когда прорвало плотину Коксена, я помню, как вода поднялась до второй… нет, до третьей ступеньки на лестнице Сиднея.
— И что же сделал Сидней?
— Он сделал зарубку на ступеньке. И еще сказал, что это рекорд. Это в его духе.
— Вода подошла к самой аллее, — сказал Мидмор еще через несколько минут томительного ожидания. — А ведь дождь прекратился, помните, когда еще не было восьми.
— Значит, плотину Коксена прорвало, и это первый натиск воды, которая идет оттуда.
Стоя рядом с Мидмором, Рода пристально вглядывалась в темноту. Под внезапно усилившийся грохот ручья вода прибывала резкими пульсирующими ударами, поднимаясь каждый раз на один-два дюйма, образуя широкие выступы и лагуны.
— Нельзя же все время стоять. Возьмите стул, — посоветовал Мидмор, немного помолчав.
Рода оглядела голую комнату.
— Стоит убрать ковер, и совершенно другой вид… Спасибо, сэр, я сяду.
— Вода уже перехлестнула через аллею, — сказал Мидмор. Он открыл окно и высунулся. — Рода, ветер дует от нас, в долину?
— Нет, он дует на нас! Но так бывало и раньше.
Стоял такой грохот, словно волны прибоя разбивались о зазубренные рифы, и в течение двадцати минут грохот этот заглушал все остальные звуки. Широченная полоса воды быстро подступала к маленькой террасе, на которой примостился их дом, огибала углы, поднималась все выше и выше, растягивалась, зияя при свете луны черными разрывами, соединялась с другими такими же полосами, терпеливо поджидая их в незаметных глазу углублениях, и все сливались в одну. Последовал новый порыв ветра.
— Вода у самой стены, — сказал Мидмор. — Я могу дотронуться до нее пальцем.
Он перегнулся через подоконник.
— Я слышу, как она заливается в погреб, — скорбно заметила Рода. — Впрочем, мы сделали все, что могли. Пойду взгляну, что там делается.
Она вышла из комнаты, и в течение получаса или немного больше, пока она отсутствовала, Мидмор наблюдал, как поток воды тащит через лужайку огромное дерево с обнаженными корнями. Потом о стену ударился плетень, зацепился за железный скребок перед домом, и по воде пошла рябь. Струя воды, льющаяся в погреб, заметно уменьшилась.
— Вода убывает, — закричала Рода, входя в комнату. — Теперь она стекает в погреб лишь тонкой струйкой.
— Одну минуту… Я, кажется… Я, кажется, вижу, как из-под воды появляется скребок в конце аллеи!
А еще минут через десять появилась и сама аллея, которая все более твердела, по мере того как с гравия стекала вода в окаймлявший ее кустарник.
— Пруд уже опустел! — объявила Рода. — Теперь мы будем иметь дело с самым обычным наводнением. Идите лучше спать.
— Мне надо было бы зайти к Сиднею, до того как начнет светать.
— Совсем не обязательно. Из окон второго этажа вы можете увидеть, что у него горит свет.
— Кстати, я совсем забыл о ней. Где она?
— В моей постели, — ответила Рода ледяным голосом. — Не стану же я приводить в порядок комнату специально для этой дряни.
— Но… здесь уж ничего не поделаешь. Она чуть не захлебнулась. И потом, не стоит считаться с предрассудками, Рода, даже если ее положение не совсем… э… обычное…
— Пффф! Меня это нисколько не волнует. — Она наклонилась к окну. — Появляется край лужайки. Вода сходит так же быстро, как и прибывала. Дорогой мой… — ее тон так резко изменился, что Мидмор чуть не подскочил от удивления. — Дорогой мой, разве вы не знаете, что я была у него первая? Вот почему это все так невыносимо.
Мидмор смотрел на ее длинную, как у ящерицы, спину и не мог произнести ни слова.
Она продолжала, говоря по-прежнему в черное оконное стекло:
— Ваша бедная дорогая тетушка была очень добра ко мне. И она сказала, что выделит необходимые средства… но только для одного… Только для одного… Кстати, вы знаете, кто такой Чарли?
— Я всегда думал, что это ваш племянник.
— Да, да, — сказала она жалобно. — Неужели никто об этом вам так и не сказал?.. Но Чарли с самого начала избрал свой собственный путь!.. А эта — там, наверху… — у нее никогда никого не было. Она просто экономка, так сказать. Эдакая тварь! Повернулась и сразу пошла спать. Да еще имела наглость попросить горячего хереса.
— И вы дали ей?
— Я? Ваш херес? Нет!
Внезапно Мидмор вспомнил непристойную песенку, которую пропел ему Сидней из окна своего дома, и еще вспомнил длинный нос Чарли (казалось, нос этот выражал тогда известную заинтересованность), когда он просматривал копии последних четырех завещаний миссис Уэрф, и несколько раз чихнул.
— От этой сырости вы еще и заболеете, — сказала Рода. — Вон, вы уже чихаете! А это верный признак простуды. Лучше ложитесь в постель. Все равно вы сейчас ничего не можете сделать, разве только решить… — она стояла выпрямившись, строго скрестив руки на груди, — решить, как поступить со мной.
— А как я должен с вами поступить? — спросил Мидмор, засовывая в карман носовой платок.
— Теперь, когда вы все знаете, что вы собираетесь делать?
Ответ был запечатлен на ее худой щеке еще до того, как она закончила свой вопрос.
— Рода, посмотрите, пожалуйста, чтобы мы могли с вами поесть. И не забудьте про пиво.
— Думаю, в кладовой все плавает, — ответила Рода, — но бутылки от сырости не портятся.
Она вернулась с полным подносом, они ели и пили и наблюдали за отступающей водой до самого утра, когда рассвет обратил свой затуманенный взор на остатки того, что еще совсем недавно было прекрасным садом. Мидмор, продрогший и усталый, вдруг заметил, что мурлычет себе под нос:
Поток нахлынул, смыл стада,
Дома, ограды разметал…
Рода, у нас не осталось ни одной розы!
…Погибли многие тогда,
И каждый о своих рыдал…
Это обойдется мне в сотню фунтов.
— Теперь, когда мы знаем самое худшее, — ответила Рода, — мы можем спокойно идти спать. Я лягу в кухне на диване. У него все еще горит свет.
— А она?
— Грязная старая кошка! Если бы вы слышали, как она храпит!
В десять часов утра, проведя весьма грустный час в своем собственном саду на берегу медленно отступающего ручья, Мидмор отправился посмотреть, какой ущерб был нанесен Сиднею. Первый, кого он встретил, был поросенок, взывающий к небесам о завтраке и белый как снег, потому что вода вымыла его из его нового свинарника. Парадная дверь была распахнута, и наводнение зарегистрировало свою высоту в виде грязно-бурой полосы, опоясывающей стены. Мидмор прогнал поросенка и позвал хозяина.
— Я в постели, конечно, — отозвался тот откуда-то сверху. — На сколько ступенек она поднялась? На четыре? Тогда она побила все рекорды. Идите сюда наверх.
— Вы больны? — спросил Мидмор, входя в комнату.
Красные веки весело моргали. Лежа под великолепным стеганым одеялом, мистер Сидней спокойно курил.
— Так! А я лежу и благодарю бога за то, что не я здешний помещик. Велик ли ущерб?
— Вода сошла еще не настолько, чтобы можно было все осмотреть.
— Эти ваши шлюзные ворота снесло куда-то далеко вниз по течению ручья; и ваш розарий отправился вслед за ними. А я вот спас своих цыплят. Вы бы сходили к мистеру Сперриту и привлекли к суду этого Лоттена за его рыбный пруд.
— Нет, спасибо. У меня и без того хватает хлопот.
— Уже хватает? — ухмыльнулся мистер Сидней. — Как вы поступили вчера вечером с этими двумя моими бабами? Думаю, что они подрались.
— Ах вы проклятый старый негодяй! — рассмеялся Мидмор.
— Иногда — да, иногда — нет, — безмятежно ответил мистер Сидней. — А вот Рода меня не оставила бы вчера вечером. Пожар ли, наводнение — она была бы со мной.
— Почему вы не женились на ней? — спросил Мидмор.
— Слишком большая трата денег. Она была согласна и без женитьбы.
Внизу послышались шаги, ступающие по песку, и чей-то мурлыкающий голос. Мидмор тотчас же вскочил.
— Итак, — сказал он, — я вижу, что у вас все в порядке.
— Все в порядке. Я не помещик, не молод, ничего не хочу. О мас Мидмор! Разве что-нибудь изменили бы ее ежегодные тридцать фунтов, если бы я на ней женился? Впрочем, Чарли, возможно, и сказал бы, что изменили.
— Правда? — спросил Мидмор, подойдя к двери. — А что сказал бы Джимми по этому поводу?
— Джимми? — усмехнулся мистер Сидней, когда шутка дошла до него. — Но ведь он — не мой. Это уже забота Чарли.
Мидмор захлопнул дверь и сбежал вниз по лестнице.
— Да, это… настоящий разгром, — воскликнула мисс Сперрит, на которой была очень короткая юбка и очень тяжелые сапоги. — Я пришла посмотреть, что здесь делается. «Наш старый мэр залез на колокольню», — промурлыкала она. — Всю ночь пестовали свое семейство?
— Почти! Что, разве не веселое занятие?
Дверь на лестницу была открыта, и Мидмор показал на кучу веток, лежавших на трех нижних ступеньках.
— Это рекорд, однако, — заметила она и тихо спела:
Поток нахлынул, смыл стада,
Дома, ограды разметал,
Погибли многие тогда,
И каждый о своих рыдал.
— Вы всегда напеваете это, — вдруг сказал Мидмор, когда она прошла в комнату, где грязные скользкие стулья лежали в беспорядке на полу, как суда, севшие на мель.
— Правда? Возможно, что вы и правы. Говорят, я всегда что-нибудь мурлыкаю себе под нос, когда еду верхом. Вы заметили?
— Конечно, заметил. Я замечаю каждый…
— О! — прервала она его и поспешно продолжала: — Это из деревенской кантаты, которую мы пели прошлой зимой, — «Невесты Эндерби».
— Нет! «Высок прилив на бреге Линкольншира». — Мидмор почему-то сказал это с некоторым вызовом.
— Именно так. — Она показала на запачканные стены. — Мне кажется… Давайте расставим мебель… А вы тоже знаете эту песенку?
— Конечно. От первого и до последнего слова. Ведь вы пели ее.
— Когда?
— В самый первый вечер, когда я приехал сюда. Было уже темно, вы проезжали мимо окна гостиной и пели: «Хоть обыщите целый свет…»
— Я думала, что в доме никого нет. Ваша тетушка всегда разрешала нам ездить напрямик по аллее. Мо… может быть, вынесем стол в коридор? Рано или поздно, все придется вынести отсюда. Возьмите за тот край.
Они начали поднимать тяжеленный стол. Задыхаясь от усталости, оба говорили односложно и отрывисто, а их лица стали белыми, как только что вымытый и очень голодный поросенок.
— Осторожно! — крикнул Мидмор; ноги вдруг выскользнули из-под него, а стол, отчаянно хрюкая, накренился и так толкнул Конни, что она куда-то исчезла.
Даже дикий азиатский кабан не сразил бы юную пару с такой научной точностью и сноровкой, но этот маленький поросенок, не обладая дерзостью своего великого предка, с визгом перескочил через их поверженные тела и пустился наутек.
«Вы не ушиблись, дорогая?» — было первое, что спросил Мидмор, и «Нет, только испугалась немного» услышал он в ответ, поднимая ее с пола; ее шляпка сдвинулась на один глаз, а на правой щеке темнело грязное пятно.
* * *
Спустя некоторое время они дали поросенку куриного корма, который нашли в уютном амбаре Сиднея, ведро пахтанья из маслобойни и несколько луковиц, что лежали в кухне на полке.
— Вероятно, это посевной лук, — заметила Конни. — Впрочем, вы еще услышите об этом.
— Ну и пусть посевной. Каждую из этих луковиц следовало бы позолотить. И потом — мы должны купить этого поросенка.
— И держать его при себе до конца дней, — согласилась Конни. — Но теперь мне пора идти домой. Понимаете, когда я выходила, я и не думала, что… А вы?
— И я тоже! Да… Это должно было произойти… Но если бы час назад мне кто-нибудь сказал!.. Эта ужасная комната… грязный ковер…
— Да, да! Как теперь моя щека — чистая?
— Не совсем. Дорогая, дайте мне на минутку ваш платок… Ну и кувырнулись же вы!
— Не вам говорить. Помните, как вы трахнулись подбородком о стол да еще сказали «бах»! Я чуть не рассмеялась.
— Когда я поднимал вас с пола, дорогая, по-моему, вам было не до смеха. Вы протяжно о-о-охали, как маленькая сова.
— Мое дорогое дитя…
— Повторите еще раз!
— Мое дорогое дитя. (Вам это правда нравится? Так я называю своих лучших друзей.) Мое до-ро-гоо-е дитя! Я думала, что на мне живого места не останется. Он сразил меня наповал — наш ангел-хранитель!.. Но мне действительно пора идти.
Они вместе вышли из дома, изо всех сил стараясь не взяться за руки.
— Но не через поле, — сказал Мидмор возле перелаза. — Вы можете пройти… мимо вашего собственного дома.
Конни вспыхнула от негодования.
— Все равно очень скоро он станет вашим, — продолжал Мидмор, потрясенный собственной дерзостью.
— Не будьте таким скоропалительным, пожалуйста! — Словно испуганный жеребенок, она метнулась от него через дорогу, но как только вдали появились ворота и аллея, она тут же успокоилась, и глаза у нее загорелись любопытством.
— А вы не будьте такой жеманной, мадам, — парировал Мидмор, — не то я перестану пускать вас на нашу аллею.
— О, я буду хорошей! Я буду очень хорошей! — Внезапно голос ее изменился. — Клянусь, что я постараюсь быть хорошей, дорогой. Но до этого мне еще очень далеко. Право, не знаю, что вы во мне нашли…
— Я хуже вас… гораздо хуже! Бесконечно и неизмеримо хуже. Но теперь это не имеет никакого значения.
Они остановились у ворот.
— Да, конечно! — сказала она задумчиво, глядя, как совершенно мокрая коляска подъехала к крыльцу, на котором Рода вытряхивала влажный коврик. — Да… Теперь мне действительно пора домой. Нет! Не ходите за мной. Сначала я должна поговорить с мамой наедине.
Он долго провожал ее взглядом, пока она не исчезла на вершине холма.
ВОИНСКИЕ ПОЧЕСТИ[311]
Крытая машина шла за мной от Гилдфорд-роуд до самого поворота к наследственным владеньям Новичка, потом свернула к конюшням.
— Посидим втроем, тихо-спокойно. Умник наверху, переодевается. Ужин в семь пятнадцать, и не опаздывать. Есть хочется. Твоя комната рядом с ним, — говорил Новичок, прижимая к груди запыленную бутыль бургундского.
Потом я увидел подполковника А.-Л. Коркрана. Он попросил у меня запонку и стал рассказывать про Восток и про свой Сикхский полк.
— Ну а как теперь субалтерны? Хорошие? — спросил я.
— Удивительные ребята. Просто удивительные! Только и делаю, что выискиваю для них работу. Все козыряют да заданий просят. Передо мной на задних лапках. Ну, разве я в их годы такой был?
— А если проштрафятся? — спросил я. — Ведь случается?
— Тогда — опять-таки ко мне. По каждому пустяку слезы, муки совести. Вот уж в жизни не совался к полковнику со своими заботами. Овечки. Просто овечки.
— А ты?
— Распекаю их, как папаша. Мол, как же так, и я, мол, вне себя, и родители страшно расстроятся; ну, подпущу насчет устава, помяну десять заповедей. Тут лучше не думать о том, что мы сами могли учудить в их возрасте. Помнишь…
Мы вспоминали ровно до семи часов. Выйдя на галерею, опоясывавшую холл, мы увидели внизу Новичка за беседой с двумя весьма почтительными молодцами, отличной выправкой которых я уже лет десять как любовался во время отпуска. У одного был синяк на щеке, у второго подбит левый глаз.
— Вот-вот, знакомый стиль, — шепнул мне Умник. — Воспитаны на лимонном соке и военных учебниках. Видно, наши девчонки были куда лучше, чем прикидывались; нет, не в отцов пошли, тут я ручаюсь.
— Какого черта? Зачем? — орал Новичок. — Сами знаете, как сейчас на это смотрят!
— Да, сэр, — сказал Бобби Тривет, тот, что был повыше. — Во-первых, Вонтнер чересчур много болтает. И потом он пошел в армию в двадцать три года. И норовит преподавать нам тактику. Объявил Клаузевица[312] единственным тактиком. И все демонстрирует на сигарах. Да ну его.
— А чьи сигары, ему довольно безразлично, — вставил Имс, тот, что пониже и порозовей.
— А как заведет про университет! — сказал Бобби. — Он понимаете, его кончил. И мы для него неинтеллигентны. Он так и выложил адъютанту, сэр. Представьте, сэр, такой тип.
Мы с Умником отступили за большую японскую вазу с хризантемами и навострили уши.
— Это вы всем Собраньем или вдвоем только? — осведомился Новичок, пожевывая ус.
— Адъютант, конечно, ушел спать, сэр, а старший субалтерн сказал, что ему звание дороже, теперь насчет издевательства над товарищами строго, ну а остальные все — мм — его угостили.
— И здорово? — спросил Новичок. Те против воли улыбнулись.
— Сперва мы ничего, сэр, — сказал Имс. — Он обозвал нас дураками, сопляками и ушел спать, а мы еще посидели и взбеленились, наверное, ну и мы…
— С ним сквитались? — догадался Новичок.
— Мы, в общем-то, только сказали ему, чтоб он встал, надели на него шлем и портупею и пропели ему кое-что из волшебных сказок-прибауточек нашего прелестного устава. Ну а потом предложили ему выпить за здоровье его коллеги Клаузевица коктейль из молока с ворчестерским соусом. Тут пришлось его держать. Он не из кротких. Такая петрушка. Но сейчас насчет розыгрышей строго. — Бобби косо усмехнулся.
— А потом, — вступил Имс, — потом Вонтнер сказал, что мы попортили ему мебели черт-те на сколько фунтов.
— Ах, так, — сказал Новичок. — Он, значит, из таких? Он зубы-то хоть чистит?
— Что вы, он безумно чистоплотный! — сказал Тривет. — Но у него папаша богатый адвокат.
— Юрисконсульт, — уточнил Имс. — И теперь мистер Вонтнер жаждет нашей крови. Он грозится, что поднимет дикий шум, подаст рапорт по начальству. И пойдет судебное расследование, скандал в газетах и песенки в мюзик-холлах.
— Такой тип, — сказал Тривет. — А надо ведь знать нашего полковника. Старый Мешок вытурит меня в запас, такие случаи были; адъютанту придется уйти из полка, как тому парню в семьдесят третьем драгунском, помните? И вообще неприятностей не оберешься. Он будет нас травить, а папаша его всегда поддержит.
— Так. Все это очень мило, — сказал Новичок. — Но я не служу примерно с того года, когда ты родился, Бобби. Я-то тут при чем?
— Отец говорил, что я в случае чего всегда могу к вам обратиться. И я видел от вас столько добра, с тех пор как он…
— Лучше оставайся ужинать. — Новичок утер пот со лба.
— Спасибо большое, но… — Тривет запнулся.
— Сегодня, точней, в четыре часа… — вставил Имс.
— Мы пошли к Вонтнеру поговорить. Вчера был скандал, а сегодня он уже вовсю строчил письмо отцу, чтоб тот обратился по начальству. Он прочитал нам выдержки, да я, знаете, в красотах стиля не очень разбираюсь. Мы и так и сяк, извинялись и прочее, но молочный коктейль с майонезом все решил.
— Да, он только и думает, как бы отомстить, — сказал Имс.
— Осрамлю, говорит, весь полк. Особенно рад, что может насолить полковнику. Сам сказал. Старый Мешок не в восторге от лекций Вонтнера по тактике. Он считает, что тому не мешало бы сперва научиться манерам. И мы подумали… — Тривет оглянулся на Имса, пользовавшегося меньшими привилегиями в доме, потому что у него еще не умер отец.
— Ну, — подхватил Имс, — он начал шуметь, и мы сочли, что следует конфисковать корреспонденцию, — он сощурил подбитый левый глаз, — а потом пригласили его ко мне в машину.
— Он, понимаете, в мешке, — пояснил Тривет. — Так что иначе ему передвигаться трудно. Но мы его пальцем не тронули.
— О, будьте спокойны! Голова торчит, честь честью, и… — Имс наконец решился. — Мы поместили его у вас в гараже — мм — pendente lite.[313]
— У меня в гараже! — голос у Новичка чуть не сорвался от ужаса.
— Да, отец всегда говорил мне, что в случае чего дядя Джордж…
Кончить фразу Бобби не удалось, ибо тут Новичок рухнул на диван, так и охнув:
— Ваши звания!
Наступила долгая, долгая пауза.
— Хороши твои нынешние паиньки! — шепнул я Умнику. Раздувая ноздри, он пальцами отбивал дробь по японской вазе.
— Брось ты отца! — взвыл Новичок. — Такие шутки теперь считаются уголовным преступленьем. Похоже, что теперь…
— Пойдем, — сказал Умник. — Это как у меня в старом линейном батальоне, в Египте. Нас со Старым Мешком в восемьдесят пятом чуть не выгнали из армии из-за вот такой же истории.
Он стал спускаться по ступенькам, и Новичок выкатил на него умоляющий взгляд.
— Я выслушал ваши признанья, юноши, — начал Умник; и тем своим голосом, каким всегда отчитывал подчиненных, то есть почти столь же музыкально, как он пел, он распек молодых людей так, что любо-дорого было при этом присутствовать. До той поры они считали его чуть не родственником (все мы ходили в представителях, исполнителях, заместителях дядюшек для потомства друзей Новичка), добрым и богатым старшим братом. Они еще не видывали полковника А.-Л. Коркрана в судейской мантии. И покуда он рвал и метал, покуда он метал громы и молнии, а они искали и не находили укрытия от этих молний, мне вспомнилось: 1) как в Дальхузи перевернули вверх тормашками «Пупсика» Макшейна и младший лейтенант Коркран чуть не предстал в результате перед военным судом; 2) как у капитана Пармили сгорел полог от москитов жарким индийским утром, когда капитан почивал в саду, а лейтенант Коркран, с сигарой в зубах, прогарцевал мимо на коне после удачной картежной ночи в клубе; 3) как морозной ночью в Пешаваре[314] некий капитан ввел в палатку к другому капитану пони вместе с повозкой, на которую затем погрузил палатку, шест, койку и капитана, укутанного в мерзлый брезент: 4) как Эллиота-Хэкера выкупали у него на веранде, а его дама это увидела и расторгла помолвку — к чему и гнуло Собранье, потому что она была евразийка, — и как потом Эллиота-Хэкера напудрили мукой и куркумой с базара.
Когда он перевел дух, я понял, что только матерому грешнику дано порицать грех. Добродетельный некомпетентен.
— Ну, — сказал Умник, — ступайте! Да нет же, не из дому. По комнатам.
— Ужин я тебе пришлю, Бобби, — сказал Новичок. — Иппс!
Ничто на свете не могло поразить дворецкого Иппса. Он вошел и тотчас ушел исполнять приказ. В общем-то, он страдал из-за Бобби, с тех пор как тому исполнилось двенадцать.
— Без ножа зарезали, — сказал Новичок. — Понимаешь, какие последствия для полка? Похоже, что теперь перевелись настоящие саибы.
— Именно. — Дальше Умник адресовался ко мне. — Пойди выпусти из мешка лисицу.
— Гараж не мой, — взмолился я. — Я в гостях. И он меня убьет, ей-богу. Столько часов проторчал в мешке.
— Слушай, — рявкнул Умник. Мы оба вдруг позабыли, сколько нам лет. — Кто старший по званию? Надо выпутываться. Мигом в гараж, окажи ему почтенье и тащи сюда. Он ужинает с нами. Да поворачивайся поживей, трусливый осел!
Я повернулся с достаточной живостью; но, труся по аллее, я размышлял о том, как теперь полагается извлекать субалтерна из мешка, не оскорбляя его достоинства. Прежде, помнится, это делалось так: прорезаешь мешковину, снимаешь с него обувку и даешь деру.
Представьте себе роскошный гараж, в котором бок о бок стоят кобальтово-синий сверкающий серым нутром лимузин и заляпанная, дешевая колымага. На заднем сиденье этой последней вообразите мешок из-под овса и торчащую из него огнедышащую русую голову; бледное лицо пылает гневом, глаза сверкают, челюсти без устали жуют узел наброшенной на шею веревки. Когда вспыхнуло электричество, мне почудилось, будто зловещая гусеница яростно прядет собственный кокон.
— Добрый вечер, — радушно сказал я. — Позвольте, я вам помогу. — Голова воззрилась на меня в гневе. — Мы их задержали, — продолжал я. — Они не будут больше развлекаться такими играми.
— Играми! — вскрикнула голова. — Это мы еще посмотрим. Ну-ка, выпустите меня.
Столь грозный голос в столь юных устах добра не сулил. И у меня, по обыкновению, не было с собой ножа.
— Вы так изжевали веревку, что до узла не добраться, — ворчал я, трясущимися руками орудуя возле горла гусеницы. Что-то само собой развязалось, и мистер Вонтнер выкатился из мешка — без воротничка, без галстука, в распоротом на спине сюртуке, расстегнутом жилете, с оборванной цепочкой от часов, в задравшихся выше колен брюках.
— Где, — мрачно осведомился он, одергивая штаны, — сейчас господа Имс и Тривет?
— Арестованы оба, разумеется, — отвечал я. — Сэр Джордж, — тут я раскрыл полный баронетский титул Новичка, — мировой судья. Он будет польщен, если вы отужинаете с нами. Комната для вас приготовлена. — Я поднял мешок.
— Да знаете ли вы, — процедил мистер Вонтнер сквозь зубы (правда, нас разделял капот машины), — что все это представляется мне, не скажу, заговором, однако очень похоже на сговор.
Когда жертва вероломства начинает различать и классифицировать — опасность позади. У меня отлегло от сердца.
— Что вы, зачем же так, — сказал я. — Вы попали в беду…
— Наивный глупец! — перебил он меня и как-то истерически хмыкнул. — Позвольте вас заверить, эта беда кой на ком отзовется!
— Как вам угодно — продолжал я. — Но только обидчики ваши арестованы, и задержавший их судья просит вас к столу. Сказать ему, что вы возвращаетесь в Олдершот?
Он сдунул с рукава пылинку.
— Я пока не могу диктовать условия, — сказал он. — Но за этим дело не станет. Немного погодя я позондирую почву. А пока я принимаю приглашение — оставляя за собой все права, если вы меня поняли, конечно.
Я понял и снова приободрился. Субалтерн, оставляющий за собой все права, — это что-то новенькое.
— Прекрасно, — ответил я. — Если вы идете, я гашу свет.
Он заковылял прочь, а я обшарил мешок и машину в поисках упомянутой Бобби конфискованной корреспонденции. Я ничего не нашел, кроме следов сопротивления, как выразился бы полицейский репортер. Он обколупал сзади передние сиденья и изгрыз кожаную обивку. Очевидно, целеустремленный и настойчивый молодой человек.
— Молодец! — встретил меня Умник. — Видишь, не убил он тебя. Погоди смеяться. Он сейчас беседует с Новичком о показаниях. Слушай. Вы с ним почти одного роста. Беги в свою комнату и передай ему через Иппса чистую рубашку и вечерний костюм.
— Но у меня нет другого, — сказал я.
— У тебя! Не о тебе речь. Тут его задобрить надо. Он в непристойном наряде и непристойном настроении, и, пока не переоденется, с ним сладу не будет. Тебя мы приносим в жертву. Живей! Да чистые носки не забудь!
Я опять затрусил в свою комнату, переоделся в неуместный, нечищеный спортивный костюм, всадил запонки в чистую рубашку, достал чистые носки, передал полный туалет Иппсу и возвратился в холл как раз в ту минуту, когда Умник произносил:
— Я биржевой маклер, но имею честь представлять интересы Его Величества в территориальном батальоне.
Тут я почувствовал себя слегка отмщенным.
— Я сам весьма ценю территориальных, — сказал мистер Вонтнер, вливая в себя херес (получался, надо думать, занятный коктейль), — но если б у вас был опыт службы, вы бы поняли, что обычный армейский офицер…
Тут Новичок предложил всем переодеться к ужину, и непреклонный, неумолимый Иппс увлек мистера Вонтнера прочь.
— Какого дьявола надо было плести ему о моем судействе? — накинулся на меня Новичок. — Знаешь ведь, что это в прошлом. И почему он при папочке не остался? Мозгляк паршивый!
— Ничуть, — бодро отозвался Умник. — Он просто выбит из колеи. Еще Мошка в гараже его, наверное, накачал. Но это ничего. Пока мы его поуняли, а за ужином я произведу рекогносцировку. Ты, Новичок, помни, что ты благородный хозяин дома и больше от тебя ничего не требуется. Погоди радоваться! Еще намаешься за ужином. А тебе, Мошка, лучше вообще помалкивать.
— А он мне как раз уже даже нравится, — сказал я. — Чур, я тоже играю!
— Нет, только после моего сигнала. А то пересолишь. Бедняга Старый Мешок. Скандал — это для него зарез!
— Но покамест полку не спросясь навязывают офицеров, такие нарушения дисциплины неизбежны, — начал Новичок. — О господи, помню, как меня самого обработали! — И его передернуло при этом воспоминании.
— Идиотизм! Мы же не принципы обсуждаем! Надо все сделать, чтоб не дошло до следственной комиссии, — сказал Умник.
Через пять минут, — точней в семь часов сорок пять минут, — мы, все четверо, сидели за ужином, который — я утверждаю — мог сотворить только повар Новичка, а вина были достойны папских трапез. Тот, кто оскорблен в лучших чувствах до последней крайности, напоминает тифозного больного. Вопросов не задает, глотает то, что перед ним ставят, и его не сбить с темы, обычно глупой. Но еда и питье — лучшие лекарства. Бутыль восьмидесятилетнего бренди (Умник-то по своему обыкновению налегал на бургундское) растопила сердце Вонтнера под моей рубашкой. Со мной он вел себя по-хамски, в оксфордских традициях: раз я видел его в мешке, надо было поставить меня на место; но Умнику и Новичку, пока я любовался издали собственным вечерним туалетом, он отчетливо разъяснил план мести. Даже привел кое-какие выдержки из будущих газетных статей, и не заткни мне рот Умник, я бы расхвалил стиль.
— Надо бы с них еще возмещенье убытков содрать, — сказал Умник, когда мистер Вонтнер обрисовал свои законные права.
— С-сэр, — мистер Вонтнер приложился к рюмке, — такие вещи не принято обсуждать в хорошем обществе, но, уверяю вас, мы, Вонтнеры, — он помахал холеной ручкой, — нисколько не нуждаемся в презренном металле.
В последующие три минуты мы узнали, каковы в точности доходы его отца — как подчеркнул мистер Вонтнер, пустяки, о которых настоящий джентльмен и не думает. Умник завидовал вслух, а я впервые пнул ногу Новичка. Затем мы перешли на тему образования, коснулись облика обычного армейского офицера и ужасающего убожества (именно так, я запомнил) гарнизонного общества, особенно женщин. Оказывается, в Собрании ни в коем случае не принято упоминать женские имена. Мы страшно удивились, — Умник по-прежнему затыкал мне рот, — но пришлось поверить мистеру Вонтнеру. Потом он коснулся полковников старой школы, их познаний в тактике. Нет, он лично вовсе не претендует на особые тактические способности, но после трех лет в университете (мы, грешные, университета не кончали) невольно усваиваешь привычку четко мыслить. Он действительно мыслил достаточно четко, и неясно, чего хотели от него тупые полковники. Мы должны были наконец понять, что его долг — заставить уйти в отставку полковника, который сживает его со света; заставить адъютанта перейти в другой полк или вообще со службы, а мальчишек-субалтернов, оскорбивших его достоинство, гнать взашей в другие войска — в Западную Африку, что ли. Сам он по рассмотрении дела намеревался остаться в полку, именно с целью доказать (зла он не затаил), что времена меняются, nosqve mutamur in illis,[315] если мы, конечно, понимаем, что это значит. Новичок вывернул ноги так, чтоб я не мог его пнуть, и мне оставалось лишь еще раз вознести хвалы аллаху за многообразие творений в его прекрасном мире.
Далее, через посредство старинного бренди мы прочно перешли к тактике и великому генералу Клаузевицу, неизвестному обычным армейским офицерам. Тут Новичок, пошептавшись с Иппсом, мрачным как ночь, извинился и ушел, но Умник, полковник территориальных войск, захотел подковаться в тактике. Десять минут подряд он получал ценные указания — смешивались Вонтнер и Клаузевиц, но верх то и дело брал Вонтнер в парах бесценного коньяка. Когда Новичок вернулся, Вонтнер вновь категорически потребовал, чтоб тот снял с него показания. Я усмотрел в этом семейные свойства Вонтнеров, мысленно нарисовав их себе до третьего колена.
— Вот так черт, они спят оба! — мрачно сказал мне Новичок. — Иппс накачал их крепким портвейном.
— Спят! — Умник тотчас встал. — Но какая же разница? Для порядка надо удостоверить их личность. Я провожу вас.
Мы пошли по белой каменной лестнице, что ведет в холостяцкие покои. Мистер Вонтнер, кажется, удивился, что преступники не брошены в подземелье.
— О, пока вина не доказана, считается, что ты невиновен, — сказал Умник, шагая вверх по ступенькам. — Как они запихали вас в мешок, мистер Вонтнер?
— Бросились на меня сзади — двое на одного, — отчеканил мистер Вонтнер. — Сперва я им всыпал, но потом они связали мне руки и ноги.
— Сфотографировали они вас в мешке?
— Этого еще не хватало. — Мистера Вонтнера передернуло.
— Слава богу. Ужасно трудно смывать такое пятно, как фотография, верно? — обратился ко мне Умник на площадке. — В газете, разумеется.
— Но можно сделать зарисовки по рассказам очевидцев для иллюстрированных журналов, — сказал я.
Мистер Вонтнер повернулся кругом. Впервые после нашей беседы в гараже он удостоил меня вниманьем.
— Ах, — сказал он, — у вас притязанье на особую осведомленность в этой области?
— Я журналист, — скромно, но с достоинством отвечал я. — И с удовольствием выслушаю ваш рассказ о происшествии, если угодно.
Но вместо того, чтобы сразу возлюбить меня, он отвечал сдавленным, пустым голосом:
— Ах, вот как?
— Вы, конечно, не беспокойтесь, — сказал я. — В случае чего я могу расспросить ответчиков. Они хоть умеют рисовать, мистер Вонтнер? Или ваш отец, в случае чего?..
Тут он очень пылко произнес:
— Поймите же вы наконец, что нельзя марать и трепать честное имя джентльмена ради процветанья вашей паршивой газетенки, какая она там ни на есть.
— Это… — и я назвал сверхходкую газету, специализировавшуюся на научных, военных и прочих скандалах. — По-моему, ей доступно все, мистер Вонтнер.
— Не знал, что имею дело с репортером, — сказал мистер Вонтнер.
Мы все встали перед закрытой дверью. Нас догнал Иппс.
— Но ведь вы стремитесь к гласности? — наседал я. — При таком скандале нельзя, во имя демократии, ограничиться одним органом. Я передам материал и в Соединенные Штаты. Я помог вам выбраться из мешка, если припомните.
— Да замолчите вы наконец! — рявкнул он и сел на стул. Умник, сжав мое плечо, спокойно приказал мне выйти из боя, но я знал, что огонь попал в цель.
— Я отвечу за него, — сказал Умник Вонтнеру тихонько, а потом перешел на шепот. Я разобрал: «Только с моего ведома…»… «зависит от меня»… «помогаю ему играть на бирже» и прочие лестные свидетельства моей собственной благонадежности.
Однако мистер Вонтнер опять сидел на стуле, и мы опять ему прислуживали. Лицо Новичка выражало озабоченность и глубокую тоску; Умник светился живым интересом; мое лицо было скрыто от мистера Вонтнера плечом Умника, но на лице Иппса легко читались чувства, какие дворецкому отнюдь не пристало питать к гостю. Презренье и злость были еще самые слабые из них. Мистер Вонтнер смотрел на Иппса в точности так же, как тот на него. Отец мистера Вонтнера, понял я, держал дворецкого и двух лакеев.
— Может быть, они притворились, чтоб выпутаться? — наконец произнес он. Иппс покачал головой и беззвучно отворил дверь. Субалтерны отужинали и теперь — один на диване, другой в кресле — крепко спали, отступив на линии детства. Они пережили довольно жуткую ночь, трудный день, разнос от эксперта и выслушали вердикт, что жизнь их отныне испорчена. Что же оставалось двум молодцам, как не есть, пить портвейн и позабыть о своих печалях?
Мистер Вонтнер оглядел их сурово. Иппс стоял поблизости, готовый к бою.
— Ребячество, — сказал наконец мистер Вонтнер. — Но прекрасно. М… Найдется у вас тут где-нибудь мешок… два мешка и две веревки? Я не могу побороть искушение. Этот человек понимает, надеюсь, что дело не подлежит огласке?
«Этот человек», то есть я, побежал вниз, подобно одной из ланей, которых держал Новичок. В конюшнях я обрел все, что искал, и, возвращаясь в темноте, налетел на Иппса.
— Хорошо! — буркнул он. — Как только он дотронется до мастера Бобби, мастер Бобби спасен! Но надо бы рассказать этому типу, как он рисковал. У меня все время руки чесались, ей-богу.
Я, запыхавшись, принес мешки и веревки.
— Они на меня напали двое на одного, — сказал мистер Вонтнер, принимая мешки. — Если они проснутся…
— Мы с вами, — ответил Умник. — Двое на одного. Все честь по чести.
Но ребята и не охнули, когда мистер Вонтнер связал сначала одного, потом другого. Когда их сунули в мешки, они только пролепетали что-то слипшимися губами и снова захрапели.
— Портвейн? — осведомился благородный мистер Вонтнер.
— Нервное потрясение. Они ведь еще дети, в сущности. Ну, дальше что? — спросил Умник.
— Я, с вашего разрешения, возьму их с собой.
Умник посмотрел на него почтительно.
— Моя машина будет у подъезда через пять минут, — сказал Новичок. — Иппс поможет их вынести. — И он пожал руку мистеру Вонтнеру.
Мы хранили торжественную серьезность до тех пор, пока два свертка не швырнули на диван в холле, и тут ребята пробудились и стали соображать, что произошло.
— Ха-ха! — сказал мистер Вонтнер с простодушием новорожденного. — Чья взяла, а? — И он уселся прямо на них. Напряжение разрядилось взрывом хохота. Громче всех, по-моему, хохотал Иппс.
— Идиотизм — чистейший идиотизм! — возгласил мистер Вонтнер со своего живого сиденья. Но он сиял польщенной безмозглой ухмылкой, пока мы так и катались и буквально утирали слезы от смеха.
— Ладно! — сказал Бобби Тривет. — Ты победил!
— И по части тактики, — сказал Имс. — Я и не подозревал, что ты ею владеешь, Клаузевиц. Выиграл всухую. Что дальше будешь с нами делать?
— Поволоку в Собрание, — сказал мистер Вонтнер.
— В таком виде?
— О нет. Почище! Я еще и не приступил к мести. А вы-то думали, вы победили! Ха-ха!
Они победили так, как им и не снилось. Тот, кому надлежало их посрамить, их полковник, их начальство, их живой пример, пренебрег решительно всеми законными правами ради дешевой, низкопробной выходки, такой, что, дойди дело до начальства, его бы мигом разжаловали. Они были спасены, и спаситель был им уже ровня и свой брат. И потому они стали позволять себе лишнее, пока он их не осадил, и тут мы смеялись громче, чем они сами.
— Становись! — скомандовал Умник, когда подали лимузин. — Это величайшая победа века! Не променял бы такую игру на целую армию! Поторапливайся, Новичок!
Я поскорей натянул пальто.
— А зачем нам этот репортер? — громко зашептал мистер Вонтнер. — Он, во-первых, не одет.
Имс и Бобби извернулись, чтобы поглядеть на репортера, грохнули и тут же смолкли.
— Что такое? — подозрительно вскинулся Вонтнер.
— Ничего, — ответил Бобби. — Клаузевиц, я умираю спокойно. Осторожней поднимите меня.
Мы погрузились в машину вместе с тюками, и через полчасика, когда прохладный ночной ветер освежил его задумчивое чело, мистер Вонтнер снова стал самим собой. Хоть он ничего плохого не говорил, он ликовал слишком уж шумно. Я сидел сзади между мешками и подобострастно ему поддакивал, пока он не напомнил мне, что то, что я видел и слышал, публикации не подлежит. Я намекнул (ребятишки так и покатились со смеху внутри своей амуниции), что тут можно бы договориться.
— Ну, из-за соверена не разойдемся, — бодро заверил мистер Вонтнер, и парни чуть не умерли от смеха.
— А вы-то чего веселитесь? — спросил мистер Вонтнер. — По-моему, сегодня я могу себя поздравить с отличной шуткой.
— Нет, Клаузевиц, — еле выговорил Бобби. — Не совсем. Ладно, буду хороший. Отпускаю тебя под честное слово до самого Собрания. И ни за какие шиши никуда не денусь.
— И я, — сказал Имс, и он дал слово не предпринимать попытки к бегству.
— А у вас, — мистер Вонтнер снисходительно обратился к Умнику, когда наша машина проезжала по пригороду Эша, — у вас, на бирже, вероятно, розыгрыши в большом ходу?
— С каких это пор вы на бирже, дядя Леонард? — простонал Бобби, а Имс, рыдая, приник головой к моему плечу.
— Прошу прощенья, — сказал Умник, — но я, в некотором роде, командую полком. Ваш полковник знает меня, я полагаю. — Он назвался. Мистер Вонтнер, кажется, слышал про такого. Пришлось поднимать Имса с пола, куда он бросился в порыве восторга.
— Господи! — наконец-то произнес мистер Вонтнер. — Что я наделал! Что я натворил! — В машине стало жарко, так он покраснел.
— Ты говорил о тактике, Клаузевиц? — закричал Бобби. — Скажи, это не тактика была?
— Тактика, — сказал Вонтнер.
Имс снова был у нас под ногами, он кричал:
— Если вы не высвободите мне руки, меня вырвет. Ой, повтори, что ты сказал!
Но мистер Вонтнер повернулся к Умнику.
— Наверное, бесполезно просить у вас прощенья, сэр, — сказал он.
— Не обращайте на них внимания, — сказал Умник. — Все вместе — отличная шутка, а вы, мальчики, права не имеете рассуждать о тактике. Вы разбиты, разбиты наголову.
— Предлагаю мирный договор. Если нас сейчас отпустят переодеться, мы никому не расскажем про тебя, Клаузевиц, — сказал Бобби. — Ты обучал тактике дядю Лена? Старый Мешок будет в восторге. Он не очень тебя жалует, Клаус.
— Нет, раз я свалял дурака, я уж и вас дураками выставлю! — сказал Вонтнер. — Остановите, пожалуйста, у ближайшей галантереи, направо. Тут рядом.
Он, очевидно, прекрасно здесь ориентировался даже в темноте. Машина остановилась перед залитой светом галантерейной лавкой, где по случаю субботнего вечера девушка прибирала прилавок. Я вошел следом за Вонтнером, как подобает репортеру.
— Есть у вас, — начал он, — ага, вот это подойдет! — он ткнул в два плюшевых колпака, один пронзительно красный, другой внушительно синий. — Почем они? Беру оба, и вот, павлиньи перья, пожалуйста, и эту красную штуку. — Имелось в виду крашеное, ярко-малиновое голубиное крыло.
— И еще несколько метров кисеи, только расцветочку пострашней выберите, пожалуйста. — Кисея оказалась желтая в черных тюльпанах, и Вонтнер вернулся, нагруженный свертками.
— Простите, что заставил ждать, — сказал он. — А теперь милости прошу к моему жилью — переодеться, принарядиться.
Через темный парадный плац к нам понеслось пенье горнов и бой барабанов, на которые отозвались струны наших сердец.
Мы выволокли ребятишек и усадили их на стулья, а Вонтнер начал было переодеваться в мундир, но замер, заметив, что я стягиваю куртку.
— Это еще зачем? — спросил он.
— Просто на вас мой вечерний костюм, — сказал я. — Я хочу его надеть, если вы не возражаете.
— Так вы не репортер? — спросил он.
— Нет, — сказал я. — Но из-за этого мы не разойдемся.
— Ой, скорее, — крикнул Имс в страшных корчах. — Сил больше нет. Пожалейте молодежь!
— Сейчас я вами займусь, подождите, — сказал Вонтнер. — И, сперва тщательно переодевшись, он развернул колпаки, в красный всадил павлинье перо, голубой украсил малиновым крылышком, изящно нацепил их на головы Имсу и Бобби, дал им полюбоваться результатом в зеркальце для бритья, и сам тем временем разодрал кисею на полосы и прелестно связал парням ноги пониже колен. В заключение он изобразил два роскошных банта.
— Милые юбочки, — сказал он Умнику, и тот одобрительно кивнул.
Потом он прорезал в мешках снизу отверстия, чтоб можно было ходить, но очень мелкими шажками.
— Надо бы вам белые тапочки, — проурчал он. — Да и помады, извините, у меня нет.
— Не беспокойся за нас, старина, мы гордимся тобой, — сказал Бобби из-под капора. — Небось почище молочного коктейля с майонезом.
— Ох, как до самих-то это не дошло, пока он был у нас в руках? — простонал Имс. — Ничего, на следующем испробуем. Ты подаешь надежды, Клаус.
— Мы заглянем к ним в Собрание, — сказал Вонтнер, когда они засеменили к дверям.
— Я загляну к вашему полковнику, — сказал Умник. — Жаль, если он эдакое пропустит. Первая проба? Ей-богу, мне самому лучше не придумать. Спасибо. — И он протянул ему руку.
— Вам спасибо, сэр, — сказал Вонтнер, — пожимая ее. — Выразить не могу, как я вам благодарен, и… и вы, пожалуйста, не думайте, что я такой…
— Ничего я не думаю, — перебил его Умник. — Если б я составлял на вас рапорт, я бы аттестовал вас высоко. Но смотрите, гейши сейчас упадут.
Мы проводили взглядом всех троих. Они перешли через дорогу и исчезли на веранде Собранья. Начался шум. Потом зазвонил телефон, выскочил сержант, и шум нарастал, и в Собрании стало довольно шумно.
Мы вернулись через десять минут с полковником Далзилем, который уже ложился спать вместе со своими печалями. В Собрании было полно народу, и все шли и шли, но иногда даже удавалось расслышать собственный голос. Имс и Тривет в мешках и бантах сидели рядышком за столом, прелестно склонив друг к другу головы в капорах и кокетливо болтая связанными ногами. В промежутках между куплетами «Посадите меня к девочкам», они потягивали виски с содой, которое — я должен, увы, признаться — подносил к их губам майор. Общее мнение клонилось к тому, что они должны станцевать в своих нарядах и уж потом переодеться. Вонтнер, довольно грациозно лежа вровень с люстрой на руках у шестерых субалтернов, читал лекцию о тактике и умолял, чтоб его спустили, что и произошло мгновенно, как только появился полковник. Тогда Вонтнер поднялся с дивана и сказал:
— Сэр, я прошу у вас и у Собранья прощенья за то, что всегда был таким идиотом!
И вот тут-то поднялся шум.
Видя, что ночь ожидается сырая, мы с Умником отправились домой в машине Новичка. Давненько не дышали мы горячим духом тесно набитого людьми зала.
Помолчали с полчаса, потом Умник сказал:
— Не знаю, как ты, а я пустил слезу. Чему припишешь? Бургундскому или старческому слабоумию?
БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ[316]
— Поразительная штука это изобретение Маркони,[317] верно? — надсадно кашляя, говорил мистер Шэйнор. — Я слышал, ей ни горы, ни шторм не помеха; впрочем, мы уже сегодня ночью будем знать, так ли это.
— Конечно, так, — ответил я, заходя за прилавок. — Где мистер Кэшелл-старший?
— Лежит; он немного прихворнул: инфлюэнца. Он предупреждал, что вы, наверное, зайдете.
— А племянник?
— В соседней комнате, готовится к эксперименту. Он мне рассказывал, что в прошлый раз мачту установили на крыше одного отеля, а батареи наэлектризовали бак с водой, и когда дамы, — он хихикнул, — садились в ванну, их било током.
— Я ни о чем подобном не слыхал.
— Владелец отеля едва ли стремится сделать это достоянием гласности. Нынче ночью, как сказал мне мистер Кэшелл, они попробуют связаться с Пулом, а для этого нужны еще более мощные батареи. Но здесь, вы сами понимаете, раз он хозяйский племянник и все такое — кстати, про это и в газетах будут писать, — он может хоть весь дом напичкать электричеством. Вам хочется понаблюдать за опытом?
— Очень. Я ведь еще никогда не участвовал в таких забавах. Вы не собираетесь ложиться спать?
— Нет, по субботам у нас открыто до десяти. К тому же в городе свирепствует инфлюэнца, за ночь сюда наведается с дюжину человек. Обычно я сплю тут же, в кресле. Это приятней, чем выскакивать из теплой постели по ночам. Адский холод, верно?
— Подморозило крепко. Жаль, что кашель так вас одолел.
— Пустяки. Я, собственно, боюсь не холода. Вот ветер этот прямо изматывает меня. — Он затрясся в приступе сухого кашля, но тут в аптеку вошла пожилая дама и спросила хинин. — Микстура кончилась, мадам, — ответил мистер Шэйнор, сразу обретая профессиональный тон. — Однако если вы пару минут подождете, я вам приготовлю новую, мадам.
В эту аптеку я захаживал довольно часто, и наше знакомство с владельцем постепенно переросло в дружбу. Кстати, не кто иной, как мистер Кэшелл, поведал мне о предназначении и могуществе Аптекарской Коллегии, когда его собрат фармацевт допустил ошибку, приготовляя мне лекарство, затем, маскируя свой промах, что-то наврал, а изобличенный в нерадивости и во вранье, стал писать какие-то дурацкие письма.
— Позор всей нашей корпорации, — пылко заявил, ознакомившись с делом, мистер Кэшелл, худощавый человек с добродушным кротким взглядом. — Вы окажете всей нашей корпорации огромную услугу, сообщив об этом случае в Аптекарскую Коллегию.
Я так и сделал, не ведая, каких вызываю джиннов; результатом явилось извинение, которое способен принести лишь человек, проведший ночь на дыбе. Я проникся глубочайшим уважением к Аптекарской Коллегии и высоко оценил мистера Кэшелла, столь ревностно оберегавшего честь цехового знамени. Предшественники мистера Шэйнора, который до переезда к нам жил на севере, придерживались совершенно иных взглядов. «Они забывают, — говорил мистер Кэшелл, — что провизор прежде всего служит медицине. От него зависит репутация врача. Он буквально держит ее, сэр, у себя на ладони».
Мистер Шэйнор, может быть, не обладал светским лоском приказчиков из расположенных рядом с аптекой лавок бакалейщика и торговца дичью, но он досконально знал и любил свое дело.
Его утехи ограничивались наблюдениями за перипетиями лекарств — их открытия, изготовления, упаковки и перевозки, — но они уводили его на край света, и обсуждение этой темы, фармацевтического справочника и Николаса Калпеппера, самонадеяннейшего из врачей, послужило основой нашего знакомства.
Мало-помалу я кое-что узнал о его юных годах и надеждах, о матери, работавшей учительницей в одном из северных графств, о рыжеволосом отце, мелком извозопромышленнике из Керби Мурз, умершем, когда сын был еще ребенком; о том, как он сдавал невероятно трудные экзамены, а те раз от разу делались все трудней; как он мечтал обзавестись аптекой в Лондоне; как ненавидел кооперативные аптекарские магазины, которые сбивали цену на товар; и самое интересное — о его истинном отношении к покупателям.
— Можно приучиться, — рассказывал он, — оставаясь внимательным и, надеюсь, учтивым, думать о своем. С начала осени я читаю «Новые лекарственные растения» Кристи, а это, право же, требует сосредоточенности. Так вот: что до штучных товаров, я могу держать в уме полстраницы текста и распродать хоть две витрины, не ошибившись ни на цент. С рецептами же я, по-моему, способен справиться чуть ли не во сне.
У меня были причины особенно интересоваться этими первыми у нас в Англии попытками испытать изобретение Маркони, и когда младший мистер Кэшелл, электрик, для осуществления междугородней беспроволочной связи избрал дом дядюшки, тот со свойственной ему обязательностью пригласил меня присутствовать при опыте.
Пожилая дама, купив лекарство, удалилась, а мы с мистером Шэйнором, чтобы согреться, принялись отбивать ногами дробь по кафельному полу за прилавком. Освещенная множеством электрических лампочек аптека искрилась, как стразовая копь, ибо мистер Кэшелл соблюдал все заповеди своего цеха. Три великолепных стеклянных бутыли — красная, зеленая и синяя, — похожие на те, из-за которых Розамунде пришлось расстаться с башмачками, — бросали радужные блики на зеркальное стекло витрин, а в воздухе витал смешанный запах фиалкового корня, фотопленок, вулканизированной резины, зубного порошка, сухих духов и миндального крема. Мистер Шэйнор подбросил угля в печурку, и мы угостились мятными и ментоловыми лепешками. Из-за омерзительного восточного ветра город обезлюдел; редкие прохожие закутались, оставив лишь щелочки глаз. Итальянец, хозяин соседней лавки, вывесил на крючьях тушки дичи и каких-то пестрых птиц; колыхаясь на ветру, они ударялись о раму нашей витрины.
— Убрали бы они эти припасы в дом… вон как мотаются, — сказал мистер Шэйнор. — Такое чувство, словно конец света наступил. Вы взгляните на этого старого зайца. Ветер прямо сдирает с него шкуру.
Я видел, как порывы ветра разделяют пух на брюшке мертвого животного продолговатыми грядками, между которыми синеет кожа.
— Адский холод, — сказал мистер Шэйнор, вздрагивая. — Вообразите, каково на улице в такую ночь. А вот и молодой мистер Кэшелл.
Дверь в смежную комнату отворилась, и оттуда, потирая руки, вышел энергичный бородатый человек.
— Мне нужен листочек оловянной фольги, Шэйнор, — сказал он. — Добрый вечер. Дядя говорил, что вы, вероятно, зайдете. — Это уже относилось ко мне, и я тотчас задал первый из сотни вопросов, вертевшихся у меня на языке.
— У меня все готово, — ответил он. — Ждем только вызова из Пула. Минуточку, прошу прощения. Вы можете войти, когда угодно, но мне лучше быть у аппарата. Дайте, пожалуйста, фольгу. Благодарю.
Пока мы разговаривали, девушка — явно не покупательница — вошла в аптеку, и у мистера Шэйнора изменились и манеры и лицо. Она уверенно облокотилась о прилавок.
— Но мне нельзя, — услышал я смущенный шепот; щеки его вспыхнули тусклым багрянцем, глаза блестели, как у одурманенной бабочки. — Не могу. Пойми, я тут один сегодня.
— Вовсе не один. А это кто? Пусть на полчасика тебя заменит. Прогуляешься и почувствуешь себя лучше. Ну, пойдем же, Джон.
— Но он ведь не…
— Мне все равно. Хочу, чтобы ты вышел; мы только обойдем вокруг церкви святой Агнессы. Но если…
Он направился ко мне под сень аптечного шкафа и виноватым тоном, запинаясь, стал объяснять, что его приятельница…
— Да, да, — вмешалась девушка. — Окажите мне любезность, присмотрите полчаса за аптекой, хорошо?
Ее необычайно звучный, кокетливый голос очень гармонировал со всем ее обликом.
— Ладно, — ответил я. — Присмотрю… только оденьтесь потеплее, мистер Шэйнор.
— А, неважно, я наверняка, прогулявшись, почувствую себя лучше. Мы ведь только обойдем вокруг церкви.
Он душераздирающе закашлялся, едва они вышли за дверь.
Я набил углем печку и, беспардонно расточив запасы топлива мистера Кэшелла, немного согрел помещение. Я обследовал множество ящиков, сверху донизу тянувшихся по стенам, попробовал на вкус кое-какие загадочные снадобья и создал наконец из нескольких порошков кардамона, земляного имбиря, хлористого этила и разбавленного спирта доселе неизвестный экзотический напиток, стакан которого отнес работавшему в смежной комнате младшему мистеру Кэшеллу. Он усмехнулся, когда я рассказал об отбытии мистера Шэйнора, но все его внимание поглощала какая-то хрупкая спиралька, и он ни словом не помог мне разобраться в хаосе проволок и батарей. Шум уличного движения постепенно стихал, и все слышнее становился гул моря. Затем коротко, но очень четко мистер Кэшелл рассказал, как называются и для чего служат предметы, громоздившиеся на полу и на столах.
— Когда же ожидается сигнал из Пула? — спросил я, отхлебывая из мензурки свое зелье.
— Если все будет в порядке, около полуночи. Мачта установлена на крыше дома. Я вам советую не открывать сегодня кран и вообще не трогать ничего, что связано с водой. Мы подключились к водопроводной системе, и вода наэлектризуется.
Я еще раз выслушал рассказ о переполохе среди женского населения отеля в день проведения первого опыта.
— Но как все это происходит? — спросил я. — Вот уж в чем я совершенно не разбираюсь, это в электричестве.
— Как происходит — этого не только вы, но и никто не знает. Тут действует Сила, которую мы называем Электричеством, ну а чудеса, поразительные явления, радиомагнитные волны — их пробуждает к жизни эта штучка. Мы называем ее когерер.
Он показал мне тоненькую, как термометр, стеклянную трубку с двумя серебряными пробочками, почти соприкасающимися между собой и разделенными крохотной щепоткой металлической пыли.
— Вот и все, — сказал он гордо, словно волшебство было делом его рук. — Вот эта штука заставляет действовать неведомые нам силы, преодолевая пространство… огромные расстояния.
В этот момент вернулся мистер Шэйнор, уже один, и, едва переступив порог, отчаянно закашлялся.
— Поделом вам, незачем дурака валять, — сказал мистер Кэшелл. Он был не меньше меня раздосадован тем, что пришлось прервать рассказ. — Не огорчайтесь: впереди у нас ночь, полная чудес.
Шэйнор скорчился над прилавком, прижав к губам платок. Когда он его отнял, я увидел два ярко-красных пятна.
— У меня… в горле небольшое раздражение, я, наверное, перекурил. Надо попробовать кубебу.[318]
— Выпейте лучше вот это. Я приготовил его, пока вы ходили. — Я протянул ему стакан.
— А оно не хмельное? Я ведь, можно сказать, трезвенник. О, ничего! И на вкус приятно, и сразу же как будто легче стало.
Он поставил пустой стакан и вновь принялся кашлять.
— Бр-р! До чего холодно на улице! Избави бог лежать в такую ночь в могиле. У вас никогда не болело горло от курения?
Он украдкой поглядел на свой платок и сунул его в карман.
— По временам бывает, — ответил я, пытаясь себе представить, в какую пучину ужаса я погрузился бы, увидев на своем платке эти ярко-красные сигналы тревоги. Склонившийся над батареями молодой Кэшелл негромко кашлянул, давая мне знать, что он готов продолжить лекцию, но я все еще думал о той девушке со звучным голосом и гордым ртом, велевшей мне присмотреть за аптекой. У меня вдруг мелькнула мысль, что она слегка напоминает изображенную на рекламке туалетной воды соблазнительную девицу, чьи прелести игриво подчеркивал красный отблеск выставленной в витрине бутыли. Повернувшись, чтобы проверить, я заметил, что мистер Шэйнор глядит туда же, и инстинкт мне подсказал, что рекламная прелестница для него святыня.
— Что вы принимаете от… кашля? — спросил я.
— Для того чтобы верить в патентованные лекарства, нужно стоять не по эту сторону прилавка. Ну, есть свечи, таблетки от астмы. Честно говоря, если вас не смущает запах — он напоминает запах ладана, — больше всего мне помогают ароматические свечи Блодетта, хоть я и не католик.
— Ну что ж, попробуем.
Как человек, впервые взявший на себя роль аптекаря, я выполнял ее добросовестно. Мы извлекли свечи — смолистые, коричневые конусы — и зажгли их под рекламой туалетной воды, к которой потянулись прозрачные голубые спирали.
— Да, конечно, — отозвался мистер Шэйнор на мой вопрос, — то, что берешь в аптеке лично для себя, оплачиваешь из своего кармана. Учет у нас проводится почти столь же дотошно, как в ювелирном магазине, так что судите сами. Зато мы покупаем их, — он указал на ящик со свечами, — по твердым ценам.
Как видно, воскурение фимиама улыбчивой семицветной красотке превратилось в некий ритуал, который стоил денег.
— А когда запирается аптека?
— У нас всю ночь открыто. Старик… старший мистер Кэшелл больше признает электрическое освещение, чем замки и задвижки. Ну, и о покупателях не надо забывать. Так что, если вы не возражаете, я тут пристроюсь в кресле возле печки и напишу письмо. Эксперименты с радио мне не прописаны.
Неутомимый племянник мистера Кэшелла фыркнул за дверью, а мистер Шэйнор уселся в кресло, предварительно покрыв его очень ярким — красно-черно-желтым — одеялом, слегка смахивающим на скатерть. Я перебрал проспекты патентованных лекарств, но, обнаружив среди них мало пригодного для чтения, начал изобретать еще один напиток. У итальянца в лавке сняли с крючьев дичь и легли спать. Газовый свет, наткнувшись на черные ставни, расплывался холодными лужицами по тротуару; нам казалось, что яростные порывы ветра гонят по улице рябь, и долго было слышно, как прошедший мимо полисмен хлопает себя руками по плечам, чтобы согреться. А в аптеке запахи кардамона и этила соперничали с благоуханием ароматических свечей, дюжины разных пахучих лекарств, духов, кремов и мыла. Электрические лампочки, горевшие внутри витрины перед пузатыми бутылями Розамунды, отбрасывали внутрь помещения три исполинских мазка — красный, синий и зеленый, которые калейдоскопом огоньков дробились на шлифованных стеклянных ручках ящиков, граненых флаконах и искрящихся пузырьках. Они играли яркими цветными зайчиками на белом кафельном полу, разбрызгивались по никелированным перильцам прилавка и разрисовывали его обшивку из красного дерева затейливым узором с множеством прожилок, словно порфирные и малахитовые плиты. Мистер Шэйнор отпер какой-то ящик и, прежде чем приняться за свое письмо, вынул тоненькую связку писем. Даже с моего места у печки можно было разглядеть зубчатые края листков, украшенных аляповатой монограммой, и уловить приторный запах шипра. Перевертывая каждую страничку, он пронзал пламенным взором парфюмерную даму с рекламки. Одеяло он набросил себе на плечи, и в буйном хаосе огней, больше чем когда-либо, напоминал одурманенную бабочку в образе человека… на мой взгляд, бабочку-медведицу.
Он положил письмо в конверт, наклеил марку, двигая руками, как деревянная кукла, и уронил его в ящик. И тут я почувствовал тишину спящего большого города — тишину, на фоне которой звучал ровный голос моря у волнорезов, — густую, теплую и трепетную тишь смолкнувшей на урочное время жизни, и невольно стал двигаться по сверкающей аптеке, как по комнате, в которой спит больной. Молодой мистер Кэшелл прилаживал какую-то проволочку; по временам вспыхивала искра и раздавался похожий на хруст суставов треск разряда. Наверху кто-то приоткрыл на мгновение дверь, и я услышал, как кашляет мистер Кэшелл-старший.
— Ну вот, — сказал я, подогрев как следует питье. — Отведайте-ка, мистер Шэйнор.
Он вздрогнул, испуганно дернулся и протянул руку к стакану. Смесь, напоминавшая густым цветом портвейн, пенилась вверху.
— Это похоже, — вдруг сказал он, — эти пузырьки… похожи на нить жемчуга… когда жемчужины подмигивают вам… я бы сказал, жемчужины на шее молодой леди. — Он опять повернулся к рекламке, изображенная на которой особа в сизом корсете сочла необходимым, прежде чем почистить зубы, надеть все свои жемчуга.
— Правда, недурно? — спросил я.
— А?
Он ошалело на меня уставился, и, вглядевшись, я увидел, как быстро расширяются его зрачки, становится тупым и бессмысленным взгляд. Теперь он уже не сидел, как деревянный, а весь обмяк, уронил руки, уткнулся подбородком в грудь и застыл в полной неподвижности с открытыми глазами.
— Боюсь, я доконал беднягу Шэйнора, — сказал я, отнеся стакан свежего питья младшему Кэшеллу. — Наверное, этил подействовал.
— Пустое, обойдется, — бородач с жалостью взглянул на Шэйнора. — Больных чахоткой часто развозит после нескольких глотков. Что тут удивительного — организм ослаблен. Но, я думаю, в конце концов ваш зверобой пойдет ему на пользу. Отменное питье. — Он, смакуя, осушил стакан. — Так вот, я вам рассказывал, пока нас не прервали, о когерере, этой трубочке. Щепотка пыли — это опилки никеля. Со станции, где находится передатчик, сквозь разделяющее нас пространство радиомагнитные волны доходят сюда, и частички металлической пыли притягиваются друг к другу — сцепляются, как мы говорим, — на то время, пока по ним проходит ток. Тут еще нужно запомнить, что ток этот индуктивный. Есть множество видов индукции…
— А что такое индукция?
— Это довольно трудно объяснить популярно. Коротко говоря, суть ее в том, что когда по проводу проходит ток, он создает вокруг провода магнитные силовые линии, и если мы поместим еще один провод параллельно первому и при этом в пределах его так называемого магнитного поля, то… ну, словом, тогда и во втором проводе наводится электрический ток.
— Сам по себе?
— Сам по себе.
— Постойте-ка, посмотрим, правильно ли я вас понял. За много миль отсюда, в Пуле или где-то еще…
— Лет через десять — где угодно.
— Помещается провод, заряженный…
— Радиомагнитными волнами, делающими примерно двести тридцать миллионов колебаний в секунду. — Тут мистер Кэшелл произвел быстрое змееобразное движение указательным пальцем.
— Так… и этот находящийся в Пуле заряженный провод посылает в пространство волны. А затем ваш провод, который торчит на крыше дома, каким-то таинственным образом заряжается этими волнами, пришедшими из Пула.
— Из любого места… это просто сегодня Пул.
— И эти волны приводят в действие когерер, как обычный телеграфный аппарат?
— Нет, нет! Вот здесь-то почти все и допускают ошибку. Волны Герца недостаточно сильны, чтобы воздействовать на массивные телеграфные аппараты Морзе. Они только заставляют сцепляться частички металлической пыли, и, когда происходит сцепление (краткое — это точка, более длительное — тире), ток батареи, вот этой самой батареи, — он положил на нее руку, — можно передать печатной машине Морзе, которая зарегистрирует точки и тире. Я вам сейчас все проще объясню. Вы что-нибудь знаете о работе пара?
— Очень мало. Но рассказывайте.
— Так вот, когерер — это все равно, что паровой клапан. Любой ребенок может открыть клапан и привести в действие паровую машину, поскольку струя пара пускается внутрь одним движением руки, не так ли? Ну вот, наша батарея, готовая начать печатать, и есть пар. Когерер — это клапан, когда угодно готовый включиться. Волны Герца — детская рука, включающая его.
— Я понял. Это поразительно.
— Поразительно, ведь верно? И помните, это еще только начало. А через десять лет для нас не будет невозможного. Мне хочется дожить… господи, как хочется мне дожить и самому увидеть, во что это вырастет… — Он через дверь взглянул на Шэйнора, тихо посапывавшего в кресле. — Горемыка. А туда же норовит ухаживать за Фанни Брандт.
— Фанни… как вы сказали? — воскликнул я. Это имя пробудило в моей памяти что-то полузабытое… связанное с окровавленным платком и со словом «артериальный».
— Фанни Брандт — та девушка, что заставила вас присматривать за аптекой. Кроме этого, я ничего о ней не знаю и, клянусь жизнью, не могу понять, что он находит в ней и что она в нем находит.
— Неужели так трудно понять, что он находит в ней? — возразил я.
— О, в этом смысле вы правы, конечно. Пухлая, пышная, роскошная, — не девица, а мармелад. Я думаю, она этим-то его и приворожила. У них ведь нет ничего общего. Впрочем, не все ли равно. Дядя говорит, что ему осталось жить меньше года. Ваше питье ему на пользу: хоть поспит.
Мистеру Кэшеллу не было видно обращенное к рекламке лицо Шэйнора.
Я вновь поворошил уголья в печке, так как в комнате делалось холодно, и зажег еще одну ароматическую свечку. Мистер Шэйнор неподвижно сидел в кресле, глядя сквозь и мимо меня выпученными и остекленелыми, как у мертвого зайца, глазами.
— Что-то Пул запаздывает, — сообщил мне, когда я вернулся младший Кэшелл, — надо бы им посигналить.
Он нажал на ключ, и в полутьме между двумя медными кнопками, сухо треснув, проскочила искра, затем вереница искр и снова искры одна за одной.
— Великолепно, правда? Вы слышите, как пробивается на волю сила — наша неведомая сила? — сказал Кэшелл. — Ишь как рвется: брык-брык-брык! Представьте, сколько раз уже работаю с передатчиком, а все не могу освоиться с этим ощущением: из-под моей руки, пересекая огромные просторы, разносятся волны. Т. Р. — наши позывные. Отзыв Пула — Л. Л. Л.
Мы подождали две, три, пять минут. В тишине, пронизанной неумолчным гулом прибоя, я уловил четкое: плик-плик-плик — это ветер хлестал по мачте отводками антенны.
— Пул молчит; какая-то задержка. Я подожду и крикну вам, как только получу ответ.
Я вернулся в аптеку и поставил стакан на прилавок, неосторожно звякнув донышком о «малахит». Шэйнор тотчас встал, не отводя глаз от рекламки, где зарумянившаяся в отблеске красной бутыли молодая особа с жеманной улыбкой обозревала свои жемчуга. Губы Шэйнора все время шевелились. Я подошел к нему, прислушиваясь: «Отсвет… отсвет… отсвет…» — шептал он с мучительно искаженным лицом. Удивленный, я приблизился к нему еще на несколько шагов. Но тут он наконец нашел слова, нащупал четкую, законченную форму:
На деву падал отсвет золотистый.[319]
Лицо его стало спокойным; довольно потирая руки, он вернулся на прежнее место.
Мне никогда не приходило в голову, хотя мы с ним не раз толковали о книгах и о литературных конкурсах, что мистер Шэйнор читал Китса и может к слову процитировать его. Но ведь могло же статься, что отблеск цветной бутыли на завлекательном бюсте с завлекательной рекламки какими-то неисповедимыми путями — так грубый лубок вдруг напомнит вам блистательный шедевр — привел ему на ум эту строку. Должно быть, ночь, уединение и мое зелье сделали мистера Шэйнора поэтом. Он снова сел и, лихорадочно шевеля губами, стал что-то поспешно записывать в свой вульгарный блокнот.
Я притворил дверь в смежную комнату и подошел к Шэйнору сзади. Он, казалось, ничего не видел и не слышал. Я заглянул ему через плечо и среди недописанных слов, фраз и замысловатых каракулей прочел:
Холода, холода.
Корка льда.
Льда.
Он резко вскинул голову и, нахмурившись, вперил взгляд в черневшие против нашей витрины наглухо занавешенные окна торговца дичью. Затем отчетливо сложилась еще одна строка:
На бедном зайце корка льда застыла.
Все тем же механическим движением он повернул голову вправо, к рекламке, от которой мерзко разило свечами Блодетта. Что-то хмыкнул про себя и написал:
Фимиам…
Плывущий сквозь высокие стропила…
Ее дыхание… ее лобзанье…
— Тс-с, — шикнул из смежной комнаты мистер Кэшелл с таким таинственным видом, словно боялся спугнуть привидение. — Что-то пробивается откуда-то; только это не Пул.
Я услышал, как затрещали искры, когда он нажал на ключ передатчика. Так же сухо что-то треснуло в моем мозгу, впрочем, возможно, это просто затрещали волосы. Неожиданно сам для себя я повелительно шепнул:
— Мистер Кэшелл, сюда тоже что-то пробивается. Помолчите, пока я не дам вам знать.
— Но я думал, вы хотите воочию взглянуть на это чудо… сэр. — Конец фразы прозвучал негодующе.
— Не отвлекайте меня, пока я сам вас не позову. Ни слова больше.
Я наблюдал, я ждал. Прочерченная синими жилами рука, высохшая рука чахоточного, одним махом вывела без сучка без задоринки:
Я думаю уныло
О том, как мертвецам
Он вздрогнул, продолжая писать:
Лежать в земле постыло.
И лишь докончив, отложил перо и откинулся на спинку кресла.
Одно мгновенье — оно длилось вечность — комната радужным смерчем кружилась передо мной, а внутри этого смерча и сквозь него душа моя спокойно и бесстрастно разглядывала объятую непреодолимым ужасом себя самое. Потом я почувствовал резкий запах табака, исходивший от одежды мистера Шэйнора, услышал его шумное, пронзительное, как визг трубы, дыхание. Я все еще занимал свой наблюдательный пост, словно вглядывался в мишень на стрельбище: слегка пригнувшись, упершись ладонями в колени и держа голову всего в нескольких дюймах от черно-красно-желтого одеяла на плечах мистера Шэйнора.
Я рассуждал шепотом, по всей видимости сам с собой:
«Если он читал Китса, то выводов нельзя сделать. Если же нет, значит, сходные результаты предопределяются сходными посылками. Это закон, и в нем не существует исключений. Очень удачно, что я знаю наизусть «Канун Святой Агнессы» и не должен справляться с книгой; берем, во-первых, обстоятельства: это Фанни Брандт, которая является ключом к загадке и примерно совпадает по координатам с Фанни Брон; затем делаем допуск на красный цвет артериальной крови на платке, буквально несколько минут назад привлекшей к себе мои мысли; примем также во внимание воздействие окружающей обстановки, а оно здесь чуть ли не удвоено, и результат — логичен, неизбежен. Неизбежен, как индукция.
В то же время часть моей души не внимала никаким доводам. Она тряслась, млея от страха, в узкой, жалкой щели, где-то неизмеримо далеко.
А потом душа моя вновь обрела единство, и я стоял, упираясь руками в колени и впившись взглядом в лист бумаги перед мистером Шэйнором. Столь же доверчиво, как иные воспринимают землетрясения и воскресение из мертвых, обосновывая их цитатами из молитвенника или таблицей умножения, так и я воспринимал наблюдаемые мною странные факты и обосновывал их теорией, на мой взгляд, убедительной и здравой. Мало того, я опережал эти факты, торопливо забегал вперед, уверенный, что подгоню под них свою теорию. Из великой этой теории я помню сейчас лишь надменный вывод: «Если он читал Китса, это просто хлористый этил. Если же нет, значит, бацилла или, назовем ее, радиомагнитные волны туберкулеза, плюс Фанни Брандт, плюс специфическая обстановка аптеки образовали некий комплекс и тот, временно выделившись из общечеловеческого потока сознания, индуцировал Китса».
Мистер Шэйнор снова взялся за работу, что-то вычеркивал, торопливо писал. Он отбросил в сторону две-три пустых страницы.
Затем, шевеля губами, записал:
Дымок лампады понемногу гас.
— Нет, — прошептал он. — Дымок… дымок… дымок… Как-то иначе. — Выпятив подбородок, он потянулся к рекламке, под которой еще курилась зажатая в подсвечнике последняя ароматическая свеча Блодетта. — А! — и с облегчением:
Дымок лампады угасал уныло.
Рифмы первой строки, видно, держали его в своих узах, ибо он писал все вновь и вновь: «Застыла… стропила… уныло». Потом снова обратился за вдохновением к рекламке и без помарок вывел ту строку, что я подслушал первой:
На деву падал отсвет золотистый…
Как я помню, в оригинале вместо «золотистый» стояло «багрянистый» — пошлое словцо, — машинально я кивнул в знак одобрения, отметив, впрочем, про себя, что попытка воссоздать «В лучах луны скользил дымок лениво» потерпела неудачу.
И тут же сразу последовало десять — пятнадцать строк неприкрытой прозы — исповедь нагой души о плотском вожделении к возлюбленной — нечистая, в общепринятом смысле этого слова; отталкивающая, но глубоко человечная; сырье, как показалось мне тогда, первичная основа двадцать шестой, седьмой и восьмой строф поэмы Китса. Без укоров совести шпионил я за этим откровением; и ужас мой растаял вместе с дымом ароматической свечи.
— Так, так, — шептал я. — Наметка готова. Ну-ка, дальше! Обведи ее чернилами, дружище. Обведи!
Мистер Шэйнор возвратился к прерванной строфе, где «влюбленный взгляд» подгонялся в рифму с желанием узреть «ее брошенный наряд». Он приподнял складку мягкого, яркого одеяла, расправил на руке, с безмерной нежностью поглаживал его, думал, бормотал, по временам вылавливая нечто, чего я не мог расшифровать, затем сонливо зажмурился, тряхнул головой и перестал возиться с одеялом. Тут я попал в тупик, ибо не смог понять, каким образом красно-черно-желтое австрийское одеяло расцвечивало его грезы.
Через несколько минут он отложил перо и, опершись на руку подбородком, обвел аптеку вдумчивым, разумным взглядом. Он сбросил одеяло, встал, прошелся мимо расположенных рядами ящиков с лекарствами, читая вслух названия на ярлычках. Вернувшись, снял со своего стола «Новые лекарственные растения» Кристи и принесенного мною старика Калпеппера, открыв обе книги, положил их рядом с деловитым видом и совершенно бесстрастным лицом, почитал сперва одну, затем другую и остановился, заложив перо за ухо.
«Ну а теперь, какое чудо небесное грянет?» — подумал я.
— Мед… мед… мед… — произнес он наконец, насупив брови. — Вот что было нужно, хорошо! Ну что ж! Ну что ж! Хорошо! Хорошо! О, клянусь богом, хорошо! — Затем возвысил голос и без запинки произнес, не спутав и не пропустив ни слова:
Пунцовые, как солнечный шафран,
Прекрасные плоды из дальних стран,
Душистый мед, искрящийся и жидкий.
И Самарканд, и Смирна, и Ливан
Благоухали здесь, прислав в избытке
Дары своих садов и пряные напитки.
Прочел еще раз, вставив во второй строке «нежнейшие» вместо «прекрасные»; потом переписал все это без единой помарки, ничего не изменяя, однако на сей раз (я пристально за ним следил, отмечая про себя каждую мелочь) он подставил «сладчайшие» вместо омерзительно тривиального «нежнейшие», так что выведенная его рукой строфа полностью совпала с книжной — полностью совпала с ней.
Ветер с воплем промчался по улице, и сразу пролился, забарабанил дождь.
Передохнув с улыбкой — еще бы ему не улыбаться, — Шэйнор снова застрочил, отшвыривая в сторону каждый исписанный листок:
Крупнозернистый снег стучит в стекло.
Тяжелый дождь и ветер леденящий.
Затем проза: «Очень холодно бывает по утрам, когда ветер несет дождь и снежную крупу. Я слышу, как стучат в окно снежинки, и думаю о тебе, моя милая. Я всегда думаю о тебе. Мне хочется, чтобы мы сбежали в бурю, как влюбленные, и поселились в этом домике у моря, о котором мы всегда мечтаем, единственная моя, дорогая. Мы будем сидеть там с тобой, глядеть в окно на море…»
Он остановился, вскинул голову, прислушался. В неумолчном гуле моря, к которому уже давно привык наш слух, внезапно зазвучала более мощная нота, это прилив сменил отлив. Вломившись, словно войско перешло на новый марш, этот новый ритм моря на первых порах оглушил нас, пока мы не перестали его замечать.
Тебе и мне вдали видна
За пеною морской
Невероятная страна…
Он натужно крякнул и прикусил губу. У меня пересохло в горле, но я не решался проглотить слюну, чтобы смочить его, боясь развеять чары, все ближе и ближе подводившие Шэйнора к вершине, достичь которой удалось лишь двоим из сынов Адамовых. Вспомните, что среди накопленных веками миллионов есть не более пяти… пяти коротких строк, о которых можно сказать: «Вот она, истинная Магия. Вот оно, чистое Прозрение. Все остальное — просто словесность». И мистер Шэйнор подбирался сейчас к двум из них!
Я поклялся себе не воздействовать даже нечаянной мыслью на эту бродящую в потемках душу и судорожно сжимал в себе три остальные, повторяя вновь и вновь вместо них:
Святое место вижу я воочью:
Здесь женщина бродила лунной ночью
И демона любви своей звала.
Но хотя я искренне считал, что загрузил этим занятием свой разум, все мои чувства были прикованы к тому, что выводила на бумаге сухая и костлявая рука с прокуренными, потемневшими от ожогов пальцами.
Нам виден мрачный берег из окна, —
написал он после того, как долго, неуверенно примеривался. И дальше:
В оконных створках сумрачное море,
Забвенное… забвенное…
Тут опять его лицо стало осунувшимся и тревожным, то же отчаяние я впервые прочитал в его глазах, когда загадочная сила подхватила Шэйнора. Только на этот раз его страдания были мучительнее. Они вырастали на моих глазах, словно столбик ртути в термометре. Глядя на это опаленное муками лицо, я вдруг почувствовал, что душа, истерзанная ими, больше не выдержит — нагая выпрыгнет из губ. Капелька пота скатилась по моему лбу, вдоль носа и упала на руку.
Нам виден берег сумрачного моря
И пенный вал на темном берегу.
— Нет, еще не то… не то, — шептал он. — Погоди же. Умоляю, погоди. Сейчас найду…
Нам виден вал прибрежный из окна,
Скалистый берег сумрачного моря…
Навеки…
— Уфф, господи!
Он весь затрясся с головы до ног — дрожь шла изнутри, от мозга костей, — потом вскочил, раскинул руки, оттолкнул кресло, на котором сидел, и оно, скрипя, проехало по кафельным плиткам, ударилось о ящики и с грохотом упало на пол. Я машинально наклонился и поднял его.
Когда я распрямился, мистер Шэйнор потягивался и зевал во весь рот.
— Видно, я порядочно хватил, — сказал он. — Как это я опрокинул кресло? У вас такой вид…
— Меня напугал шум, — сказал я. — Такая тишина стояла и вдруг…
Младший мистер Кэшелл обиженно молчал за дверью.
— Я, наверное, вздремнул, — сказал мистер Шэйнор.
— Наверное, — ответил я. — Кстати о грезах… я заметил, вы что-то писали… до того как…
Он смущенно покраснел.
— Я хотел спросить вас, читали вы когда-нибудь произведения человека по фамилии Китс?
— Гм! Пожалуй, я не помню такого, да и времени у меня, собственно, нет на стихи. А он известный писатель?
— Довольно. Я думал, вы о нем слыхали, потому что он — единственный поэт, бывший аптекарем. К тому же он так называемый лирик.
— Вот как! Надо бы ознакомиться. А о чем он писал?
— Об очень многом. Вот пример, который мог бы заинтересовать вас.
Я тут же очень внятно прочел стихи, которые мистер Шэйнор два раза проговорил и записал один раз менее десяти минут тому назад.
— Гм. Сразу видно, что он был аптекарем, по этой строчке о растворах и сиропах. Дань уважения нашей профессии.
— Я, право, не знаю, — с ледяной учтивостью сказал младший мистер Кэшелл, приоткрыв на полдюйма дверь, — сохранился ли у вас какой-то интерес к нашим пустячным экспериментам. Если все же сохранился…
Я оттащил его в сторону и прошептал:
— Когда я только что просил вас помолчать, Шэйнор, по-моему, впал в транс. Мне не хотелось отвлекать вас, поскольку вы ждали сигнала, хоть я и понимал, что мое поведение выглядит грубым. Вы поняли меня?
— Не о чем толковать — все в порядке, — сухо ответил он. — В тот момент и впрямь это показалось мне довольно странным. Так он поэтому опрокинул кресло?
— Надеюсь, я ничего не пропустил, — сказал я.
— Боюсь, что все же пропустили, но еще успеете понаблюдать финал довольно любопытного явления. Входите и вы, мистер Шэйнор. Слушайте, я буду расшифровывать.
Аппарат Морзе бешено стучал. Мистер Кэшелл прочел, взглянув на ленту: «К.К.В. Не разбираем ваших сигналов». Пауза. «М.М.В. М.М.В. Ваши сигналы неясны. Собираемся бросить якорь в Сандаун Бэй. Проверка инструментов завтра». Вы понимаете, в чем дело? Два военных судна у острова Уайт переговариваются между собой по радио. Они пытаются связаться друг с другом, но сигналы обоих не попадают по назначению, зато все они перехватываются нашим приемником. Это продолжается уже давно. Как жаль, что вы не слышали все с самого начала.
— Поразительно! — воскликнул я. — Вы хотите сказать, что два портсмутских судна тщетно пытаются вступить друг с другом в разговор, а слышим его мы — реплики долетают до нас через добрую половину Южной Англии?
— Именно так. Передатчик у них в порядке, а с приемниками что-то не ладится, вот они и ловят лишь по временам то точку, то тире. Полная неразбериха.
— Но почему так получается?
— Бог знает… завтра это будет знать Наука. Может быть, неправильно поставлены антенны; может быть, приемники настроены не на ту частоту колебаний, которую дают передатчики. По временам прорывается какое-нибудь слово. А это уж совсем невыносимо.
Аппарат Морзе снова ожил.
— Вот, одно из них жалуется. Слушайте: «Мы в отчаянии. Мы просто в отчаянии». Крик души. Присутствовали вы когда-нибудь на спиритическом сеансе? Порою это немного похоже: обрывки посланий, долетающие невесть откуда, отдельные слова, а в целом — ничего не разберешь.
— Все медиумы — обманщики, — сказал мистер Шэйнор. Стоя в дверях, он закуривал сигарету от астмы. — Видел я, как это делается. Они только деньги выколачивают.
— А вот наконец и Пул… да как отлично слышно. Л.Л.Л. Ну, теперь уже недолго. — Мистер Кэшелл бодро застучал ключом. — Хотите что-нибудь им передать?
— Да, пожалуй, нет, — ответил я. — Пойду-ка я домой, пора ложиться. Я сегодня немного устал.
«ОНИ»[320]
Одна за другой сменялись предо мною чудесные картины природы, одна гора манила взор к иной, соседней, и, проехав таким образом половину графства, я почувствовал, что уже не в силах ничего воспринимать, а могу лишь переводить рычаг скоростей, и равнодушно смотрел на местность, которая стлалась под колеса моего автомобиля. Восточные равнины, усеянные орхидеями, южнее сменили известковые холмы, меж которых росли тимьян, остролист и пыльные, серые травы; а потом снова пышно зеленеющие пшеничные поля и смоковницы южного побережья, где шум прибоя слышится по левую руку на протяжении целых пятнадцати миль; и когда я наконец повернул в глубь страны через скопище округлых холмов, перемежаемых лесами, обнаружилось, что все знакомые мне приметы куда-то исчезли. За тем самым поселком, который считается крестным отцом столицы Соединенных Штатов,[321] я увидел укромные спящие селения, где одни лишь пчелы бодрствовали и громогласно жужжали в листве восьмидесятифутовых лип, которые осеняли серые церковки, сооруженные нормандцами;[322] сказочно красивые ручейки струились под каменными мостами, способными выдержать куда более тяжкие перевозочные средства, нежели те, которые впредь нарушат их мертвый покой; склады для хранения церковной десятины были вместительней самих церквушек, а древняя кузница словно возвещала во всеуслышание, что некогда здесь обитали храмовники. Дикие гвоздики я увидел на общинном выпасе, куда, за целую милю вдоль древней, еще римлянами проложенной дороги, их оттеснили можжевельник, папоротники и вереск; а чуть подальше я вспугнул рыжую лисицу, которая собачьей побежкой умчалась в раскаленную солнцем даль.
Когда лесистые холмы сомкнулись вокруг меня, я затормозил, встал и попытался определить свой дальнейший путь по высокому известковому холму с округлой вершиной, которая на добрых полсотни миль служит ориентиром средь этих равнин. Я рассудил, что самый характер местности подскажет мне, как выехать на какую-нибудь дорогу, которая ведет на запад, огибая подножье холма, но не принял в соображение обманчивость лесного полога. Я повернул с излишней поспешностью и сразу утонул в яркой зелени, расплавленной жгучим солнечным светом, а потом очутился в сумрачном тоннеле, где сухие прошлогодние листья роптали и шелестели под колесами. Могучий орешник, который не подрезали по меньшей мере полвека, смыкался над головой, и ничей топор не помог замшелым дубкам и березкам пробиться сквозь сплошное плетение его ветвей. Потом дорога резко оборвалась, и подо мною словно разостлался бархатистый ковер, на котором отдельными кучками, наподобие островков, виднелись уже отцветшие примулы да редкие колокольчики на белесых стебельках кивали в лад друг другу. Поскольку путь мой лежал под уклон, я заглушил мотор и свободным ходом начал петлять по палой листве, ежеминутно ожидая встречи с лесничим; но мне удалось лишь расслышать где-то вдали невнятную болтовню, которая одна нарушала сумрачное лесное безмолвие.
А путь по-прежнему вел под уклон. Я готов был уже развернуться и ехать назад, включив вторую скорость, пока не увязну в каком-нибудь болоте, но тут сквозь плетение ветвей над головой у меня блеснуло солнце, и я отпустил тормоз.
Сразу же вновь началась равнина. Едва солнечный свет ударил мне в лицо, колеса моего автомобиля покатились по большому тихому лугу, среди которого внезапно выросли всадники десятифутового роста, с копьями наперевес, чудовищные павлины и величественные придворные дамы — синие, темные и блестящие, — все из подстриженных тисов. За лугом — с трех сторон его, словно вражеские воинства, обступали леса — стоял древний дом, сложенный из замшелых, истрепанных непогодой камней, с причудливыми окнами и многоскатной кровлей, крытой розовой черепицей. Его полукружьем обмыкала стена, которая с четвертой стороны загораживала луг, а у ее подножия густо зеленел самшит высотой в рост человека. На крыше, вокруг стройных кирпичных труб, сидели голуби, а за ближней стеной я мельком заметил восьмиугольную голубятню.
Я оставался на месте; зеленые копья всадников были нацелены мне прямо в грудь; несказанная красота этой жемчужины в чудесной оправе зачаровала меня.
«Если только меня не изгонят отсюда за то, что я вторгся в чужие владения, или же этот рыцарь не пронзит меня копьем, — подумал я, — то сейчас вон из той полуотворенной садовой калитки выйдут по меньшей мере Шекспир и королева Елизавета и пригласят меня на чашку чая».
Из окна верхнего этажа выглянул ребенок, и мне почудилось, будто малыш дружески помахал мне рукой. Но оказалось, это он звал кого-то, потому что тотчас же появилась еще одна светловолосая головка. Потом я услышал смех меж тисовых павлинов, повернул голову, желая увериться, что это не обман слуха (до того мгновения я безотрывно смотрел только на дом), и увидел за самшитами блеск фонтана, серебристого в свете солнца. Голуби на крыше ворковали в лад воркованию воды; но сквозь эти две мелодии я расслышал радостный смех ребенка, увлеченного какой-то невинной шалостью.
Садовая калитка — сделанная из прочного дуба и глубоко вдававшаяся в толщу стены — отворилась шире; женщина в большой соломенной шляпе неторопливо поставила ногу на искрошенную временем ступеньку и столь же неторопливо пошла по траве прямо ко мне. Я стал придумывать какое-нибудь извинение, но тут она подняла голову, и я увидел, что она слепая.
— Я слышала, как вы подъехали, — сказала она. — Ведь то был шум автомобиля, не правда ли?
— К несчастью, я, по-видимому, сбился с дороги. Мне следовало повернуть раньше, еще наверху… я никак не предполагал… — начал я.
— Но, право, я очень рада. Подумать только, автомобиль здесь, перед садом! Это такая приятная неожиданность… — Она повернулась, словно хотела оглядеться вокруг. — Вы никого не видели или все же кого-нибудь… как знать?
— Никого, с кем я мог бы поговорить, но дети разглядывали меня издали, мне кажется, с любопытством.
— Какие дети?
— Я только что видел двоих в окне и, по-моему, слышал детский голосок в саду.
— Ах, вы счастливец! — воскликнула она, и лицо ее просияло. — Конечно, я тоже их слышу, но и только. Стало быть, вы их видели и слышали?
— Да, — отвечал я, — и если я хоть что-нибудь смыслю в детях, кто-то из них резвится в свое удовольствие вон там, у фонтана. Удрал, я полагаю.
— А вы любите детей?
Я как мог постарался объяснить, почему отнюдь не питаю к детям отвращения.
— Конечно, конечно, — сказала она. — В таком случае, вы все поймете. В таком случае вы не сочтете за глупость, если я попрошу вас проехать разок-другой через сад — как можно медленней. Я уверена, им будет интересно на это поглядеть. Они, бедняжки, такие крошечные. Им стараются скрасить жизнь, но… — Она простерла руки к лесу. — Ведь мы тут совершенно отрезаны от мира.
— С превеликим удовольствием, — сказал я. — Но мне не хотелось бы портить вам газоны.
Она повернула голову вправо.
— Минуточку, — сказала она. — Мы ведь у Южных ворот, правда? Вон там, за павлинами, есть мощеная дорога. Мы называем ее Павлинья аллея. Говорят, она видна прямо отсюда, а если вы сумеете пробраться через опушку и повернете у первого павлина, то выедете прямо на эту дорогу.
Казалось кощунством нарушать волшебный сон этого дома ревом мотора, но я выехал с луга, двинулся по лесной опушке вплотную к деревьям и свернул на широкую, мощенную камнем дорогу возле фонтана, вода в котором была словно огромный сверкающий сапфир.
— Можно, я поеду с вами? — вскричала она. — Нет, нет, спасибо, я сама. Они обрадуются еще больше, если увидят меня.
Она с легкостью нашла ощупью автомобиль, поставила одну ногу на подножку и окликнула:
— Дети, ay, дети! Вы только поглядите, что сейчас будет!
Голос ее мог бы вызвать погибшие души из преисподней, столько в нем было нежности и страстного желания, и я ничуть не удивился, когда услыхал за тисами ответный возглас. Вероятно, отозвался малыш, игравший у фонтана, но едва мы приблизились, он убежал, оставив на воде игрушечный кораблик. Я видел, как его синяя рубашонка промелькнула меж недвижных всадников. С большой торжественностью мы проехали всю аллею и по просьбе женщины повторили путь. На этот раз ребенок преодолел страх, но остался на почтительном расстоянии и был в нерешимости.
— Малыш нас разглядывает, — сказал я. — Быть может, он не прочь прокатиться.
— Они все еще такие робкие. Право, такие робкие. Но ведь вы, счастливец, можете их видеть! Давайте прислушаемся.
Я тотчас заглушил мотор, и влажная тишина, пронизанная запахом самшита, обволокла нас со всех сторон. Я слышал лишь щелканье ножниц, которыми садовник подрезал ветки, гудение пчел и какие-то невнятные звуки, — быть может, это ворковали голуби.
— Ах, неблагодарный! — сказала она утомленно.
— Вероятно, они просто робеют перед автомобилем. Девчушка в окне, судя по виду, сгорает от любопытства.
— Правда? — Женщина подняла голову. — Я была несправедлива. Ведь они в самом деле меня любят. Это единственное, ради чего стоит жить — ради их любви, не правда ли? Мне страшно подумать, каково было бы здесь без них. Кстати, разве здесь не прелестно?
— Пожалуй, я в жизни не видывал ничего прелестней.
— Все так говорят. Конечно, я и сама чувствую, но это ведь не совсем то.
— Значит, вы никогда… — начал я и осекся в смущении.
— С тех пор как я себя помню, нет. Это случилось, когда мне было всего несколько месяцев от роду, так мне рассказывали. И все же я, видимо, что-то запомнила, иначе как могла бы я видеть цветные сны. А я вижу в снах свет и краски, но никогда не вижу их. Только слышу, совсем как в то время, когда не сплю.
— Во сне трудно видеть лица. Некоторым это удается, но большинство из нас лишено этого дара, — продолжал я, глядя на окно, откуда украдкой выглядывала малышка.
— Я тоже об этом слышала, — сказала она. — И еще говорят, будто никто не может увидеть во сне лицо умершего человека. Правда ли это?
— Пожалуй, да — хотя раньше я не задавался таким вопросом.
— Ну а как вы — вы сами?
Незрячие глаза обратились ко мне.
— Я никогда, ни в едином сне не видал лиц своих умерших близких или друзей, — ответил я.
— Тогда это не лучше слепоты.
Солнце скрылось за лесом, и длинные тени покрывали надменных всадников одного за другим. Я видел, как угас последний блик на конце глянцевитого лиственного копья, и вся броская, жесткая зелень превратилась в мягкую черноту. Дом, приемля конец очередного дня, как и сотен тысяч дней, минувших ранее, казалось, еще глубже погрузился в свой безмятежный покой, осененный тенями.
— А хотелось вам когда-нибудь их увидеть? — спросила она после долгого молчания.
— Порой очень хочется, — ответил я.
Девочка отошла от окна, как только его накрыла тень.
— Ну вот! И мне тоже, только едва ли это суждено… Вы где живете?
— На другом конце графства — милях в шестидесяти отсюда, если не больше, и мне пора возвращаться. Ведь я не поставил на автомобиль сильную фару.
— Но еще не стемнело. Я это чувствую.
— Боюсь, что стемнеет, прежде чем я доеду. Нельзя ли попросить кого-нибудь указать мне, как выбраться на дорогу? Я безнадежно заблудился.
— Я велю Мэддену проводить вас до перекрестка. Мы здесь так отрезаны от мира, что заблудиться не мудрено! Я поеду с вами к главному входу, только, пожалуйста, вы могли бы править помедленней, пока мы не обогнем стену? Моя просьба не кажется вам глупой?
— Обещаю сделать, как вы говорите, — сказал я, отпустил тормоз, и автомобиль сам тихонько тронулся по дороге, полого спускавшейся вниз.
Мы обогнули левое крыло дома с таким редкостным водостоком, что стоило ехать целый день ради одного этого зрелища, миновали большие, увитые розами ворота в красной стене и свернули к высокому фронтону, который красотой и величественностью столь же превосходил задний фасад, сколь и все остальные, которые мне доводилось видеть.
— Он в самом деле так красив? — спросила она с тоской, когда я излил свои восторги. — И металлические изваяния вам тоже нравятся? А там, в глубине, запущенный сад, где растут азалии. Говорят, когда-то все это, наверное, было устроено для детей. Вы не поможете мне выйти? Я охотно проводила бы вас до перекрестка, но не могу оставить их. Это вы, Мэдден? Прошу вас, покажите этому джентльмену, как проехать к перекрестку. Он заблудился, но зато… видел их.
Дворецкий бесшумно прошел сквозь некое чудо, созданное из старого дуба и называемое, вероятно, парадной дверью, потом отступил в сторону и надел шляпу. А женщина смотрела на меня широко открытыми голубыми глазами, совершенно незрячими, и тут я впервые заметил, что она красива.
— Помните, — сказала она тихо, — если они вам понравились, вы непременно приедете еще.
И скрылась в доме.
Дворецкий сел в автомобиль и хранил молчание до тех пор, пока мы не подъехали почти к самым воротам, где среди кустарника вдруг мелькнула синяя рубашонка, и я резко свернул в сторону, боясь, как бы коварный бес, который побуждает мальчишек к шалостям, не принудил меня к детоубийству.
— Простите, сэр, — спросил вдруг дворецкий, — но зачем вы это сделали?
— Там ребенок.
— Наш маленький джентльмен в синем?
— Ну конечно.
— Он вечно повсюду бегает. Вы видели его у фонтана, сэр?
— Еще бы, несколько раз. Нам здесь поворачивать?
— Да, сэр. А наверху вам тоже довелось их видеть?
— В окне? Да.
— Раньше чем госпожа вышла поговорить с вами, сэр?
— Чуть раньше. А почему вас это интересует?
Он помолчал немного.
— Просто я хотел увериться, сэр, в том, что… что они видели автомобиль, ведь когда вокруг бегают дети, хоть вы и правите, я уверен, с крайней осторожностью, все же недалеко и до беды. Только и всего, сэр. А вот перекресток. Дальше вы не собьетесь с пути. Благодарю вас, сэр, но это не в наших правилах, только не…
— Извините, — сказал я и сунул серебряную монету обратно в карман.
— Ну что вы, другие обычно не отказываются. Всего доброго, сэр.
Он замкнулся в неприступной важности своего сословия, как в стальной башне, и зашагал прочь. Видимо, этот дворецкий дорожил честью дома и опекал детей, быть может, ради какой-то горничной.
Выехав на перекресток, где начинались дорожные столбы, я оглянулся, но неровные гряды холмов сплелись так тесно, что мне не удалось рассмотреть, где расположен дом. А когда я остановился у придорожной хижины и спросил, как называется это место, толстая торговка, продававшая сласти, прозрачно дала мне понять, что люди, которые разъезжают в автомобилях, не имеют права жить на свете — а уж тем более «разговаривать так, будто в карете ездят». Местные жители не отличались любезностью в обращении.
Вечером я проследил свой путь по карте, но не узнал ничего вразумительного. Старая ферма Хоукинса — так было обозначено это место, а в старинном справочнике графства, обычно поражавшем меня своей полнотой, о нем даже не упоминалось. Большой дом в тех краях, как свидетельствовала отвратительная гравюра, именовался Ходнингтон Холл и был построен в стиле восемнадцатого века с позднейшими украшениями в викторианском духе. Я в недоумении обратился к соседу — старику, глубоко пустившему корни в здешнюю почву, — и он назвал семейство, чья фамилия не говорила мне ровно ничего.
Приблизительно месяц спустя я поехал туда снова — или, может статься, автомобиль мой избрал этот путь по собственной воле. Он миновал бесплодные известковые холмы, отыскал все повороты в лабиринте проселков под взгорьями, пробрался сквозь густолистые леса, которые высились, словно неприступные зеленые стены, выехал на перекресток, где я расстался с дворецким, а потом в моторе произошла какая-то неполадка, и я вынужден был свернуть на травянистую прогалину, которая врезалась в ореховые заросли, объятые летней дремотой. Насколько я мог определить по солнцу и по крупномасштабной военной карте, здесь и был объезд того леса, который я в первый раз обозревал с высоты. Я принялся за ремонт всерьез и устроил целую мастерскую, аккуратно разложив на коврике блестящие инструменты, гаечные ключи, насос и все прочее. В эту ловушку можно было заманить всех ребятишек на свете, а в такой чудесный день, решил я, здешние дети наверняка где-нибудь поблизости. Прервав работу, я прислушался, но лес был полон летних шумов (хотя у птиц уже кончилась брачная пора), и я не сразу различил осторожную поступь маленьких ножек, которые крались ко мне по палой листве. Я позвонил в колокольчик как мог заманчивей, но они обратились в бегство, и я пожалел о своей опрометчивости, потому что у ребенка внезапный шум вызывает самый настоящий ужас. Я провозился, вероятно, еще с полчаса, а потом услышал в глубине леса голос слепой женщины, которая крикнула: «Дети, ау, дети! Вы где?» — и звонкие отголоски этого зова долго еще отдавались в ленивой тишине. Она пошла ко мне, легко нащупывая путь меж стволами деревьев, и хотя кто-то из детей, вероятно, цеплялся за ее юбку, он скрылся в густой листве, как заяц, едва она приблизилась.
— Это вы? — спросила она. — Тот самый человек, что живет на другом конце графства?
— Да, тот самый, что живет на другом конце графства.
— Тогда почему же вы не приехали поверху, через те леса? Они только что были там.
— Они были здесь всего несколько минут назад. Мне кажется, они знали, что мой автомобиль сломался, и прибежали поглядеть для забавы.
— Надеюсь, ничего серьезного не произошло? А почему ломаются автомобили?
— На это есть пятьдесят различных причин. Но мой автомобиль выискал пятьдесят первую.
Она весело рассмеялась моей нехитрой шутке и, заливаясь воркующим, пленительным смехом, сдвинула шляпу на затылок.
— Позвольте, я послушаю, — сказала она.
— Подождите! — воскликнул я. — Сейчас я сниму с сиденья подушку и подложу вам.
Она наступила на коврик, сплошь покрытый запасными частями, и наклонилась над ним с живым интересом.
— Какие чудесные вещицы! — Руки, заменявшие ей глаза, шарили в испещренном тенями солнечном свете. — Вот коробка… а вот еще одна! Да вы тут все разложили, как в магазине игрушек!
— Должен признаться, я вытащил многое, чтобы привлечь их. На самом деле половина этих штучек мне совсем не нужна.
— Как это мило с вашей стороны! Я услышала колокольчик из верхнего леса. Вы говорите, они уже побывали здесь?
— Без сомнения. Почему они такие робкие? Тот малыш в синем, который только что был с вами, мог бы побороть страх. Он выслеживал меня, словно краснокожий индеец.
— Вероятно, их напугал колокольчик, — сказала она. — Когда я спускалась по склону, я слышала, как кто-то из них прошмыгнул мимо в смятении. Да, они робкие — очень робкие, даже меня дичатся. — Она обернулась через плечо и крикнула снова: — Дети, ау, дети! Поглядите только, что тут такое!
— Надо думать, они бегали гурьбой по своим делам, — предположил я, потому что позади нас начали перешептываться невнятные голоса, а потом вдруг раздался тоненький детский смех.
Я снова занялся починкой, а она наклонилась вперед, подперев ладонью подбородок, и с любопытством прислушивалась.
— Сколько же их всего? — спросил я наконец.
Работа была закончена, но я не видел необходимости уезжать.
Она слегка наморщила лоб в задумчивости.
— Сама точно не знаю, — сказала она просто. — Иногда их больше, иногда — меньше. Понимаете, они приходят и живут со мной, потому что я их люблю.
— Похоже, у вас тут весело, — сказал я, ставя на место ящик с инструментами, и едва эти слова сорвались у меня с языка, я почувствовал всю их неуместность.
— Вы… вы ведь не станете надо мной смеяться! — вскричала она. — У меня… у меня нет своих детей. Я никогда не была замужем. Иногда люди смеются надо мной из-за них, потому… потому…
— Потому что это не люди, а дикари, — возразил я. — Не обращайте внимания. Такие ничтожества смеются надо всем, чему нет места в их сытой жизни.
— Я, право, не знаю. Откуда мне знать? Я не хочу только, чтобы надо мной смеялись из-за них. Это тяжко. А кто лишен зрения… Я не хотела бы показаться глупой… — При этих словах подбородок у нее задрожал, как у ребенка. — Но, по-моему, мы, слепые, особенно чувствительны. Все извне ранит нас прямо в душу. Иное дело вы. Глаза служат вам такой надежной защитой… вы можете увидеть заранее… прежде чем кто-нибудь действительно ранит вас в душу. Все забывают об этом при общении с нами.
Я молчал, размышляя об этой неисчерпаемой теме — о жестокости христианских народов, не просто унаследованной от предков (потому что ее к тому же старательно воспитывают), жестокости, рядом с которой простое языческое варварство негра с Западного Берега выглядит чистым и безобидным. Размышляя, я целиком углубился в себя.
— Не надо этого! — сказала она вдруг и закрыла глаза ладонями.
— Чего?
Она повела рукой в воздухе.
— Вот этого! Оно… оно сплошь лиловое и черное. Не надо! Этот цвет причиняет боль.
— Но позвольте, откуда вы знаете цвета? — воскликнул я, потому что это было для меня истинным откровением.
— Цвета вообще? — спросила она.
— Нет. Те цвета, которые вы сейчас себе представили.
— Вы сами знаете не хуже меня, — отвечала она со смехом, — иначе вы не задали бы такого вопроса. В мире их вовсе не существует. Они внутри вас — когда вы испытываете такую злобу.
— Вы говорите про тусклое лиловатое пятно, будто портвейн смешали с чернилами? — спросил я.
— Я никогда не видела ни чернил, ни портвейна, но цвета эти не смешанные. Они отдельны — совершенно отдельны.
— Вы говорите про черные полосы и зубцы на лиловом фоне?
Она кивнула.
— Да… если они вот такие, — тут она снова нарисовала пальцем зигзаг в воздухе, — но преобладает не лиловый, а красный — этот зловещий цвет.
— А какие цвета сверху… ну, того, что вы видите?
Она медленно наклонилась вперед и описала на коврике очертания самого Яйца.
— Вот как я их вижу, — сказала она, указывая травяным стебельком, — белый, зеленый, желтый, красный, лиловый, а когда человека, как вот сейчас вас, охватывает злоба или ненависть, — черный на красном.
— Кто рассказал вам про это — в самом начале? — спросил я.
— Про цвета? Никто. В детстве я часто спрашивала, какие бывают цвета, — скажем, на скатертях, и занавесях, и коврах, — потому что одни цвета причиняют мне боль, а другие приносят радость. Мне объясняли. А когда я подросла, то стала видеть людей вот такими.
Она снова очертила то Яйцо, видеть которое дано лишь немногим из нас.
— И все это сами? — переспросил я.
— Все сама. Некому было мне помочь. И только потом я узнала, что другие не видят Цвета.
Она прислонилась к древесному стволу, сплетая и расплетая случайно сорванные травинки. Дети, прятавшиеся в лесу, подкрались ближе. Краем глаза я видел, как они резвятся там, словно бельчата.
— Теперь я уверена, что вы никогда не станете надо мной смеяться, — заговорила она после долгого молчания. — И над ними тоже.
— Боже упаси! Нет! — воскликнул я, резко оборвав нить своих размышлений. — Человек, который смеется над ребенком, — если только сам ребенок не смеется тоже, — это варвар!
— Право, я говорила не о том. Вы никогда не стали бы смеяться над детьми, но я думала — думала раньше, — что, возможно, вы способны смеяться из-за них. А теперь прошу извинения… Над чем вам хочется смеяться?
Я не издал ни звука, но она все поняла.
— Над тем, что вы еще вздумали просить у меня прощения. Если бы вы пожелали исполнить свой долг, будучи опорой государства и владелицей здешних земель, вам пришлось бы притянуть меня к суду за то, что я вторгся в чужие владения, еще на днях, когда я вломился в ваши леса. С моей стороны это было постыдно… непростительно.
Прижавшись затылком к стволу, эта женщина, которая умела видеть обнаженную душу, посмотрела на меня долгим, пристальным взглядом.
— До чего забавно, — произнесла она полушепотом. — До чего же это забавно.
— Но что я такого сделал?
— Вам не понять… и все же вы понимаете Цвета. Ведь понимаете?
Она говорила со страстью, решительно ничем не оправданной, и, когда она поднялась, я уставился на нее в замешательстве. Дети собрались в кружок за кустом куманики. Одна головка склонилась над чем-то совсем крошечным, и по движениям худеньких плеч я понял, что они приложили пальчики к губам. У них тоже была своя потрясающе важная детская тайна. Один лишь я, безнадежно чужой, стоял на солнцепеке.
— Нет, — сказал я и покачал головой, как будто мертвые глаза могли это видеть. — Что бы там ни было, я еще не понимаю. Быть может, пойму потом — если вы позволите мне приехать еще.
— Вы приедете еще, — отозвалась она. — Непременно приедете и погуляете по лесу.
— Надеюсь, дети тогда уже привыкнут ко мне и позволят с ними поиграть — в виде особой милости. Вы же знаете, каковы дети.
— Тут требуется не милость, а право, — отвечала она, и я стал размышлять над смыслом ее слов, как вдруг из-за поворота дороги показалась женщина, вся встрепанная, простоволосая, раскрасневшаяся, она испускала на бегу жалобные вопли, подобные мычанию. Это была уже знакомая мне языкастая толстуха, торговка сластями. Слепая женщина услышала ее и шагнула навстречу.
— Что случилось, миссис Мэйдхерст? — спросила она.
Толстуха закрыла лицо передником и начала буквально ползать в пыли, вопя, что ее внук смертельно болен, а местный доктор уехал на рыбалку и Дженни, мать ребенка, с ума сходит и прочее в том же роде, с повторами и причитаниями.
— Где здесь поблизости есть другой доктор? — спросил я между приступами отчаяния.
— Мэдден вам покажет. Обогните дом и захватите его с собой. А я останусь здесь. Скорее!
Она отвела толстуху в тень. Через две минуты я уже трубил во все иерихонские трубы у Дворца Красоты, и Мэдден, выйдя из буфетной, изъявил готовность помочь беде как дворецкий и как человек.
За четверть часа мы, беззастенчиво превышая скорость, покрыли пять миль и добрались до доктора. Он проявил большой интерес к автомобилям, и через полчаса мы высадили его у дверей торговки сластями и остановились у дороги в ожидании приговора.
— Полезная штука эти автомобили, — сказал Мэдден, теперь уже просто как человек, а не как дворецкий. — Будь у нас автомобиль, когда заболела моя малышка, ей не пришлось бы умереть.
— Что же у нее было? — спросил я.
— Круп. Миссис Мэдден отлучилась из дому. Я поехал в повозке за восемь миль и привез доктора. Когда мы приехали, она уже задохнулась. А такой автомобиль спас бы ее. Сейчас ей было бы без малого десять лет.
— Это очень печально. Из нашего разговора на днях, когда вы провожали меня до перекрестка, я понял, что вы очень любите детей.
— Сэр, вы видели их опять… сегодня утром?
— Да, но они ужасно боятся автомобилей. Мне не удалось подманить ни одного ближе чем на двадцать шагов.
Он посмотрел на меня настороженно, как разведчик рассматривает чужого — отнюдь не как слуга своего господина, который ниспослан ему богом.
— Не знаю, в чем тут дело, — сказал он тихо, со вздохом.
Мы все еще ждали. Легкий ветерок с моря колыхал леса, простиравшиеся далеко окрест, а придорожные травы, за лето запорошенные белесой пылью, клонились и шелестели, как волны на отмели.
Из соседней хижины выбежала женщина, вытирая с рук мыльную пену.
— Я подслушивала на заднем дворе, — сказала она оживленно. — Он говорит, Артур немыслимо плох. Слыхали, как он сейчас кричал? Немыслимо плох. Мое такое мнение, мистер Мэдден, что на той неделе придет черед Дженни бродить по лесу.
— Простите, сэр, но как бы ваш плащ не упал, — сказал Мэдден почтительно.
Женщина вздрогнула, поклонилась и поспешно ушла.
— Она сказала «бродить по лесу», как это понимать?
— Вероятно, это какое-то местное выражение. Я родом из Норфолка, — ответил Мэдден. — А здесь люди живут сами по себе. Она приняла вас за шофера, сэр.
Я увидел, как доктор вышел из двери, и следом появилась молодая женщина в отрепьях, которая цеплялась за его руку так, будто он мог вести за нее переговоры с самой Смертью.
— Какой уж есть, — выла она, — мы их все одно любим, как ежели б они законными родились. Это все одно — все одно! И ежели вы его спасете, доктор, бог одинаково возрадуется. Не отнимайте его у меня. Мисс Флоренс подтвердит мои слова. Не уходите, доктор!
— Знаю, знаю, — сказал врач, — но теперь ребенок на время успокоился. А мы как можно скорей привезем сиделку и лекарство.
Он сделал мне знак подъехать, и я старался не смотреть на дальнейшее; но я видел лицо молодой женщины, покрытое пятнами и окаменевшее от горя, а когда мы тронулись, почувствовал, как рука без обручального кольца стиснула мне колено.
Доктор не был лишен чувства юмора и, помнится, сказал, что теперь мой автомобиль должен верно послужить Эскулапу, и гонял меня и его безо всякой пощады. Первым делом мы доставили миссис Мэйдхерст и слепую женщину к больному ребенку, чтобы они позаботились о нем, пока не прибудет сиделка. Затем мы вторглись в чистенький городок, центр графства, чтобы добыть лекарства (доктор сказал, что у ребенка воспаление головного и спинного мозга), а когда в местной клинике, окруженной и осажденной перепуганным скотом, который пригнали на ярмарку, нам объявили, что свободных сиделок сейчас нет, мы буквально пролетели насквозь все графство. Мы вступали в переговоры с владельцами огромных особняков, куда вели аллеи, над которыми смыкались кроны вековых деревьев, — и пышнотелые супруги этих влиятельных господ вставали из-за чайного стола, чтобы выслушать неугомонного доктора. Наконец белокурая дама, которая восседала под ливанским кедром в окружении целой свиты борзых собак — все они люто ненавидели автомобили, — вручила доктору, а он принял, словно милость от какой-нибудь принцессы, письменное распоряжение, и мы помчались на предельной скорости через парк, за много миль, во французский монастырь, где нам взамен выдали бледную, трепещущую монашенку. Она стояла в автомобиле на коленях, беспрерывно перебирая четки, а я напрямик, по бездорожью, следуя произвольным указаниям доктора, снова выехал к хижине торговки сластями. День тянулся долго и был насыщен безумными событиями, которые сгущались и рассеивались, словно пыль, летевшая из-под колес моего автомобиля; будто какая-то плоскость рассекла чуждые и непостижимые жизни, а мы мчались сквозь них под прямым углом; домой я уехал затемно, в полном изнеможении, и ночью мне снились сшибающиеся бычьи рога; монашенки с круглыми от страха глазами, бродящие по саду средь могил; благопристойные господа, пьющие чай под тенистыми деревьями; серые, пропахшие карболкой коридоры клиники; робкие шаги детей в лесу и рука, стиснувшая мне колено, когда автомобиль тронулся.
* * *
Я собирался приехать снова через день-другой, но Судьбе было угодно задержать меня по многим причинам, и я попал в ту часть графства, когда давно уже отцвели бузина и дикие розы. Но вот наступил чудесный день, небо на юго-западе прояснилось, и до холмов, казалось, можно было дотянуться рукой, — день, когда дул порывистый ветерок, а в вышине плыли ажурные облака. Как-то само собою я оказался свободен и в третий раз повел автомобиль по знакомой дороге. Доехав до перевала через известковые холмы, я почувствовал, что мягкий воздух переменился, и заметил, как он сверкает под солнцем; взглянув в сторону моря, я увидел синеву Ла-Манша, которая постепенно переходила в цвет полированного серебра, сероватой стали и тусклого олова. Корабль, груженный углем, шел близко к берегу, а потом свернул, огибая мель, и сквозь медно-желтую дымку я разглядел, как целый флот рыбачьих суденышек, стоявших на якоре, начал поднимать паруса. Позади меня, за большой дюной, внезапный вихрь налетел на скрытые от взора дубы, и высоко в воздухе закружились сухие листья, первые вестники близкой осени. Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Ушентом штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия подернулась холодной, серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира, а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек. С моей шляпы стекала вода, скапливалась лужицами в складках коврика или струилась наружу, а на губах у меня оседала соль.
Когда я удалился от берега, запахло осенью, туман сгустился и моросящий дождь перешел в непрерывный ливень. Но все же последние цветы — мальвы у дороги, вдовушки среди полей и георгины в садах — ярко выделялись в тумане, и здесь, куда не долетали морские ветры, листва на деревьях почти не опала. Двери всех домиков были распахнуты, и босоногие ребятишки с непокрытыми головами удобно сидели на мокрых ступеньках и кричали «би-би» вслед незнакомцу.
Я решился заехать в хижину торговки сластями, и миссис Мэйдхерст, все такая же толстая, встретила меня, не поскупясь на слезы. Сынишка Дженни, сказала она, умер через два дня после того, как приехала монашенка. И это, на ее взгляд, было самое лучшее, хотя страховые конторы по причинам, которые она не бралась объяснить, очень неохотно страхуют жизнь таких ублюдков.
— И право слово, Дженни заботилась об Артуре весь первый год, будто он родился в законном браке, — как сама Дженни.
Благодаря миссис Флоренс ребенка похоронили с пышностью, которая, по мнению миссис Мэйдхерст, затмила мелкие неприятности, сопутствовавшие его рождению. Она поведала мне, как выглядел гробик изнутри и снаружи, описала застекленный катафалк и вечнозеленую изгородь вокруг могилы.
— А что же мать? — спросил я.
— Дженни? Ну, она вскорости перестанет убиваться. Я сама пережила такое раза два. Она перестанет убиваться. Сейчас она бродит по лесу.
— В такую погоду?
Миссис Мэйдхерст поглядела на меня через прилавок, сощурив глаза.
— Не знаю уж, только от этого легчает на сердце. Да, легчает. У нас тут говорят, что в конце концов тогда становится почти одинаково, потерять или найти.
Право, мудрость старух превыше всей мудрости святых отцов, и я, продолжая путь по дороге, так глубоко задумался над этим пророчеством, что едва не переехал женщину с ребенком в лесистом уголке близ ворот Дворца Красоты.
— Ужасная погода! — воскликнул я, резко затормозив перед поворотом.
— Не так уж она плоха, — миролюбиво отозвалась женщина из тумана. — Я к этому привычна. А вам, думается мне, лучше будет в доме.
Когда я вошел в дом, Мэдден принял меня с профессиональной учтивостью, любезно справился о состоянии автомобиля и предложил поставить его под навес.
Я дожидался в тихой зале, обшитой ореховыми панелями и обогреваемой чудесным, отделанным деревом камином, — здесь дышалось легко и царил безмятежный покой. (Мужчины и женщины с превеликим трудом порой ухитряются измыслить сколько-нибудь правдоподобную ложь; но дом, которому предназначено служить им храмом, может рассказать о своих обитателях лишь истинную правду.) На полу, разрисованном в черно-белую клетку, подле откинутого ковра, были брошены игрушечная тележка и кукла. Я чувствовал, что дети убежали отсюда перед самым моим приходом — вероятней всего, спрятались, — либо взобрались по многочисленным маршам широкой полированной лестницы, которая величественно возвышалась над залой, либо в смущении затаились среди львов и роз на верхней резной галерее. А потом я услышал у себя над головой ее голос, она пела, как поют слепые, — от души:
В радостях, под сада сенью…[323]
И тут, откликаясь на этот призыв, во мне ожили все воспоминания о том, что было в начале лета.
В радостях, под сада сенью,
Боже, грешных нас согрей,
Хоть твое благословенье
В скорби нам куда важней.
Она пропустила неуместную пятую строчку и повторила:
В скорби нам куда важней!
Я видел, как она перегнулась через перила на галерее, и ее сложенные руки сияли, словно жемчужины, на фоне дубового дерева.
— Это вы — с другого конца графства? — окликнула она меня.
— Да, я — с другого конца графства, — ответил я со смехом.
— Как долго вас не было. — Она проворно спустилась с лестницы, слегка касаясь одной рукою широких дубовых перил. — Прошло два месяца и четыре дня. Лето уже кончилось!
— Я хотел приехать раньше, но вмешалась Судьба.
— Так я и знала. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим камином. Мне не позволяют им заниматься, но я чувствую, что он плохо себя ведет. Задайте ему хорошенько!
Я взглянул по обе стороны глубокого камина, но отыскал лишь полуобгорелый кол и подтолкнул им в пламя обугленное полено.
— Он не гаснет никогда, ни днем, ни ночью, — сказала она, как бы стараясь что-то объяснить. — На всякий случай, понимаете ли, вдруг кто-нибудь придет и захочет погреть ноги.
— Здесь, внутри, еще очаровательней, чем снаружи, — пробормотал я.
Красноватый свет залил отполированные и тусклые от старости панели, а розы с эмблемы Тюдоров и львы на галерее словно ожили и обрели цвет. Выпуклое зеркало в раме, увенчанной орлом, вобрало все это в свою таинственную глубину, вновь искажая уже искаженные тени, и галерея стала похожа на борт корабля. К исходу дня надвинулась гроза, туман спустился вязкими клубами. Сквозь незанавешенные створки широкого окна мне было видно, как кони доблестных рыцарей вставали на дыбы и грудью встречали ветер, который бросал на них легионы сухих листьев.
— Да, дом, вероятно, красив, — сказала она. — Хотите посмотреть? Наверху еще довольно света.
Я поднялся вслед за ней по прочной, шириной с целый фургон, лестнице на галерею, куда выходили тонкие двери, украшенные резьбой в елизаветинском стиле.[324]
— Вы пощупайте щеколды, они поставлены низко, чтобы дети могли достать.
Она распахнула легкую дверь внутрь.
— Кстати, а где они? — спросил я. — Сегодня я их даже не слышал.
Она помедлила с ответом. Потом сказала тихо:
— Я ведь их только слышу. Вот одна из их комнат — видите, все приготовлено.
И показала комнату со стенами из массивных досок. Там стояли низенькие столики и детские стульчики. Кукольный домик с приотворенной полукруглой передней стенкой соседствовал с большим, серым в яблоках конем-качалкой, покрытым мягким седлом, с которого ребенку легко было залезть на широкий подоконник, откуда был виден луг. Игрушечное ружье лежало в углу рядом с позолоченной деревянной пушкой.
— Наверняка они только что были здесь, — прошептал я.
В полутьме осторожно скрипнула дверь. Я услышал шелест одежды и легкие, быстрые шаги — резвые ноги перебежали смежную комнату.
— Я слышала! — вскричала она с торжеством. — И вы тоже? Дети, ау, дети, вы где?
Голос ее наполнил комнату, которая любовно вобрала в себя все до последнего, бесконечно нежного звука, но не было ответного возгласа, какой я слышал в саду. Мы торопливо шли по дубовым полам из комнаты в комнату: тут ступенька вверх, там три ступеньки вниз, по лабиринту коридоров, все время подшучивая над беглецами. С таким же успехом можно было бы обшаривать незакрытый садок, куда пустили одного-единственного хорька. Там были бесчисленные дверцы, ниши в стенах, узкие и глубокие щели окон, за которыми уже стемнело, и всюду они могли ускользнуть у нас за спиной; были заброшенные камины, уходившие в стену футов на шесть, и множество дверей в смежных комнатах. Но главное, в этой игре им помогали сумерки. Несколько раз до меня долетали веселые смешки тех, кому удалось улизнуть, и я видел в конце коридора, на фоне то одного, то другого темнеющего окна, силуэты в детской одежде; но мы вернулись ни с чем на галерею, где пожилая женщина уже ставила в нишу зажженную лампу.
— Нет, мисс Флоренс, я ее нынче тоже не видала, — послышался ее голос, — но вот Терпин говорит, что ему надобно потолковать с вами насчет коровника.
— Ну конечно, мистеру Терпину я очень нужна. Позовите его в залу, миссис Мэдден.
Я поглядел вниз, в залу, освещенную лишь потускневшим огнем камина, и там, в густой тени, наконец увидал их. Вероятно, они проскользнули вниз, когда мы бродили по коридорам, и теперь полагали, что надежно укрылись за старой позолоченной кожаной ширмой. По правилам детской игры моя тщетная погоня была равносильна знакомству, но я затратил столько усилий, что решил заставить их подойти с помощью нехитрой уловки, которой дети терпеть не могут, и притворился, будто не замечаю их. Они притаились тесной кучкой, зыбкие, неверные тени, и лишь иногда короткая вспышка пламени выдавала их очертания.
— А теперь давайте пить чай, — сказала хозяйка. — Я должна была сразу предложить вам чаю, но как соблюдать хороший тон, если живешь одиноко и слывешь человеком не без, гм, чудачеств. — Потом она добавила с изрядной долей презрения: — Не подать ли вам лампу, чтобы вы видели, что едите?
— Мне кажется, огонь в камине гораздо приятнее.
Мы спустились в очаровательную темноту, и Мэдден подал чай.
Я поставил свой стул поближе к ширме, готовый удивлять или удивляться, в зависимости от того, какой оборот примет игра, и с разрешения хозяйки, поскольку очаг всегда священен, наклонился, чтобы поправить дрова.
— Откуда у вас эти прелестные прутики? — спросил я небрежно. — Постойте, да ведь это счетные палочки!
— Ну конечно, — сказала она. — Ведь я не могу ни читать, ни писать, вот мне и приходится вести счета с помощью таких палочек, как делали наши предки. Дайте мне одну, и я вам все объясню.
Я подал ей прут орешника около фута длиной, и она быстро провела большим пальцем по зарубкам.
— Вот здесь удой молока в галлонах на приусадебной ферме за апрель прошлого года. Не знаю, что я делала бы без этих палочек. Один старый лесник выучил меня ими пользоваться. Все остальные считают такой способ устарелым, но мои арендаторы относятся к нему с уважением. Вот и сейчас один из них пришел ко мне. Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Это жадный и невежественный человек — очень жадный… иначе он не пришел бы так поздно, когда уже стемнело.
— Стало быть, у вас большое имение?
— Слава господу, всего около двухсот акров я оставила за собой. Остальные шестьсот почти все сданы в аренду людям, которые знали моих родных, когда меня еще на свете не было, но этот Терпин здесь совсем чужой… И он просто разбойник с большой дороги.
— Но я действительно не помешаю?..
— Нисколько. Вы в своем праве. У него нет детей.
— Кстати о детях! — сказал я и тихонько отодвинул свой низкий стул назад, так что он едва не коснулся ширмы, за которой они прятались. — Интересно, выйдут ли они ко мне?
У невысокой темной боковой дверки раздались невнятные голоса — голос Мэддена и чей-то густой бас, — и рыжеволосый великан, чьи ноги были обмотаны мешковиной, человек, в котором можно было безошибочно угадать арендатора, ввалился в комнату или, быть может, его втолкнули силой.
— Подойдите к камину, мистер Терпин, — сказала хозяйка.
— Ежели… ежели дозволите, мисс, я… я уж лучше у двери постою.
Говоря это, он цеплялся за щеколду, как испуганный ребенок. И я вдруг понял, что им владеет какой-то едва преодолимый страх.
— Ну?
— Я насчет нового коровника для телят — только и делов. Уже начинаются осенние грозы… но лучше, мисс, я зайду в другой раз.
Зубы у него стучали почти так же, как дверная щеколда.
— Не вижу в этом необходимости, — сказала она бесстрастно. — Новый коровник… м-м… Что написал вам мой поверенный пятнадцатого числа?
— Я… я думал, может, ежели я потолкую с вами, мисс, начистоту… Но вот…
Расширенными от ужаса глазами он оглядел комнату. Потом приоткрыл дверь, в которую вошел, но я заметил, что ее тотчас закрыли вновь — снаружи и твердой рукой.
— Он написал вам то, что я велела, — продолжала хозяйка. — У вас и без того уже слишком много скота. На ферме Даннетта никогда не было больше пятидесяти бычков, даже во времена мистера Райта. Причем он кормил их жмыхами. А у вас их шестьдесят семь, и жмыхов вы им не даете. В этом пункте вы нарушили арендный договор. Вы губите ферму.
— Я… я привезу на той неделе минеральные удобрения… суперфосфат. Я уже почти что заказал грузовик. Завтра поеду на станцию. А потом, мисс, приду и потолкую с вами начистоту, но только днем, когда светло… Ведь этот джентльмен еще не уходит?
Он повысил голос почти до крика.
Перед этим я лишь чуточку отодвинул стул назад, чтобы слегка постучать по кожаной ширме, но он заметался, как пойманная крыса.
— Нет. Мистер Терпин, пожалуйста, выслушайте меня внимательно.
Она повернулась на стуле в его сторону, а он прижался спиной к двери. Она уличила его в старых, грязных уловках — он просит выстроить новый коровник за счет хозяйки, чтобы сэкономить на удобрении и выкроить деньги для уплаты ренты за будущий год, это ясно, а прекрасные пастбища он истощил вконец. Я поневоле восхитился его невероятной жадностью, видя, как ради этого он стойко выносил неведомый мне ужас, от которого лоб его покрылся испариной.
Я перестал постукивать по ширме — тем временем обсуждалась стоимость коровника — и вдруг почувствовал, как мою опущенную руку тихонько взяли и погладили мягкие детские ладошки. Наконец-то я восторжествовал. Сейчас я обернусь и познакомлюсь с этими быстроногими бродяжками…
Краткий, мимолетный поцелуй коснулся моей ладони — словно дар, который нужно удержать, сжав пальцы: это был знак верности и легкого упрека со стороны нетерпеливого ребенка, который не привык, чтобы на него не обращали внимания, даже когда взрослые очень заняты, — частица негласного закона, принятого очень давно.
И тогда я понял. У меня было такое чувство, словно я понял сразу, в самый первый день, когда взглянул через луг на верхнее окно.
Я слышал, как затворилась дверь. Хозяйка молча повернулась ко мне, и я почувствовал, что и она понимает.
Не знаю, сколько после этого прошло времени. Из задумчивости меня вывел стук выпавшего полена, я встал и водворил его на место. Потом снова сел почти вплотную к ширме.
— Теперь вам все ясно, — шепнула она, отделенная от меня скопищем теней.
— Да, мне все ясно… теперь. Благодарю вас.
— Я… я только слышу их. — Она уронила голову на руки. — Вы же знаете, у меня нет права — нет другого права. Я никого не выносила и не потеряла — не выносила и не потеряла!
— В таком случае вам остается лишь радоваться, — сказал я, потому что душа моя разрывалась на части.
— Простите меня!
Она притихла, а я вернулся к своим горестям и утехам.
— Это потому, что я их так люблю, — сказала она наконец прерывающимся голосом. — Вот в чем было дело, даже сначала… даже прежде, чем я поняла, что, кроме них, у меня ничего нет. И я их так любила!
Она простерла руки туда, где лежали тени и другие тени таились в тени.
— Они пришли, потому что я их люблю… Потому что они были мне нужны. Я… я должна была заставить их прийти. Это очень плохо, как вы полагаете?
— Нет, нет.
— Я готова признать, что игрушки и… и все прочее — это вздор, но я сама в детстве ненавидела пустые комнаты. — Она указала на галерею. — И все коридоры пустые… И как было вынести, когда садовая калитка заперта? Представьте себе…
— Не надо! Не надо, помилосердствуйте! — воскликнул я.
С наступлением сумерек хлынул холодный дождь и налетел порывистый ветер, который хлестал по окнам в свинцовых переплетах.
— И по той же причине камин горит всю ночь. Мне думается, это не так уж глупо — как по-вашему?
Я взглянул на большой кирпичный камин, увидел, кажется, сквозь слезы, что он не огражден неприступной железной решеткой, и склонил голову.
— Я сделала все это и еще многое другое просто ради притворства. А потом они пришли. Я слышала их, но не знала, что они не могут принадлежать мне по праву, пока миссис Мэдден не сказала мне…
— Жена дворецкого? Что же она сказала?
— Одного из них — я слышала — она увидала. И я поняла. Ради нее! Не для меня. Сперва я не понимала. Пожалуй, начала ревновать. Но постепенно мне стало ясно — это лишь потому, что я люблю их, а не потому… Ах, нужно непременно выносить или потерять, — сказала она жалобно. — Иного пути нет — и все же они меня любят. Непременно должны любить! Ведь правда?
В комнате воцарилась тишина, только огонь захлебывался в камине, но мы оба напряженно прислушивались, и то, что она услышала, по крайней мере, ей принесло утешение. Она совладала с собой и привстала с места. Я неподвижно сидел на стуле подле ширмы.
— Только не думайте, что я такое ничтожество и вечно сетую на свою судьбу, вот как сейчас, но… но я живу в непроницаемой тьме, а вы можете видеть.
Я и вправду мог видеть, и то, что представилось моему взору, укрепило во мне решимость, хотя это было очень похоже на расставание души с телом. Все же я предпочел остаться еще немного, ведь это было в последний раз.
— Значит, вы полагаете, это плохо? — вскричала она пронзительно, хотя я не вымолвил ни слова.
— С вашей стороны — нет. Тысячу раз нет. С вашей стороны это прекрасно… Я вам так благодарен, просто слов нет. Плохо было бы с моей стороны. Только с моей…
— Почему же? — спросила она, но закрыла лицо рукою, как во время нашей второй встречи в лесу. — Ах да, конечно, — продолжала она с детской непосредственностью, — с вашей стороны это было бы плохо. — И добавила с коротким, подавленным смешком: — А помните, я назвала вас счастливцем… однажды… при первой встрече. Вас, человека, который никогда больше не должен сюда приезжать!
Она ушла, а я еще немного посидел возле ширмы и слышал, как вверху, на галерее, замерли ее шаги.
СТРАТЕГИЯ ПАРА[325]
Я увидел их лица, когда мы нагнали телегу на одном из проселков Сассекса;[326] оба спали, хотя было около одиннадцати часов.
То обстоятельство, что возчик ехал не там, где положено, не отразилось на речи, которой он откликнулся на мой свисток. Он вслух высказал об автомобилях — паровых в особенности — все то, что я уже не раз читал на надменных физиономиях кучеров. Затем двинулся мне наперерез.
К авто был приделан воздушный насос, всегда готовый с резким свистом выбросить струю пара…
За семь с четвертью секунд телега, гремя поклажей, отлетела на расстояние выпущенной из лука стрелы. У подножия ближайшего холма лошадь остановилась, и, перебравшись через задний бортик, из телеги вылезло двое мужчин.
Мой шофер дал задний ход, поспешно отдаляясь.
— Чертова кастрюлища замаскировалась паром, — сказал мистер Хинчклифф и нагнулся, подбирая камень покрупнее. — Погоди Пай, пар развеется, и мы им зададим.
— Мне лошадь нельзя бросать! — гаркнул возчик. — Волоките их сюда, прикончу как пить дать.
— Доброе утро, мистер Пайкрофт, — бодро подал я голос. — Вас подбросить куда-нибудь?
Атака захлебнулась у наших передних колес.
— Сколько раз уж говорил: у нас с вами просто талант к встречам in puris naturalibus,[327] — мистер Пайкрофт стиснул мне руку. — Да, я в отпуску. Хинч — тоже. Навещаем друзей в этой саванне.
Монотонные вопли возчика не утихали: он все еще жаждал крови.
— Это Эгг. Двоюродный брат Хинча. Не везет тебе с роднею, Хинч. Вообразить подобную словесность в устах благовоспитанного человека! Уйми его.
Генри Солт Хинчклифф направился к телеге и вступил в переговоры со своим кузеном. Я хорошо расслышал почти всю их беседу, поскольку ветер дул в нашу сторону. Казалось, многолетняя дружеская связь распадается в тяжких мучениях.
— Ну ладно, если вы такие дураки, — рявкнул возчик. — Притесь пешком до Лингхерста. Очень вы нужны мне, дезертиры. — Он стегнул лошадь и с бранью скрылся из виду.
— Эскадра отбыла, — сказал Пайкрофт. — А мы вновь на мели. В какой конкретно порт вы держите курс?
— Я, вообще-то, собирался навестить приятеля в Инстед Уике. Но если вы…
— О, мы совсем не против! Мы, понимаете ли, в отпуску.
— Он навряд ли выдержит четверых, — вмешался мой шофер. Я вытравил из него дурацкую привычку удивляться, но сейчас ему явно было не по себе.
Вернулся Хинчклифф, словно его притащили на веревке, и стал описывать круги вокруг автомобиля, все приближаясь к нему.
— Какая скорость? — бросил он шоферу.
— Двадцать пять, — вежливо отозвался тот.
— Ход хороший?
— Нет, очень плохой, — последовал весьма решительный ответ.
— Это значит, что специалист ты никудышний. Как по-твоему, снизойдет человек, чья профессия водить эсминцы, делающие по тридцать узлов, играючи их водить — играючи, ты понял? — снизойдет ли он до того, чтобы забраться под какой-то паршивый сухопутный паровой баркас на рессорах?
Тем не менее он снизошел до этого. Вполз под автомобиль и с живым интересом заглядывал в трубки — с газолином, паром, водой.
Я бросил вопросительный взгляд на Пайкрофта.
— Нет… ни капли, — ответил тот. — Он всегда так, стоит ему увидеть какую-нибудь паровую машину. В Парсли Грин просто страх что творилось, когда он норовил показать, как должен сворачивать за угол тяговый двигатель, волочивший цыганский фургон.
— Объясните ему все, о чем он спросит, — сказал я шоферу, доставая коврик и расстилая его на земле.
— Он в этом не нуждается, — сказал шофер. Эти двое не провели в обществе друг друга еще и трех минут, включая то время, пока мы набивали трубки.
— Ну вот, — сказал Пайкрофт, приминая локтем густую зелень придорожной травы, — все идет как следует. Хинч, на твоем месте я не стремился бы, чтобы эта горячая дрянь капала мне в глаза. Они тебе еще понадобятся: у тебя через полмесяца кончится отпуск.
— Пойди сюда, — позвал шофера Хинчклифф, все еще лежа на спине. — Пойди сюда и покажи мне, куда ведет эта труба?
Шофер растянулся рядом с ним.
— Все в порядке, — сказал мистер Хинчклифф, поднимаясь. — Но эта штуковина позаковыристее, чем я думал. Разгрузите корму, — он указал на заднее сиденье, — и я проверю тягу.
Шофер с готовностью повиновался. Он по своему почину сообщил, что его брат служит механиком на флоте.
— Спелись голубчики, — процедил Пайкрофт, глядя, как Хинчклифф вертится вокруг обшитого асбестом котла и выпускает из него веселые струйки пара.
— А теперь проедем по дороге, — сказал он.
Шофер для проформы взглянул на меня.
— Да, конечно, — сказал я. — Поезжайте, все в порядке.
— Какой уж тут порядок, — внезапно возразил Хинчклифф, — какой уж тут порядок, если мне придется через бритвенное зеркальце следить за уровнем воды.
Водомерное стекло автомобиля отражалось в зеркальце, висящем справа от щитка. Мне это тоже не нравилось.
— Поднимайте повыше руку, тогда вы сможете видеть его из-под руки. Только не забывайте в это время о руле, не то угодите в канаву, — крикнул я им вслед.
— Ну-ну, — задумчиво произнес Пайкрофт. — Впрочем, я бы сказал, паровые механизмы служат ему чем-то вроде либретто. Он ведь еще сегодня утром после завтрака мне говорил, как истово благодарит Создателя за то, что ему до девятнадцатого числа следующего месяца не придется ни видеть, ни нюхать, ни трогать никаких шатунов и кривошипов. И вот взгляните на него! Только взгляните!
Мы видели, как в автомобиле, катившем по пологой дороге, шофер уступил место Хинчклиффу, причем авто так и метнуло от обочины к обочине.
— Что случится, если он опрокинет автомобиль?
— Вспыхнет газолин, и котел может взорваться.
— Вот страсти-то. А тут еще… — Пайкрофт медленно выпустил клуб дыма. — Эгг тоже нынче утром агрессивно настроен.
— Ну а нам-то что? Он ведь уже уехал, — сказал я сухо.
— Так-то так, но мы его обгоним. А он злопамятный. Они с Хинчем сегодня не сошлись во мнениях по поводу свиноводства. Хинч в таких делах, конечно, не специалист, зато он козырнул морской службой, чином, вот Эгг и обозлился. Я был рад, что мы убрались из его телеги. Вам никогда не приходило в голову, что, стоит нам с вами, так сказать, повстречаться, нас непременно ждет на редкость суматошный день. Эй! Глядите-ка, это корыто повернуло обратно!
Автомобиль взбирался вверх по склону. Пайкрофт встал и заорал:
— Швартуйся! Места хватит!
— Помолчи! — крикнул Хинчклифф и подвел авто к нашему коврику. Его загорелое лицо сияло от восторга. — Этот автомобиль — Поэзия Движения. Осуществление Райской Мечты. Этот автомобиль… — Он перекрыл пар, и Осуществление Райской Мечты степенно покатило вниз по склону.
— В чем дело? — рявкнул Пайкрофт. — Я ведь жму на тормоз.
— Тормоз на заднем ходу не действует, — пояснил я. — Переключи на нейтраль.
— Стыд и позор для старшего механика «Джина», эсминца, делающего тридцать один узел, — сказал Пайкрофт. — Хинч, ты знаешь, что такое нейтраль?
Автомобиль тем временем опять подкатил к нам; но, когда Пайкрофт нагнулся за ковриком, Хинчклифф сердито дернул рычаг, и авто со скоростью креветки поползло вниз, в клубы собственного дыма.
— Наверное, не знает, — сказал Пайкрофт. — А что это такое он сейчас сделал, сэр?
— Дал задний ход. Со мной это тоже случалось.
— Но ведь он механик.
В третий раз автомобиль взбирался вверх.
— Ты у меня научишься швартоваться, как надо, если проманежить тебя тут всю ночь, — рявкнул Пайкрофт, явно кого-то цитируя. Хинч позеленел и, с мучительной осторожностью поворачивая регулятор, протащил автомобиль еще на двадцать ярдов вверх.
— Достаточно. Считай, что оправдался. Теперь гора пойдет к Магомету. Стой и ни с места!
Пайкрофт, коврик и я двинулись туда, где совместно дымились автомобиль и Хинчклифф.
— Ну что, не так-то просто, как казалось, Хинч?
— Проще простого. Я поведу его в Инстед Уик… решено? — Выслушав предложение, с которым ко мне обратился флотский механик первого класса, я вспомнил о тех манипуляциях, которые он производил со своим двести шестьдесят седьмым, и кивнул. Если на то пошло, гению даже приятно оказать услугу.
— Только мой шофер будет рядом… первое время, — добавил я.
— Причем не забывай, что ты семейный человек, — буркнул Пайкрофт, проворно взбираясь на заднее сиденье с правой стороны. — Да уж… стоит нам повстречаться, на редкость суматошный выдается денек.
Мы заняли свои места и, как говаривал бессмертный флотский врач, отбыли, взяв курс на Лингхерст, до которого, судя по дорожному указателю, было 11 и 3/4 мили.
Мистер Хинчклифф, напряженный, как сжатый кулак, говорил только с шофером и только на профессиональные темы. Я вспомнил, что и мне когда-то нравилось распинаться на дыбе, на которой теперь добровольно раскачивался Хинч.
А графство Сассекс не спеша плыло мимо.
— Осторожный нам попался механик, — сказал Пайкрофт.
— Даже на эсминце, — обернувшись, отрезал Хинчклифф, — один и тот же человек не может отдавать команду и поворачивать штурвал. Впредь воздержись от замечаний.
— Насос! — крикнул шофер. — Падает уровень воды.
— Я не слепой. Бога ради, где этот проклятый рычаг?
Он, как бешеный, стал шарить правой рукой по стенке, пока не наткнулся на изогнутый прут, как-то связанный с насосом, и, уже ни о чем ином не думая, судорожно его дернул.
Еще секунда — и мы были бы в кювете, но шофер успел повернуть руль.
— Если бы я был лучезарным павлином, в хвосте которого горят две сотни светящихся глазков, они понадобились бы мне все до единого для этой работенки! — сказал Хинч.
— Не болтай! Следи за дорогой! Это тебе не Северная Атлантика! — прикрикнул Пайкрофт.
— Ах, черт тебя возьми! Давление пара упало на пятьдесят фунтов! — вскрикнул Хинчклифф.
— Задуло горелку, — пояснил шофер. — Тормозите!
— Часто он такое вытворяет? — спросил Хинчклифф, спрыгнув на землю.
— Случается.
— Всегда?
— При встречном ветре — всегда.
Шофер достал спичку и нагнулся. В этом автомобиле (благодарение небу, уже отошедшем в область преданий) горелка никогда не зажигалась на один манер. На сей раз она вспыхнула восхитительно, и Пайкрофт в ореоле золотого пламени пал на землю, переброшенный через правое заднее колесо.
— Я как-то видел разрыв мины в Бантри…[328] до срока взорвалась, — сообщил он.
— Все отлично, — сказал Хинчклифф, приглаживая обожженным пальцем подпаленную бороду (он слишком низко наклонился, наблюдая за действиями шофера). — Интересно, этот кладезь веселых сюрпризов еще не исчерпался?
— Полнехонек, — снисходительно крякнув, сказал шофер. — Кто-то слишком широко открыл питательный клапан.
— Пересядьте на мое место, Пайкрофт, — распорядился я, вдруг вспомнив, что и топливный краник, и регулятор, и тяга управляются с заднего сиденья справа.
— На ваше? Зачем? Вон у меня тут под рукой приборный щит со всякими никелированными побрякушками, а я к нему еще и не притронулся. Правый борт кишмя кишит этим добром.
— Пересядь, а то убью! — вдруг сказал Хинчклифф, и похоже было, что он так и сделает.
— Эти механики все такие. Когда у них что-то неладно, то всегда кочегар виноват. Плывите дальше сами, автоматические ваши души! Я вам не указчик.
Мы проплыли милю в мертвой тишине.
— Кстати о кильватерах, — вдруг сказал Пайкрофт.
— Мы о них не говорили, — буркнул Хинчклифф.
— Так вот, кстати, о них. На иной колее не поздоровится змее. А вот на вашей и червяка бы замутило. Вот и все, что я имею в виду, Хинч… Слева по курсу стоит на якоре телега. Это Эгг!
Далеко впереди на тенистой дороге, убегавшей в брумлинглейскую глушь, мы увидали знакомую телегу; она стояла перед зданием почтовой конторы.
— Фарватер перекрыт. Как же мне проскочить? Развернуться негде. Послушай, Пай, смени на время рулевого.
— Нет уж, стряпуха, сама кашу заварила — сама расхлебывай. Ты, можно сказать, покинул отчий дом и фамильную телегу, чтобы узурпировать этот руль. Вот и справляйся с ним.
— Дайте сигнал, — посоветовал я.
— Осанна! — вскричал Пайкрофт, боднув Хинчклиффа в затылок, когда автомобиль вдруг встал, как вкопанный.
— Вытащи свой нос из моей гривы! Наверно, я нажал на тормоз, — буркнул Хинчклифф и суетливо начал исправлять свою ошибку.
Мы миновали телегу, величественно, как колокольня. На пороге почты стоял Эгг и взирал на нас с неимоверным благодушием. Позже я вспомнил, что хорошенькая девушка из почтовой конторы жалостливо поглядела на нас.
Хинчклифф отер потное чело и перевел дыхание. Я ему посочувствовал: как-никак первый встретившийся нам экипаж.
— Что вы так вцепились в руль, — сказал шофер. — Это же совсем простое дело: едешь, словно на велосипеде.
— Ха! Ты, верно, думаешь, я разъезжаю на велосипедах у себя в машинном отделении, — последовал ответ. — У меня других забот хватает. Эта посудина — сущая дьяволица. Свистит, как сумасшедшая. Я бы скорей согласился водить допотопный Северо-Восточный в Симонстауне.[329]
— Кстати, как утверждают, одно из достоинств этого автомобиля, — вмешался я, — состоит в том, что для него не требуется шофер.
— Конечно. Семь шоферов для него требуется, а не один.
— «Здравый смысл — единственное, что вам нужно», — процитировал я рекламу.
— Запомни это, Хинч. Здравый смысл, и больше ничего, — вставил словечко Пайкрофт.
— Ну а теперь, — сказал я, — пора набрать воды. Осталось не больше двух дюймов.
— А откуда ее взять?
— Ну, мало ли… заедем в какой-нибудь домик.
— Во что же тогда превратятся ваши хваленые двадцать пять миль в час? Сновать по разным домикам уместней на телеге для навоза.
— Если вы хотите куда-нибудь добраться, волей-неволей приходится сновать, — ответил я.
— Никуда я не хочу добраться. Я о вас забочусь. Это ведь вам всю жизнь возиться с этой таратайкой. Когда кончится вода, трубки сгорят?
— Сгорят.
— Никогда не участвовал в автомобильных гонках и впредь не собираюсь. — Он решительно перекрыл пар. — Пай, выметывайся, нам придется самим волочить его по дороге.
— Куда?
— К ближайшему водоему. А в Сассексе с водой паршиво.
— Здесь должны быть петли для буксировки. Этакие маленькие штуковинки, — сказал Пайкрофт.
Мы вылезли из автомобиля и, толкая его руками, прошли полмили под палящим солнцем, пока не набрели на малонаселенный домик, где обитало только плачущее дитя.
— Все, разумеется, на сенокосе, — сказал Пайкрофт, на миг заглянув в комнату. — Каковы дальнейшие маневры?
— Рассеяться по местности в поисках колодца, — сказал я.
— Гм! Странно все же, что малютку оставили без, как бы это выразиться, дуэньи… Так и знал! Палка есть?
Синеватый безмолвный зверь из породы добрых старых овчарок выскользнул из-за амбара и без лишних слов приступил к делу.
Пока Пайкрофт отбивал атаку граблями, все остальные сплоченным строем отступали к автомобилю по кирпичной дорожке, огороженной по краям ящиками.
У калитки немой бес остановился, оглянулся на младенца, сел и стал чесаться задней ногой.
— Достиг нейтральных вод, благодаренье богу, — сказал Пайкрофт. — Всем построиться и продолжать сухопутную транспортировку баркаса. Я буду охранять вас с флангов, на случай если этот рассадник блох переоценит свои силы и от сопения перейдет к наступлению.
Мы молча толкали автомобиль. Он весил 1200 фунтов и даже, несмотря на шарикоподшипники, оказался эффективным потогонным средством. Из-за зеленой изгороди послышался грубый смех поселян.
— Вот, ради этих олухов мы, не смыкая глаз, бороздим морские просторы. Даже в Китае не найдется порта, где к нам относились бы хуже. «Боксер» и тот бы постеснялся так себя вести,[330] — сказал Пайкрофт.
К нам с рокотом приближалось по дороге облако мелкой пыли.
— Какое-то счастливое судно с хорошо оборудованным машинным отделением! Везет некоторым! — вздохнул Пайкрофт, перегнувшись через правое крыло.
Автомобиль темно-красного цвета с мотором, работающим на газолине, остановился, как поступают все благовоспитанные автомобили, завидев собрата в беде.
— Вода… просто кончилась вода, — ответил я, когда нам предложили помощь.
— Вон за той дубовой рощей есть охотничий домик. Там вам дадут все, что нужно. Скажете, я вас послал. Грегори… Майкл Грегори. До свиданья.
— Наверное, служил в армии. Может быть, служит и сейчас, — сделал вывод Пайкрофт.
В этом трижды благословенном домике мы наполнили водою бак (я не рискую процитировать ремарки Хинчклиффа по поводу нашего складного резинового ведра) и вновь погрузились на борт. Кажется, этому сэру Майклу Грегори принадлежало бог весть сколько акров, а его парк простирался на многие мили.
— Через парк и поезжайте, — посоветовал нам егерь. — До Инстед Уика парком куда ближе, чем по шоссе.
Но нам нужен был газолин, который продавался в Пиггинфолде, в нескольких милях дальше по дороге, и, как судил нам рок, туда мы и свернули.
— Пока что мы проехали семь миль за пятьдесят четыре минуты, — сказал Хинчклифф (он теперь вел автомобиль гораздо более непринужденно и беспечно), — и вот, оказывается, нам еще предстоит заполнять бункера. Я бы скорее согласился служить на Ла-Манше.
Через десять минут в Пиггинфолде мы наполнили газолином и обильно смазали всю ходовую часть. Мистер Хинчклифф хотел уволить шофера в отставку, поскольку он (Хинчклифф) до тонкости постиг все тайны автомобилеходства. Но я отклонил эту идею, ибо знал свой автомобиль. Он уже «вытянул», как говорится на нашем дорожном жаргоне, полтора дня, и мой горчайший опыт мне подсказывал, что это крайний срок. Вот почему в трех милях от Лингхерста я удивился меньше остальных, не считая, разумеется, шофера, когда двигатель вдруг заклохтал, как припадочный, раза два дернулся и заглох.
— Да простит мне бог те грубости, которые я, грешный, мог сболтнуть во время оно насчет эсминцев, — возопил Хинчклифф, рванув на себя регулятор. — Что с ним еще стряслось?
— Выпал передний эксцентрик, — сказал, покопавшись в машине, шофер.
— И только-то? А я думал — лопасть винта отвалилась.
— Надо найти его. У нас нет запасного.
— Я не участвую, — подал голос Пайкрофт. — Сигай с баркаса, Хинч, и обследуй пройденный маршрут. Вряд ли тебе придется проползти больше пяти миль.
Хинчклифф с шофером, склонив головы, двинулись по дороге.
— Похожи на этимологов, да? И часто он, так сказать, выметывает свои потроха на дорогу?
Я поведал ему без утайки, как однажды на хэмпширской дороге усеял шариками из подшипников четыре мили, а потом подобрал их все до единого. Мой рассказ глубоко его тронул.
— Бедняга Хинч! Бедный, бедный Хинч! — сказал он. — Самое главное: этот ваш забавник может устроить каверзу еще похлеще. Даю слово, к вечеру Хинч затоскует по эсминцу.
Когда поисковая группа возвратилась с эксцентриком, не кто иной, как Хинч, водворил его на место, к вящему восхищению шофера, потратив на это не более пяти минут.
— Ваш котел держится на четырех канцелярских скрепках, — сообщил он, выползая из-под авто. — Снизу это просто плетеная корзиночка для ленча. Некое передвижное чудо. Как давно вы приобрели эту спиртовку?
Я ответил.
— И вы еще опасались войти в машинное отделение «Вампира», когда мы отправлялись в пробный рейс.
— Дело вкуса, — высказался Пайкрофт. — Впрочем, отдам тебе должное, Хинч, ты и вправду очень быстро освоил всю эту паровую галиматью.
Хинчклифф очень плавно вел автомобиль, но в глазах светилось беспокойство, рука дрожала.
— Что-то не ладится со штурвалом, — сказал он.
— О, с рулем всегда забот не оберешься, — сказал шофер. — Обычно мы через каждые несколько миль закрепляем его заново.
— Так мне что — остановиться? Мы уже целых полторы мили проехали без аварий, — едко сказал Хинчклифф.
— Ваше счастье, — отпарировал шофер.
— Сейчас эти специалисты назло друг другу устроят крушение. Вот оборотная сторона механизации. Хинч, прямо по курсу человек, сигналит, словно флагманский корабль, готовый затонуть.
— Аминь! — ответил Хинчклифф. — Остановиться или сбить его?
Он все-таки остановился, так как прямо посреди дороги стоял некто в крапчатом шерстяном одеянии (сшитом не на заказ) и вынимал из коричневого конверта телеграмму.
— Двадцать три с половиной мили в час, — проговорил он, покачивая зажатым в красной лапище сигнальным фонариком. От вершины этого холма и до отметки, сделанной через четверть мили, скорость — двадцать три мили в час.
— Ах ты, жук навозный, — начал Хинчклифф.
Я предостерегающе ткнул его в спину, одновременно положив другую руку на закаменевшее колено Пайкрофта.
— Кроме того… по полученным данным… опасное для окружающих нарушение порядка… пьяная компания ведет автомобиль… двое по внешности напоминают моряков, — продолжил он.
— Напоминают моряков! Это Эгг нам удружил. То-то он так ухмылялся, — сказал Пайкрофт.
— Я вас тут уже давно поджидаю, — в заключение сказал констебль, складывая телеграмму. — Кто владелец автомобиля?
Я ответил.
— Тогда и вам придется проследовать за мной вместе с обоими моряками. Бесчинство в пьяном виде подлежит немедленному наказанию. Прошу.
До этих пор я был в наилучших отношениях с полицейскими силами Сассекса, но воспылать приязнью к этому субъекту я не сумел.
— Вы, разумеется, можете подтвердить свои полномочия, — деликатно начал я.
— Я их вам в Лингхерсте подтвержу, — запальчиво отрезал он. — Все полномочия, какие вам угодно.
— О, мне просто хотелось взглянуть на ваш значок, или удостоверение, или что там еще должны показывать полицейские в штатском.
Он как будто бы намеревался выполнить мою просьбу, но передумал и уже менее вежливо повторил приглашение проследовать в Лингхерст. Его поведение и тон подтверждали мою многократно опробованную теорию, что основой подавляющего большинства расположенных на суше английских учреждений служит герметически непроницаемый пласт махрового разгильдяйства. Я стал собираться с мыслями и тут услышал, как Пайкрофт, который сразу весь обмяк и свесил голову вниз, что-то выстукивает костяшками пальцев по спинке переднего сиденья. Физиономия Хинчклиффа, еще совсем недавно пылавшая необузданным гневом, светилась теперь благостным идиотизмом. Легким кивком он указал на руль. То коротко, то долго, как завещал высокочтимый и бессмертный Морзе, Пайкрофт выстукивал: «Притворимся пьяными. Заманите его в автомобиль».
— Я не могу стоять тут весь день, — сказал констебль.
Пайкрофт поднял голову. Вот теперь вы могли оценить, с каким величием британский моряк встречает неожиданный поворот судьбы.
— Дж-жен-нельмен сильно уклонился от курса, — сказал он. — Как по-вашему, разве не может британский дж-женльмен подвезти британский флот на своей собственной р-распроклятой паровой телеге? Выпьем еще раз.
— Когда они меня остановили, я не заметил, что они до такой степени пьяны, — пояснил я.
— Вы скажете все это в Лингхерсте, — последовал ответ. — Пошли.
— Так-то так, — сказал я. — Но вот в чем заминка: если вы их вытащите из автомобиля, они либо свалятся на землю, либо ринутся вас убивать.
— В таком случае я требую, чтобы вы помогли мне выполнить мой долг.
— После дождичка в четверг. Лучше садитесь к нам. Этого пассажира я выставлю. (Я указал на сидевшего молча шофера.) Вам он ни к чему и, уж во всяком случае, будет выступать как свидетель защиты.
— Верно, — сказал констебль. — А впрочем, ваши показания ничего не изменят… в Лингхерсте.
Шофер метнулся в заросли папоротника, как кролик. Я велел ему бежать через парк сэра Майкла Грегори и, если он застанет моего приятеля, сообщить ему, что, вероятно, я несколько опоздаю к ленчу.
— Я не допущу, чтобы этот сидел за рулем. — Наша жертва с опаской кивнула на Хинчклиффа.
— Ну, разумеется. Вы сядете на мое место и будете приглядывать за этим рослым моряком. Он так пьян, что и рукой не шевельнет. А я займу место того, другого. Только поскорее: уплатив штраф, я должен сразу же уехать.
— Вот именно, — сказал он, плюхнувшись на заднее сиденье, — штраф. Немалые денежки собираем мы с вашей братии.
Он с важным видом скрестил руки, а тем временем Хинчклифф украдкой отчалил.
— Послушайте, он же остался за рулем, — привскочив, крикнул наш пассажир.
— Вы это заметили? — сказал Пайкрофт, и его левая рука, как анаконда, обвила полисмена.
— Оставь его в живых, — коротко распорядился Хинчклифф. — Я хочу ему продемонстрировать, что такое двадцать три с четвертью мили.
Мы шли со скоростью чуть ли не двенадцать, что для нас фактически было пределом.
Наш пленник шепотом ругнулся и застонал.
— Цыц, дорогуша! — сказал Пайкрофт. — Не то я обниму тебя покрепче.
Широкая, белая в лучах полуденного солнца дорога вела нас прямехонько в Лингхерст. Мы поехали медленнее, встревоженно соображая, куда бы свернуть.
— Ну а теперь, — сказал я, — будьте любезны, предъявите ваши полномочия.
— Знак воинского ранга, — уточнил Пайкрофт.
— Я констебль, — сказал наш гость и брыкнул ногой.
Судя по сапогам, он и впрямь обошел добрую половину сассекских пашен; но сапоги — не удостоверение личности.
— Предъявите ваши полномочия, — повторил я сухо. — Чем вы докажете, что вы не пьяный бродяга?
Предчувствия меня не обманули. Он не захватил с собой значок или где-то потерял его.
Он, видите ли, не удосуживался соблюдать элементарные формальности при выполнении работы, которая ему давала престиж и деньги; и после этого еще хотел, чтобы я, налогоплательщик, взвалил на себя из-за его же нерадивости всякие хлопоты.
— Если вы мне не верите, едемте в Лингхерст, — эта формула в его устах звучала почти как припев национального гимна.
— Да не могу я колесить через все графство каждый раз, когда какой-то вымогатель вздумает объявить себя полисменом.
— Но это совсем близко, — не унимался он.
— Скоро будет далеко, — возразил Хинчклифф.
— Другие в таких случаях никогда не спорят. Видно, они-то настоящие джентльмены, — выкрикнул полисмен. — Одно скажу: все это, может быть, очень смешно, да только совести у вас нет.
Он вел свою линию, я — свою, в результате мы оба топтались на месте. Он забыл значок, а мы, мерзавцы, не желаем подвезти его к трактиру или ферме, где он его оставил.
Тем временем мы все дальше катили по дороге, и Пайкрофт неодобрительно слушал его жалобы.
— Если бы он был чистопородным буром, то и тогда не заслужил бы лучшего обращения, — произнес он наконец. — Вот представьте, что я — дама в интересном положении — он ведь просто уморил бы меня такими выходками.
— Жаль, что не могу этого сделать. Эгей! На помощь! На помощь! Эй! Эй!
В пятидесяти ярдах впереди, там, где дорога пересекалась с обсаженным изгородью проселком, наш узник увидел констебля в форме, но тут же вынужден был замолчать, ибо Хинчклифф так резко свернул на проселок, что мы чудом избегли крушения, проскользнув мимо грузно бежавшего к нам второго констебля.
Мне показалось, что наш пассажир и его сообщник в форме обменялись улыбками, когда автомобиль свернул к востоку на все суживающийся тенистый проселок.
— Ну, теперь вам вскорости вправят мозги, — сказал наш гость. — Сами влезли в ловушку, себя и вините.
Он стал насмешливо что-то насвистывать.
Мы ни слова не ответили.
— Этот человек мог бы удостоверить мою личность, — сказал он.
Мы по-прежнему молчали.
— Он и сделает это — потом, когда вас сцапают.
— Если ты тут же замолчишь. В противном случае ему это не удастся, — сказал Пайкрофт. — Я не знаю, каким галсом ты идешь, но пока тебя не посадили в каталажку за разбой на большой дороге, твоя первейшая обязанность — чтить, любить и ублажать меня, а также спешно и оперативно маневрировать, сообразуясь с поданными мною сигналами. Это я тебя предупреждаю на случай, как бы не стряслось какой беды.
— Не беспокойтесь, не стрясется, — был ответ.
Хинчклифф открыл до отказа регулятор, автомобиль наддал как следует, и вдруг нежданно-негаданно наш проселок — в Сассексе таких два или три — уткнулся в обрыв.
— Ах, пропади ты пропадом! — крикнул Хинчклифф и нажал на тормоза, но шины беспомощно скользили по сырой траве, и мы спускались все ниже и ниже в поросшую молодыми деревьями рощицу. Новый кошмар пришел на смену предыдущему, и, дополняя картину, в пятидесяти ярдах впереди, преграждая нам путь, журчал ручей. По ту сторону оврага бархатисто-зеленый проселок — где в траве шныряли кролики и кудрявился папоротник — поднимался вверх полого, зато совсем иначе он выглядел сзади нас. Сорока лошадиных сил никак не хватало, чтобы втащить вверх на крутой травянистый обрыв мокрые надувные шины.
— Гм! — многозначительно крякнул наш гость. — Очень многие автомобили норовят сюда свернуть и возвращаются все до единого. А мы уж помаленьку движемся им навстречу.
— Иными словами, тот хлыщ, которого я чуть не сшиб, уже чешет в эту сторону?
— Точно так.
— И ты думаешь, — сказал Пайкрофт (тщетны были бы попытки передать презрение, звучавшее в его словах), — это хоть на йоту что-нибудь изменит? Вылезай!
Констебль с готовностью повиновался.
— Видишь те поставленные торчком реи? Словом, тот вигвам. Ну — жерди, деревенщина! Бегом марш за этими жердями.
Констебль припустил бегом. Пайкрофт следом за ним; они достигли полного взаимопонимания. Чуть поодаль у ручья виднелся штабель переносных плетней, оставленных после купания овец, а поперек ручья были положены для перехода большие камни. Хинчклифф соорудил из них нечто вроде плотины; я приволок плетни; и когда Пайкрофт и его подручный перебросили через ручей штук двенадцать жердей, я свалил поверх всего плетни.
— Что там ваш Сельскохозяйственный павильон![331] — сказал Пайкрофт, вытирая потный лоб. — Куда ему до нас. Подступы к мосту выстлать плетнями, приняв в расчет болотистый характер местности. Да, и еще штуки две перебросьте на ту сторону, дабы обеспечить переправу на terra fermior.[332] Ну а теперь, Хинч, полный пар и ходу! Если рухнет — нам конец. Штурвал доверен мне?
— Нет. Это мое дело, — ответствовал механик первого ранга. — Перебирайтесь на другую сторону и будьте наготове, на случай если наша барка не возьмет подъем.
Мы прошли по шатким мосткам и остановились, ожидая. Хинчклифф дал полный пар, и авто, как эсминец, ринулось вперед. Раздался треск, мелькнул белый фонтан воды, и вот автомобиль уже в пятидесяти ярдах над ручьем, в наших объятиях, вернее, мы отчаянно подталкиваем его сзади к песчаной площадке, где наконец перестанут скользить колеса. От моста осталось только несколько лихорадочно трясущихся жердей и провалившиеся в грязь плетни на подступах.
— Сам переправился и тут же разметал всю переправу, благо не сколочена, — пропыхтел Хинчклифф.
— В Сельскохозяйственном павильоне жерди связали бы шнуром, — сказал Пайкрофт. — Но мы ведь не в Олимпии.
— Чуть не выдернул румпель у меня из руки. Пай, тебе не кажется, что я провел его, как бог?
— Лично я отродясь не видел ничего подобного, — льстиво вмешался наш пассажир. — Ну а теперь, джентльмены, если вы позволите мне вернуться в Лингхерст, вы обо мне больше и словечка не услышите.
— Садись, — сказал Пайкрофт. Мы только что вытолкнули автомобиль на дорогу. — У нас с тобой еще все впереди.
— Шутить, конечно, можно, — сказал констебль. — Я сам не прочь немного пошутить, только не выходите за пределы.
— Мы выйдем за пределы на множество миль, если выдержит эта посудина. Скоро нам нужна будет вода.
Лицо нашего пассажира просветлело, что не ускользнуло от Пайкрофта.
— Да будет тебе известно, — произнес он доверительно, — что бы с нами ни случилось, тебя это не коснется. За исключением одного-двух дхау,[333] нашему флоту не везет с трофеями. Поэтому мы ими не пренебрегаем.
Последовало долгое молчание. Его неожиданно нарушил Пайкрофт.
— Роберт, — сказал он. — У тебя есть мать?
— Да.
— А старший брат?
— Есть.
— А младшая сестренка?
— Тоже.
— Роберт, а собаку твоя мать держит?
— Да. Откуда вы знаете?
— Отлично, Роберт. Я этого не забуду.
Я вопросительно взглянул на Пайкрофта.
— Я видел его кабинетную фотографию в полной форме на камине того коттеджа, откуда нас изгнал верный Фидель, — шепнул Пайкрофт. — Правда, приятно, что все это происходит как бы в кругу семьи?
Мы наполнили бак водой в домике на опушке леса святого Леонарда и, не взирая на все усиливающуюся утечку, сделали попытку взобраться на хребет, по другую сторону которого находился Инстед Уик. Зная свой автомобиль, я не сомневался, что не далек тот час, когда он полностью выйдет из строя. Моей единственной заботой было увезти нашего пленника как можно дальше от обитаемых мест, прежде чем это случится.
На крыше мира — голом плато, поросшем только молодым вереском, — автомобиль закончил свою деятельность, залившись бурным потоком слез.
В радиаторе (Хинчклифф три минуты славословил и его, и его создателя) образовалась такая течь, что заделать ее даже мечтать не приходилось; прокладка сдвинулась, водяной насос заело.
— Если бы у меня был трубопровод, я бы отключил этот жестяной патронташ и накачал воду прямо в котел. Скорость бы снизилась, но мы смогли бы ехать.
Он окинул безнадежным взглядом длинные бурые хребты, вознесшие нас над равнинной частью Сассекса. На севере туманился Лондон. На юге между крутыми, как спины китов, береговыми уступами виднелся цинково-голубой Ла-Манш. Что до населения, то на всем этом обширном пространстве нам предоставлялся выбор только между коровой и пустельгой.
— Инстед Уик — внизу. Можно скатить автомобиль по склону, — сказал я наконец.
— Тогда этот фрукт пешком доберется до станции и отправится восвояси. Правда, можно снять с него сапоги, — сказал Пайкрофт.
— Кража, — с жаром произнес наш гость, — отягчающее обстоятельство при оскорблении действием.
— Да повесить его, и делу конец, — буркнул Хинчклифф. — Он же явно сам напрашивается.
Но нас как-то не влекло к убийству в этот жаркий полдень. Мы сели на вереск покурить, и вскоре снизу донесся басовитый рокот идущего в гору газолинового автомобиля. Я почти не обратил на него внимания, как вдруг услышал рев рожка, подобного которому не раздавалось во всех прилегающих к Лондону графствах.
— Вот к нему-то я и ехал в гости! — крикнул я. — Мужайтесь! — И я побежал вниз по дороге.
Это был большой черный «октопод» мощностью в двадцать четыре лошадиных силы, кузов которого открывался сзади; в нем сидели не только мой друг Киш и Сэлмон, его шофер, но и мой собственный шофер, на чьем лице я впервые за все время нашего знакомства видел улыбку.
— Вас что, арестовали? В чем они обвиняют вас? Я уже ехал в Лингхерст, чтобы за вас поручиться — ваш человек мне все рассказал, — но возле Инстед Уика меня самого задержали, — крикнул Киш.
— За что?
— Оставил без присмотра автомобиль. Просто наглая придирка, если вспомнить, сколько непривязанных телег торчит у каждого трактира. Я препирался с полицейскими целый час и все без толку. Они ведь всегда правы, их не переспоришь.
Засим я поведал ему нашу историю и, когда мы въехали на вершину, в подтверждение своих слов указал на маленькую группку, сгрудившуюся возле автомобиля.
Высокие чувства всегда немы. Киш нажал на тормоз и привлек меня к своей груди с такой силой, что я застонал. Помнится, он даже что-то потихоньку мурлыкал, как мать, истосковавшаяся по младенцу.
— Дивно! Дивно! — пробормотал он. — Жду ваших распоряжений.
— Возлагаю все на вас, — сказал я. — На шканцах вы обретете некоего мистера Пайкрофта. Сам я полностью выбываю из игры.
— Полицейского не отпускать ни в коем случае. Кто я ныне, как не орудие мести в руках всемогущего Провидения? (Кстати, утром я сменил запальные свечи.) Сэлмон, переправьте как-нибудь домой этот кипящий чайник. Я один тут справлюсь.
— Леггат, — сказал я своему шоферу, — помогите Сэлмону доставить автомобиль к их дому.
— К их дому? Сейчас? Это же очень тяжело. Это невыносимо тяжело.
Он чуть не плакал.
Хинчклифф вкратце описал шоферам состояние автомобиля. Пайкрофт ни на шаг не отходил от нашего гостя, который с ужасом оглядывал подрагивающий «октопод»; а вольный ветер сассекского нагорья со свистом пробегал по вереску.
— Я вполне согласен дойти до дому пешим ходом, — сказал констебль. — Ни на какую станцию я не пойду. Малость поразвлекались, и кончим все ладом.
Он нервно хихикнул.
— Каковы наши дальнейшие действия? — спросил Пайкрофт. — Переходим на борт того крейсера?
Я кивнул, и он с великим тщанием препроводил своего подконвойного в кузов. Когда я занял свое место, он, широко расправив плечи, опустился на маленькое откидное сиденье у двери. Хинчклифф сел рядом с Кишем.
— Вы водите? — спросил Киш с той улыбкой, что проторила его полный взлетов и падений жизненный путь.
— Только паровые, и благодарю покорно, на сегодня с меня достаточно.
— Вижу.
Продолговатый, низкий автомобиль мягко скользнул вниз и пулей промчался по склону, на который мы вскарабкались с таким трудом. Лицо нашего гостя побелело, и он судорожно вцепился в спинку кузова.
— Наш новый капитан, несомненно, проходил выучку на эсминце, — сказал Хинчклифф.
— Как его зовут… чудно как-то? — прошептал Пайкрофт. — Хо! Очень приятно, что мы не напоролись на Саула… или, скажем, Нимши.[334] Настраивает на религиозный лад.
Мы поднялись по инерции до середины следующего холма, здесь скорость упала до пятнадцати, и Кишу не без усилия удалось сохранить ее в этих пределах.
— Ну, как? — спросил я Хинчклиффа.
— Паровой мне, конечно, милей, зато по мощности — это все равно что удвоенный «Бешеный» и половинка «Джазуара», когда они идут рядом навстречу приливной волне.
Целые тома напишешь, а не скажешь точнее. Он с живым интересом следил за руками Киша, манипулировавшего рычагами под скромно оснащенным приборным щитком.
— А каким тормозом бы вы воспользовались? — спросил он учтиво.
— Этим, — ответил Киш, и перед нами вырос новый холм, невероятной крутизны.
Киш дал автомобилю откатиться на несколько футов назад, затем проворно нажал на тормоз, после чего воспроизвел известный опыт с шариком, вращающимся внутри чашки. Нам казалось, что нас носит над огромной пропастью, как в центрифуге. Даже у Пайкрофта перехватило дыхание.
— Ох, бессовестные! Ох, бессовестные! — стонал наш гость. — Меня тошнит.
— До чего неблагодарная скотина! — сказал Пайкрофт. — В такой вояж ты ни за какие деньги не попал бы… Э! Перегнись-ка подальше за борт.
— Нам, по-моему, осталось лишь подняться по лесу, а дальше уже вниз — к Парковой полосе, — сказал Киш. — Отличные тут места для поездок.
Он небрежно надавил коленом на наклонный рычаг — заурядный специалист зажал бы его под мышкой, — и «октопод», напевая, как шестидюймовая раковина, четыре мили несся вниз по желтой дороге, прорезавшей голую пустошь.
— Ну-ну, специалист вы отменный, — сказал Пайкрофт. — Зря пропадаете здесь. У себя в машинном отделении я бы вам подыскал работенку.
— Он правит ногами, — умилился Пайкрофт. — Роберт, встань и погляди. Ты такого в жизни не увидишь.
— И видеть не хочу, — последовал ответ. — За все эти его штуки — пятьсот фунтов — это все едино, что без штрафа отпустить.
Парковая полоса начинается у подножья горы, высота которой — три сотни футов, а протяженность склона — полмили. Киш намеревался переправить нас через эту пропасть, держа руль одной рукой и свесив за борт другую, но он так лихо проскочил кривой мостик на дне ущелья, что навел меня на мысли о быстротечности нашей жизни.
— Берегитесь! Мы уже в Саррее, — сказал я.
— Наплевать. Мы и в Кент завернем. Еще только три часа, у нас уйма времени.
— А вам не надо заполнить бункера, запастись водой, что-нибудь смазать? — спросил Хинчклифф.
— Вода мне вообще не нужна, а газолина в одном баке, если не случится аварии, хватит на две сотни миль.
— К вечеру ты будешь за две сотни миль от родного дома, маменьки и верного Фиделя, — сказал Пайкрофт, хлопая нашего гостя по колену. — Не унывай. Такой автомобиль — это почище, чем иной эсминец.
Мы не без достоинства миновали несколько городков, пока на гастингской дороге не плюхнулись в Камберхерст, представлявший собой глубокую яму.
— Ну, началось, — сказал Киш.
— Предшествующая служба при начислении пенсии не учитывается, — сказал Пайкрофт. — Как мы балуем тебя, Роберт.
— Когда вам надоест наконец дурью мучаться, — проворчал наш гость.
— Когда — это неважно, Роберт. Где — вот чем бы тебе следовало поинтересоваться.
Я и раньше видел Киша за рулем и полагал, что знаю «октопод», но я не ждал от них такого вдохновения. Импровизируя, он ударял по клавишам — лязгающим рычагам и трепетным педалям, создавая волшебные вариации и превращая наше путешествие то в фугу, то в сельский танец, а потом вдруг на каком-нибудь зеленом выгоне украшал их затейливыми колечками трели. Когда я пытался его урезонить, он говорил лишь: «Хочу загипнотизировать эту курицу! Хочу ошарашить того петуха!» — или еще что-нибудь, столь же легковесное. А «октопод» был выше всяческих похвал. Задрав широкий черный нос навстречу закатному солнцу, он возносил нас на вершины холмов, чтобы порадовать красотою ландшафта. Нырял, ухая, в сумрачные ложбины, поросшие вязом и сассекским дубом; поглощал бесконечные просторы рощ; пронизывал заброшенные деревушки, пустынные улицы которых отзывались удвоенным эхом на треск выхлопов, и, не ведая усталости, повторял все сызнова. Жужжал, как летящая в улей пчела, прочеркивая голые нагорья длинной тенью, а та становилась все длинней, по мере того как солнце удирало от нас в свою нору. Он выискивал неведомые никому дороги, проезды, по которым было труднее всего проехать; и его дивные рессоры помогали ему брать без единого толчка и засохшие борозды торфа, и свежевырытые кротовые норы. А поскольку на Большой королевской дороге делают все, что угодно, только не ездят, ему приходилось на полном ходу то сторониться, то выписывать какие-то невероятные петли, чтобы не наткнуться на кучера, лишенного мозгов, или лошадь, лишенную кучера, пьяницу возчика, влюбленную пару, студентку на велосипеде и трясущегося за ней следом инструктора, свинью, детскую коляску, детский приют (в тот миг, когда его население с визгом выплескивалось на перекресток), и все это с грацией Нелли Феррен (да почиет в мире) и небрежным удальством любого из членов семейства Воксов. Но в душе он был Юдифью,[335] той Юдифью, которую я помню с давних пор; Юдифью, от кистей до пят чопорно облаченной в черное и откалывающей самые рискованные проделки.
Мы все молчали: Хинчклифф и Пайкрофт, любуясь искусством коллеги; я — с восторгом дилетанта перед мастером; наш гость — от страха.
К вечеру, учуяв с юга запах моря, «октопод» взял курс в ту сторону и, как могучий альбатрос, стал описывать огромные круги среди зеленых равнин, окаймленных башнями фортов береговой охраны.
— Что это, не Итсбурн ли? — оживился наш пленник. — У меня там тетя… служит у мирового судьи в кухарках… она могла бы установить мою личность.
— Не стоит беспокоить ее из-за таких пустяков, — сказал Пайкрофт; и, прежде чем он кончил панегирик в честь родственных чувств, наших нелицеприятных судилищ и деятельности домашней прислуги, между нами и морем выросли меловые скалы и показался протянувшийся по торфяной равнине Хиллингдон.
— Тревингтон — вон та деревушка… расположена, пожалуй, на отшибе, — сказал я, начиная чувствовать голод.
— Нет, — ответил Киш, — оттуда его вмиг довезут до станции… и вообще, не отравляйте мне удовольствие… Три фунта восемнадцать да еще шестипенсовик. Возмутительнейшие придирки!
Я понял, что его терзают воспоминания о каком-то из уплаченных прежде штрафов, но автомобиль он вел, как сам Архангел Полутьмы.
Примерно на долготе Кэссокса Хинчклифф зевнул.
— Высадим мы наконец на какой-нибудь необитаемый остров нашего Роберта? Я тоже хочу есть.
— Капитан желает откатать всю выплаченную им на штрафы сумму, — пояснил я.
— Если он ездит так всегда, ему причитается немалый куш, — сказал Пайкрофт. — У меня нет возражений.
— Я и не слыхивал о таких вещах. Господи, помоги мне. Слыхом не слыхивал, — бормотал наш гость.
— Так услышишь, — сказал Киш.
Это была первая и последняя реплика, с которой он обратился к констеблю.
Мы проехали через Пенфилд Грин, одурманенные свежим воздухом, ошалевшие от неумолчного гула автомобиля и умирающие от голода.
— Когда-то я здесь охотился, — сказал Киш, проехав еще несколько миль. — Откройте, пожалуйста, эти ворота. — Он притормозил в тот самый миг, когда солнце коснулось горизонта. Мы свернули с шоссе и минут двадцать резво прыгали среди деревьев по канавам.
— Покупайте только «вездеходы», — сказал он, въезжая на скотный двор, где одинокий бык грозным ревом откликнулся на наше шумное вторжение. — Откройте, пожалуйста, эти ворота. Надеюсь, мостки выдержат.
Доски затрещали под колесами, и мы врезались в густой кустарник.
— Мне, бывало, тоже приходилось рисковать, — сказал Пайкрофт, — но по сравнению с этим человеком я грудной младенец, Хинч.
— Не отвлекай меня. Наблюдай за ним. Вот оно, как говорит Шекспир, широкое образование. Слева по борту упавшее дерево, сэр.
— Отлично. Это моя веха. Держись крепче!
Задрав хвост, как ныряющий кит, автомобиль увлек нас на пятнадцать футов вниз по вьючной тропе, на которой густо переплетались голые корни огромных буков. Колеса перескакивали с корня на корень в полной тьме, которая царила здесь, в тени.
— Где-то тут неподалеку выкопан пруд, — сказал Киш. Он так усердно жал на тормоза, что автомобиль катился вниз, трясясь, как паралитик.
— Прямо по курсу — вода, сэр. Справа по борту груда хвороста и… нет дороги! — выкрикнул Пайкрофт.
— Вот это да! — воскликнул Хинчклифф, когда автомобиль, отчаянно накренившись влево, рванул назад и каким-то чудом ухитрился обогнуть угол нависшей над прудом тропы. — Ему бы еще два винта, и он, наверное, сумел бы сочинять стихи. Все остальное он уже умеет.
— Нас порядком кренит влево, — сказал Киш, — но, думаю, мы все-таки удержимся. По этой дороге редко ездят на автомобилях.
— Да что вы? — сказал Пайкрофт. — Какая жалость!
С треском пробившись сквозь чащу густого кустарника, мы вдруг вынырнули на полого поднимающуюся в гору поросшую папоротником поляну, окруженную столь девственным, столь первозданным лесом, что, казалось, в нем только что скрылся Уильям Руфус. Мы выбрались из фиолетово-багровой тени и двинулись вверх, туда, где еще брезжил день. Здесь все вокруг будило ассоциации и чувства такой благоговейной красоты, что у меня повлажнели глаза.
— Бывают галлюцинации от голода? — шепотом спросил Пайкрофт. — Я только что видел, как священный ибис прошелся под ручку с нашим британским фазаном.
— Ну и чего ты всполошился? — сказал Хинчклифф. — Я уже две минуты вижу зебру и не жалуюсь.
Он указал рукой назад, и я увидел изумительно расписанную зебру (по-моему, бурчелевую), которая, раздувая ноздри, шла за нами следом. Автомобиль остановился, и зебра убежала.
Прямо перед нами был маленький пруд, над водой виднелся сложенный из палочек и веток купол, на верхушке которого сидел какой-то тупомордый зверь.
— Это заразительно? — спросил Пайкрофт.
— Да. Я, например, вижу бобра, — ответил я.
— Здесь! — сказал Киш, полуобернувшись к нам с жестом и осанкой капитана Немо.
— Нет, нет, нет! Бога ради… не здесь!
Наш гость судорожно глотнул воздух, как плывущий по волнам ребенок, когда четыре привычные к делу руки вышвырнули его далеко за борт. Автомобиль беззвучно стал откатываться вниз по склону.
— Глядите-ка! Глядите! Чудеса! — крикнул Хинчклифф.
Что-то щелкнуло, как пистолетный выстрел, — это с крыши своей хатки нырнул в воду бобер, но мы глядели не на бобра. Наш гость, стоя на коленях, возносил молитву четырем кенгуру. Да, не снимая котелка, он стоял коленопреклоненно перед четырьмя кенгуру, чьи огромные, поднявшиеся столбиком силуэты вырисовывались на фоне заката, — перед четырьмя самцами кенгуру в самом сердце графства Сассекс.
А мы откатывались все дальше по бархатистой траве, покуда наши задние колеса не коснулись утрамбованной дороги, которая нас привела в мир здравомыслия, оживленных шоссе и получасом позже к гостинице «Якорь» в Хоршеме.
За обильным ужином последовали возлияния с тостами в честь Киша, который милостиво принял эти знаки благоговения и попутно просветил нас по части некоторых загадочных явлений из области естественной истории. Англия поразительная страна, но тем, кто незнаком с причудами наших богатых землевладельцев, трудно вообразить себе, каким образом в ее пейзаж вписываются зебры, кенгуру и бобры.
Когда мы расходились по спальням, Пайкрофт стиснул мою руку и сказал осипшим от волнения голосом:
— Это все вы. Мы полностью обязаны вам. Разве не говорил я, что стоит нам повстречаться на р-р-р puris naturalibus, если я могу так выразиться, нас поджидает на редкость суматошный денек.
— Это да, — ответил я. — Осторожней со свечкой.
Он разрисовал стену дымящим фитилем.
— Но я вот что хотел бы знать: наш паршивец свыкнется со средой или егерям сэра Уильяма Гарднера придется его пристрелить.
Я думаю, чтобы выяснить это, мы будем вынуждены когда-нибудь еще раз проехать по Лингхерстскому шоссе.
МИССИС БАТЕРСТ[336]
В тот самый день, когда мне вздумалось посетить корабль королевского военного флота «Перидот» в бухте Саймон,[337] адмиралу вздумалось отправить его в плаванье вдоль побережья. Когда подошел мой поезд, он уже дымил в отдалении, и, поскольку команды остальных судов либо грузили уголь, либо занимались учебной стрельбой в горах, на высоте в тысячу футов, я застрял на портовой окраине, голодный и беспомощный, не имея надежды вернуться в Кейптаун раньше пяти вечера. Положение мое было отчаянное, но, к счастью, я повстречал своего друга Хупера, инспектора правительственных железных дорог, который имел для личного пользования паровоз и служебный вагон, предназначенный, судя по надписи мелом, для отправки в ремонт.
— Если вы раздобудете чего-нибудь поесть, — сказал Хупер, — я отвезу вас по Гленгариффской ветке в тупичок, и мы подождем, покуда не прибудет товарный состав. Там, понимаете ли, прохладней, чем здесь.
Я купил кое-какие припасы у греков, которые торгуют всякой всячиной по бешеным ценам, и паровоз, пробежав несколько миль, довез нас до бухты, окаймленной песчаными наносами, где в сотне шагов от воды оказалась дощатая платформа, полузасыпанная песком. Ровные дюны, которые были белее снега, простирались далеко в глубь лиловато-бурой долины меж растресканных скал и сухого кустарника. Малайские рыбаки дружно тянули сеть на берег, рядом стояли две лодчонки, синяя и зеленая; какие-то люди, приехавшие на пикник, плясали босиком на отмели, через которую протекал крошечный ручеек, море радужно сверкало, а по другую сторону нас обступали горы, чьи подножья тонули в серебристых песках. У обоих концов бухты железнодорожная линия проходила прямо над верхней отметкой прилива, огибала нагромождение скал и скрывалась из вида.
— Ну вот, здесь, понимаете ли, всегда дует с моря, — сказал Хупер, отворяя дверь, когда паровоз отошел, а наш вагон остался на пустынном полотне, и сильный юго-восточный ветер, разгуливая под пиком Элси, начал посыпать песком наше дрянное пиво. Хупер сразу же открыл папку, полную подшитых бумаг. Он недавно вернулся из долгой поездки, во время которой собирал сведения о поврежденном подвижном составе по всей стране, до самой Родезии. Приятное прикосновение ветра к моим смеженным векам; его посвист под крышей вагона и высоко в горах; монотонный шелест песчинок, которые пересыпались по берегу, обгоняя друг друга; плеск волн; голоса на отмели; шуршание бумаг под рукой Хупера и беспощадное солнце усиливали действие пива, погружая меня в фантастическую дрему. Вместо прибрежных гор мне уже чудились сияющие волшебные вершины, но вдруг я услышал, как кто-то прошел по песку снаружи, потом звякнула сцепка.
— Прекратить! — сердито крикнул Хупер, не поднимая головы от своих бумаг. — Опять эти грязные малайские мальчишки: понимаете ли, они вечно балуются около вагонов…
— Будьте к ним снисходительны. В Африке считается, что железная дорога всем дает приют.
— Оно конечно — по крайней мере, в глубине страны. Кстати, я вспомнил, — тут он пошарил в жилетном кармане, — могу показать вам прелюбопытную вещицу из Уанки — есть такое место за Булавайо. Понимаете, я прихватил это просто так, на память, а не…
— Старая гостиница занята! — воскликнул кто-то. — Там белые люди, по разговору слыхать. Морская пехота, вперед! Давай, Прич. Штурмуй этот Белмонт. Ого-о-о!
Последнее восклицание растянулось, как длинная веревка, вслед мистеру Пайкрофту, который обежал вокруг вагона и остановился у открытой двери, глядя мне в лицо. За ним подошел дюжий сержант морской пехоты, который волочил сухой тростник и смущенно отряхивал песок с пальцев.
— Как вы сюда попали? — спросил я. — Мне казалось, «Иерофант» в плаванье.
— Пришли в прошлый вторник с Тристан-да-Кунья на ремонт и простоим в доке два месяца, надо крепеж менять в машине.
— Заходите и присаживайтесь.
Хупер отложил папку.
— Это мистер Хупер, инспектор железной дороги! — поспешно воскликнул я, когда Пайкрофт повернулся, пропуская вперед черноусого сержанта.
— Это сержант Причард с «Шампиньона», мой старый кореш, — сказал он. — Мы с ним гуляли по берегу.
Гигант покраснел и кивнул. Потом он уселся, заняв чуть ли не половину вагона.
— А это мой друг мистер Пайкрофт, — объяснил я Хуперу, уже откупоривавшему бутылку пива, которую мои прозренья побудили меня купить у греков про запас.
— Moi aussi,[338] — промолвил Пайкрофт и вытащил из-за пазухи бутылку объемом в кварту с яркой этикеткой.
— Да ведь это же «Басс»! — вскричал Хупер.
— Причард раздобыл, — сказал Пайкрофт. — Перед ним ни одна девчонка устоять не в силах.
— Неправда, — мягко возразил Причард.
— Ну, может, не в прямом смысле, просто взгляд у него такой, это ведь все одно.
— Где же это было? — полюбопытствовал я.
— Вон там, неподалеку, — в бухте Колк. Она выколачивала коврик на задней веранде. Не успел Прич приготовить орудия к бою, а она уже сбегала в дом и перебросила бутылочку через ограду.
Пайкрофт хлопнул ладонью по теплой бутылке.
— Обозналась, вот и все, — сказал Причард. — Я не удивлюсь, ежели она приняла меня за Маклина. Мы с ним почти одного роста.
Мне уже приходилось слышать от домохозяев в Мейсенберге, Сент-Джеймсе и Колке жалобы на то, как трудно, живя близ берега, иметь запас пива или хорошую служанку, и теперь я начал понимать, в чем тут дело. А все же пиво было превосходное, и я выпил вместе со всеми за здоровье своевольной девушки.
— Форма им уж больно нравится, ради этакой формы они рады стараться, — сказал Пайкрофт. — Моя простая флотская одежда имеет приличный вид, но в восторг никого не приводит. А вот Прич, когда он при всем параде, всякий раз обольщает «бедняжку Мэри на веранде» — ex officio,[339] как говорится.
— Сказано тебе, она приняла меня за Маклина, — упрямо повторил Причард. — Ей-ей… послушать его, так и не подумаешь, что только вчера…
— Прич, — сказал Пайкрофт, — предупреждаю тебя заранее. Ежели мы начнем рассказывать все, что знаем друг про дружку, нас живо вышибут из этого заведения. Ведь кроме случаев злостного дезертирства…
— Это были всего-навсего отлучки без увольнительной — попробуй-ка доказать обратное, — запальчиво возразил сержант. — И уж ежели на то пошло, не вспомнить ли Ванкувер в восемьдесят седьмом году, как ты считаешь?
— Как я считаю? А кто был загребным в гичке, когда съезжали на берег? Кто сказал Юнге Найвену…
— Вас, конечно, отдали за это под трибунал? — спросил я.
История о том, как Юнга Найвен заманил семерых или восьмерых матросов и морских пехотинцев в леса Британской Колумбии, давно стала легендарной на флоте.
— Да, отдали, как положено, — сказал Причард, — но нас судили бы за убийство, не будь Юнга Найвен на редкость хитер. Он наплел, будто у него есть дядюшка, который даст нам земли под ферму. Сказал, что родился близ острова Ванкувер, и все время этот плут прикидывался невинным ягненком!
— Но мы ему поверили, — сказал Пайкрофт. — Я поверил, и ты, и Пэтерсон, и тот морской пехотинец, как бишь его — ну, который потом женился на торговке кокосовыми орехами, — губастый такой?
— А, это Джонс, Слюнтяй Джонс. Я про него давно и думать забыл, — сказал Причард. — Да, Слюнтяй поверил, и Джордж Энсти тоже, и Мун. Мы были так молоды и так любопытны.
— Но очень даже милы и доверчивы, — заметил Пайкрофт.
— Помнишь, как он велел нам идти гуськом и остерегаться медведей? Помнишь, Пай, как он прыгал там по болоту среди густых папоротников, принюхивался и уверял, что чует запах дыма с дядюшкиной фермы? И все время мы бродили по паршивому, глухому, необитаемому островку. Обошли его за день и вернулись к своей лодке, которую оставили на берегу. Целый день Юнга Найвен водил нас кругами, будто искал эту самую ферму! Он сказал, что по местным законам дядюшка обязан дать нам землю!
— Не горячись, Прич. Мы же ему поверили, — сказал Пайкрофт.
— Он книжек начитался. И подстроил все это только, чтоб улизнуть на берег да заставить говорить о себе. Целый день и целую ночь мы — восемь человек — ходили за Юнгой Найвеном по необитаемому островку около Ванкувера! А потом за нами выслали патруль, и красиво же мы выглядели, сборище идиотов!
— Здорово вам досталось? — спросил Хупер.
— Два часа кряду на нас обрушивались громы и молнии. Затем снежные бури, штормящее море и лютая стужа до конца плаванья, — сказал Пайкрофт. — Ничего другого мы и не ждали, но как было тяжко — верьте слову, мистер Хупер, и у матроса сердце не каменное, — когда нас попрекнули, что мы, военные моряки и способные пехотинцы, сбили с пути Юнгу Найвена. Да, оказывается, это мы, жалкие людишки, которые хотели снова обрабатывать землю, сбили его с пути! Само собой, он нас оговорил и легко отделался.
— Правда, мы задали ему трепку, когда он вышел из-под ареста. Слышал ты о нем что-нибудь за последнее время, Пай?
— По-моему, он стал боцманом на связном судне, по Ла-Маншу плавает, мистер Л.-Л. Найвен, так он теперь зовется.
— А Энсти умер от лихорадки в Бенине, — задумчиво произнес Причард. — Что сталось с Муном? Про Джонса мы знаем.
— Мун… Мун! Где же я в последний раз об нем слышал?.. Ну да, в то время я служил на «Палладиуме». Я повстречал Квигли на базе в Банкране. Он сказал, что Мун сбежал три года назад, когда шлюп «Астрильд» крейсировал по южным морям. Этот малый всюду норовил к бабе пристроиться. Да, он улизнул тихонько, и не достало бы времени разыскивать его там, на островах, ежели б даже штурман чего-нибудь смыслил в своем деле.
— А разве он не смыслил? — спросил Хупер.
— Как бы не так. Квигли рассказывал, что половину времени «Астрильд» блуждал у берега со скоростью черепахи, а другую половину высиживал черепашьи яйца на разных рифах. Когда он добрался до Сиднея и его поставили в док, обшивка висела клочьями, как драное белье на веревке, а шпангоуты треснули. Капитан клялся, что это сделали уже в доке, когда подымали несчастную посудину на стапеля. В море и впрямь бывают удивительные случаи, мистер Хупер.
— Э! Расскажите про них налогоплательщикам, — отмахнулся Хупер и откупорил еще бутылку.
Сержант, видимо, был из тех разговорчивых людей, которым трудно остановиться.
— Как странно все это вспоминать, правда? — сказал он. — Ведь Мун прослужил шестнадцать лет, а потом сбежал.
— Такое бывает во всяком возрасте. Вот и этот… ну, сам знаешь, — сказал Пайкрофт.
— Кто такой? — спросил я.
— Старый служака, которому оставалось всего полтора года до пенсии, ты ведь на него намекаешь, — сказал Причард. — Фамилия его начинается на В., правильно?
— Но ежели разобраться, нельзя сказать, что он по-настоящему дезертировал, — заметил Пайкрофт.
— Нет, конечно, — отозвался Причард. — Это попросту постоянная отлучка без увольнительной в глубине страны. Только и всего.
— В глубине страны? — сказал Хупер. — А приметы его опубликованы?
— Это еще зачем? — спросил Причард грубо.
— Да ведь дезертиры передвигаются, как походные колонны во время войны. Понимаете ли, они всегда следуют определенным маршрутом. Я знаю, что одного такого молодчика поймали в Солсбери, откуда он хотел добраться до Ньясы.[340] Говорят, хоть сам я за это не поручусь, будто на Ньясе, в озерной флотилии, не принято задавать вопросы. Я слышал, что там один интендант с Пиренейско-Восточной линии командует боевым катером.
— Думаешь, Хруп подался в те края? — спросил Причард.
— Почем знать. Его послали в Блюмфонтейн забрать из форта боеприпасы, которые там остались. Известно, что он все получил и велел погрузить на товарные платформы. С тех пор Хрупа не видели — ни тогда, ни после. Случилось это четыре месяца назад, a casus belli[341] так и остался.
— Какие же у него приметы? — снова спросил Хупер.
— А что, железная дорога получает вознаграждение за поимку дезертиров? — сказал Причард.
— Неужто вы думаете, что я стал бы тогда затевать этот разговор? — сердито возразил Хупер.
— Больно уж вы любопытны, — сказал Причард не менее резко.
— А почему его прозвали «Хруп»? — спросил я, стараясь загладить досадную неловкость, которая возникла между ними.
Они разглядывали друг друга в упор.
— Потому что лебедку сорвало с места, — ответил Пайкрофт. — А заодно ему четыре зуба вышибло — нижние, слева по борту, верно я говорю, Прич? И хоть он раскошелился на вставные зубы, крепеж ему сделали, видать, со слабиной. Когда он разговаривал быстро, они малость качались да похрупывали. Отсюда и «Хруп». Его считали особенным человеком, так мы, на нижней палубе, полагали, хоть он и был просто долговязый, черноволосый, полукровка, только в разговоре обходительный.
— Четыре вставных зуба слева, в нижней челюсти, — сказал Хупер, сунув руку в жилетный карман. — А татуировка какая?
— Послушайте, — начал Причард и привстал, — мы, конечное дело, премного благодарны вам за гостеприимство, потому как вы нас уважили, но сдается мне, мы ошиблись…
Я взглянул на Пайкрофта, ожидая помощи. Хупер мгновенно побагровел.
— Ежели толстый сержант на полубаке соблаговолит снова бросить якорь и сохранить свой статус-кво, мы сможем потолковать как благородные люди — и, само собой, как друзья, — сказал Пайкрофт. — Мистер Хупер, он принимает вас за представителя закона.
— Я желаю только указать, что когда человек проявляет такое сильное, или, верней будет сказать, назойливое любопытство к чьим-то особым приметам, как вот наш друг…
— Мистер Причард, — вмешался я, — право, я могу поручиться за мистера Хупера.
— А ты изволь попросить прощенья, — сказал Пайкрофт. — Ты просто презренный грубиян, Прич.
— Но как же мне было… — начал он в нерешимости.
— Не знаю и знать не хочу. Проси прощенья!
Гигант огляделся растерянно и по очереди протянул нам свою огромную руку, в которой утонули наши ладони.
— Я был неправ, — сказал он кротко, как ягненок. — У меня нет причины вас подозревать. Мистер Хупер, я прошу прощенья.
— Вам не в чем себя упрекнуть, вы лишь соблюдали разумную осторожность, — сказал Хупер. — С незнакомым человеком я сам держался бы точно так же, понимаете ли. Если позволите, я хотел бы узнать подробней об этом мистере Викери. Понимаете ли, на меня можно положиться.
— Почему Викери сбежал? — начал я, но улыбка Пайкрофта побудила меня поставить вопрос по-другому: — Кто же она такая?
— Хозяйка небольшой гостиницы в Хаураки, близ Окленда, — сказал Пайкрофт.
— Черт побери! — взревел Причард, хлопнув себя по колену. — Неужто это миссис Батерст!
Пайкрофт тихонько кивнул, и сержант излил свое изумление, призывая в свидетели все адские силы.
— Насколько я понял, миссис Б. и была всему причиной.
— Но ведь Хруп был женат! — воскликнул Причард.
— И к тому же у него пятнадцатилетняя дочка. Он показывал мне фотографию. Это, так сказать, статья особая, а вообще видал ты когда-нибудь, чтоб на такие пустяки обращали внимание? Я вот не видал.
— Боже правый и вездесущий!.. Миссис Батерст… — И он взревел снова: — Что хочешь говори, Пай, все одно я не поверю, будто она виновата! Она не такая!
— Ежели я стану говорить, что хочу, то перво-наперво, скажу я тебе, ты глуп, как осел, и кипятишься безо всякой надобности. Я просто объясняю, чем дело кончилось. Мало того, в кои-то веки ты оказался прав. Она не виновата.
— Все одно я не поверил бы тебе, ежели б ты ее и виноватил, — услышали мы в ответ.
Такая преданность со стороны сержанта морской пехоты меня поразила.
— Оставим это! — воскликнул я. — Расскажите, что она за женщина.
— Она вдова, — сказал Пайкрофт. — Осталась без мужа совсем молоденькой и уже не искала новой пристани. Близ Окленда у нее была маленькая гостиница для младшего командного состава, она всегда носила черное шелковое платье, а шея у нее…
— Вот вы спрашиваете, что она за женщина, — перебил его Причард. — Позвольте, я вам расскажу один случай. В первый раз я попал в Окленд, когда «Марокканец» вернулся из плаванья в девяносто седьмом году, я как раз получил повышение и пошел вместе с другими. Она завсегда нам всем услужить старалась и в убытке не бывала ни разу — получала сполна, до последнего пенни! «Можете уплатить сейчас, — говорила она, — а можете и после рассчитаться. Я знаю, вы меня не обидите. Если что, пришлете деньги из дому». Ей-ей, братцы мои, я своими глазами видел, как эта женщина сняла с шеи золотые часики на цепочке и отдала одному боцману, который съехал на берег без своих часов и мог опоздать на последний катер. «Я не знаю вашего имени, — говорит она, — но когда они вам будут не нужны больше, справьтесь в порту, меня-то там знают многие. Попросите кого-нибудь передать». И будто стоили они не тридцать фунтов, а каких-нибудь полкроны. Маленькие золотые часики, Пай, с синей монограммой на крышке. Но я вот чего хотел сказать, в те времена было у нее пиво, которое пришлось мне по вкусу, — забористое такое. Я на него налегал при всякой возможности, немало бутылок раздавил, когда мы стояли в той бухте, — чуть не каждый вечер на берег съезжал. Как-то были мы с ней вдвоем, перебрасывались шуточками через стойку, ну я и говорю: «Миссис Б., когда я еще вернусь сюда, вы уж не позабудьте, что это пиво мне особенно полюбилось — как и вы сами. (Вот она какие дозволяла вольности!) Как и вы сами», — говорю. «Ах, сержант Причард, спасибо вам», — говорит она и поправляет завиток возле уха. Помнишь этот завиток, Пай?
— Известное дело, — сказал моряк.
— Да, стало быть, она говорит: «Спасибо вам, сержант Причард. Я это хотя бы замечу для памяти, на случай, если вы не передумаете. У моряков это пиво большим спросом не пользуется, говорит, но для верности я поставлю его поглубже на полку». Она отхватила кусок от ленты, которой у нее волосы были стянуты, ведь на стойке всегда лежал ножичек, чтоб сигары обрезать, — помнишь, Пай? — и повязала бантиками все бутылки, какие оставались, — четыре штуки. Было это в девяносто седьмом — или нет, даже в девяносто шестом году. В девяносто восьмом я ушел на «Стремительном» с китайской базы в дальнее плаванье. И только в девятьсот первом, заметьте, уже на «Картузианце», снова попал в Оклендскую гавань. Само собой, я вместе со всеми поехал к миссис Б. поглядеть, как и что. Там все было по-прежнему. (Помнишь, Пай, большое дерево на тротуаре возле входа?) Я слова еще не вымолвил (больно уж многие с ней норовили поговорить), но она меня сразу углядела.
— Разве это так трудно? — решился ввернуть я.
— Да погодите же. Иду я к стойке и вдруг слышу: «Ада, — говорит она своей племяннице, — подай сюда пиво, которое полюбилось мистеру Причарду». И, братцы мои, не успел я пожать руку хозяйке, а уж мои четыре бутылки с бантиками тут как тут, она откупоривает одну, поглядывает на меня исподлобья с этаким близоруким прищуром и говорит: «Надеюсь, сержант Причард, вы не передумали и верны всему, что вам полюбилось». Вот какая она была женщина — ведь целых пять лет прошло!
— А все-таки я не могу представить ее себе, — сказал Хупер, теперь уж благожелательно.
— Она… она в жизни своей не задумалась, ежели надобно было накормить неудачника или изничтожить злодея, — добавил Причард с пылкостью.
— Это мне тоже ничего не говорит. У меня самого мать была такая.
Гигант выпятил грудь под кителем и поднял глаза к потолку вагона. А Пайкрофт вдруг сказал:
— Скольких женщин по всему свету ты знавал близко, Прич?
Причард густо покраснел до корней коротких волос на шее, которая была толщиной в добрых семнадцать дюймов.
— Сотни, — сказал Пайкрофт.
— Вот и я тоже. А про скольких ты сохранил память в сердце, если не считать первую, и, допустим последнюю, — и еще одну?
— Таких мало, на удивление мало, самому совестно, — сказал сержант Причард с облегчением.
— А сколько раз ты был в Окленде?
— Один… два… — начал он. — Ей-ей, больше трех раз за десять лет не наберется. Но всякий раз, когда я видел миссис Б., мне памятен.
— И мне — а я был в Окленде только два раза, — запомнилось, где она стояла, и что говорила, и как выглядела. Вот в чем секрет. Не красота, так сказать, важна, и красивые слова говорить не обязательно. Главное — Это Самое. Бывает, женщина только пройдет по улице, и мужчине ее уж не забыть, но чаще всего проживешь с которой-нибудь целый месяц, а уйдешь в море, и уже, что называется, запамятовал даже, разговаривает она во сне или же нет.
— Ага! — сказал Хупер. — Кажется, я начинаю понимать. Я знал двух таких редкостных женщин.
— Но они же не виноваты? — спросил Причард.
— Ничуть. Уж это я знаю!
— А ежели кто влюбится в такую женщину, мистер Хупер? — продолжал Причард.
— Он сойдет с ума — или, наоборот, спасется, — последовал неторопливый ответ.
— Ваша правда, — сказал сержант. — Вы кой-чего испытали на своем веку, мистер Хупер. Мне это ясно.
Он поставил бутылку.
— А Викери часто ее видел? — спросил я.
— Это тайна, покрытая мраком, — отвечал Пайкрофт. — Я познакомился с ним недавно, когда начал плавать на «Иерофанте», да и там никто его не знал толком. Понимаете ли, он был, как говорят, человек особенный. В море он изредка заговаривал со мной про Окленд и про миссис Б. Потом я это припомнил. И думается мне, между ними много чего было. Но учтите, я только излагаю свое резюме, потому что все узнал с чужих слов или, верней сказать, даже и не со слов.
— Как так? — спросил Хупер настойчиво. — Вы сами должны были кое-что видеть или слышать.
— Да-а, — сказал Пайкрофт. — Раньше и я думал, что надо самому видеть и слышать, только тогда можно доложить обстановку по всей форме, но с годами мы делаемся менее требовательны. Наверно, цилиндры изнашиваются… Вы были в Кейптауне в прошлом декабре, когда приезжал цирк Филлиса?
— Нет, я отлучался по делам, — сказал Хупер, слегка раздосадованный тем, что разговор принял другое направление.
— Я потому спрашиваю, что они привозили научное достижение, новую программу, которая называлась «Родина и друзья за три пенса».
— А, это вы про кинематограф — когда показывают знаменитых боксеров и пароходы. Я видел такое во время поездки.
— Живая фотография, или кинематография, об том я и толкую. Лондонский мост с омнибусами, транспортное судно увозит солдат на войну, парад морской пехоты в Портсмуте, экспресс из Плимута прибывает в Паддингтон.
— Все это я видел. Все видел, — сказал Хупер с нетерпением.
— Мы на «Иерофанте» пришли в сочельник, и было нетрудно получить увольнительную.
— Мое такое мнение, нигде так быстро не соскучишься, как в Кейптауне. Даже Дурбан и то привольней. Мы туда заходили на рождество, — вставил Причард.
— Я не посвящен в тайны индийских пери, как говорил наш доктор интенданту, и судить не берусь. Но после учебных стрельб в Мозамбикском проливе программа Филлиса была совсем недурна. В первые два или три вечера я не мог освободиться, потому что вышла, так сказать, оказия с нашим командиром минной части, какой-то умник родом с Запада испортил гироскоп: но, помнится, Викери съехал на берег с корабельным плотником Ригдоном — мы его называли старина Крокус. Вообще-то Крокус оставался на борту всегда и всюду, его надо было чуть ли не лебедкой стаскивать, но уж если он отлучался, то потом его клонило книзу, как лилию под тяжестью росы. Мы его тогда сволокли в кубрик, но, прежде чем утихомирили, он изрядно наболтал про Викери, который оказался достойным собутыльником при таком водоизмещении и мичманском чине, причем выражался он, я бы сказал, крепко.
— Я плавал с Крокусом на «Громобое», — сказал Причард. — Норовистый малый, второго такого не сыщешь.
— На другой вечер я поехал в Кейптаун с Доусоном и Прэттом, но у самых дверей цирка мне подвернулся Викери. «А! — говорит он. — Тебя-то я и ищу. Давай сядем рядом. Пойдем вон туда, где билет шиллинг стоит!» Я стал отказываться, хотел пристроиться на корме, меня трехпенсовое место больше устраивало, по состоянию моих финансов, так сказать. «Да идем же, — говорит Викери. — Платить буду я». Само собой, я покинул Прэтта и Доусона в надежде, что он не только билеты купит, но поставит и выпивку. «Нет, — сказал он, когда я намекнул ему на это. — Не сейчас. Только не сейчас. Потом пей сколько влезет, а покамест мне надо, чтоб ты был трезвый». Тут я увидел его лицо при свете фонаря и сразу думать забыл о выпивке. Поймите правильно. Я не испугался от его вида. Но я встревожился. Не берусь вам это лицо описать, но так уж оно на меня подействовало. Ежели хотите знать, оно мне напомнило тех тварей в колбах, каких видишь у торговцев всякими диковинами в Плимуте — их в спирте хранят. Белые и морщинистые — еще не родившиеся, так сказать.
— У тебя низменные понятия, Пай, — заметил сержант, раскуривая погасшую трубку.
— Может быть. Так вот, мы сели в первом ряду, и вскорости началась картина «Родина и друзья». Когда появилось название, Викери тронул меня за колено. «Ежели увидишь что-нибудь неожиданное, — говорит, — шепни мне словечко», — и чего-то там еще хрупает. Мы увидали Лондонский мост и еще много всякого, и это было замечательно интересно. Сроду такого не видал. Что-то там такое жужжало, будто маленькая динамо-машина, но изображения были настоящие — они оживали и двигались.
— Я это смотрел, — сказал Хупер. — Ясное дело, ведь снимают то, что происходит на самом деле, — вы же понимаете.
— А потом на здоровенном экране стали показывать, как в Паддингтон прибывает почтовый поезд с Запада. Сперва мы увидали пустую платформу и носильщиков, которые стояли наготове. Вот показался паровоз, подошел к платформе, и женщины в первом ряду повскакивали с мест: он шел прямо на нас. Вот открылись дверцы вагонов, стали выходить пассажиры, носильщики потащили багаж — совсем как в жизни. Только… только когда кто-нибудь выступал слишком далеко вперед, к нам, эти люди, так сказать, будто сходили с экрана. Уверяю вас, мне было очень интересно. И всем остальным тоже. Я глядел, как один старик с пледом уронил книжку и нагнулся подобрать, но тут, следом за двумя носильщиками, неспешно выходит она — держит в руке сумочку и оглядывается по сторонам, — сама миссис Батерст. Походка у нее такая, что не спутаешь и среди сотни тысяч. Она прошла вперед — прямо вперед, — посмотрела на нас в упор с тем самым близоруким прищуром, про который Прич поминал. Она подходила все ближе, ближе, а потом исчезла, как… ну, как мелькает тень при свечке, и тут я услыхал, что Доусон в заднем ряду вскрикнул: «Черт подери! Да это же миссис Б.!»
Хупер проглотил слюну и подался вперед, внимательно слушая.
— Викери снова тронул меня за колено. Он хрупал четырьмя вставными зубами и разевал рот, словно помирать собрался. «Ты уверен, что это она?» — говорит. «Уверен, — говорю, — разве вы не слыхали, как Доусон подал голос? Она самая и есть». — «Я еще раньше был уверен, — говорит он, — но позвал тебя, чтоб увериться окончательно. Пойдешь со мной завтра снова?»
— «Охотно, — говорю, — ведь похоже, будто тут встречаешь старых друзей».
— «Да, — говорит он, вынимает часы и открывает крышку. — Очень похоже. Теперь я ее увижу опять через двадцать четыре часа без пяти минут. Пойдем выпьем, — говорит. — Тебе это, может быть, доставит удовольствие, а мое дело все равно пропащее». Он вышел на улицу, и голова у него тряслась, и он спотыкался об чужие ноги, точно уже был пьян. Я думал, мы быстро выпьем и сразу вернемся, потому что хотел поглядеть дрессированных слонов. Но Викери заместо этого пустился в плаванье по городу, причем немало узлов мы делали и приблизительно через каждые три минуты по Гринвичу заходили в бар. Я человек непьющий, хотя кое-кто из присутствующих, — тут он искоса бросил в мою сторону выразительный взгляд, — может, и видел меня в некотором смысле хмельным после обильного возлияния. Но уж когда я пью, то предпочитаю бросить якорь в спокойном месте, а не носиться при этом со скоростью в восемнадцать узлов, отмеряя мили. Вон там, в горах, за большим отелем, есть водоем — как это называется?
— Молтенский резервуар, — сказал я не совсем уверенно, и Хупер кивнул.
— Оттуда он, наконец, повернул назад. Пришли мы туда, а спустились через парк — ветер был юго-восточный — да задержались возле доков. Потом двинулись по дороге к Соленой речке, и Викери в каждый трактир заходил исправно. Он пил без разбору и платил без сдачи. Шел дальше и снова пил, и пот тек с него ручьями. Тогда я понял, почему старина Крокус вернулся в таком виде, ведь мы с Викери скитались, как цыгане, два с половиной часа, а когда добрались до порта, я весь взмок и пропитался спиртным.
— Говорил он что-нибудь? — спросил Причард.
— С девятнадцати сорока пяти до двадцати трех пятнадцати я за весь вечер в общем итоге только и слышал от него: «Давай еще по одной». И было утро, и был вечер, день один, как сказано в Писании… Короче говоря, пять вечеров кряду я ездил в Кейптаун с мичманом Викери и за это время прошел по суше добрых полсотни миль да влил в себя два галлона самого скверного пойла, какое только можно найти к югу от экватора. Маневрировали мы всегда одинаково. Два билета по шиллингу на двоих, пять минут продолжалась картина, и, может, какие-нибудь сорок пять секунд миссис Б. шла к нам да глядела с прищуром и несла в руке сумочку. Потом мы отправлялись на улицу и пили до отхода поезда.
— Что вы об этом думали? — спросил Хупер, ощупывая жилетный карман.
— Всякое, — ответил Пайкрофт. — По правде сказать, я и сейчас ни до чего не додумался. Помешательство? Этот человек давно с ума спятил — уже много месяцев, а может, и лет. Я кое-что знаю про одержимых, как положено всякому военному моряку. Я служил под началом у безумного капитана, и служил вместе с совершенным психом, но, славу богу, порознь. Я мог бы назвать вам троих капитанов, которым место в сумасшедшем доме, но я никогда не связываюсь с душевнобольными, покуда они не кидаются на людей с кувалдой или рукоятью от лебедки. Один-единственный раз рискнул я выйти против ветра наперекор мичману Викери. «Любопытно, что она делает в Англии, — говорю. — Вам не кажется, будто она кого-то ищет?» Мы были тогда в парке, снова бродили, как неприкаянные, и дул юго-восточный ветер. «Она ищет меня», — говорит он, останавливается, как вкопанный, под фонарем и хрупает. Когда он пил, все его зубы стучали по рюмке, а обычно четыре вставных трещали, словно аппарат Маркони. «Да! Она ищет меня, — говорит он и продолжает очень мягко, даже, можно сказать, ласково. — Но, — продолжает он, — впредь, мистер Пайкрофт, я буду вам глубоко признателен, если вы ограничитесь разговорами о выпивке, которую вам ставят. Иначе, — говорит, — хоть я и питаю к вам самые наилучшие чувства, не исключено, что я совершу убийство! Вы меня понимаете?» — говорит. «Прекрасно понимаю, — говорю, — но будьте спокойны, в таком случае с одинаковой вероятностью и вас можно убить, и меня укокошить». — «Ну нет, — говорит он. — Я даже думать боюсь о таком искушении». Тогда я сказал — мы стояли прямо под фонарем за воротами парка, возле конечной остановки трамвая: «Предположим, дойдет до убийства — или до покушения на убийство, — уверяю вас, все равно вы, как говорится, получите такое увечье, что вам не уйти от полиции, — а там придется давать объяснения, — это совершенно неизбежно». — «Так лучше, — говорит он и потирает лоб. — Так гораздо лучше, потому что, — говорит, — знаешь ли, Пай, в теперешнем состоянии я вряд ли могу чего-нибудь объяснить». Сколько мне помнится, только эти самые слова я и слышал от него во время наших прогулок.
— Ну и прогулки, — сказал Хупер. — Ох, господи, ну и прогулки!
— Они были похожи на неизлечимую болезнь, — сказал Причард серьезно, — но я не думал об опасности, покуда цирк не уехал. А потом я подумал, что теперь его лишили подкрепляющего средства и он может, так сказать, приняться за меня, еще ножом пырнет. Поэтому, когда мы в последний раз поглядели картину, а потом прогулялись по трактирам, я стал держаться подальше от своего начальника на борту, как говорится, при несении службы. И поэтому я заинтересовался, когда вахтенный, в то время как я исполнял свои обязанности, сказал мне, что Хруп испросил разрешения поговорить с капитаном. Вообще-то младшие офицеры не отнимают много времени у командира корабля, но Хруп оставался за его дверью больше часа. Дверь эта была мне видна с того места, где я находился по службе. Сперва вышел Викери и, право слово, кивнул мне с улыбкой. Тут меня будто веслом огрели по голове, ведь я видел его лицо пять вечеров кряду, и всякая перемена в нем казалась мне такой же немыслимой, как охлаждающая система в аду. Капитан появился немного погодя. По его лицу и вовсе ничего нельзя было понять, так что я обратился к рулевому, который прослужил с ним восемь лет и знал его лучше, чем морскую сигнализацию. Лэмсон — этот самый рулевой — несколько раз медленно перекрестил свой форштевень и спустился ко мне, явно озабоченный. «Суровое лицо, жди расправы, — говорит Лэмсон. — Кого-то теперь вздернут. Такое выражение я у него только один раз видал, когда на «Фантастике» пошвыряли за борт орудийные прицелы». А по нынешним идиотским временам, мистер Хупер, выбросить за борт орудийные прицелы значит то же самое, что мятеж поднять. Делают это, чтоб привлечь внимание властей и газеты «Утренние новости», — обычно какой-нибудь кочегар управляется. Само собой, слух распространился на нижней палубе, и все мы стали проверять, нет ли у кого греха на совести. Но ничего серьезного не обнаружили, только один из кочегаров признался, что чужая рубашка как-то сама собой перекочевала к нему в сундучок. Капитан, так сказать, поднял сигнал «всем присутствовать при смертной казни», но на рее никого не вздернули. Сам он позавтракал на берегу и вернулся около трех часов пополудни, причем лицо у него было самое будничное, как всегда во время стоянки. Лэмсон лишился общего доверия, потому что поднял ложную тревогу. И только один человек, а именно некий Пайкрофт, мог связать концы с концами, когда узнал, что мистеру Викери приказано в тот же вечер отбыть за боеприпасами, которые остались после войны в Блюмфонтейнском форту. Никого не отрядили под начало мичману Викери. Он был назван в единственном числе — как отдельное подразделение — без сопровождающих.
Сержант многозначительно свистнул.
— Вот я о чем думал, — сказал Пайкрофт. — Мы с ним съехали на берег в одном катере, и он попросил проводить его немного. Он громко хрупал зубами, но вообще-то был веселехонек.
— Может, тебе любопытно будет узнать, — говорит он и останавливается прямо напротив ворот Адмиральского сада, — что завтра вечером цирк Филлиса дает представление в Вустере. Стало быть, я увижу ее снова. Ты много от меня натерпелся, — говорит.
— Послушайте, Викери, — сказал я, — мне эта история до того надоела, просто сил никаких нет. Вы уж сами разбирайтесь. А я больше знать ничего не хочу.
— Ты! — сказал он. — Тебе-то на что жаловаться? Ты просто глядел со стороны. Во мне все дело, — говорит, — но, впрочем, это неважно. И прежде чем пожать тебе руку, я скажу только одно. Запомни, — говорит (мы стояли у самых ворот Адмиральского сада), — запомни, я не убийца, потому что моя законная жена умерла от родов через полтора месяца после того, как я ушел в море. Хоть в этом я, по крайней мере, не повинен, — говорит.
— Что ж вы тогда особенного сделали? — сказал я. — Что в итоге?
— В итоге, — говорит, — молчание.
Он пожал мне руку, захрупал зубами и отправился в Саймонстаун, на станцию.
— А сошел он в Вустере, чтоб поглядеть на миссис Батерст? — спросил я.
— Это неизвестно. Он явился в Блюмфонтейн, велел погрузить боеприпасы на товарные платформы, а потом исчез. Скрылся — дезертировал, если вам угодно, — а ведь ему оставалось всего полтора года до пенсии, и, если он правду сказал про свою жену, выходит, он был тогда свободным человеком. Как, по-вашему, это понимать?
— Бедняга! — сказал Хупер. — Видеть ее вот так каждый вечер! Не знаю уж, что он чувствовал.
— Я ломал себе голову над этим много долгих ночей.
— Но я готов поклясться, что миссис Б. тут не в чем попрекнуть, — сказал сержант с твердостью.
— Нет. В чем бы ни заключалось злодейство или обман, это его рук дело, я уверен. Мне пришлось видеть его лицо пять вечеров кряду. И я не имею особой охоты бродить по Кейптауну в такие вот дни, когда дует юго-восточный ветер. Я, можно сказать, слышу, как хрупают эти самые зубы.
— А, зубы, — сказал Хупер и снова сунул руку в жилетный карман. — Вечно эти вставные зубы. Про них можно прочитать в любом отчете, когда судят убийцу.
— Как вы полагаете, капитан что-нибудь знал — или сам сделал? — спросил я.
— Никаких поисков в этом направлении я не предпринимал, — ответил Пайкрофт невозмутимо.
Все мы задумались и барабанили пальцами по пустым бутылкам, а участники пикника, загорелые, потные, запорошенные песком, прошли мимо вагона, распевая песенку «Жимолость и пчела».
— Вон та девушка в шляпке недурна собой, — заметил Пайкрофт.
— И его приметы не были опубликованы? — сказал Причард.
— Перед приходом этих джентльменов, — обратился ко мне Хупер, — я спросил у вас, знаете ли вы Уанки — по дороге к Замбези — за Булавайо.[342]
— Неужто он подался туда, чтоб добраться до того озера, — как бишь оно называется? — спросил Причард.
Хупер покачал головой и продолжал:
— Там, понимаете ли, очень своеобразная железнодорожная линия. Она пролегает через дремучий тиковый лес — верней, там растет что-то вроде красного дерева — семьдесят две мили без единого поворота. И случается, на перегоне в сорок миль поезд двадцать три раза с рельсов сходит. Я побывал там месяц назад, заменял больного инспектора. Он меня попросил отыскать в лесу двоих бродяг.
— Двоих? — сказал Пайкрофт. — Не завидую я второму, если только…
— После войны в тех краях много бродяг развелось. Инспектор сказал, что этих я найду возле М'Бвиндской ветки, где они дожидаются случая уехать на север. Он, понимаете ли, оставил им немного еды и хинина. Я выехал на поезде с ремонтной бригадой. Решил их отыскать. Увидел я их далеко впереди, они дожидались у леса. Один стоял возле тупика в начале боковой ветки, а другой, понимаете ли, сидел на корточках и глядел на него снизу.
— Помогли вы им чем-нибудь? — спросил Причард.
— Помочь я уже не мог ничем, разве только их похоронить. Там, понимаете ли, гроза прошла, и оба они были мертвые и черные, как уголь. От них, понимаете ли, ничего не осталось — только уголь. Когда мы попробовали сдвинуть их с места, они развалились на куски. У того, который стоял, были вставные зубы. Я сразу заметил, как эти зубы блестели в черноте. Он тоже развалился, как и его спутник, что сидел на корточках, обоих ливень насквозь промочил. После того как оба сгорели, превратились в уголь. И еще — потому я и спрашивал про приметы — у мертвеца со вставными зубами была татуировка на груди и у плеч — корона и якорь, обвитый цепью, а поверху буквы М. В.
— Это я видел, — поспешно подтвердил Пайкрофт. — Все точно.
— Но ведь от него один уголь остался? — спросил Причард, содрогаясь.
— Знаете, как на сожженном письме проступают белые строчки? Ну вот и там, понимаете ли, было что-то в этом роде. Мы похоронили останки, и я взял себе… Но он был вашим другом, джентльмены.
Мистер Хупер убрал руку из кармана — не вынув ничего.
Причард на миг закрыл лицо ладонями, словно испуганный ребенок.
— Как сейчас вижу ее в Хаураки! — пробормотал он. — И те бантики на моих бутылках. «Ада», — говорит она племяннице… О боже!..
Пышно жимолость цветет, летний вечер настает,
Воздух тих и недвижим,
Вся природа отдыхает, дивно сад благоухает,
И сидит красотка с возлюбленным своим, —
пели участники пикника, ожидая поезда на станции Гленгарифф.
— Не знаю, право, что вы об этом думаете, — сказал Пайкрофт, — но я видел его лицо целых пять вечеров кряду, а потому намерен допить остатки пива и возблагодарить бога за то, что этот человек умер!
007
Если не считать судовой машины, локомотив — самое чувствительное создание человеческих рук. А локомотив 007 был не только чувствительный, но и новехонький. Еще не обсохла красная краска на его чистеньких амортизаторах, головной фонарь сиял, как пожарная каска, а будка напоминала небольшую гостиную, обшитую дубовыми панелями. После испытаний 007 вкатили в паровозное депо — в мастерских он распрощался со своим лучшим другом, мостовым краном, — и большой мир был теперь совсем рядом. Другие локомотивы придирчиво уставились на 007, а он разглядывал полукружие нагловатых, немигающих буферных фонарей, прислушивался к тому, как негромко урчит и бормочет пар под присмотром манометра — сколько гонора в его презрительном шипении, когда нерадивый предохранительный клапан чуть уступает напору! — и готов был пожертвовать месячной нормой смазочного масла, только бы провалиться сквозь собственные колеса прямо в кирпичную смотровую яму внизу. 007, американский локомотив о восьми ведущих колесах, несколько отличался от своих собратьев, отмеченных той же маркой, и в торговых книгах компании оценивался в десять тысяч долларов. Но случись вам его купить по цене, назначенной им самим, проторчавшим полчаса в гулком подслеповатом депо, вы наверняка сэкономили бы девять тысяч девятьсот девяносто девять долларов и девяносто восемь центов.
Тяжелый товарный локомотив «Могол», оснащенный коротким каукетчером и топочной коробкой, на три дюйма не достававшей до рельсов, начал ехидничать, обратившись к приехавшему с визитом локомотиву «Питсбург консолидейшн»:
— И откуда такое принесло? — спросил он, задумчиво выпустив струю белесого пара.
— Только мне и дела, что рассматривать сзади ваши номера, — последовал ответ, — наверняка его вытащили из хлама покойного Питера Купера.
007 вздрогнул; все внутри у него кипело, но язык он прикусил. Любой дрезине известно, что это был за локомотив, с которым бился Питер Купер в давние тридцатые годы. Сам чуть побольше велосипеда, а вода и уголь — в двух бочонках, годных разве что для яблок. Но тут в беседу вмешался новенький маневровый паровозик; перед буфером у него торчала ступенечка, а колеса так тесно жались друг к другу, что напоминал он необъезженную лошадь, которая вот-вот взбрыкнет.
— С дорогами явный непорядок, раз пенсильванский товарняк осмеливается разбирать по косточкам нашего брата. Этот малыш сработан хоть куда. По чертежам Юстеса, как и я сам. Чего же вам еще надо?
007 мог бы покатать этого маневрового в своем тендере по всей сортировке, но все равно был ему благодарен за эту утешительную поддержку.
— У нас в Пенсильвании дрезин в помине нет, — сказал «Консолидейшн». — А этот червяк так стар и уродлив, что сам за себя говорит.
— Это вы за него говорите, а он еще и рта не раскрыл. Неужто в Пенсильвании забыли, что такое хорошие манеры? — спросил маневровый.
— Сидеть бы тебе в парке, Коротыш, — строго заметил «Могол», — тут место для нас, дальневозов.
— Вольно вам так думать, — отозвался малыш. — Впрочем, к утру вы поймете что к чему. Я был на семнадцатом пути, сколько там товарных скопилось — ужас!
— У меня своих хлопот вагон и маленькая тележка, — заговорил, сверкая тормозами, поджарый, легкий локомотив пригородного сообщения. — Мои клиенты не угомонились, пока не заполучили салон-вагон. Прицепили его к хвосту, а легче снегоочиститель тащить, чем эту штуку. Но я его все равно спихну, уж будьте спокойны. Как они тогда станут всех поносить, кроме себя, конечно, болваны несчастные! Может, в следующий раз надумают прицепить курьерский!
— А ты родом из Нью-Джерси? — спросил Коротыш. — Так я и думал. Возить пассажиров и контейнеры — удовольствие ниже среднего, но, знаешь, все же получше, чем вагоны-ледники или нефтецистерны. Не веришь? Как-то раз я тащил…
— Тащил? Ты? — презрительно фыркнул «Могол». — Да ты вагон-ледник — и тот до сортировки не дотолкаешь. Вот я, — он помедлил, чтобы придать словам большую весомость, — я вожу скорый товарный состав, ни много ни мало — одиннадцать вагонов. Ровно в одиннадцать трогаюсь с места и дую, как положено, по тридцать пять миль в час. Грузы ценные, грузы скоропортящиеся, бьющиеся, срочные — и все это я. Что на пригородных ветках бездельничать, что маневровым лодырничать — разница небольшая. Товарный экспресс — вот это дело.
— Должен сказать, бахвалиться я не люблю, — начал «Питсбург консолидейшн».
— Не любишь? Вот тебя сюда и загнали за то, что на подъеме еле ползешь.
— Там, где я ползу, ты, Коротыш, пар испустишь. Повторяю, бахвалиться я не люблю, но если уж хотите знать, кто проворно товарный состав тащит, так посмотрите на меня, когда я, весело посвистывая, лечу по Аллеганам и тридцать семь платформ за мной, а тормозные кондуктора знай от воров отбиваются, им и гудок дать недосуг. Приходится самому сбавлять скорость. И ни разу нитки не пропало. Нет, сэр, тянуть вагоны одно, а осторожность да смекалка — другое. А при моей работе нужна смекалка.
— И вас не парализует сознание такой страшной ответственности? — послышался из угла чей-то странный охрипший голос.
— Это еще кто? — шепотом спросил 007 у пригородного из Нью-Джерси.
— Пробная машина «Компаунд» смешанной конструкции — «Новая Гренада». Полгода маневровым отиралась, остальное время в мастерских канителилась. На угле экономит (попросту скупится), зато из ремонта не вылезает. Гм, я полагаю, мадам, что после нью-йоркской жизни Бостон кажется вам захолустьем?
— Когда я одна, у меня особенно много дела. — Система «Компаунд» говорила как бы в дымовую трубу.
— Все понятно, — непочтительно шепнул Коротыш, — она и на сортировке не нужна.
— Работа в Бостоне ближе моему духовному и физическому складу, и я нахожу вашу outrecuidance…[344]
— Какой еще баланс? — спросил «Могол». — По мне и обыкновенные поршни хороши.
— Пожалуй, вернее сказать — ваша faroucherie,[345] — прошипела машина «Компаунд».
— А я ничего не имею общего с такими жестянками вроде вас, — не сдавался «Могол».
«Компаунд» вздохнула с пренебрежительной жалостью и больше не промолвила ни слова.
— Каких только кривляк не бывает на свете! — сказал Коротыш. — Эти массачузетцы все такие. Никак с места не могут взять — ну, прямо ни туда и ни сюда, и еще ругаются, когда их за дело поносят. Да, к слову о Бостоне: «Коменчи» вчера вечером рассказывал мне, будто в пятницу около Ньютонса у него буксы загорелись. Поэтому, дескать, и пассажирский задержался. Ох, и мастер заливать этот «Коменчи»!
— Да услышь я такое даже в мастерских, стоя, раздетый, без котла, я и то сразу бы понял, что «Коменчи» опять врет, — вмешался пригородный из Нью-Джерси. — Буксы загорелись! А дело было так: ему прицепили лишний вагон, и он на первом же подъеме скапутился, да как взвоет! Пришлось сто двадцать седьмой на подмогу послать. Буксы загорелись, тоже выдумал. А перед тем рассказывал, будто под откос свалился. Смотрел мне прямо в головной фонарь и врал, да так спокойно — не локомотив, а сущая водоцистерна на платформе! Буксы! Ты у сто двадцать седьмого спроси, как было дело. «Коменчи» перевели на запасной путь, а сто двадцать седьмой (его вызвали в десять вечера, и он просто бесился от злости) подцепил его вагоны и домчал их за семнадцать минут до Бостона. Буксы! Пули отливает этот «Коменчи», вот что!
И тут 007, собравшись, как говорится, со своими колесами, спросил, что это значит — «загорелись буксы».
— Да чтоб мне колокольчик в голубой цвет выкрасили! — завопил Коротыш. — Чтоб меня в трамвай с деревянными ободьями на колесах превратили. Чтоб меня разломали и переплавили в пятицентовые волчки на радость уличным торговцам! Этот восьмиколесный американец не знает, что такое «буксы загорелись». Ты, может, и про стоп-кран никогда не слыхал и для чего тебе винтовые домкраты приданы? Прямо святая невинность — тебя наедине с твоим собственным тендером оставлять страшно! Эх ты, платформа!
Не успели остальные и словечко вставить, как Коротыш со свистом выпустил струю пара, а у 007 от обиды краска чуть волдырями не пошла.
— «Загоревшиеся буксы», — заговорила машина «Компаунд», выбирая и взвешивая каждое слово, точно уголь, — означают наказание, понесенное за превышение скорости по неопытности. Гм…
— «Загоревшиеся буксы»! — воскликнул пригородный из Нью-Джерси. — Это цена, которую наш брат платит за ездовую горячку. Уже несколько лет со мной такого не бывало. Эта хвороба редко пристает к паровозам ближнего следования.
— У нас в Пенсильвании о ней даже и не слыхали, — заметил «Консолидейшн». — Ньюйоркцы — те ею часто болеют… Вроде как нервное переутомление.
— Иди ты… в депо подальше! — сказал «Могол». — Думаешь, если у вас в горах профиль дорог похуже наших, так ты и впрямь аллеганский ангел. Я тебе сейчас объясню, кто ты такой… А вот и моя бригада появилась. Ладно, мне пора; может, еще увидимся, тогда и договорим!
И «Могол» величественно, точно военный корабль в час прилива, отбыл к поворотному кругу, развернулся и встал на свой путь.
— А ты, зеленый кофейник (это относилось к 007), катись отсюда, малость подучись, а уж потом лезь в компанию к тем, кто за неделю столько миль отмахивает, сколько у тебя за год не наберется. Грузы ценные, скоропортящиеся, бьющиеся, срочные — и все это я. Пока!
— Да лопни мой котел, если дозволено так невежливо обходиться с новичком! — воскликнул Коротыш. — Ты за что над ним измываешься? Видно, когда стыд делили, «Могол» заправляться водой ходил. А ты, малый, не тушуйся, дыми вовсю! Сейчас и нас с тобой позовут.
Люди в паровозном депо разговаривали на высоких нотах. Один, в заскорузлой от пота шерстяной фуфайке, говорил, что в парке нет ни одного лишнего локомотива. Другой, потрясая скомканной бумажкой, кричал, что начальник сортировочной велел отвинтить голову тому, кто откажет в локомотиве. Тогда первый замахал руками и спросил, не думает ли начальник, что он прячет локомотивы в карманах. Потом появился мужчина в длинном черном пиджаке, без воротничка, весь мокрый, так как стоял жаркий августовский вечер, и сказал, что раз сам велел, значит, и спорить не о чем. И с помощью этих троих локомотивы двинулись с места — сначала машина «Компаунд», потом «Консолидейшн» и, наконец, 007.
Надо признаться, где-то в самых глубинах топки 007 лелеял надежду на то, что по окончании испытания его с песнями и криками выведут из депо и под присмотром самоуверенного, благообразного машиниста прицепят к зелено-шоколадному курьерскому составу. Машинист потреплет его по спине, посюсюкает над ним и назовет своим арабским скакуном. (Парни в мастерских, где он появился на свет, не раз читали вслух удивительные рассказы про железнодорожную жизнь, и 007 надеялся, что с ним тоже случится что-нибудь необыкновенное.) Но на залитой электрическим светом, лязгающей и грохочущей сортировке не очень-то много было курьерских составов, и машинист 007 сказал:
— Что за дурацкий инжектор вставил Юстес в эту машину? — И, сердито двигая рычагом, закричал: — Как на этой штуковине прикажете маневрировать?
Человек без воротничка отер лицо и ответил, что на сортировке такое творится, и все забито товарными составами, и пр. и пр., и ничего не попишешь: придется машинисту маневрировать, пока вторые петухи не запоют.
007 робко выдвинулся вперед, причем душа у него ушла в самые скаты; он так нервничал, что от звяканья собственного колокольчика чуть не соскочил с рельсов. Спереди и сзади качались и приплясывали фонари; с боков по шести рельсовым путям, грохоча сцепками, визжа тормозами, сновали туда-сюда составы в таком количестве, какое 007 и не снилось. Тут были и нефтецистерны, и вагоны для перевозки сена, и вагоны, набитые мычащей скотиной, эти — для руды, те — для картофеля, с печками посередке. Вагоны-ледники и рефрижераторы, из которых ледяная вода сочилась прямо на рельсы, и снабженные вентиляцией вагоны для фруктов, и молочные цистерны; платформы с контейнерами, набитыми товаром; платформы, груженные жатками и сноповязалками всех цветов радуги — красными, зелеными, золотистыми в слепящем электрическом свете; платформы с остро пахнущими бычьими шкурами, душистыми досками тсуги или рулонами гонта; платформы, гнущиеся под тяжестью тридцатитонного литья, углового железа и болтов для строительства какого-то нового моста, — и опять сотни, сотни товарных вагонов — груженые, запертые, с меловыми отметинами на стенках. Мужчины — потные и сердитые — ползали под тысячами колес, около них и между ними. Они стремительно перелезали через будку 007, стоило ему на минуту остановиться, потом усаживались на каукетчер, когда 007 трогался с места, и забирались в тендер, когда он давал задний ход. И целые отряды бегали по крышам товарных вагонов, проверяли тормоза, махали руками и выкрикивали весьма занятные слова.
007 то толкали вперед на один фут, то откатывали назад на четверть мили так стремительно, что его ведущие колеса гремели и дребезжали. Потом резко переводили на стрелку (а стрелки на сортировке очень короткие и неудобные). Прицепляли то один, то другой товарный состав, а 007, не имея понятия об этом, не сразу мог сдвинуться с места. И так без конца. Едва он набирал скорость, как кто-то отцеплял несколько вагонов. 007 делал рывок, но тут же натыкался на тормоз и сбавлял ход, икая от натуги. Потом несколько минут переводил дух, ослепленный пляской фонарей, оглушенный бренчанием колокольчиков, одуревший от мелькания нескончаемых составов. Тормозной насос выжимал сорок ударов в минуту, переднее сцепление свешивалось с каукетчера, как язык уставшей собаки, а весь его корпус покрывала полусгоревшая сажа.
— С тендером тяжело маневрировать, — заметил его малорослый приятель по депо, рысью пролетая мимо, — но ты держишься молодцом. Видал когда-нибудь маневровый скорый? Нет? Так посмотри на меня.
Коротыш тащил двенадцать тяжелых платформ. Вдруг с резким джиком оторвался от них. Впереди в полумраке замаячила стрелка. Он по-кроличьи шмыгнул к ней, что-то сзади щелкнуло, и двенадцатифутовая цепь платформ, доверху нагруженных бревнами, угодила в объятия тяжелого товарного локомотива, который протяжным гудком расписался в получении груза.
— На всей сортировке один мой хозяин умеет такие трюки отмачивать, — вернувшись, сказал Коротыш. — Когда какой-нибудь другой дурак за это дело берется, меня прямо колотит, как в лихорадке. Вот что значит короткая колесная база! Тебе такое не с руки — живо оторвет тендер.
007 не испытывал подобных честолюбивых желаний и так прямо и сказал Коротышу.
— Не хочешь? Конечно, дело это тебе несподручное, но разве не интересно? Начальника сортировки видал? Самый главный человек на земле, не забывай об этом! Когда кончим, спрашиваешь? Да никогда, братец. Так днем и ночью, всю неделю, и в будни и в праздник работаешь. Видишь, вон состав из тридцати вагонов по четвертому, нет, по пятому пути катит? Каких там только грузов нет! Сюда его пригнали, чтобы рассортировать вагоны и составить потом прямые поезда. Вот мы и отцепляем по одному вагону.
Сказав так, Коротыш с силой подтолкнул платформу западного следования и, слегка фыркнув от удивления, отпрянул назад, потому что платформа оказалась его старой приятельницей.
— Лопни мои сцепления, если это не беспризорница Кэт! Ты что же своих друзей забросила? Тут за тобой сорок гонцов уже было с твоей дороги. Кто теперь тебя заполучил?
— Сама бы узнать не прочь, — захныкала беспризорница Кэт. — Хозяева мои из Топеки, сама побывала и в Седэр Репидз, и в Виннипеге, и в Ньюпорт Ньюз, исколесила всю старую Атланту и Вест Пойнт и Буффало не обошла. Сейчас, наверно, застряну в Гаверстро. Каких-нибудь десять месяцев дома не была, а уж так стосковалась по своим — ужас как тянет вернуться.
— Давай в Чикаго, Кэти, — сказал маневровый, и старая, облезлая платформа, грохоча и подпрыгивая, лениво покатила по рельсам.
— Хочу поспеть в Канзас ко времени, когда подсолнухи зацветут.
— Таких беспризорниц Кэт да бродяг Уилли на сортировке хоть пруд пруди, — растолковывал маневровый номеру 007, — я знал старую платформу из Фитчбурга, которая дома не была целых семнадцать месяцев. А одна из наших вернулась сюда только через пятнадцать месяцев. Прямо ума не приложу, как наши хозяева это устраивают. Наверное, меняют нас местами. Я-то свое дело сделал. Теперь Кэти на пути в Канзас через Чикаго. Но держу пари на месячный запас угля — она обязательно застрянет в Чикаго, будет на побегушках у грузополучателя, а осенью ее к нам опять с пшеницей пригонят.
В эту минуту мимо них прошел «Консолидейшн», таща за собой двенадцать вагонов.
— Домой еду, — гордо заявил он.
— Да ты не разместишь столько вагонов на пароме! Возьми их в два приема, хвастунишка! — крикнул ему вслед Коротыш.
Но тут 007 подогнали к шести последним вагонам, и он чуть не взорвался от удивления, обнаружив, что толкает их прямиком к огромному парому. До сих пор 007 видел вокруг себя только твердую почву, а тут оторопел, когда паром отчалил и колеса его на шесть дюймов погрузились в черную, маслянистую воду.
Потом 007 быстро погнали к пакгаузам, где он увидел начальника сортировки — приземистого белолицего человека в рубашке, брюках и стоптанных башмаках. Он поглядывал на море тележек, толпу горланящих грузчиков и эскадроны лошадей, которые пятились, поворачивались, выбивали копытами искры.
— Это с тележек товар перебрасывают в контейнеры, — благоговейно заметил маневровый, — но главный-то на грузчиков ноль внимания. Пускай чертыхаются. Он тут сам царь и бог — хозяин! Стоит ему сказать: «Будьте так любезны», — как они ему в ноги падают и молятся. Несколько составов успеют нагрузить, прежде чем он обратит на них внимание. Стоит ему рукой махнуть, и дело само начинает делаться.
Нагруженный состав отходил по одному пути, а по другому ему на смену прибывал порожний. Тюки, корзины, ящики, банки, бутыли, тростниковые плетенки, коробки, пакеты прямо прыгали в вагоны, точно те были магнитом, а грузы — железной стружкой.
— Ну как? — воскликнул Коротыш. — Разве не здорово?
Краснорожий грузчик протиснулся к начальнику сортировки и потряс кулаком у него под носом. Тот даже не оторвал глаз от накладных. Только слегка согнул указательный палец, и молодой верзила в красной рубахе, который околачивался возле, ударил грузчика в левое ухо, да так, что тот, застонав и крякнув, рухнул на кипу сена.
— Одиннадцать, семь, девяносто семь, четырнадцать ноль ноль три; девятнадцать тринадцать; один один четыре; семнадцать ноль двадцать один и десять западного направления. Все прямо до станции назначения, кроме двух последних. Их на узловую. Порядок. Отгоните состав.
Начальник сортировки кроткими синими глазами глянул поверх горланящих грузчиков, остановил взгляд на залитой луною водной глади и замурлыкал:
Земную твердь прекрасную,
И дух людской, и плоть,
И злак, и тварь безгласную —
Все сотворил господь.[346]
007 откатил вагоны и передал их обычному товарному локомотиву. Никогда в жизни он не казался себе таким ничтожным!
— Занятно? — спросил Коротыш, попыхивая на соседнем пути. — Ведь попадись начальник нам под буфера, осталась бы от него красная лужица, а мы даже и не заметили бы. Смотри, как он весь внутри кипит, а вида не подает.
— Что тут говорить, — ответил 007. — У меня при нем точно огонь в топке глохнет и пар весь выходит. Да, он самый главный человек на земле.
К тому времени они уже стояли в дальнем, северном конце сортировки, у будки стрелочника, и глядели на четырехколейное железнодорожное полотно. Состав, приведенный 007-м, был передан бостонской даме «Компаунд», и ей предстояло теперь тащить его по не очень исправному полотну до узловой станции, и она весьма сокрушалась из-за девяностошестифунтовых рельсов.
— Вы так молоды, так молоды, — откашливалась она. — Вы не сознаете всей вашей ответственности.
— Всё он сознает, — отрезал Коротыш, — только не плачется, как некоторые. — Он выбросил вбок струю пара, точно сплюнул. — Грузу у нее тысяч на пятнадцать, а кряхтит, будто его на все сто, — такая воображала, вроде «Могола». Простите, мадам, но путь для вас открыт… Сейчас опять застрянет, как мертвая, куда уж ей!
Переползая с колеи на колею, машина «Компаунд» медленно двигалась по длинному уклону, тяжко охала на каждой стрелке, переваливаясь, как корова в сугробах. Когда потом ее буферные фонари пропали из виду, на сортировке наступила краткая пауза. Стрелки, щелкнув, перевелись и словно замерли в ожидании.
— А теперь я покажу тебе удивительную штуку, — сказал Коротыш. — Если «Багряноносец» хоть на минуту опоздает, значит, пора менять нашу конституцию. Как только пробьет двенадцать…
— Бум! — ухнули часы на большой башне сортировки, и издалека до 007 донеслось ритмичное и гулкое «ай-яй-яй». Звездой блеснул на горизонте головной фонарь, сверкание его все разгоралось, а приглушенная музыка колес перерастала в торжественную песнь летящего великана:
Тише, мыши, кот на крыше! Ай-яй-яй!
Айн-цвай-драй, мамаша наша! Ай-яй-яй!
Увидала пасть вокзала,
Всех на свете распугала,
Распевала «кот на крыше». Ай-яй-яй.
Последние звуки с вызовом раскатились в полутора милях от пассажирской станции, но краешком фонаря 007 разглядел горделивый, о шести ведущих колесах, сверхскорый локомотив, гордость, и славу железной дороги — первоклассный «Багряноносец», южный экспресс миллионеров, отмахивающий мили с той же легкостью, с какой рубанок гуляет по мягкой доске. Весь он был словно туманное темно-эмалевое пятно, оживленное полосой белого электрического света в окнах и мерцанием никелированных перил на площадке заднего вагона.
— Ну и ну! — вырвалось у 007.
— Семьдесят пять миль в час делает. Говорят, есть ванные, парикмахерская, телеграфный аппарат, библиотека — всего и не перечесть. Да, сэр, семьдесят пять в час! А в депо будет с тобой разговаривать запросто, совсем как я. Но — черт подери мои колеса — выжми я хоть половину его скорости, тут мне была бы и крышка! Он магистр нашего ордена. Всегда у нас в депо в порядок себя приводит. Я тебя с ним познакомлю. Стоит того. Не многие, знаешь ли, поют такую песню.
От волнения 007 даже ответить не смог и не услышал, как зазвонил телефон в будке и высунувшийся из нее стрелочник спросил у машиниста 007:
— Пару хватит?
— Да уж миль на сто, думаю, отъедем от этой мышеловки, — отозвался машинист, который был докой по части длинных перегонов и ненавидел сортировки.
— Тогда давай быстрей. Тут в милях сорока товарный экспресс под откос ушел, метров на пятьсот участок из строя выбыл. Нет, жертв не было, но оба пути блокированы. Слава богу, деррик-кран и ремонтный вагон на месте. Сейчас ремонтники подойдут. Ты не мешкай! Путь открыт.
— И зачем я таким плюгавым уродился! Прямо зло берет! — вздохнул Коротыш, а 007 одним рывком прицепили к мрачному, закопченному, похожему на тормозной вагону, который был набит инструментами; за ним стояли платформа и деррик-кран.
— Знаешь, бригада бригаде рознь. Но тебе, братец, повезло! Дают ремонтный вагон. Ты только не робей! Колесная база сдюжит, да и крутых поворотов почти нет. Да, чуть не забыл! «Коменчи» тут говорил, что есть участок, где рельсы кое-как уложены, — там тебя малость потрясет. В милях пятнадцати с половиной после подъема у Джексонова разъезда. Да ты это место сразу узнаешь: там ферма, ветряная мельница и пять кленов во дворе перед домом. Мельница к западу от кленов. А посередке перегона железный мост восьмидесятифутовый, без перил. Ну пока! Удачи тебе!
Не успел 007 прийти в себя, как уже мчался по рельсам в глухую темень. И тут на него напали ночные страхи. Припомнились рассказы об оползнях, о выкорчеванных ливнем валунах, о поваленных деревьях, о заблудившейся скотине, все разглагольствования бостонской дамы «Компаунд» об ответственности и в придачу все, что породила его собственная фантазия. У первого в его жизни железнодорожного переезда (а это событие в биографии паровоза) он дал не в меру дрожащий гудок, а при виде испуганной лошадки и позеленевшего господина в пролетке, оголтело летящей в каких-нибудь двух ярдах от правых колес, нервы 007 напряглись до предела. Он не сомневался, что сейчас сойдет с рельсов; чувствовал, как на поворотах борт колесного бандажа на дюйм подымался над рельсами; знал, что на первом же подъеме испустит дух, как «Коменчи» у Ньютонса. Он стремительно летел под уклон к Джексонову разъезду, — мелькнула ветряная мельница чуть западнее кленов, потом колеса запрыгали по плохо уложенным рельсам, и крупные капли пота выступили у него на паровом котле. При каждом резком толчке 007 боялся, что не выдержит какая-нибудь ось.
Восьмидесятифутовый мост без перил он проскочил, как кошка, улепетывающая по забору от собаки. К стеклу головного фонаря прилип мокрый лист, его тень мчалась по рельсам, и 007, решив, что это прыгает какой-то мягонький зверек, испугался, как бы на него не наехать (все мягкое пугает локомотив так же, как слона). Но люди, едущие на 007, были совершенно спокойны. Бригада безбоязненно перебралась из ремонтного вагона в тендер и теперь перебрасывалась шутками с машинистом. 007 слышал шарканье ног по слою угля и обрывки песни, что-то вроде:
«Голубой скороход» подождет, не помрет,
И придется «Стреле» отстояться,
Потому что экспресс в речку с насыпи слез, —
Эй, дорогу ремонтникам, братцы!
Путь зеленый ремонтникам, братцы!
— Да, Юстес в грязь лицом не ударил. Машина хоть куда. И новехонькая.
— Кха-кха! Что верно, то верно. Даже краска еще…
И тут правое заднее колесо 007 пронзила жгучая боль — нестерпимая, стреляющая.
«Вот, — подумалось ему на ходу, — вот и у меня загорелись буксы. Теперь понял, что это такое. Разорвет меня вдребезги, не иначе. И в первый же рейс!»
— Кажись, что-то неладно, — отважился заметить кочегар машинисту.
— Ничего, сдюжит, если понадобится. Мы почти на месте. А парням лучше бы сидеть у себя в вагоне, — сказал машинист, держа руку на тормозе. — У меня на глазах людей сносило…
Ремонтники, хохоча, убрались к себе. Кому была охота лететь вверх тормашками на рельсы? Машинист сделал круговое движение кистью, и 007 почувствовал, как что-то пригвоздило к рельсам его ведущие колеса.
— Ну и ну! — взвыл 007 и проехался юзом, как на полозьях. В первую секунду ему показалось, что он отрывается от собственных осей.
«Должно быть, это и есть тот стоп-кран, которым Коротыш дразнил меня в депо, — еле переводя дух, думал 007, — «Загорелись буксы», «Стоп-кран». И то и другое ужас как больно! Зато в депо всем расскажу об этом».
Пыша жаром, 007 остановился в нескольких шагах от того, что врачи назвали бы сложно переломанным вагоном. Машинист на коленях принялся возиться с чем-то между колесами 007, но не называл его арабским скакуном и не сюсюкал над ним, как это бывает с машинистами на страницах «Еженедельника». Он по-всякому ругал 007, вытаскивал ярды обугленной пакли из букс и приговаривал, что обязательно поймает того болвана, кто так по-дурацки ее туда запихал. Никто не помогал ему, потому что Ивенс, машинист «Могола», только слегка расшибший голову, но тем не менее очень сердитый, показывал при свете фонаря небольшую изувеченную и посиневшую свинью.
— Добро бы нормальная свинья была, — бормотал он, — а то ведь ососок.
— Страшные твари, что и говорить, — заметил кто-то из бригады, — лезут под каукетчер, а потом отправляют вас под откос.
— Под откос! — загремел рыжеголовый Эванс, родом из Уэльса. — Послушать вас, так я через день лечу в канавы из-за какого-нибудь борова, будто возжаюсь со всеми треклятыми свиными недоносками штата Нью-Йорк. Я их знать не знаю, кроме этого черта, — посмотрите, что натворил.
Для одного заплутавшегося ночью поросенка сработано было недурно. Товарный экспресс, очевидно, летел на всех парах, поскольку «Могола» приподняло на рельсах и он по диагонали промчался несколько сот футов справа налево, прихватив с собой те вагоны, которые того пожелали. Некоторые воздержались. Порвали сцепки и остановились, а задние вагоны взгромоздились на них. В этой чехарде они разворотили и сильно искромсали рельсы по левой стороне. Сам «Могол» угодил в пшеничное поле и пал на колени; причудливые зеленые гирлянды намотались ему на шкворни, тяжелые комья земли облепили каукетчер, которому по-пьяному кивали колосья. Огонь в топке был заглушен грязью (это сделал Эванс, как только очнулся), в разбитый головной фонарь набились полусгоревшие ночные мотыльки. «Могол», весь обсыпанный углем из тендера, напоминал шалого буйвола, вторгшегося в универсальный магазин: всюду, как попало, валялись вылетевшие из разбитых вагонов пишущие и швейные машины, велосипеды в деревянных клетках, партия импортной, отделанной серебром упряжи, французские перчатки и платья, десяток великолепно обработанных дубовых каминных досок, пятнадцатифутовая моторная лодка, в которую въехала массивная кровать с медными украшениями, ящик с телескопами и микроскопами, два гроба, ящик первосортных леденцов, превосходные сыры, масло и яйца уже в виде омлета, разбитая коробка с дорогими игрушками и сотни прочих предметов роскоши. Неизвестно откуда поспешно возникли какие-то бродяги и великодушно устремились на подмогу ремонтной бригаде. Поэтому тормозные кондуктора, вооружившись шкворнями, прохаживались по одной стороне, а по другой, засунув руки в карманы, ходили патрулем проводники вкупе с кочегаром. Из дома за пшеничным полем выскочил длиннобородый мужчина и крикнул Ивенсу, что, случись это несчастье под осень, сгорел бы весь его хлеб, и все по вине непутевого Ивенса. Потом он кинулся бежать без оглядки, потому что Ивенс с воплем: «Все из-за его свиньи, его свиньи, пустите, я убью его, убью!» — кинулся на бородача. Ремонтники хохотали, а фермер, высунувшись из окна, сказал, что Ивенс не джентльмен.
Но 007 было не до смеха. Ему еще не случалось видеть крушение, и оно очень напугало его. Ремонтники смеялись, но и дело не забывали, и когда 007 увидел, как они орудуют с «Моголом», ужас его сменился изумлением. «Могола» окопали лопатами, под колеса подвели шпалы, а под него самого — домкраты; они обвили его цепью деррик-крана и щекотали стальными ломами. А 007 прицепили к полуразбитым вагонам, и он все пятился, пока клубок вагонов не распутался и, покатившись по рельсам, они не расчистили путь. К рассвету человек тридцать — сорок уже подносили и укладывали новые шпалы, проверяли колею и крепили рельсы. К утру все способные двигаться вагоны оказались уже на попечении другого локомотива. Путь был расчищен, и 007 дюйм за дюймом начал втаскивать «Могола» по короткому настилу из шпал. Наконец его реборды коснулись рельсов, и старик с лязгом водворился на место. Однако он был глубоко подавлен, и вся его бодрость улетучилась.
— Добро бы свинья была, — печально повторял он, — а то ведь подсвинок. И в довершение, тебе — не кому-нибудь, а именно тебе — пришлось вызволять меня из беды.
— Но как такая штука могла стрястись? — шипя от любопытства, спросил 007.
— Стрястись? Да она вовсе не стряслась, а подвернулась. Выехал из-за поворота и прямо наскочил на нее. Думаю, скунс под колесами. Такая она махонькая была. Даже не пискнула, прямо под каукетчер угодила, а я вдруг чувствую — передние колеса поднялись, на рельсы попасть не могу; в общем, дело дрянь. Меня повернуло, как на оси. Потом чувствую — под левым ведущим колесом что-то жирное бьется, и — лопни мой котел! — я сорвался под откос. Только шпалы под ребордами затрещали, думаю — конец мне, и очутился в хлебах. Тендер выплюнул уголь через будку, а прямо передо мной — старик Ивенс, весь в крови и без движения. И меня тряхануло. Все заклепки, гайки и болты повыскакивали.
— Да! — протянул 007. — А сколько, думаете, в вас весу?
— Без этой грязи сто тысяч фунтов будет.
— А в поросенке?
— Восемьдесят фунтов. Не больше ста. И цена-то ему четыре с половиной доллара. Как тут не расстроиться? Впору и нервами заболеть, прямо колеса отнимаются. Подумать только, не успел я выехать из-за поворота… — затянул опять свою песню «Могол», потрясенный до самого основания.
— Так уж заведено на свете, — утешал его 007. — К тому же в хлеба падать, наверное, не так больно.
— Будь это шестидесятифутовый мост и свались я в воду, взорвись, отправь на тот свет машиниста с кочегаром, как другие делают, не так обидно было бы, но из-за подсвинка свалиться в хлеба, да еще чтобы ты меня вытягивал! И вдобавок этот старик, вонючий фермер в своей ночной рубахе, так меня честил, будто я больная кляча… Нет, это ужасно! Не зови меня больше «Моголом». Я просто швейная машина. Меня теперь до смерти засмеют на сортировке.
И 007, охладивший за ночь свои буксы и изрядно повзрослевший, неторопливо потащил товарный локомотив в депо.
— Привет, старина. Видно, всю ночь трудился? — крикнул «Моголу» неугомонный Коротыш, возвращавшийся домой с работы. — Вид у вас, прямо скажем… Эх вы, грузы ценные, грузы бьющиеся! Отправляйтесь-ка в мастерские, снимите лавры с вашей гривы да умойте будку.
— Не приставай, Коротыш, — строго сказал 007, подошедший к поворотному кругу, — а не то я…
— Я и не знал, братец, что этот старый кипятильник — твой закадычный дружок. Последний раз он не больно-то вежливо с тобой разговаривал.
— Верно. Но с тех пор я видел крушение и от страха чуть весь не облез. Теперь, покуда не выпущу пар, никогда не стану насмехаться над новичками, которые дела не знают и хотят научиться. А над стариком «Моголом» и подавно, хотя и видал, как у него из трубы колосья торчали. Представляешь себе, Коротыш, все из-за подсвинка, не свиньи, а просто поросенка. Сам с кусок антрацита — своими глазами видел, — а какую заваруху устроил. И я понял, что с каждым такое случиться может.
— Вы уже это поняли? Для начала отлично, — вмешался в разговор «Багряноносец», сверкающий зеркальными стеклами высокой элегантной будки и весь выложенный внутри зелеными бархатными подушками; в депо он ожидал чистки перед следующим рейсом.
— Позвольте вас, господа, познакомить, — сказал Коротыш. — Это наш «Багряноносец». Ты им, братец, вчера восхищался и, пожалуй, даже завидовал. А это, уважаемый сэр, новый член нашего братства, у которого все мили еще впереди, но за которого, как старший товарищ, я ручаюсь.
— Рад нашему знакомству, — сказал «Багряноносец», окидывая взглядом переполненное депо. — По-моему, нас тут достаточно, чтобы открыть собрание. Гмм, благодаря полномочиям, которыми и облечен в качестве начальника железной дороги, я отныне объявляю 007 полноправным членом Объединенного братства локомотивов и в качестве такового пользующегося всеми правами и привилегиями касательно мастерских, депо, водокачек и железнодорожных путей. Согласно предоставленному мне праву я возвожу 007 в степень скоростного локомотива, ибо, как мне сообщили из достоверных источников, наш новый товарищ прошел сорок одну милю за тридцать девять с половиной минут, спеша на помощь пострадавшему. В свое время я сообщу гимн и сигнал, присвоенные локомотивам этой степени, по которым вас узнают в самую глухую темень… Добро пожаловать, новоявленный член нашего братства локомотивов!
* * *
И вот, если в самую глухую темень (как выразился «Багряноносец») вы остановитесь на мосту над товарной станцией и окинете взглядом четырехколейное полотно, ровно в два тридцать ночи — не раньше и не позже, — когда «Белый мотылек», приняв пассажиров, не попавших на «Багряноносец», мчит на юг семерку своих молочно-кремовых спальных вагонов, вы услышите вместе с боем часов, как вдали забасит виолончель, а потом разберете слова:
Тише, мыши, кот на крыше! Ай-яй-яй!
Айн-цвай-драй, мамаша наша! Ай-яй-яй!
Увидала пасть вокзала,
Всех на свете распугала,
Распевала «кот на крыше». Ай-яй-яй!
Это 007 покрывает сто пятьдесят шесть миль за двести двадцать одну минуту.
«ХЛЕБ, ОТПУЩЕННЫЙ ПО ВОДАМ»[347]

Ежели вы не позабыли еще моего непутевого кореша Брагглсмита, то заодно помните, стало быть, и его кореша Макфи, старшего механика с «Бреслау», того самого, у которого Брагглсмит однажды ялик похитить пытался. Какие он потом себе оправдания выдумал, про это можно будет рассказать как-нибудь после, когда к слову придется; а нынче речь у нас про Макфи пойдет. Он никогда не принадлежал к механикам, которые гоняют машины на износ, и с особенной гордостью этим хвастал перед ребятами из Ливерпуля; но за плечами у него было тридцать два года опыта работы с корабельными двигателями, и он хорошо знал ихний норов. Одна щека у него была изуродована при взрыве манометра еще в те времена, когда люди знали меньше, чем в нынешние, и над этим уродством внушительно вздымался нос, как полицейская дубинка над толпой при уличных беспорядках. А вся его голова была в шрамах да шишках, и при разговоре он частенько хватал других за руку, проводил указательным пальцем по своим коротким, седоватым, со стальным отливом волосам и рассказывал, как заполучил эти отличительные знаки. У него были всякие свидетельства о самой высшей квалификации, а на дне ящика, где он хранил фотографии своей жены, было несколько медалей «Королевского общества помощи утопающим» за спасение на водах. По роду своей профессии — кроме тех случаев, когда обезумевшие пассажиры четвертого класса прыгали за борт, — по роду профессии Макфи не одобряет спасения на водах и часто говаривал мне, что новый ад уготован тем кочегарам и мотористам, которые при найме уверяют, будто они крепкие ребята, и требуют высокой платы, а на другой же день их укачивает, и они лежат в лежку да блюют от морской болезни. Он полагает, что очень полезно швырнуть сапогом в четвертого или пятого механика, ежели тот разбудит его среди ночи и скажет, что подшипник раскалился докрасна, только потому, что фонарь отсвечивает красным от вращающегося металла. Он полагает, что на свете есть только два поэта: первый, само собой, это Роберт Бернс, а второй — Джералд Масси. Когда у него бывает досуг, чтоб читать романы, он открывает Уилки Коллинза или Чарлза Рида — предпочтительно последнего — и помнит наизусть целые страницы из «Тяжелых денег».[348] В кают-компании его место за столом рядом с самим капитаном, и ежели его машина в работе, он не пьет ничего, кроме воды.
Когда мы с ним познакомились, он принял меня благосклонно, потому что я ни о чем не расспрашивал и верил, что Чарлз Рид предан постыдному забвению. Позднее он одобрил собственное мое творчество, состоявшее из одного проспекта в двадцать четыре страницы, который я написал для компании «Холдок, Стейнер и Чейс», владевшей нашей линией, когда они приобрели какой-то патент на вентилирующее оборудование и установили его в каютах «Бреслау», «Шпандау» и «Кольтцау». Шкипер с «Бреслау» рекомендовал меня секретарю Холдока, который подыскал мне место; и сам Холдок, методист, последователь Уэсли, пригласил меня к себе в дом, велел накормить вместе с гувернанткой, когда все остальные уже отобедали, и выдал мне чертежи и инструкции, после чего я написал этот самый проспект в тот же день. Назывался он «Комфортабельные каюты», и я получил за него семь фунтов и десять шиллингов вознаграждения наличными — целую кучу денег по тем временам; а гувернантка, которая учила этого щенка Джона Холдока арифметике, сказала мне, что миссис Холдок сказала ей, чтоб она хорошенько за мной смотрела, а то как бы я не удрал, прихватив с вешалки пальто и шубы. Макфи мой проспект понравился до чрезвычайности, потому как он был выдержан в причудливо-византийском стиле, со всякими вычурностями в духе барокко и рококо; вскорости он меня познакомил с миссис Макфи, которая заняла у меня в сердце место Дины; ведь Дина была за тридевять земель, а любить такую женщину, как Жанетта Макфи, пользительное и чистое дело. Жили они неподалеку от пароходства, в маленьком домике, который снимали за двенадцать фунтов. Когда Макфи уходил в рейс, миссис Макфи читала морскую хронику в газетах и посещала супруг старших механиков, равных ей по общественному положению. Раз или два сама миссис Холдок посетила миссис Макфи, приезжала в двухместной коляске с пластиковой отделкой, и у меня есть основания полагать что, после того как она достаточно долго разыгрывала из себя хозяйскую супружницу, обе они вволю посплетничали промеж собой. Холдоки жили в старомодном особняке с большим садом, обнесенном кирпичной стеной, меньше чем в миле от домика Макфи, потому что они берегли свои деньги, а деньги берегли их; и в летнюю пору частенько можно было видеть, как ихняя коляска с важностью проезжала мимо заведений Тейдона Бойса или Лофтона. Но я был другом миссис Макфи, и она, бывало, позволяла мне сопровождать себя в западную часть города, в театры, где она плакала, или смеялась, или же дрожала по простоте душевной; она ввела меня в незнакомый мне прежде мир докторских и капитанских жен, чьи разговоры и мысли вертелись все вокруг да около каких-то неслыханных пароходов и пароходных линий. Были, оказывается, и парусники со стюардами и с каютами, отделанными красным деревом да кленовыми панелями, и ходили они в торговые рейсы до самой Австралии, беря на борт груз чахоточных больных и запойных пьяниц, которым было предписано путешествие по морю; были и вонючие западноафриканские скорлупки, кишащие крысами и тараканами, там люди помирали где угодно, только не в своих койках; были бразильские суда, на которых каюты фрахтовались под товар, и плавали они до того перегруженные, что вода едва не заливала палубу; были пароходы с Занзибара и с острова Маврикия, и удивительные переоборудованные суда, что курсировали вплоть до дальнего берега Борнео. Всех их знали и любили, потому как на них мы зарабатывали свой хлеб насущный и немного масла в придачу, а большие атлантические корабли мы презирали и потешались над тихоокеанскими и восточными лайнерами, причем каждый хранил верность своему хозяину, будь тот методист, баптист или пресвитерианин, это уж как случится.
Я только недавно успел вернуться в Англию, как миссис Макфи пригласила меня к обеду в три часа пополудни, и почтовая бумага, на которой было написано ее письмо, чуть ли не годилась для свадебного приглашения, такая она была белая и надушенная. Дойдя до ихнего дома, я увидел на окне новые занавески, которые стоили никак не меньше сорока пяти шиллингов пара; а когда миссис Макфи ввела меня в маленький холл, оклеенный обоями под мрамор, она поглядела на меня зорким взглядом и воскликнула:
— Неужто ты еще не слыхал? Что скажешь про эту вешалку?
А вешалка была из дуба — и стоила она самое меньшее тридцать шиллингов. Макфи спустился с лестницы трезвый, твердыми шагами — он ступает легко, как кошка, несмотря на свой немалый вес, когда он в море, — и пожал мне руку на новый, чудовищный манер — это он подражал замашкам старины Холдока, тот так прощается со своими капитанами. Я сразу смекнул, что Макфи получил какое-то наследство, но помалкивал, хотя миссис Макфи каждые полминуты упрашивала меня кушать побольше и без церемоний. Обед прошел, будто в сумасшедшем доме, потому что Макфи с женой держались за руки, как дети (они всегда так делают после его возвращения с моря), и кивали, и перемигивались, и давились, и булькали, и в рот почти ничего не брали.
Вошла горничная, которая подавала к столу; а ведь раньше миссис Макфи мне не раз говаривала, что никому не доверит у себя домашнюю работу, покамест сама она жива и здорова. Но эта горничная была не какая-нибудь, а в крахмальной наколке, и я приметил, как миссис Макфи все больше раздувается под своим платьем маренового цвета. Надводная часть у Жанетты Макфи немалая, а мареновый цвет довольно броский. И в этой неожиданной обстановке, среди горделивой роскоши, я будто глядел фейерверк, понятия не имея, по случаю какого такого празднества его запустили. Горничная убрала скатерть и приволокла ананас, который в эту пору года стоит добрых полгинеи (только Макфи знает особый способ добывать такие вещи), кантонское фарфоровое блюдо, полное сушеных фиг, тарелку с консервированным имбирем и банку изумительных, поистине королевских маринованных овощей, аромат которых распространился по всей комнате. Макфи достает у одного голландца на Яве и, я думаю, приправляет спиртным. Но венцом всего была мадера, да такая, какую может раздобыть лишь тот, кто тонко разбирается в винах и в людях, которые ими торгуют. Маленькая, завернутая в маисовый лист пачка крученых мадейрских сигар была подана вместе с вином, и тут наступило молчание, пронизанное бледно-голубым дымом; Жанетта во всем своем великолепии улыбалась нам обоим и похлопывала Макфи по руке.
— Давайте выпьем, — сказал Макфи, неторопливо поглаживая подбородок. — Да будет вечное проклятие Холдоку, Стейнеру и Чейсу.
Я, само собой, ответил: «Аминь», — хотя заработал в этой фирме семь фунтов и десять шиллингов. Враги Макфи были и моими врагами, да к тому же я пил его мадеру.
— Неужто ты и впрямь еще ничего не слыхал? — говорит мне Жанетта. — Ни словечка, ни шепотка?
— Ни словечка, ни шепотка. Это истинная правда, клянусь вам.
— Скажи ему, Мак, — говорит тогда Жанетта; и это лишнее подтверждение ее доброты и супружеской любви. Женщина помельче сразу же выболтала бы все сама, но Жанетта была выше этого, росту она имела пять футов и девять дюймов, ежели без туфель мерять.
— Мы разбогатели, — сказал Макфи.
Я пожал обоим руки.
— Чертовски разбогатели, — добавил он.
Я вторично пожал им руки.
— Больше не стану ходить в плаванье… разве только… как знать… может, на собственной яхте… с маленьким и удобным движком.
— Настолько у нас не хватит, — сказала Жанетта. — Конечно, мы богаты… верней, зажиточны, но не больше того. Новое платье, чтобы ходить в церковь, и еще одно для театра. Шить будем в западной части города, у самой лучшей портнихи.
— Сколько же у вас теперь? — спросил я.
— Двадцать пять тысяч фунтов. — Тут у меня дух захватило. — А ведь я зарабатывал двадцать пять, а то и двадцать в месяц!
Последние слова он проревел так, словно весь мир хотел заглушить его голос.
— Насилу-то я дождался, — сказал я. — Ничего не знаю с прошлого сентября. Эти деньги вам кто-то отказал в завещании?
Они разом захохотали.
— Отказал, уж точно, — говорил Макфи, задыхаясь от смеха. — Ну да, отказал. Распрекрасное дело. Конечно, отказал. Жанетта, ты слышишь? Отказал. Так вот, ежели б ты вставил это в свой проспект, получилась бы изрядная потеха. Отказал, было дело.
Он хлопнул себя по ляжкам и взревел так, что вино всколыхнулось в графине.
Шотландцы превосходные люди, но они имеют привычку слишком уж долго смаковать шутку, в особенности ежели никто, кроме них, не знает, в чем тут соль.
— Когда буду переписывать проспект наново, Макфи, беспременно вставлю. Но сперва мне надобно узнать дело поподробней.
Макфи раздумывал, пока не выкурил сигару до половины, а Жанетта тем временем поймала мой взгляд и не отпускала, покуда я не осмотрел по очереди все новые вещи, которые были в комнате — новый ковер с вытканными на нем виноградными листьями, новые мраморные часы с боем между макетами парусников из Коломбо, новый инкрустированный буфет с жардиньеркой сиреневого граненого стекла, бронзовая, с позолотой, каминная решетка и, наконец, новые, черные с золотом, фортепьяна.
— В октябре прошлого года правление вышвырнуло меня вон, — начал Макфи. — В октябре прошлого года «Бреслау» стал в док на зимний ремонт. Он проплавал восемь месяцев — двести сорок суток, — и я уже три дня выправлял себе документы, когда его поставили в сухой док. И заметь, в общей сложности мне причиталось около трех сотен фунтов — точнее говоря, двести восемьдесят шесть фунтов и четыре шиллинга. Никто другой на всем белом свете не стал бы нянчиться с «Бреслау» восемь месяцев за такие пустячные деньги. Нет уж, с меня хватит — ей-ей, хватит! Пускай хоть все ихние корабли потопнут, мое дело сторона.
— Это уж лишнее, — сказала Жанетта мягко. — Ведь мы покончили счеты с Холдоком, Стейнером и Чейсом.
— Но ведь обидно, Жанетта, понимаешь, обидно. Я был прав кругом, от начала и до конца, весь свет это знает, но… но простить им я не могу. Да, умные люди всегда правы; и всякий другой на моем месте стребовал бы с них восемь сотен. Капитаном у нас был Хэй — ты его знаешь. Его перевели на «Торгау», а мне велели управляться с «Бреслау» под началом у этого щенка Бэннистера. И заметь, в правление были новые выборы. Слыхал я, акции продавались направо и налево, а в правлении почти все были совсем новые для меня люди. Прежнее правление никогда не допустило бы этакого безобразия. Там мне доверяли. А вот новое правление только и думало про реорганизацию. Этот щенок Стейнер — сын старого Стейнера, — этот еврейчик, был заводилой, и они даже не соблаговолили дать мне знать. Первое, что я получил — а я был старший механик, — это предписание на зимний рейс, и «Бреслау» следовало сделать весь этот рейс, от порта до порта, за шестнадцать дней! Да, за шестнадцать дней, брат ты мой! Это хорошее судно, но шестнадцать дней ему летом требуется, заметь это себе. А шестнадцать дней зимой — это вздор собачий и издевательство, я так прямо и сказал этому щенку Бэннистеру.
«Надо управиться, — говорит он. — Не зря же тебе три сотни фунтов уплатили».
«Они что же, думают, будто ихние пароходы по воздуху летать должны? — говорю я. — Видно, правление совсем спятило».
«Я им так и сказал, — говорит он. — Но я человек женатый и вскорости, жена говорит, у нас четвертый родится».
— Мальчик… рыженький мальчик, — вставила Жанетта.
У самой у нее были роскошные золотисто-рыжие волосы и нежное белое лицо.
— Верь слову, в тот день я здорово осерчал! Кроме того, что я любил эту старую посудину «Бреслау», думается, правление могло бы немного считаться со мной после двадцати лет беспорочной службы. В среду было заседание правления, и я провел ночь в трюме, около машины, делал подсчеты, чтоб доказать свою правоту. Ну-с, я выложил им все как есть, напрямик. «Джентльмены, — говорю я им, — я управлялся с «Бреслау» восемь навигаций и уверен, что в моей работе не сыщется ни единой оплошки. Но ежели вы такое надумали, — тут я помахал перед ихним носом бумажкой, — а я об этом и понятия не имел, покуда не прочитал нынче за завтраком, то клянусь вам честью старого моряка, ваша посудина этого никак не может. Вернее сказать, может, но только до поры, до времени, а риск до того велик, что ни один человек, у которого есть голова на плечах, на него не пойдет».
«Какого черта, а за что, по-вашему, мы вам жалованье платим? — говорит старый Холдок. — Да мы, брат, выходит, денежки на ветер пускаем».
«Это уж пускай правление решает, мое дело сторона, — говорю, — ежели двести восемьдесят семь фунтов за восемь месяцев цена для вас высокая и несходная».
Но я понапрасну там распинался, потому как со времени последних выборов правление было новое, и они сидели там, проклятые судоторговцы, им, жадюгам, только дивиденды подавай, глухие, как аспиды, про которых в Писании сказано.
«Мы должны, — говорит этот щенок Стейнер, — поступать по совести с пассажирами».
«Тогда, — говорю, — поступайте по совести и с «Бреслау». Корабль послужил верой и правдой не только вам, но еще вашему папаше. А теперь ему надобно для начала хотя бы днище залатать, да поставить новые станины, да вычистить накипь из переднего котла, да перебрать все три цилиндра, да заново отшлифовать все шестерни. На это потребуется самое малое три месяца».
«И все потому, что один из наших служащих струсил? — говорит этот щенок Стейнер. — Может, нам лучше поместить в каюте старшего механика шарманку, она там будет больше на месте».
Я только смял шляпу в руках, но слава богу, у нас нет детей и мы сумели скопить немного денег.
«Поймите, джентльмены, — говорю я им. — Ежели «Бреслау» будет делать рейсы за шестнадцать дней, тогда ищите другого механика».
«Бэннистер против таких рейсов не возражает», — говорит Холдок.
«Я отвечаю только за себя, — говорю я. — У Бэннистера дети есть. — Тут терпение мое лопнуло. — Ежели вы уплатите лоцману, то можете отправить судно рейсом хоть в самое пекло и обратно, — говорю, — но отправляйте без меня, вот что».
«Возмутительная дерзость», — говорит этот щенок Стейнер.
«Как вам будет угодно», — говорю и поворачиваюсь, чтоб уйти.
«Считайте, что вы уволены. Мы требуем от своих служащих повиновения», — говорит старина Холдок и озирается, убедиться хочет, что правление его одобряет.
А они — прости, господи, — не смыслят ни бельмеса и кивают, соглашаются выгнать меня с линии, где я проработал двадцать лет… целых двадцать лет.
Я вышел за дверь и сел в привратницкой, чтоб собраться с мыслями. Кажется, я ругал правление последними словами. А потом старина Макриммон — из компании «Макнотен и Макриммон» — вышел из своего кабинета, который на том же этаже, поглядел на меня и почесал пальцем веко. Ты же знаешь, его прозвали Слепой Дьявол, хотя он кто угодно, но только не слепой и никакой не дьявол в обращении со мною — Макриммон с пароходной линии «Черная птица».
«Что тут такое происходит, мистер Макфи?» — спрашивает он.
А я к тому времени был, почитай, уже чуть не мертвец.
«Старшего механика прогнали взашей после двадцати лет работы только потому, что он не захотел рискнуть и вести «Бреслау» по новому расписанию, а теперь катитесь ко всем чертям, Макриммон», — говорю.
Старикан чмокнул губами и присвистнул.
«Эге, — говорит, — новое расписание. Понятно!»
Он поплелся в комнату правления, откуда я недавно вышел, а шотландский терьер, его собака-поводырь, остался подле меня. И это было само Провидение. Через какую-нибудь минуту он вернулся.
«Вы отпустили свой хлеб по водам, Макфи, дьявол вас побери, — говорит он. — Где мой пес? Ей-ей, он пристроился у вас на коленях! Право слово, пес прозорливее еврея. Что сделалось с вашим треклятым правлением, Макфи? Это им дорого обойдется».
«Еще дороже уплатят они за «Бреслау», — говорю. — А теперь пшла с моих колен, наглая псина».
«Котел перекалился? — говорит Макриммон. — Вот уж тридцать лет, как никто не смеет обругать меня в лицо. Было время, когда я за такие слова спустил бы тебя с лестницы».
«Простите великодушно! — говорю. Ему уж, насколько мне известно, под восемьдесят. — Я был неправ, Макриммон: но когда человеку указывают на дверь только за то, что он честно исполнял свои прямые обязанности, он не всегда способен блюсти вежливое обхождение».
«Оно конечно, — говорит Макриммон. — Скажите, а вы не прочь поработать на сухогрузе, который промышляет случайными фрахтами? Правда, получать будете всего-навсего пятнадцать фунтов в месяц, но, говорят, Слепой Дьявол обеспечивает своих служащих получше, чем некоторые. Этот сухогруз — мой «Воздушный змей». Зайдите ко мне. И благодарите моего терьера, так-то. Сам я не люблю благодарностей. А теперь выкладывайте, — говорит, — какой бес толкнул вас плюнуть на службу у Холдока?»
«Новое расписание, — говорю. — «Бреслау» этого не выдержать».
«Эхе-хе, — говорит он. — Могли бы нажимать помаленьку, ровно настолько, чтоб казалось, будто вы стараетесь выжать все, — и прийти на место с двухдневным опозданием. Ведь нет ничего легче, чем сказать, что вы сбились с курса, вот и вышла задержка, э? Все мои служащие так делают, и… я им верю».
«Макриммон, — говорю, — как по-вашему, дорога ли девушке ее девственность?»
Он сморщил свое черствое лицо и заерзал в кресле.
«Что за чертовщина! — говорит. — Господи, ну что за чертовщина! Ведь мы с вами уже далеко не молоды, так при чем тут девственность?»
«А вот при чем, — говорю. — Это единственное, чего всякий, кто уважает свое дело или свое ремесло, не сделает ни за что на свете. Когда я должен привести судно вовремя, я его приведу, ежели, конечно, шторм со всеми его опасностями не захватит меня в открытом море. Видит бог, на меньшем не помирюсь. И видит бог, на большее не замахиваюсь. Но в нашем деле нету таких тонкостей, которых я не знал бы…»
«Оно конечно», — говорит Макриммон, а лицо у него черствое, как сухарь.
«Но я взял себе за правило приходить в срок, для меня это, поймите, такое же святое дело, как сам господь в сиянии своей славы. А этакого позора не стерплю. Обхаживать слабосильные машины — долг всякого честного механика, но то, чего требует правление, это мошенничество, да к тому же оно сопряжено с риском для человеческих жизней. Заметьте, я свое дело знаю».
— Мы с ним потолковали еще малость, а через неделю я отплыл на борту «Воздушного змея», сухогруза водоизмещением в две с половиной тысячи тонн, с допотопной паровой машиной, собственности пароходства «Черная птица». Чем дальше уходили мы от берега, тем выше подымалось давление в котле. Я выжал целых одиннадцать, хотя норма была восемь и три десятых. Хорошие харчи сразу и еще лучше потом, жалованье выписано полностью, безо всяких там вычетов, самолучший уголь, новехонькие вспомогательные движки, а уж команда, как на подбор, что надо. Старикан позаботился решительно обо всем, кроме покраски. Тут-то как раз и была для него главная загвоздка. Легче было бы выдрать у него последний зуб, нежели краску. Он частенько заходил в док, где об его судах сплетничали по всему порту, а он знай себе скулил да жалился и утверждал, будто вид у них такой, что лучше и желать нельзя. У всякого судовладельца есть свой non plus ultra,[349] это я давно заприметил. Так вот, у Макриммона крайность была в смысле краски. Зато на его судах механик мог подходить к машинам без риска для жизни, и сам он, несмотря на свою слепоту, у меня на глазах прогнал одного за другим пятерых посредников, бессовестных вымогателей, стоило мне только кивнуть, а загоны для скота были у него оборудованы так, что зимние холода в Северной Атлантике оказались нипочем. Знаешь ли ты, что это значит? Макриммон из пароходства «Черная птица» — дай ему бог счастья.
Да, совсем позабыл тебе сказать, эта посудина была устойчива, неприхотлива и пыхтела себе со скоростью двадцать узлов, а при шторме в сорок пять баллов делала три с половиной узла, причем машина дышала ровно, как спящий младенец. Капитаном у нас был Белл; и хотя обычно команда и судовладелец друг дружку не больно жалуют, мы любили этого старикана, Слепого Дьявола с его псом, а он, думается мне, любил нас. Никто не променял бы его даже на два миллиона фунтов стерлингов, а уж на кого-нибудь из его друзей или даже кровных родичей — и подавно. Деньги ужас что делают — когда их такая куча, — в особенности с одиноким человеком.
Я водил его судно два рейса в оба конца, а потом стало известно, что с «Бреслау» случилась авария, как я и предсказывал. Механиком там работал Колдер — он не сумел бы и буксирное судно провести через Солент, и у него машины сорвало с мест да раскидало так, что от них остались только груды обломков, вот чего я прослышал. И судно было затоплено от кормового кингстона до кормового свеса и дрейфовало, задрав бугшприт к ночному небу, а в кают-компании вопили семьдесят девять пассажиров, покуда «Камаральсаман» с линии «Рэмси и Гоулд, Картагена» не взял его на буксир за вознаграждение в пять тысяч семьсот сорок фунтов со взысканием убытков в Адмиралтейском суде. Сам понимаешь, деваться-то некуда, судну и самого слабого волнения было не выдержать. Пять тысяч семьсот сорок фунтов плюс издержки, не говоря уж о том, что пришлось ставить новые машины! Они поступили бы куда умней, ежели б оставили на месте меня — и сохранили прежнее расписание.
Но все одно новое правление стояло на своем и требовало экономить. Этот щенок Стейнер, жалкий еврейчик, был душой дела. Они увольняли направо и налево тех служащих, которые не желали сносить обиды от правления. Они сократили расходы на ремонт; они кормили матросов помоями и объедками; но, в отличие от Макриммона, они скрывали свои недостатки под краской и дешевой позолотой. Quern Deus vult perrdere prrius dementat,[350] сам небось помнишь.
В январе мы поставили судно в сухой док, а в соседнем доке стоял «Гроткау», большой сухогруз, который в восемьдесят четвертом году назывался «Долабелла» и принадлежал тогда судовой компании «Пиган, Пиган и Уэлш», а построен был в Клайде, с плоским днищем, тупоносая, уродливая посудина водоизмещением в пять тысяч тонн, короче говоря, старая калоша, а не корабль, руля он будто и не замечал вовсе, пары подымать не желал, и остановить его там, где надо, не было никакой возможности. Бывало, правда, он послушается все же руля, бывало, и с грузом ходит недурно, бывало, стоит и чешется, а бывало — прется в док кормой вперед. Но Холдок и Стейнер купили эту посудину по дешевке и покрасили заново всю, как Вавилонскую блудню — мы ее для краткости так и прозвали промеж собой — «Блудня». (К слову сказать, Макфи называл ее так все время, покуда не кончил свой рассказ: ну и читайте, как есть, тут уж ничего не поделаешь.) Я пошел повидать этого щенка Бэннистера — ему приходилось довольствоваться жалованьем, какое положило правление, — его вместе с Колдером перевели с «Бреслау» на этот недоносок, — и когда мы с ним толковали, то зашли в док, где стояла несчастная посудина. Обшивка у нее была вся помятая, ребята крыли ее краской и снова краской, красили да смеялись. Но самое худшее я увидал напоследок. Здоровенный громоздкий железный двенадцатифутовый винт системы Трешера — для «Змея» винт делал Эйтчесон, — и аккурат на конце баллера, у самой муфты, жалостно зияла обляпанная красной краской трещина, да такая, что в нее легко можно было засунуть перочинный нож. Да, брат, ну и трещина, просто ужас!
«Когда ты баллер менять будешь?» — спрашиваю я у Бэннистера.
Он меня сразу понял.
«Э, — говорит, а сам смотрит в сторону, — ведь трещинка только на поверхности».
«На поверхности преисподней! — говорю. — Да ведь тебе и из дока не выйти, ежели принять в расчет этакий запас прочности».
«Нынче вечером, — говорит он, — ее зашпаклюют. Ведь я человек женатый, а правление наше… ну, сам понимаешь…»
Тогда я прямо высказал, чего было у меня в голове об ту пору. А ты знаешь, какое громкое эхо в сухом доке. Я видел, что этот щенок Стейнер стоит наверху, прямо надо мной, и слушает, а потом, брат, он такого наговорил, что уж не было никакой возможности разойтись мирно. Я, видите ли, шпион, и никудышный работник, просто срам один, и к тому же разлагаю добродетельного Бэннистера, и он меня к суду притянет за клевету. Ну, я стал подыматься наверх, а он улепетывать что есть духу — я сбросил бы его в док, ежели б догнал, — и вдруг вижу Макриммона с терьером, который ведет старика на поводке промеж рельсовых путей.
«Макфи, — говорит он, — тебе не за то платят деньги, чтоб ты затевал войну с филиалом «Холдок, Стейнер, Чейс и компания» при всякой встрече. Чего вы тут не поделили?»
«Да ничего, просто баллер ни к черту негоден, он как гнилая капустная кочерыжка. Ради всего святого, Макриммон, подите да взгляните сами. Это же чистый цирк».
«Я боюсь этого болтливого еврея, — говорит он. — Где трещина и велика ли она?»
«Шириной дюймов в семь, аккурат у самой муфты. Никакие силы на свете не спасут винт — его сорвет».
«А когда?»
«Ну, этого, — говорю, — я не могу знать в точности».
«Само собой, само собой, — говорит Макриммон. — У всякого человека возможности ограничены. А ты уверен, что трещина есть?»
«Послушайте, да там целое ущелье, — говорю, потому что никакими другими словами описать это не было возможности. — А этот щенок Бэннистер утверждает, что трещинка только на поверхности».
«Ну, я полагаю, не наше дело соваться в чужое дело. Ежели у вас, Макфи, есть друзья там, на борту, почему бы не пригласить их скромненько отобедать в ресторане у Рэдли?»
«Вообще-то я собирался выпить чаю на камбузе, — говорю. — Механик с сухогруза, который промышляет случайными фрахтами, не может позволить себе ходить по ресторанам».
«Ни-ни! — говорит старикан брюзгливо. — Нечего тебе делать на камбузе. А люди ведь смеяться будут над моим «Змеем», потому что он не заляпан краской, как эта самая «Блудня». Пригласи их к Рэдли, Макфи, а счет пускай пришлют мне. И вот что, брат, ты терьера моего благодари. Сам-то я к благодарностям не привычен. — Тут он повернулся ко мне спиной. (А я как раз думал про то же самое.) — Мистер Макфи, — говорит он, — поверьте, это не старческое слабоумие».
«Боже упаси! — говорю, а сам весь похолодел. — Я думал, вы просто устали, мистер Макриммон».
Господи, тут этого старого дьявола разобрал такой смех, что он чуть было не сел на своего терьера.
«Счет пускай пришлют мне, — говорит. — Я уже позабыл, когда пробовал шампанское, мне здоровье не позволяет, так завтра поутру хоть расскажете мне, каково оно на вкус».
Стало быть, мы с Беллом пригласили этого щенка Бэннистера, а заодно и Колдера отобедать у Рэдли. В зале неприличным считается громко смеяться и горланить песни, но мы потребовали отдельный кабинет — совсем как владельцы собственных яхт из Коуса.
Макфи весь расплылся в улыбке, откинулся на спинку стула и умолк в задумчивости.
— Ну а дальше? — спрашиваю я его.
— Мы не напились пьяны в истинном смысле этого слова, но ресторан Рэдли показался мне сборищем мертвецов. Мы выпили шесть бутылок сухого шампанского, по две кварты в каждой, да еще раздавили, кажется, бутылочку виски.
— Неужели вы хотите сказать, что выпили по полторы бутылки шампанского на брата, да еще хлебнули виски в придачу? — спрашиваю я его.
Макфи снисходительно на меня воззрился.
— Ты пойми, мы были не в настроении, чтоб напиться, — сказал он. — Выпивка всего только привела нас в веселое настроение, шутки ради. Оно конечно, этот щенок Бэннистер уронил голову на стол и плакал, как младенец, а Колдер рвался нагрянуть к Стейнеру в два часа ночи и выкрасить его в ядовито-зеленый цвет, под стенку камбуза, но пили-то они цельный день. Господи боже, они там крыли на чем свет стоит и правление, и «Гроткау», и треснутый баллер, и машины, и вообще все! В тот вечер они и не заикались про то, что трещина лишь на поверхности. Говорю тебе, этот щенок Бэннистер и Колдер жали друг другу руки и клялись беспременно отомстить правлению любой мыслимой ценой, но только чтоб их не лишили дипломов. Вот видишь, как мнимая экономия губит дело. Правление выдавало им харчи хуже свиного пойла (уж кто-кто, а я это очень даже хорошо знаю), и я давно приметил за своими земляками, что ежели шотландцу ущемить брюхо, в нем сразу просыпается дьявол. Эти люди пересекут Атлантику на последнем дырявом корыте, ежели их кормить как следует, и пришвартуются в любом месте обеих Америк; но ежели их кормить худо, они и работать будут худо, что, впрочем, относится ко всем людям, какие живут на свете.
Ну ладно, счет, стало быть, отослали Макриммону, и он не сказал мне больше ни единого слова всю неделю, до самой субботы, ну а в субботу я сам пришел к нему попросить еще краски, потому как мы прослышали, что «Змей» зафрахтован на рейс в Ливерпуль.
«Оставайтесь там, где вам велено, — сказал Слепой Дьявол. — Послушайте, купаетесь вы в шампанском, что ли? «Змей» не тронется с места, покуда я не дам команды, и… разве могу я себе позволить зазря тратить на него краску, ежели «Фонагнец» застрял в доке невесть на сколько времени, и все прочее?»
Это был наш многотонный сухогруз — механиком там работал Макинтайр, — и я знал, что не пройдет и трех месяцев, как судно выйдет из ремонта. В то же утро встречаю я случайно управляющего Макриммона — ты его не знаешь, — и он прямо локти себе от досады кусает.
«Старик наш вовсе с ума спятил, — говорит. — Он задерживает «Фонагнца».
«А может, у него есть соображения», — говорю.
«Соображения! Да он просто-напросто рехнулся!»
«Это он еще не рехнулся, ежели красить не начал», — говорю.
«В том-то и дело, что уже начал — хотя в Южной Америке сейчас такие фрахты, каких мы отродясь не видывали и не увидим до самой смерти. А он судно поставил в док и велел красить… красить… красить! — говорит этот бедняга управляющий и вертится, как бес на горячей сковородке. — Пять тысяч тонн предложенного фрахта гниет в сухом доке, брат ты мой; а он, как последний скряга, раздает краску из банок в четверть кварты каждая, ведь это надрывает ему сердце, хоть он и чокнутый. И «Гроткау» — да, именно «Гроткау» изо всех вообразимых корыт — забирает все денежки, до единого фунта, которые мы могли бы загрести в Ливерпуле!»
Меня прямо-таки потрясло этакое безумство — особливо ежели учесть, что обед у Рэдли тоже был затеян для этого самого.
— Прямо глаза лезут на лоб, Макфи, — говорит мне управляющий. — Есть машины, и есть бимсы, и железные мостики — а знаете ли, что фрахтов-то нету? — и фортепьяны есть, и дамские шляпки, и наилучшие товары из Бразилии так и текут в «Гроткау» — в «Гроткау», эту собственность иерусалимской компании, — а «Фонагнца» все красят да красят!
Ей-пра, я уж думал, он сейчас хлопнется на землю да помрет в страшных судорогах.
Ну, я только и мог сказать: «Не хочешь быть в услужении, так помни хоть о повиновении», — но у себя на «Змее» мы порешили, что Макриммон спятил вконец; ну а Макинтайр с «Фонагнца» даже предлагал упечь его за решетку, притянув к суду по образцу какого-то процесса, который он отыскал в кодексе морского права. И всю неделю цены на фрахты из Южной Америки знай себе росли да росли. Это был просто срам!
Потом Белл получил приказ отвести «Змея» в Ливерпуль с водяным балластом, и Макриммон пришел его проводить и скулил и причитал об цельных цистернах краски, которые он извел на «Фонагнца».
«Одна надежда на вас, ведь надобно, чтоб краска не пропала зазря, — говорит. — Одна надежда на вас, а не то плакали мои денежки! Скажите мне, бога ради, почему работа по сю пору не кончена? Вы что же, нарочно бездельничаете там, в доке?»
«А что толку, мистер Макриммон? — говорит Белл. — Как ни верти, а мы будем в Ливерпуле только на другой день после открытия ярмарки. И «Гроткау» уже заполучил все фрахты, какие могли бы достаться нам и «Фонагнцу».
Тут Макриммон ухмыльнулся и захихикал — ну, чистейший случай старческого слабоумия. И знаешь, брови у него при этом заползали вверх-вниз, грозно, как у гориллы.
«Вам даются приказы в запечатанных пакетах, — говорит он и радостно фыркает да почесывается. — Вот они — вскрыть в указанные сроки».
Когда старик съехал на берег, Белл говорит, перебирая эти самые пакеты:
«Пойдем потихоньку вдоль южного побережья, а там поглядим, какие будут приказы — и погода, кстати, скверная. А насчет старика теперь ясно — он совсем с ума спятил».
Ну, мы зашлепали на своем стареньком «Змее» — погода была хуже некуда — да слушались срочных приказов, которые для капитанов сущее наказание. Дошли наконец до Холихеда, и Белл вскрыл последний пакет, чтоб прочесть последнее предписание. Мы с ним оба были тогда в капитанской каюте, и вдруг он швыряет мне этот пакет и орет:
«Видал ты когда-нибудь такое, Мак?»
Я тебе не скажу, что там написал Макриммон, но только он, оказывается, был вовсе не сумасшедший. Когда мы вошли в устье Мерсея, с юго-запада уже надвигался крепкий штормяга, и холод с утра стоял собачий, а море было свинцовое и небо тоже свинцовое, — словом, самая что ни на есть ливерпульская погодка, как это принято называть; мы бросили якорь, и вся команда злобствовала и ругалась на чем свет стоит. Ведь на борту судна никаких секретов не утаишь. И к тому же все были уверены, что Макриммон рехнулся.
Вскорости мы увидели «Гроткау», который выходил в море, дождавшись прилива, и осадка у него была не просто глубокая, а глубокая вдвойне, труба свежевыкрашенная, и шлюпки свежевыкрашенные, и все прочее тоже. Вид у него потешный, под стать названию, и пыхтел он также потешно. Еще в ресторане у Рэдли Колдер мне рассказал, что там было с машинами, но я и на слух определил бы это за две мили по стуку. Ну, мы сделали поворот да зашлепали, зарываясь носом, у него в кильватере, а ветер бушевал, и все видели, что он еще будет крепчать. К шести часам так и вышло, ветер валил с ног, но небо очистилось, а перед ночной вахтой штормяга, который надвигался с юго-запада, взыграл не шутя.
«При этаком ходе их, глядишь, выбросит на берег Ирландии», — говорит Белл.
Я стоял с ним рядом на мостике, и мы оба следили за левым бортовым огнем на «Гроткау». Зеленый огонь не то что красный, его издалека не видать, иначе нам пришлось бы держать с под-ветру. Пассажиров мы не брали, беспокоиться было не о ком, и (ведь все не спускали глаз с «Гроткау») мы чуть было не врезались в липерпульский лайнер, который возвращался в порт. Скажу напрямик, Белл ни много ни мало вырулил из-под самого его бушприта, и с обоих мостиков еще успели обменяться любезностями в довольно крепких выражениях. Но мы ведь не взяли ни одного пассажира, — тут Макфи бросил на меня благосклонный взгляд, — и некому было растрепать про это газетным писакам, добравшись до Таможенного управления. Мы следовали в кильватере у «Гроткау» всю ту ночь и еще целых двое суток — там сбавили ход, как я прикинул, до двух узлов, — и мы чуть не сдохли с тоски, покуда дотащились за ними до Фастнета.
— Но разве через Фастнет ходят в который-нибудь из южноамериканских портов? — спрашиваю я.
— Мы-то не ходим. Мы предпочитаем самый короткий и прямой путь, какой только можно выбрать. Но мы же плыли вслед за «Гроткау», а он не сунулся бы в такой шторм ни за какие деньги. Я помнил, что сделал сам для ихнего конфуза, и не мог попрекнуть этого щенка Бэннистера. Его ожидал бы зимний шторм в Северной Атлантике, а там мокрый снег, и туман, и смертоубийственный ветер. Эва, да прежде чем он успел бы что-нибудь сообразить, ему пришлось бы все равно как пройти над адской бездной по гребням высоченных волн. До тех пор они еще держались, но как только миновали Скеллингс, смазали пятки и пустились искать спасения за мысом Данмор. Ох, ну и валяло же их по волнам!
«Они возьмут курс на Смервик», — говорит Белл.
«В таком разе они попытались бы повернуть к Вентри», — говорю я.
«Ежели они будут идти этаким ходом, у них трубу снесет, — говорит Белл. — Почему Бэннистер не возьмет мористей?»
«Из-за баллера, вот почему. Пускай их сколько угодно с бортов по волнам валяет, все лучше, чем с этой трещиной на поверхности баллера отведать килевой качки. Настолько Колдер все-таки смыслит», — говорю.
«Аховая работенка спасать пароход в этакую погоду», — говорит Белл.
У него самого борода и баки примерзли к штормовке, а с наветренной стороны все налетали белые хлопья. Ну, самая что ни на есть натуральная зимняя погодка, как и положено быть в Северной Атлантике!
Одну за другой волнами посмывало все три наши шлюпки, а шлюпбалки искорежило.
«Дело дрянь, — говорит мне Белл в конце концов. — Надобна хоть одна шлюпка, иначе никак не завести буксирный трос».
Белл человек очень сообразительный — ежели учесть, что он абердинец.
Сам я не таков, чтоб робеть перед неожиданностями, лишь бы с машинами все было в порядке, а потому я дождался, когда одна волна схлынула, а другая еще не накатила, и сбежал с мостика поглядеть, как и что у нас на «Змее». Ну, брат, изо всех судов своего класса, какие когда-либо сходили со стапелей в Клайде, наше оснащено наилучшим образом! Кинлох, мой помощник, знал это не хуже моего. Прихожу, а он сушит носки на парораспределителе да расчесывает баки гребенкой, которую Жанетта подарила мне в прошлом году, ей-ей, кроме шуток, будто мы в порту отстаиваемся. Ну, я заглянул в топку, пошуровал там малость, осмотрел все кривошипы, поплевал на балансир, как принято, на счастье, высказал свое благосклонное одобрение, прибрал носки Кинлоха и скорей обратно на мостик.
Там Белл передал мне руль, а сам ушел вниз погреться. Когда он возвернулся, у меня перчатки примерзли к штурвальным шпагам, а ресницы заледенели от стужи. Словом, натуральная зимняя погодка, как и положено быть в Северной Атлантике, про это я тебе уже толковал.
Но форменный штормяга разыгрался среди ночи, да мы уже легли в дрейф и притушили топки, а наш старина «Змей» трещал, как говорится, от киля до клотика. Я сбавил обороты до тридцати четырех — то бишь нет, до тридцати семи. А поутру налетел страшенный ураган и поволок «Гроткау» на запад.
«Эдак они до Рио доплывут, с баллером или без баллера», — говорит Белл.
«Нынешней ночью их здорово потрепало, — говорю. — А винт у них еще сорвет беспременно, помяни мое слово».
А были мы тогда милях в ста пятидесяти на вест-зюйд-вест от мыса Слайн, по грубому счислению. На другой день мы покрыли сто тридцать — хоть шли, прошу заметить, не на гоночной яхте, — а еще через день оставили за кормой сто шестьдесят одну милю, и, когда определились, вышло восемнадцать с небольшим градусов западной долготы и пятьдесят один с небольшим северной широты, а стало быть, мы пересекли наискось все североатлантические линии, по каким лайнеры плавают, и притом не теряли из вида «Гроткау», который ночью рыскал по волнам, а утром, чуть засвежеет, уваливался под ветер. Когда шторм стихнул, наступили холода и очень темные ночи.
В ночь на пятницу я был у машин, только заступил вахту, как вдруг Белл скатывается ко мне по трапу.
«Готово дело!»
Я, конечно, сразу наверх.
«Гроткау» был от нас далеко к югу, но я увидел, как там раз за разом трижды вспыхнул красный огонь, — а этот сигнал означает, что судно потеряло управление.
«Ну вот, теперь нам есть чего взять на буксир, — говорит Белл и облизывается. — Это обойдется подороже, чем «Бреслау». Макфи, давай-ка спустимся к ним по ветру».
«Нет, ты обожди, — говорю я. — Здесь судов ходит многое множество».
«Ничего не пойму, — говорит Белл. — Сама судьба руку протягивает, как нищенка. А ты, брат, еще сомневаешься?»
«Пускай ждут до рассвета. Они ведь знают, что мы здесь. Ежели Бэннистеру подмога надобна, он может ракету пустить».
«Почем ты знаешь, чего Бэннистеру надобно? Мы дождемся, что его посудину перехватит какая-нибудь старая калоша да уволокет у нас из-под самого носа», — говорит он и перекладывает руль. А шли мы малым ходом.
«Бэннистер предпочел бы вернуться в порт на лайнере и столоваться в кают-компании. Помнишь, что они говорили о харчах, какие им скармливают Холдок и Стейнер, в тот вечер у Рэдли? Одерживай, брат, одерживай. Буксир он и есть всего-навсего буксир, а вот ежели судно брошено командой, вознаграждение за него платят изрядное».
«Э-эх! — говорит Белл. — Больно много ты хочешь, Мак. Но я люблю тебя, как родного брата. Останемся на месте да обождем до рассвета».
И стал одерживать.
Вскорости взлетела ракета с носа «Гроткау», еще две с мостика, а на корме загорелся синий фонарь. А малость погодя опять же на носу подожгли бочку со смолой.
«Топнут они, — говорит Белл. — Теперь все пропало, и получу я только бинокль для ночных обзерваций, за то что выловлю из воды этого щенка Бэннистера — дурака безмозглого».
«Сказано тебе, не спеши, — говорю я. — Они подают сигналы к югу от нас. Бэннистер не хуже моего знает, что довольно одной ракеты, и «Бреслау» подоспел бы на помощь, будь такая возможность. А тут целый фейерверк, это неспроста. Да еще звуковые сигналы каковы, ты послушай!»
«Гроткау» давал свисток за свистком целых пять минут кряду, а потом снова полетели ракеты — словом, настоящий спектакль.
«Это не для моряков, — говорит Белл. — Твоя правда, Мак. Это для пассажиров, которые там набились в кают-компанию».
Он прищурился и поглядел в бинокль на юг, где помаленьку густела мгла.
«Ну, что там, по-твоему?» — говорю я.
«Лайнер, — говорит. — Вон тоже пустил ракету. Ну да, ясно, разбудили капитана в золотых галунах и пассажиров разбудили. Гляди, электричество загорается, каюты осветились одна за другой. А вон и еще ракета! Поспешают на помощь терпящим бедствие в открытом море».
«Дай-ка мне бинокль, — говорю. Но Белл знай себе приплясывает на мостике, совсем сдурел. — Почтовый!.. почтовый!.. почтовый! — кричит он. — Контракт с правительством, бесперебойная доставка почты, а ежели такое дело, Мак, заметь, он может спасать утопающих, но не имеет права взять на буксир судно! Права не имеет взять на буксир! Вон его опознавательный огонь. Он подоспеет через какие-нибудь полчаса!»
«Этакая глупость! — говорю. — Ведь у нас горят все огни, какие только есть. Эх, Белл, тут ты и впрямь дурака свалял!»
Он сиганул с мостика и опрометью на нос, а я опрометью на корму, и в мгновение ока все наши огни погасли, мы задраили люк в машинное отделение и легли в дрейф, а вокруг тьма, хоть глаз выколи, и мы глядели, как огни лайнера, которому сигналили с «Гроткау», приблизились к месту бедствия. Лайнер шел со скоростью в двадцать узлов, все каюты были освещены, и вот уже шлюпки готовы к спуску. Это у них лихо получилось, и часу не прошло. Лайнер застопорил, как швейная машина миссис Холдок; живо спустили трап, следом спустили и шлюпки, а через десять минут мы услышали, как пассажиры радостно закричали и отбыли.
«Теперь им до конца жизни будет об чем рассказывать, — говорит Белл. — Помощь терпящим бедствие в море среди ночи, такое хоть в театре показывай. Этот щенок Бэннистер с Колдером будут пьянствовать в кают-компании, а через полгода министерство торговли наградит капитана биноклем. Сплошное человеколюбие, да и только».
Мы лежали в дрейфе до рассвета — все глаза проглядели, покуда дождались приятного зрелища, — а неподалеку кое-как держался на плаву «Гроткау» с задранным носом и будто взирал прямо на нас. Ничего смешней я сроду не видал.
«Там явно течь в кормовом отсеке, — говорит Белл, — иначе с чего бы корме погружаться? Баллер продырявил днище, а у нас… у нас нету шлюпок. Вон триста тысяч фунтов стерлингов, по самому скромному подсчету, топнут у нас на глазах. Чего делать будем?»
С минуту он снова бурлил, как перегретый котел: человек он несдержанный.
«Подойди к этой посудине поближе, насколько можешь рискнуть, — говорю. — Давай мне спасательный жилет и леер, я доберусь вплавь».
Море было не больно ласковое, да и ветер холодный — даже очень холодный, но ведь они-то спустились в шлюпки по трапу, как пассажиры, этот щенок Бэннистер и Колдер, а трап-то остался висеть с подветру. Просто грешно было бы отказаться от такого удобства, когда само провидение его посылает. Мы были в пятидесяти ярдах, и Кинлох заляпал меня с ног до головы мазутом в закутке за камбузом, а когда мы поравнялись, я прыгнул за борт и поплыл к брошенному судну за вознаграждением в триста тысяч фунтов. Ну, брат, холод был лютый, но я свое дело сделал с умом, проплыл, цепляясь за кранцы, до нижней ступеньки трапа. И верь слову, никогда еще я так не удивлялся. Не успел я перевести дух, как обе коленки до крови ободрал об этот трап, но вскарабкался наверх, прежде чем накатила новая волна. Я накрепко привязал леер к планширу и бегом на корму, в каюту этого щенка Бэннистера, где обтерся всем, что сыскал у него на койке, да оснастился всяческим такелажем, какой попал под руку, и помаленьку кровь снова потекла у меня в жилах. Слышь, я нашел там три пары подштанников — для начала — и все натянул на себя. Была самая зверская стужа, такой я не упомню за всю свою жизнь.
Потом я пошел в машинное отделение. «Гроткау», как говорится, уже и хвост поджал. Воды в машине было фута с четыре, а то и пять, — она переплескивалась и хлюпала, черная, маслянистая, — может, там набрались и все шесть футов. Двери кочегарки были задраены накрепко, а задрайки там тугие, и на минуту весь этот беспорядок в машине меня обманул. Но всего на одну минуту, да и то потому только, что мне, в некотором роде, изменило мое обычное спокойствие. Я глянул еще раз, чтоб уж больше не сомневаться. Черная трюмная вода, да и только, отработанная, скопилась, знаешь, сама собой.
«Макфи, я просто-напросто пассажир, — говорю я себе, — но ты никогда меня не убедишь, что шесть футов воды могут скопиться в машине сами собой».
«Да кто это, собственно, пытается тебя убедить, — отвечает Макфи. — Я лишь втолковываю тебе, как обстоит дело, а это факт — простой, обыкновенный факт. Шесть или семь футов отработанной воды в машине — зрелище очень печальное, в особенности ежели тебе сдается, что она будет прибывать, но, по-моему, такое навряд ли возможно, а стало быть, я, заметь, и не печалюсь».
«Все это прекрасно, — говорю, — но я хотел бы знать, как все-таки обстоит дело с водой».
«Сказано тебе, очень просто. Тут ее футов шесть или больше, и на поверхности плавает фуражка Колдера».
«Откуда ж она взялась?»
«Ну, в суматохе, когда винт отвалился, а машины крутились на холостом ходу, и все прочее, вполне могло случиться, что Колдер потерял эту свою голову и уже не потрудился ее подобрать да водворить на место. Помнится, я видел на нем эту фуражку в Саутгемптоне».
«Фуражка меня не интересует. Я спрашиваю, откуда и зачем здесь вода и почему ты так уверен, Макфи, что течи нету?»
«По основательной причине — очень даже основательной».
«Тогда скажи мне, какая такая тут причина».
«Ну, собственно говоря, причина эта не только до меня имеет касательство, скажу напрямик, мое мнение такое, что она, вода эта, частью вытекает из оплошности совсем другого человека, который ошибся и рассудил плохо. Ошибиться ведь всякий может».
«Э, нет прошу прощения!»
Подымаюсь снова наверх, к планширу, и Белл меня окликает:
«Ну, как там?»
«Ничего, сойдет, — отвечаю. — Давай сюда буксирный трос и рулевого. Я его втащу на леере».
Я видел только головы, они прыгали и метались, да слышал несколько крепких словечек. Потом Белл говорит:
«Они на себя не надеются… только один… в такую воду… никто, кроме Кинлоха, а им я не могу рисковать».
«В таком разе, — говорю, — на мою долю больше вознаграждения достанется. Буду нести вахту соло».
Тогда один малый, береговая крыса, говорит:
«Думаешь, опасности нету?»
«Я тебе ничего в точности не могу посулить, — говорю, — кроме хорошей взбучки за то, что ты заставляешь меня дожидаться столько времени».
Тут он заскулил:
«На судне один-единственный спасательный пояс, да и тот найти не могут, иначе я давно был бы с тобой».
«Швыряйте его, пакостника шкодливого, силой», — говорю, потому как я уже потерял последнее терпение.
И они схватили этого самого добровольца, он и сообразить не успел, что его ждет, да вывалили за борт, обмотав моим леером. Ну, я живо втащил его на этой петле, перехватывая леер, — очень даже полезный оказался новобранец, когда я вытряс из него соленую воду: он, к слову сказать, и плавать-то не умел.
Тут они срастили леер с двухдюймовым канатом, а канат — с тросом, я намотал канат на ворот носовой лебедки, после чего мы, обливаясь потом, выволокли трос на борт и накрепко затянули вокруг кнехта «Гроткау».
Белл подвел «Змея» так близко, что я испугался, как бы он при первой же волне не пробил обшивку «Гроткау». Белл перебросил мне второй леер и побежал на корму, а мы снова долго уродовались у лебедки, покуда не закрепили и этот трос. При всем том Белл был прав: предстоял долгий путь с буксиром, и хотя провидение до тех пор нам помогало, глупо было бы слишком полагаться и дальше на его милость. Когда мы закрепили второй трос, я весь взмок от пота и крикнул Беллу, чтоб он выбрал слабину да двигал домой, в порт. Помощничек мой пособлял работе все больше просьбами, чтоб ему дали выпить, но я велел ему присматривать за снастями и стоять на руле, главное, стоять на руле, потому как сам хотел соснуть малость. И он стоял на руле, да, если это можно так назвать. По крайности, он вцепился в шпаги и крутил руль, только, сдается мне, на «Блудне» навряд ли заметили его усердие. А я ушел в каюту этого щенка Бэннистера, лег там на койку и уснул мертвецким сном. Проснулся я от голода, злой, как собака, а море ярилось вокруг, и «Змей» пыхтел, делая четыре узла; ну а «Гроткау» шлепал, и зарывался носом в волны, и покряхтывал, и рыскал, как вздумается. Такого паскудного судна никто еще не буксировал, срам, да и только. Но больше всего сраму вышло с провиантом. Я искал пожрать на полках, в камбузе, и в кладовке, и в лазарете, и во всех закоулках, но то, что нашлось, я не предложил бы последнему кардиффскому углекопу: а ты ведь знаешь, у нас поговорка такая есть — кардиффский углекоп и шлак слопает, лишь бы добро не пропадало. Да, скажу я тебе, это было паскудство! Матросы написали ихнее мнение по этому поводу на новой краске на полубаке, но со мною рядом не было даже приличного человека, чтоб ему пожалиться. И мне ничего не оставалось, кроме как следить за буксирными тросами да глядеть на корму «Змея», которая с хлюпаньем окуналась в пену, когда корабль рассекал волну; потом я раскочегарил паровой насос на юте и откачал воду из машины. Нет никакого расчету оставлять воду на судне. Когда стало сухо, я спустился в шахту и увидал, что там всего-навсего маленькая течь через сальники, но своим ходом судно все одно не пойдет. Ведь винт сорвало, я-то давно знал, что так беспременно и будет, а Колдер только этого и дожидался, уже руку держал на рычаге. Он сам мне признался после, когда мы на берегу свиделись. Ничто не было сломано или покорежено. Винт просто-напросто погрузился на дно Атлантики так же легко, как человек помирает в назначенный час, — и ежели все взять в соображение, так это самим провидением было уготовано. Потом я осмотрел палубную оснастку «Гроткау». На шлюпбалках остались одни щепы заместо шлюпок, кое-где разломало фальшборт, сорвало несколько вентиляционных труб да от волн погнулись поручни на мостике; но люки были задраены плотно, и само судно не особо повреждено. Господи, я его возненавидел, как живую тварь, ведь я пробыл в море восемь тяжких дней, вымотался, чуть не подох с голоду — да, с голоду, — а всего в кабельтове от меня было полно всякой жратвы. Целыми днями валялся я на койке, читал роман «Женоненавистник», самую замечательную книгу, какую написал Чарли Рид, и порой прикладывался к бутылке. Это было очень, очень тяжко. Да, брат, восемь дней провел я на «Гроткау» и ни разу не пожрал досыта. Оно и не диво, что команда отказалась его спасать. А тот, второй? Ну, его я заставлял вкалывать на совесть, чтоб он не мерзнул.
Когда мы бросали лот, дошло до драки, и пришлось мне самому следить за тросами, которые были намотаны на шпиль, ну я и стоял, дышал себе морским воздухом. Только вот еле живой был от холода и голода, ведь «Гроткау» тащился на буксире, как тяжело груженная баржа, и Белл выволакивал его из волн то вразрез, то лагом. А еще вышла неприятность, когда шли через Ла-Манш. Мы стали подходить к берегу, чтоб видней был огонь маяка, и чуть не долбанули два, то ли три рыбачьих суденышка, и с них нам крикнули, что мы этак врежемся в Фолмут. А потом нас самих едва не потопил груженный фруктами иностранец с пьяным рулевым, который заблудился промеж нами и берегом, и в ту ночь неприятности нас преследовали одна другой хуже, и я по буксирным тросам видел, что Белл не знает, куда его занесло. Черт подери, мы узнали это поутру, потому что ветер сдунул туман, как чад со свечки, небо очистилось и взошло солнце. И так же верно, как то, что Макриммон выписал мне чек, тень Эддистоунской скалы легла поперек наших буксирных тросов! Мы были совсем рядом с нею — да, совсем рядом! Белл повернул «Змея» так круто, что от рывка на «Гроткау» чуть не снесло кнехты, и, право слово, я благодарил Создателя в каюте этого щенка Бэннистера, когда мы укрылись наконец за Плимутским молом.
Первым ко мне на борт поднялся Макриммон со своим терьером. Я, кажется, уже говорил тебе, что у нас был приказ доставить все, что мы добудем, в Плимут. Этот старый черт сам приехал туда только накануне вечером, он живо сообразил, что к чему, когда лайнер высадил на берег людей с «Гроткау» и Колдер ему рассказал все, как было. Он поспел к самому нашему приходу. Я крикнул Беллу, чтоб мне доставили чего-нибудь поесть, и он прислал провиант с той же шлюпкой, на которой приплыл Макриммон, а сам старик высадился и сразу ко мне. Покуда я ел, он ухмылялся и хлопал себя по бокам, и брови у него ползали то вверх, то вниз.
«Так какие же харчи получает команда у Холдока, Стейнера и Чейса?» — говорит он.
«Сами можете видеть, — говорю я и откупориваю вторую бутылку пива. — Но я, мистер Макриммон, не нанимался с голоду помирать».
«И плавать в ледяной воде тоже не нанимался, — говорит он, потому что Белл ему уже рассказал, как я доставил леер. — Ладно, надеюсь, в накладе ты не останешься. Какой фрахт, который мы могли взять на «Фонагнце», сравнится с вознаграждением в четыреста тысяч фунтов за спасение судна — да еще вместе с грузом. Ну-с, Макфи? Теперь мы хорошенько выпотрошили этот самый филиальчик «Холдок, Стейнер, Чейс и компания». Ну-с, Макфи? Страдаю я после этого старческим слабоумием? Ну-с, Макфи? И рехнулся ли я, когда велел красить «Фонагнца»? Ну-с, Макфи? А ты, мой песик, можешь задрать лапу. Я их всех выставил на посмешище. Была вода в машинном отделении?»
«Ежели говорить по совести, — отвечаю я, — туда и впрямь натекло малость».
«Когда отвалился винт, они решили, что судно тонет. Оно наполнялось с удивительной быстротой. Колдер сказал, что ему и Бэннистеру было жаль его покидать».
Тут я припомнил обед у Рэдли и те харчи, какие я ел эти восемь дней.
«Еще бы не жаль, прямо до смерти», — говорю.
«Но команда и слышать не хотела о том, чтоб остаться на борту и идти в порт под парусами. Теперь они всем и каждому твердят, что, прежде чем дойти, они передохли бы с голоду».
«И впрямь передохли бы, ежели б остались», — говорю.
«Я понял со слов Колдера, что они там чуть ли не бунт подняли».
«Вам лучше знать, мистер Макриммон, — говорю. — Но ежели рассудить по справедливости, коль скоро все мы одного поля ягоды, то кто же тогда открыл кингстон?»
«Ага, стало быть, вон что? — говорит старик, и я вижу, что он в удивлении. — Кингстон, говоришь?»
«Сдается мне, не иначе, как кингстон. Когда я поднялся на борт, все кингстоны были закрыты, но кто-то напустил в машину добрых восемь футов воды, а потом перекрыл струю разводным ключом уже снаружи, со шторм-трапа.
«Черт подери! — говорит Макриммон. — Просто поверить невозможно, что человек способен на такую черную неблагодарность. Но ежели дойдет до суда, Холдок, Стейнер и Чейс здорово оскандалятся».
«Да ведь я не к тому, просто меня любопытство одолевает».
«Ну-ну, той же самой болезнью страдает и мой терьер. Ты, собачка, изживай любопытство, оно заводит бедных песиков во всякие ловушки и прочие неприятные места. Где был «Змей», когда тот крашеный лайнер подобрал команду с «Гроткау»?»
«Там и был или где-то поблизости», — говорю.
«И кто из вас двоих сообразил погасить огни?» — спрашивает он, подмигнув.
«Ну, песик, — говорю я терьеру, — нам обоим надобно изживать любопытство. Это дело неприбыльное. Много ли мы можем заполучить вознаграждения, а, песик?»
Старикан так хохотал, что чуть не задохся.
«Возьмете, сколько я дам, Макфи, и этого будет предостаточно, — говорит. — Господи, когда человек стареет, какую уйму времени растрачивает он понапрасну. А теперь поскорей отправляйтесь на борт «Змея». Я совсем позабыл, что в Лондоне по вас плачет назначение на рейс в Балтийское море. Думается мне, это будет ваше последнее плаванье, разве только захотите прогуляться для собственного удовольствия».
Стейнеровы люди уже подымались на борт, чтобы принять вахту и отбуксировать свое судно, и я, когда плыл на «Змея», разминулся со шлюпкой этого щенка Стейнера. Он потупил глаза, но тут Макриммон зычно кричит:
«Вот человек, который спас вам «Гроткау», извольте получить — но не задаром, Стейнер, не задаром! Позвольте представить вам мистера Макфи. Возможно, вы уже знакомы, да только не умеете вы, бедняги, удерживать у себя людей — и на берегу, и в море!»
Он засмеялся и засипел старой, иссохшей глоткой, а этот щенок Стейнер глядел на него с такой злобой, будто сожрать хотел заживо.
«Обождите радоваться, вы еще не получили вознаграждения», — говорит Стейнер.
«Ни-ни! — орет старик, да так визгливо и пронзительно, что в Хоу слышно. — Но у меня есть два миллиона фунтов стерлингов, а детей нет, и ежели ты, иудей Апелла, вздумаешь со мною тягаться, я выложу фунт против фунта, до последнего. Уж меня-то ты знаешь, Стейнер! Я Макриммон, директор компании «Макнотен и Макриммон»!
«Господи, — говорит старик сквозь зубы и откидывается назад в шлюпке, — четырнадцать лет ждал я случая разорить эту еврейскую фирму и теперь, с божьей помощью, исполню это».
«Змей» был в Балтийском море, когда старик делал свое дело, но я знаю, что эксперты оценили «Гроткау» в общей сложности более чем в триста шестьдесят тысяч — перечень грузов был чистый клад, — и Макриммон получил треть этой суммы за спасение брошенного судна. Сам знаешь, одно дело взять на буксир судно с командой на борту и совсем другое — подобрать покинутое, тут разница большая — очень даже большая — в фунтах стерлингов. Но этого мало, две трети матросов с «Гроткау» горели желанием свидетельствовать перед судом о плохом провианте, а кроме того, Колдер еще раньше представил в правление рапорт о непригодности баллера, и это было бы сокрушительным ударом, ежели б дело дошло до суда. Но у них хватило ума не затевать тяжбы.
Вскорости «Змей» воротился из плаванья, и Макриммон уплатил мне и Беллу особо, а всей остальной команде pro rata[351] — так, кажись, это называется. На мою долю — то бишь на нашу долю, так верней сказать будет, — пришлось ровным счетом двадцать пять тысяч фунтов стерлингов.
Тут Жанетта вскочила и чмокнула его в щеку.
— Да-с, двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Ну а сам я родом с Севера, а стало быть, не из тех, которые сорят деньгами очертя голову, но я отдал бы свое жалованье за полгода, только б узнать, кто это затопил машинное отделение на «Гроткау». Я очень даже хорошо знаю характер Макриммона и уверен, что не он приложил тут руку. И не Колдер, потому как я его про это спросил, а он чуть не в драку полез, до того обиделся. Это было бы в высшей степени недостойно моряка, ежели б Колдер так поступил — я не про драку, а про открытый кингстон, — но сперва я думал, это его работа. Да, я рассудил, что он мог бы сделать чего-нибудь в этом роде — ежели б не устоял перед искушением.
— И какая же ваша догадка? — спросил я.
— М-да, сдается мне, тут воля провидения, всякое иной раз бывает, дабы напомнить нам, что все мы под богом ходим.
— Но не мог же кингстон открыться и закрыться сам собой?
— Я не про это, но какой-нибудь голодный смазчик или, может, кочегар, вероятно, открыл его на время, чтоб наверняка покинуть «Гроткау». Всякий упадет духом, ежели увидит, что машина затоплена после аварии, — и духом упадет, и на хитрость поддастся. Ну, этот малый своего добился, все они перешли на борт лайнера и кричали, что «Гроткау» тонет. Но любопытно, что дальше было. Сколько постижимо человеческому уму, он сейчас, сто чертей его подери, плавает на каком-нибудь другом сухогрузе, который промышляет, чем попало; а я вот имею в банке двадцать пять тысяч фунтов и твердо решил в жизни больше не выходить в море — воистину, по воле провидения, — ну, разве что пассажиром, ты, Жанетта, сама понимаешь.
* * *
Макфи сдержал слово. Они с Жанеттой отправились в плавание пассажирами в каюте первого класса. Уплатили за билеты семьдесят фунтов; и Жанетта отыскала во втором классе тяжело больную женщину и шестнадцать дней прожила на нижней палубе, болтала со стюардессами у трапа, поблизости от салона второго класса, покуда больная, за которой она ухаживала, спала. А Макфи плыл пассажиром ровнехонько двадцать четыре часа. Потом кубрик, где механики живут, — там столы заместо скатерти клеенкой покрыты, — с восторгом принял его в свое лоно, и до самого конца плаванья ихняя команда пополнилась, потому как на них бесплатно работал очень опытный дипломированный механик.
СЛОВАРЬ ИНДИЙСКИХ СЛОВ К РАССКАЗАМ Р. КИПЛИНГА
Айя — няня.
Баба — барчук.
Бабу — господин.
Бадмаш — злодей.
Бангала — жилище.
Баха дур — великан, богатырь.
Балаит — Англия.
Бурра сахиб — большой господин.
Гонды — индийская народность.
Гхарри — повозка.
Гхат — место сожжения.
Карайт — вид змеи.
Кос — мера длины, около 1,8 км.
Махаут — погонщик слонов.
Мем-сахиб — госпожа.
Нума — вид дерева.
Пагал — дурачок.
Пайса — мелкая монета.
Пакка — переносно: хороший, достойный (буквально: «зрелый»).
Салам — привет.
Сахиб — господин.
Сурти — индийская народность.
Суур — свинья.
Хамал — водонос.
Хубши — негр.
Чандухана — курильня опиума.
Чапатти — лепешка.
Шикар — охота.