
Николай Максимович Шанский
Лингвистические детективы
Моему читателю
Книга, которую вы взяли в руки, необычна. И объясняется это двумя обстоятельствами: во-первых, ее содержательной сутью, а во-вторых, стилем бесхитростного научно-популярного изложения и формой подачи занимательного материала. Только это, по существу, и вынуждает меня к краткому предисловию. Итак, несколько предваряющих слов об этой книге. С первой же страницы вы попадаете в удивительный и загадочный мир нашего великого языка.
При всей кажущейся простоте и системном «уюте» языка в нем, этом «духовном теле мысли» (В. Жуковский), содержится столько вызывающего самые разные и неожиданные вопросы, что просто диву даешься. Больше всего такого неясного, странного, даже детективного в строительных материалах языка, т. е. в словах как таковых, в словах как компонентах устойчивых оборотов, в словесных единствах того или иного художественного текста. Много неясного также в грамматике, правописании и произношении слова. Поэтому сразу же вы окунаетесь в Слово и его тайны. В каждом рассказе или заметке – перед вами… одни лишь слова, слова, слова.
В композиционном отношении книга в целом строится как свободная последовательность одной за другой маленьких лингвистических новелл о самых различных словах и словесных сообществах, об их семантике, структуре, происхождении, орфографии и звучании, употреблении в обиходной и поэтической речи.
Таким образом, книга, которую вы будете читать, в своей основе выступает как «собранье пестрых глав» (А. Пушкин) по русскому языку. Почему что-то или кто-то называется так, а не иначе? Из каких частей слово или оборот состоит? Что они сейчас обозначают? В силу каких причин пишутся, произносятся и употребляются именно так, как мы это сейчас делаем? Откуда есть пошли, как сделаны, когда и где родились? Что с ними потом произошло? Какую роль они играют в художественном тексте?
Вместе с тем эта книга – не только сборник отдельных, внешне иногда совершенно не связанных между собой мини-очерков, но и своеобразное введение в науку о русском языке, в котором вы знакомитесь со многими (очень важными) вопросами лексикологии и фразеологии, этимологии, правописания и орфоэпии, культуры речи, поэтики и лингвистического анализа художественного текста. Правда, книга не является учебным пособием, где все такие проблемы освещаются в методической системе и в соответствии с определенной программой, но к усвоению теоретических вопросов, думается, с помощью анализа отдельных, самых различных по своему характеру языковых фактов все же ведут. Этому способствуют специальные разделы, посвященные разбору слова по составу, этимологии и языку художественной литературы, а также контрольные вопросы, задания и эвристические (развивающие) задачи, после которых всегда следуют соответствующие ответы.
В книге вы найдете не только научно-популярные переложения уже известного в русском языкознании, но и немало того, что было добыто и открыто самим автором в течение его многолетней научной и преподавательской работы. Говорю об этом только потому, что еще не изжито у многих (особенно специалистов) снисходительное отношение к написанному просто и адресованному широкому кругу читателей.
Удалась ли эта книга, насколько она оказалась вам интересной и полезной, судить вам. Только читайте ее внимательно.
Буду искренне благодарен за все замечания, советы и пожелания, а также за новые вопросы о загадочных и непонятных вам фактах русского языка. Ну а теперь за книгу. Нас ждут слова.
Условные сокращения
авест. – авестийский
алб. – албанский
англ. – английский
арабск. – арабский
арм. – армянский
баск. – баскский
белорус. – белорусский
болг. – болгарский
вин. п. – винительный падеж
голл. – голландский
готск. – готский
греч. – греческий
дат. – датский
дат. п. – дательный падеж
диал. – диалектный
др.в.н. – древневерхненемецкий
др. греч. – древнегреческий
др. евр. – древнееврейский
др. инд. – древнеиндийский
др. исл. – древнеисландский
др. прус. – древнепрусский
др. рус. – древнерусский
евр. – еврейский
ед. ч. – единственное число
ж. р. – женский род
им. п. – именительный падеж
инд. – индийский
иран. – иранский
исп. – испанский
итал. – итальянский
кимр. – кимрский
л. – лицо
лат. – латинский
латыш. – латышский
лит. – литовский
литер. – литературный
м. р. – мужской род
мн. ч. – множественное число
н. – в. – нем. – нововерхненемецкий
нареч. – наречие
наст. вр. – настоящее время
нем. – немецкий
общеслав. – общеславянский
осетин. – осетинский
пол. – польский
полаб. – полабский
предл. п. – предложный падеж
род. п. – родительный падеж
родств. – родственный
рум. – румынский
сев. – рус. – севернорусский
серб. – хорв. – сербскохорватский
сицилийск. – сицилийский
словацк. – словацкий
совр. – современный
ср. – в. – нем. – средневерхнене-мецкий
ср. р. – средний род
ст. – слав. – старославянский
сущ. – существительное
твор. п. – творительный падеж
тж – то же
туарег. – туарегский
тунг. – маньч. – тунгусо-маньчжурский
тюрк. – тюркский
укр. – украинский
устар. – устаревший
фин. – финский
франц. – французский
хеттск. – хеттский
чеш. – чешский
швед. – шведский
эст. – эстонский
Слова среди других слов
В этимологических дебрях
Детектив про детектив
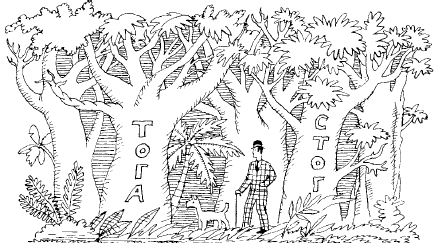
Загадочные приключения, запутанные случаи, словом, детективные истории, которые раскрываются с помощью лингвистического анализа, представляющего собой основной инструмент языкознания как науки, логичнее всего, пожалуй, начать с рассказа о самом слове детектив. Ведь это, как кажется, простое слово является довольно трудным и уходит своими корнями в глубокую языковую старину.
Но о том и другом по порядку. Прежде всего давайте обратимся к его значению. Заглавие заметки в этом отношении (я это сделал, конечно, намеренно) выступает двусмысленным. В своем значении сразу и однозначно раскрывается предлогом про (про что?) лишь его последнее слово. Совершенно ясно, что существительное детектив, замыкающее название этого очерка, значит «детективная история» (или роман, фильм и т. д.), так как слово детектив в значении «агент сыскной службы, сыщик» после предлога про в вин. п. как одушевленное существительное имело бы форму детектива. Что касается первого слова заглавия нашего очерка, то оно может быть понято по-разному: то ли детектив, т. е. «сыщик», делится своими соображениями о каком-либо детективном романе, фильме, запутанном происшествии или детективном жанре, то ли в заглавии и первое детектив равно по смыслу второму.
Как видим, уже по заглавному словосочетанию приходится проводить, пусть элементарное, следствие. О том, что значит первое слово заглавия заметки – надо только ее читать внимательно, – говорит дальнейшее изложение.
Таким образом, мы установили, что существуют два слова детектив (в словарях они толкуются как два значения одной и той же лексической единицы). Какова их родословная?
Если вы объедините их как одновременные и одноисточниковые, то сделаете ошибку. Сначала в русский язык пришло, как считают, из английского языка (правда, с наконечным французским ударением!) слово детектив – «сыщик». Оно отмечается в толковых словарях с 1934 г. Это существительное передает англ. detective той же семантики. Детектив в значении «загадочная, запутанная история» – иного толка и появляется значительно позднее. Оно является исконно русским и возникло посредством лексико-семантического способа словообразования на базе детектив – «детективный роман, фильм», также слова нашего и недавнего: в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» (1954) его еще нет. В нашей речи оно стало в ходу с 60-х гг. XX в. По способу образования это существительное детектив совершенно другое. Оно возникло уже с помощью морфологического способа словообразования, а именно путем аббревиации, т. е. чистого сокращения словосочетаний детективный роман, детективный фильм, калькирующих, вероятно, англ. detective novel, detective film. Следовательно, слово детектив – «детективный роман, фильм» по деривационному (словообразовательному) складу и ладу – такое же производное, как противогаз – из противогазовая маска, самоцвет – из самоцветный камень, демисезон – из демисезонное пальто, неформал – из член неформальной организации, беспредел – из беспредельная свобода и т. д.

Но это далеко не все в детективной истории слова детектив, если дотошно расследовать дело о его родословной. Лингвистические разыскания (как говорят, язык до Киева доведет!) приводят нас неожиданно к таким архидалеким от существительного детектив словам, как… тога и стог. Вы удивлены? И тем не менее, как это ни странно, все три названных существительных являются словами одного и того же корня.
Англ. detective заимствовано из латинского языка и восходит к причастию detectivus от глагола detegere «открывать, раскрывать», который является приставочным производным к глаголу tegere «крыть, укрывать». Значит, детектив исходно – «тот, кто раскрывает, открывает» (дверь, вход, загадку, преступление и т. д.) и отсюда – «тот, кто ищет», т. е. «сыщик». Сравните родственное детектор «искатель, индикатор», детектор лжи – «определитель лжи» < англ. lie detector. Латинский глагол tegere со своим значением «крыть, покрывать» прямо и непосредственно связан со словом toga «верхняя одежда римского гражданина», освоенным в виде тога нашим языком в конце XVIII в. Слово toga было образовано от глагола tegere безаффиксным способом словообразования с регулярной перегласовкой (е/о) корня, характерной для многих индоевропейских языков. В качестве аналогичных по способу производства можно привести слова везти – воз; теку, течь – ток; бреду, брести < *bredti – брод; дом – от исчезнувшего demti (ср. греч. domos – dem? – «строю»); лежать – ложе и т. д. Тога буквально значит «то, что покрывает, покрывало» и далее – «одежда» (ср.: наряды и рядиться в тогу, облачение и разоблачить и пр.).
Итак, получается, детектив как «раскрыватель» вообще (и затем – тайны, преступления и т. д.; ср.: срывать одежды с чего-л., покрывать кого-л.) неразрывно связан с тогой как «то, что покрывает». То же самое смело можно сказать и о слове стог, имея в виду и его исходное значение, и его исходные словообразовательно-корневые данные. Абсолютно непохожее и в функционально-смысловом плане бесконечно далекое от слова детектив существительное стог все же генетически его родственник. Первоначальное значение слова стог (оно сохранилось в балтийских языках; ср. лит. stogas «крыша, кровля») – «то, что укрывает, покрывает, защищает» > «крыша, кровля» и лишь затем – по воле метонимии – «то, что прикрывают, покрывают». Между прочим, стога до сих пор нередко (особенно в Прибалтике и на северо-западе России) сверху прикрывают от дождя.
«Позвольте! – можете сказать вы. – Но ведь слово стог начинается с с! Разве в нем тот же корень, который просматривается в лат. toga? Чем же тогда будет в нем с?» Начальное с в нашем слове является так называемым подвижным s, известным в древнюю эпоху многим индоевропейским языкам. Так, в древнеиндийском и греческом языках рядом с лат. tegō «покрываю» мы находим соответственно sthagati «укрывает» и stegō «покрываю». В нашем языке рядом с кора наблюдаем скорняк, шкура (от устар. скора «шкура, кожа, кора»), осколок – колоть, скопить – копать «рыть, вырывать», стерня – терн и т. д.
Ну вот, наше расследование закончено. Мы убедились, что существительное детектив и слова тога и стог по своему происхождению – своеобразные однокорневые антонимы: тога и стог укрывают, а детектив – «сыщик» – раскрывает. Так что мы сейчас выступали в роли лингвистического детектива.
Дело о прилагательном лингвистический и глаголе звать
После установления родословной слова детектив будет закономерным и естественным наше обращение к определяющему его прилагательному лингвистический. В заглавии заметки я соединил его с глаголом звать. Это не вызвало у вас удивления? С чего бы их между собой связывать? Но подождите, об этом потом.
Прилагательное лингвистический на первый взгляд ничего интересного не содержит. Совершенно ясна его словообразовательная структура, не вызывают никаких сомнений и смысловые связи. В нашем языковом сознании оно воспринимается как самое заурядное исконно русское слово, образованное с помощью суффикса – еск(ий) от существительного лингвистика, которое, в свою очередь, создано посредством суффикса– ик(а) от слова лингвист (по модели гимнаст – гимнастика, поэт – поэтика, журналист – журналистика и пр.).
Что касается существительного лингвист, то по своему морфемному составу оно выглядит как производное с суффиксом – ист от связанного корня лингв-, известного также и в таких словах, как лингвострановедение, билингв «человек, способный употреблять в ситуациях общения две различные языковые системы, т. е. говорящий на двух языках», лингво-дидактика и т. д. Своим связанным, а не свободным корнем и суффиксом лица– ист слово лингвист очень похоже на одно из двух названий специалиста по славяноведению – славист.
По сравнению с прилагательным лингвистический слово лингвист, наверное, у большинства из вас вызывает впечатление иностранного. И не напрасно. Оно действительно является заимствованным в первой половине XIX в. из французского языка, где было известно как ученое новообразование от лат. lingua аж с XVII в.
Однако не нашим – как это ни кажется нам парадоксальным – является и исходное прилагательное лингвистический. Это (и таких слов немало) по своему устройству и форме будто бы самое «нашенское» слово на деле, как и существительное лингвистика, тоже усвоено из французского языка, правда, франц. linguistique в соответствии с законами русского языка при заимствовании было переоформлено с помощью суффикса – еск(ий).
Между прочим, синонимы слова лингвистика – языковедение и языкознание, как и многие другие лингвистические термины XIX в. (ср.: праязык < нем. Ursprache, словообразование < нем. Wortbildung и т. д.) являются словообразовательной калькой нем. Sprachwissen.
Итак, идя по следам прилагательного лингвистический, мы пришли к лат. lingua «язык» (и в значении «орган речи», и в значении «речь, средство общения»). Есть ли в латинском и русском словах еще что-либо общее, кроме значения? Если сравнивать со многими родственными словами русского и латинского языков (матерь (Божия) – mater, два – duo, есть – est, гость – hostis, любо – lubet, море – mare, новый – novus, соль – sal, видеть – videre, велю – volo и т. д.), то можно сказать: «вряд ли». Но языковые пути, как и Господни, неисповедимы. Как внешне слова lingua и язык сейчас друг от друга ни далеки, они все же (не поразительно ли?) являются родственными, «вылетели» из одного и того же корневого гнезда. Свидетельства? Аргументы? Сейчас будут.
Начнем с нашего язык как претерпевшего изменений (и структурных, и фонетических) больше.
Сравнение русского слова с соответствующим словом в других славянских языках (ср. болг. език, пол. jẹzyk, чеш. jazyk и т. д.) позволяет восстановить общеславянскую форму этого существительного как *ẹzyk, где позже возник протетический (вставной) у, а е (в русскомʼа) восходит к звукосочетанию en (ср. семя – семени).
Сравнение *ẹzyk с др. – рус. камык «камень», суффиксальным производным от камы, род. п. камене, позволяет трактовать его как одноструктурное и выделить в нем тоже суффикс– к(ъ). Тем самым вырисовывается, с учетом того что ы здесь является отражением й, старое *ẹnzū. Но эта форма также не является исходной. Следует иметь в виду, что общеславянское z восходит к индоевропейскому gʼh (ср. заяц – готск. gaits «коза», буквально – «прыгающее животное»), зеленый – кимр. gledd «зеленый дерн», диал. зород «огороженное место» – литер. город, нем. Garten «сад» и т. д.). В результате можно реконструировать исходную форму *engʼhū. Если учитывать, что l давало на славянской почве как ы, так и ъв (ср. любы – любъ-ве; ы в камы другого происхождения – из – ен-), а индоевропейский палатализованный (смягченный) заднеязычный с придыханием gʼh в разных языках изменялся как в z, так и в g (см. выше), то становится видимой родственность слова язык из язы *engʼhū, как др. – прус. insuwis «язык», авест. hizvaʼ – тж, так и лат. lingua, особенно если знать, что I в этом слове появилось под влиянием lingere «лизать» на месте старого dingua (ср. также готск. tungō «язык», нем. Zunge – тж).
Не будем углубляться далее в этимологические разыскания, связанные с объяснением родословной индоевропейского названия языка. Здесь очень много неясного с его много– и разнообразным, несводимым к единому началом (en-, din-, tun-, hi– и т. д.), которое подверглось всякого рода переделкам. Важно, что основной корневой компонент слова gʼhu– представлен удивительно регулярно и точно.
Этот факт позволяет нам ответить на вопросы и почему язык называется языком и соответственно почему в заглавии заметки прилагательное лингвистический дается через союз и с глаголом звать, хотя ничего похожего в этих словах (кроме в) нет.
Дело в том, что звать (зъвати, где зъв– *gʼheu-) и языкъ (в части зы *gʼhū-) – слова одного и того же корня (только с перегласовкой ей – ū), равно как и лат. lingua (в части gu гв).
Так что язык, lingua буквально значит «то, чем зовут, называют, кличут, говорят» и, следовательно, «орган речи» и «сама речь, язык как средство общения». Но не только это называется словом язык. Не останавливаясь на переносно-метафорической семантике кулинарной и военной сферы (заливной язык, добыть языка), обратим внимание на одно уже устаревшее, но в русской поэтической классике XIX в. еще известное значение. Вспомним пушкинское «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», где говорится: «И назовет меня всяк сущий в ней язык» (правда, любопытно соединение поэтом этимологически родственных слов назовет и язык?). Здесь существительное язык значит «народ», т. е. уже не «то, чем зовут, говорят и т. д.», а «тот, кто зовет, говорит и пр.». Кстати, с точки зрения целого ряда ученых – и на это есть определенные основания, – слово говорить (от говор) тоже находится в родстве со словом язык, поскольку исходные корни (-(о)р – является суффиксом) гов– и зы– отличаются лишь качеством начального гуттурального (твердого) и заднеязычного палатального (смягченного) с придыханием согласного – gu и gʼhū.
Некоторые этимологи считают язык «народ» семантической калькой лат. lingua «народ» < lingua «язык», однако с этим согласиться трудно. Против этого и данные письменности, и существование регулярной словообразовательно-семантической модели называния народа по особенностям его речи (в частности, такие слова, как варвары, немцы, славяне, но о них как-нибудь в другой раз).
А сейчас пора заканчивать. Позволю себе сделать это на весьма вероятном предположении ряда этимологов о прямой, «кровной» связи слова язык с существительным зык «крик, шум, звук», до сих пор известным в диалектах, а в литературном языке отложившимся в производном зычный. Слово зык, как считают, выступает как неосложненное «темным началом» я– (см. выше) образование с суффиксом – к-, аналогичное диал. голк «крик, шум, звук» (общеслав. *гълкъ с тем же корнем, что архаическое глагол < общеслав. сложного *golgol «речь, слово»), звук и диал. гук «шум, крик, звук» (с тем же корнем, что и говор, о котором мы только что с вами говорили).
Возможно, что все эти слова не только одного корня, но и восходят в принципе к одному и тому же звукоподражанию.
История с историей
Не менее детективной, нежели истории о словах лингвистический и детектив, оказывается история самого слова история. И не только как загадочная и запутанная, но и как история лексической единицы, тесно связанной по своей содержательной сути с деятельностью детектива, сыщика и следователя.
«Вот так история с географией! Какой неожиданный поворот дела!» – могут сказать некоторые. И тем не менее это так. Каким образом? А таким же, как связаны слова история и география в обороте история с географией. Ведь этот фразеологизм в значении «неожиданный поворот (дела)», «непредвиденное событие» (не удивляйтесь!) возник на базе названия интегративного (объединенного) учебного предмета, который когда-то существовал в русской школе. Поэтому заглавие заметки, построенное на этом выражении, не случайно. Но пора окунуться в историю слова история. Откуда есть пошло наше слово история говорит – как это ни странно – оно само. В древнегреческом языке, из которого оно заимствовано, его исконное значение – «расспросы, расспрашивание», далее – «разыскание, исследование», т. е. узнавание, получение необходимых сведений и данных и как результат этого – «знание». А отсюда уже – один шаг и к значению «наука» (в том числе и «наука о случившемся в прошлом»), что метонимически дало затем значение «произошедшее, прошлое» и, наконец, – «рассказ о случившемся, историческое повествование». Именно в последнем значении слово история сначала и было заимствовано нашим языком в древнерусскую эпоху.
В памятниках письменности оно встречается с XIII в. Таким образом, историки исконно были похожи на разведчиков и детективов, для установления того, что произошло, случилось, занимаясь расспросами и розыском, осмотром и наблюдением и т. д. И об этом наглядно и недвусмысленно говорят семантико-словообразовательные связи и происхождение греч. historia, которое представляет собой суффиксальное производное от глагола historeō «осматриваю, расспрашиваю, осведомляюсь, разведываю, узнаю» и далее – «передаю, повествую, описываю».
Слово историк, как свидетельствует его греческий первоисточник (historikos), первоначально значило «знающий, сведущий» и лишь затем – «разбирающийся в истории, историк как специалист». Причем историк выступал как бесстрастный ученый, объективно свидетельствующий о том, что произошло в действительности. Вспомним слова Аристотеля: «Историк и поэт различаются тем, что первый говорит о происшедшем, второй же о том, что могло бы произойти».
По образу, положенному в основу слова историк, оно аналогично словам разведчик, соотносительному с разведывать «узнавать», и наблюдатель (от наблюдать).
Свидетельство слова свидетель
Слово свидетель при всей своей непохожести на слово историк и «далекости» от него имеет все же с ним толику общего. Во-первых, это проявляется в том, что оно, несмотря на свой самый русский вид, тоже… заимствовано. Во-вторых, в основу существительных историк и свидетель как названий лица положен один и тот же признак: и то и другое обозначают лицо по его осведомленности, лицо, которое что-то знает, которому что-то известно, ведомо. «Позвольте, позвольте! – скажете вы. – Оно же соотносится с глаголом видеть. Мы и пишем его с и. Ведь свидетель – это тот, кто видел». Все это, кажется, действительно так. Сейчас существительное свидетель нами невольно связывается с глаголом видеть, но образовано оно не от видеть и, как уже говорилось, не в нашем языке.
Вечная история в мире слов: кажется – наше, а оказывается – чужое; представляется производным от одного слова, а на самом деле родилось совсем от другого.
Однако по порядку. Слово съвѣдѣтель было заимствовано нашим языком из старославянского. Оно встречается уже в Остромировом евангелии 1056 г. в значении «знающий, сведущий, дающий сведения, свидетель». Тут же рядом с ним мы видим и его производное съвѣдѣтельство, и его словообразовательных братьев съвѣдьць (сведок), съвѣдѣние «знание» (вспомните слово история и т. д.), и его прямого словообразовательного родителя съвѣдѣти. Среди них только синоним сведок является исконным, унаследованным нами из общеславянского языка. Все остальные, как и свидетель, – из старославянского.
Исходный глагол в старославянском является префиксальным производным от съвѣдѣти, имеющего значение не только «знать, ведать» (ср. языковедение и др.), но и «видеть» (!). Последнее значение отмечается, в частности, в Юрьевском прологе XIV в.:
Внезапу вскочи левъ страшенъ въ градь и вси видѣли се.
Так что свидетель – это все-таки тот, кто знает, потому что видел. Значение «знать» в вѣдѣти возникло из зрительной семантики «видеть» (ср. ст. – слав. вкжды «глаза, веки», производное от вѣдѣти с помощью суффикса dj > жд). Исходное съвѣдѣтель изменилось в свидетель под влиянием народно-этимологического сближения с глаголом видеть и как бы вернуло ему исходный образ, положенный в его основу. Произошло то, что в диахроническом словообразовании называется замещением основ, т. е. одно из многих исторических изменений в структуре слова: непроизводная основа вид сменила непроизводную основу– вѣд-. Причем – редкий случай – корень сменился этимологически тем же корнем, правда с перегласовкой (и – е) – и и более древней зрительной семантикой.
Как видим, слово свидетель и в самом деле одно из свидетельств особого рода изменений в структуре слова, подобное тому, что мы наблюдаем в словах солянка < селянка < селянская еда (под влиянием слова соль), бесталанный < бесталантный (под влиянием бесталанный «несчастный»), силком «насильно» < силком – тв. п. от силок (в выражении тащить силком), синица < зиница (от зинь-зинь, под влиянием синий) и т. д.
Слово свидетель как «видящий» и, значит, «знающий» имело ныне устаревший синоним, который по своему морфемному составу и образному стержню напоминает слово историк (см. выше) еще более. Это существительное послух, тесными узами связанное со словами слушать и слухать и аналогичными производными послушьство «свидетельство», по-слушьствовати «свидетельствовать» и т. д. Оно употреблялось в древнерусском языке (в разных списках одного и того же памятника даже в идентичных контекстах) не менее часто и широко, нежели съвѣдѣтель, и вошло даже во фразеологический оборот Бог послух, давший затем современное Бог свидетель.
Как слово оценка связано со словами хаять, сочинение и нерукотворный
Нет цены иногда самым, казалось бы, простым вопросам, которые приходят в мой адрес от многочисленных читателей. Вот, например, один из них просит объяснить, «какое слово произошло раньше: ценность или оценка». Решив ответить на этот вопрос, я понял, что ему будет грош цена, если ограничиться только этим: так много занимательного и интересного заключается в словесном сообществе родственников этих как будто простых существительных. И поэтому вместо официального ответа написал специальную заметку, где будет немало нового и даже… детективного. На это, думаю, всем ясно указывает уже заглавие заметки, которая далее вам предлагается.
Итак, начнем с хронологии – времени появления слов ценность и оценка. Вначале было слово оценка. Впервые оно фиксируется в «Лексиконе треязычном» Ф. Поликарпова 1704 г. Что касается слова ценность, то оно появляется позднее. Его лексикографическая жизнь начинается со «Словаря Академии Российской» (1789–1794). Оба существительных встречаются и в других славянских языках, но они, несомненно, поздние и являются в них самостоятельными параллельными образованиями, одинаково сделанными из одного и того же морфемного материала. Оценку их структурно-семантического характера начнем с существительного оценка. Его структура прозрачна и прямо указывает на способ словообразования: оценка – суффиксальное производное от оценить, приставочной формы к ценить, в свою очередь образованного с помощью суффикса – и(ть) от цена. Цена же… Но о цене позже.
Первоначальным значением слова оценка было (и остается) «оценивание», затем появилось значение «цена, стоимость» (чего-л.) (т. е. результат оценки) и, наконец, «мнение о стоимости, значении, качестве» (чего-л.). Из последнего родилось и школьно-арготическое оценка – синоним слов отметка и балл, как указание на качество усвоения того или иного учебного материала по господствующей в нашей школе пятибалльной оценочной системе. В этом учительско-ученическом значении слово оценка стало общеупотребительным только в советскую эпоху.
Чтобы покончить со словом оценка, обращу ваше внимание на то, что в словообразовательной цепочке глагол ценить в значении «давать оценку» (любую) является устаревшим и периферийным; наиболее актуальным стало уже не соотносительное с семантикой (значением) существительного оценка значение «ценить высоко» (кого-л. или что-л.), «давать положительную оценку», «считать ценным» (ср.: совсем не ценить, ценить за ум, ценить на вес золота и т. д.).
Ну а теперь о слове ценность. «Правило матрешки» в разборе слова по составу (см. с. 266 и далее) дает формулу этого существительного: (цен-н) – ость() и позволяет его – и совершенно правильно – толковать как суффиксальное производное от ценный «имеющий цену» (обычно большую). Отсюда соответствующая семантика у нашего производного: ценность – не только «большая или незначительная стоимость вообще» и «ценность», но чаще – «то, что имеет высокую ценность» (в предметном плане – во множественном числе, ср. материальные ценности). Ведь сейчас прилагательное ценный обозначает и «имеющий определенную цену», и «имеющий большую цену, дорого стоящий», и «имеющий важное значение» (это самое новое значение). Первичным значением прилагательного было «имеющий определенную цену», вытекающее из исходного слова цена. Это существительное оказывается ключевым. И среди родственных слов, разобранных выше, – самое древнее. В виде *zena оно жило уже в общеславянском языке со значением «цена» < «стоимость, плата за что-л.», сосуществовавшим рядом со значением «плата за что-л. неправедно содеянное, учиненное», что выражалось в разных формах (сначала – в виде расплаты, возмездия, наказания, штрафа, позже – в денежных единицах). Об этом наглядно свидетельствуют даже такие (кроме родственных слову цена иноязычных слов) русские слова, как каяться и казнь. Кстати, последние слова раскрывают структурное прошлое существительного цена, а именно его производный характер – суффикс – н(а), ср. слова с тем же суффиксом сторона (родств. простор), оборона (родств. бороться) и т. п. Тот же суффикс (с темой-окончанием ъ), между прочим, прячется и в довольно близком родственнике (не сочиняю!) слова цена – глаголе сочинять. Но об этом обстоятельстве дела потом.
А сейчас несколько слов о словах каяться и казнь.
Первое как возвратная форма к старому и диалектному каять «осуждать, бранить, ругать, бить, заставлять, принуждать каяться» значит сейчас «признаваться в своей вине, проступке, ошибке», «раскаиваться, мучиться, страдать, казниться» (из-за содеянного), т. е. подвергать себя наказанию (за содеянное). Оно хорошо «высвечивает» древнее фонетическое обличие слова цена – общеслав. *koina < *kaina, где перед дифтонгическим ѣ к > ц (ср. рука – в руце Божией).
Второе не менее интересное и доказательное. Слово казнь в древности имело то же значение, что и слово цена – «наказание, расплата, штраф, месть, возмездие». Многие славянские языки эту семантику отражают до сих пор. Показательно (и тем это ценно), что в древнерусском языке существительное казнь исходно не имело современного значения, а обозначало любое наказание (телесное, духовное, в виде стихийного бедствия и т. д.). Именно поэтому возникло выражение смертная казнь, которое и дало затем в результате эллипсиса прилагательного наше казнь в значении «лишение жизни как высшая мера наказания» (ср. температура «повышенная температура» < высокая температура, песок < сахарный песок и т. п.). Заметим, что градационное «повышение цены» значения типа казнь «наказание» > «высшая мера наказания» характерно и для производного от цена прилагательного ценный (от «имеющий определенную, безотносительно к степени, цену» к «имеющий большую, высокую цену, очень важный»; ср. драгоценный «имеющий дорогую цену», где на характер цены указывает специальная часть слова со ст. – слав. драгъ «дорогой», ценный подарок, ценное предложение и т. д.).
Особенно забавно в семантическом отношении производное бесценный, имеющее взаимосвязанные, но, казалось бы, взаимоисключающие значения – устар. «очень дешевый, неценный» (ср. продать за бесценок) и «очень дорогой, неоценимый».
Ну а теперь обратимся к глаголу… хаять. Это слово уже В. И. Даль (правда, предположительно) толковал как родственное каять. Слово хаять «ругать, осуждать» известно уже древнерусскому языку. По своему происхождению оно действительно является близнецом, alter ego каять, его экспрессивным вариантом с меной к – x, таким же, как хлопать (ср. диал. клопотать «хлопать»), хохол (ср. словацк. kochol «хохол»), хлестать (ср. лит. klastýti «трепать»), диал. хрестный (ср. литер. крестный), Холмогоры (др. – рус. Еолмогоры) и т. д.
В заключение учиним вместе расследование судьбы глагола чинить. Этот глагол является общеславянским суффиксальным производным от существительного чинъ, живущего в нашем языке и сейчас. Свой суффиксальный характер глагол чинить открыто проявляет и сегодня: достаточно начать его спрягать и сравнивать с родственными словами (ср. чиню, чинят, починка и т. д.), хотя его актуальное значение совершенно не соотносится с современной семантикой существительного чин (и не вытекает из нее). Но это только в русском языке. В других славянских языках наблюдается иное, все как на ладони. Дело в том, что только у нас слова чинить и чин «разошлись, как в море корабли». В общеславянском языке чинити «делать, творить, устраивать» (откуда русское чинить «исправлять», т. е. «делать снова что-л. пригодным») было связано с чинъ неразрывными узами, так как чинъ значило «действие, содеянное, дело, поступок, деяние», восходящее, как свидетельствует производящая основа (родственная др. – инд. cáyati «складывает, делает», греч. poiēō «кладу, складываю, делаю»), к семантике «сложенное, сделанное». На индоевропейском срезе, таким образом, слова чин < *keinъ и цена < *kaina выступают, по существу, как мужской и женский варианты исходно одного и того же морфемосочетания (с перегласовкой о/ е и тематическим перебоем а – о; ц < к перед дифтонгическим ѣ < oi и ч < к по первой палатализации заднеязычных перед и < ei, см. выше), имеющие смежные значения – «содеянное, сделанное» и «плата за содеянное» (а затем также и «плата за незаконно содеянное»).
Проведенное лингвистическое расследование позволило увидеть родство, казалось бы, абсолютно чуждых по отношению друг к другу слов и значений. Сейчас в глаголе чинить самом по себе и в помине нет старого значения «складывать, устраивать, делать». Но обратившись к таким его приставочным образованиям, как сочинять, причинять, учинять, можно увидеть, что указанное значение живо и спокойно присутствует в них в составе фразеологических оборотов сочинять стихи, учинять расправу, причинять вред и т. д. Да и само чинить в качестве компонента фразеологизма чинить препятствие еще знает значение «делать». Так что пусть и «слабые отголоски» связи современного чинить с общеславянским чинъ (см. выше) все-таки слышатся.
Наше чин в своей семантике ушло далеко от семантики общеславянской, однако объяснить его из последней все же можно. Действие, деяние (и его результат) мыслится ведь не как разрушение, а как устройство, собирание, складывание (из частей) какого-л. целого, приведение чего-л. в порядок. Отсюда возникают значения «порядок, строй, ряд» (ср. чин чином «по порядку, как надо») и далее – «определенное место в ряду», «сан» и «чин», откуда появились различные воинские и гражданские чины и чиновники…
Но так можно просто заметку не закончить. Поэтому «на десерт» нашего небольшого сочинения коснемся еще только существительных поэт и поэма, а также прилагательного… нерукотворный. Внимательное чтение предыдущего убеждает, что их кровное родство со всеми разобранными словами, пусть и очень далекое и разное, не является поэтическим вымыслом. Слова оценка, ценность, цена, каяться и хаять, казнь и чин, чинить и сочинять входят в ту же группу однокорневых слов, что и заимствованные из древнегреческого поэт и поэма, которые соответственно сначала имели значения: poiētēs – «создатель, изготовитель, творец», poiēma – «действие, дело, изделие» – и лишь затем – «сочинитель, поэт» и «сочинение, поэма». Ведь слово poinē как древнегреческий собрат слову цена (см. выше) является таким же суффиксальным производным от poiēō «делаю, готовлю, устраиваю, ставлю, кладу», как poiētēs и poiēma. Все они «вышли из шинели» глагола poiēō, прямого родственника (об этом уже говорилось) др. – инд. cinoti «складывает, делает».
Не совсем чужим словам поэт и поэзия, как ни странно, является… прилагательное нерукотворный, поскольку оно появилось в качестве словообразовательной кальки греч. acheiropoiētos. Как поморфемная съемка греческого прилагательного слово нерукотворный содержит в своем составе часть твор-, передающую греч. poiēt– того же значения.
Родство части твор– в нерукотворный со словами поэт и поэма уже не генетическое, а «духовное», связанное с заимствованием не слова в целом (поэт, поэма), а одной его семантической стороны.
О «кулинарных» фразеологизмах
Есть выражения, которые, как в бутерброде хлеб с маслом, тесно связаны с нашей постоянно меняющейся кулинарией, а значит, и меняющейся злобой дня, повседневным бытом нашего народа. В силу этого они довольно простые по своей родословной, но установить ее иногда оказывается довольно трудно. Начнем с наиболее, пожалуй, простого в этом отношении оборота.
Оборот проще пареной репы «очень просто» возник путем контаминации (объединения элементов) оборотов проще простого «очень просто» и дешевле пареной репы «очень дешево». Связующим и «прельстительным» оказалось значение «очень», присутствующее в обоих выражениях. Более старым – даже очень старым – является фразеологизм дешевле пареной репы, восходящий к древнерусскому периоду. Он связан с продовольственными реалиями «докартофельной» поры, когда репа была самым распространенным из овощей и являлась повседневной крестьянской едой. В старину репа была не огородной, а полевой, что и определяло ее дешевизну. Ее заготовляли впрок так же, как рожь, овес, капусту и лук. Репа была одной из основных сельскохозяйственных культур. Неурожай ее и, следовательно, дороговизна отмечались как важное событие. Так, в I Новгородской летописи под 1215 г. мы читаем:
«Новегороде зло бысть вельми: кадь ржи купляхуть по десять гривен, а овса по три гривне, а репе воз по две гривне».
В кулинарном отношении приготовление репы было очень легким и нехлопотливым: чаще всего ее парили, т. е. пекли в русской печке в закрытом глиняном горшке, где она распаривалась в собственном же соку.
Именно эти экстралингвистические обстоятельства – наряду со сближением оборота дешевле пареной репы с построенным на тавтологии выражением проще простого – послужили возникновению фразеологизма проще пареной репы.
Фразеологизм десятая вода на киселе «очень дальний родственник» сравнительно недавно возник как производное от оборота седьмая вода на киселе, как еще боʼльшая градационная гиперболизация, отражающая реальные кулинарные действия в процессе приготовления киселя. Слово десятая на месте седьмая является отражением современного интернационального десятичного счета. Слово седьмая в обороте седьмая вода на киселе появилось не как прямое отражение в нем деталей реального процесса, а как одно из частотных обозначений магического характера (ср.: за семь верст киселя хлебать, семь пятниц на неделе, семь бед – один ответ, семеро одного не ждут, семь раз отмерь, семи пядей во лбу, семь верст до небес, у семи нянек дитя без глазу и т. д.). Ведь главное в обороте – обозначение не близкого родства, а отдаленного, как первое число от седьмого. В принципе можно сказать и тридцатая вода на киселе, где отдаленность в родстве будет выражена еще сильнее, но это будет уже индивидуально-авторским употреблением.

«Все это хорошо, – скажете вы. – Но причем здесь вода, кисель и процесс приготовления?» А притом, что выражение седьмая вода на киселе является по своей родословной переносно-метафорическим производным – в гипербольном виде – свободного сочетания слов, обозначавших давние русские кулинарные реалии (об этом способе образования фразеологизма см.: Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. 4-е изд. СПб., 1996. С. 104). Дело в том, что и кисель здесь не привычное для нас третье сладкое блюдо (оно пришло к нам из Европы), и вода очень к месту. Раньше кисель делали не фруктовым и не с помощью крахмала из картошки. Это был мучной кисель, приготовляемый прежде всего из овсяной муки, студенистое блюдо из полузаквашенных отрубей, которые неоднократно (конечно, не семь раз) промывали водой и процеживали. Ясно, что седьмая вода на киселе была очень далека от первой, когда отруби только начинали промывать. Вот это и послужило основой для метафоры.
Ключ к слову эксклюзивный
Слово эксклюзивное в современном русском языке является одним из многочисленных, буквально «запрудивших» в последнее время нашу речь англизмов. Чаще всего оно употребляется сейчас со словом интервью (кстати, тоже заимствованным – через посредство французского языка – из английского). Однако встречается оно и в выражении эксклюзивное право и др. Его значение (в словарях оно еще не зафиксировано) можно сформулировать следующим образом – «представляющее собой исключение, данное исключительно кому-либо, только и единственно кому-либо, особое, в порядке исключения», «исключительное», «специальное». Неразлучность со словом интервью позволяет думать, что здесь было калькирование целого выражения. Поскольку существительное интервью у нас укрепилось уже до этого, следует считать, что оборот эксклюзивное интервью – полукалька английского exclusive interview, подобно тому, как выражение эксклюзивное право выступает как полукалька французского droit exclusif, а фразеологическое сочетание исключительное право – как его полная калька. Если «копать» дальше, то выясняется, что англ. exclusive «исключительный, особый, единственный» (ср. наречие exclusively «только, исключительно») – обычный галлицизм exclusif, ve «образующий исключение, составляющий исключительную принадлежность». Последнее – суффиксальное производное от ехсЫге «исключать(ся), выделять(ся)», восходящего к лат. exclaudere «выгонять, отрезать» < «вышибать, выбивать», образованному от claudere «запирать, закрывать, замыкать», того же корня, что слова clausuni «запор, засов, замок», clausula «заключение», а также (не удивляйтесь!)… исключить, исключительный, ключ и даже клюка. Не будем подробно разбирать эти слова. Прилагательное исключительный по структуре точно повторяет заимствованное эксклюзивный, но является суффиксальным производным от церковнославянизма исключати (рус. выключить, ср. изгнать – выгнать и т. д.). Глагол же исключати – не что иное, как префиксальное образование от общеславянского ключити «запирать, закрывать, замыкать» (буквально – «закрывать засовом»), исходным к которому выступает клюка «палка с загнутым концом», или, как толкует В. Даль, «палка с загибом», послужившее началом также слова ключ, обозначающего уже не только «то, чем закрывают» (клюка, засов, крюк и т. д.), но и противоположное – «то, чем что-л., наоборот, открывают». Таков вот ключ к прилагательному эксклюзивный. И в этих далеких-предалеких друг от друга словах звукосочетание клю-клю оказывается не случайным совпадением, а этимологически (на индоевропейском уровне) одним и тем же корнем.
О глаголе разевать, его производных и существительном хиатус
Глагол разевать прямо и непосредственно связан со словом зевать как его префиксальное производное и по своей словообразовательной структуре аналогичен глаголу раскрывать, поскольку оба они являются глаголами несовершенного вида к разинуть и раскрыть. Правда, последние по структурной морфемике друг от друга отличаются: в раскрыть корень свободный (ср. крой, кроет и т. д.), в разинуть он (зи-) является связанным и весьма своеобразным. Но об этом позже. Сначала о том, почему в разевать пишется одно з. Такая орфография отражает на письме наблюдающееся (и нередко) наложение, аппликацию конечного з приставки на корневое. Ведь разевать состоит из приставки раз-, корня зе-, суффикса – ва– и окончания инфинитива – ть. Подобное явление наблюдается также, например, в глаголе встать «подняться», где с относится и к приставке вс– (ср. воспарить, вспорхнуть, взлететь без аппликации), и к корню ста-, как в глаголе приду, где и относится и к приставке при– и к корню и– (ср. принесу, приклею без аппликации) и т. д. Так что написание разевать с одним з отражает звуковую диффузию пограничных звуков разных морфем. Оно фонетическое и традиционное одновременно.
Что касается глагола раззеваться с двумя з, то он выступает как прекрасная иллюстрация морфематической в своей основе русской орфографии, «зеркально ясно» отражая суффиксально-префиксальный (или – циркумфиксный) способ образования этого слова. Раззеваться образовано от зевать путем биморфемы (двойной морфемы) раз – ся так же, как разболеться, раскричаться, расчихаться и т. п. (от болеть, кричать, чихать и т. д.).
Ну а теперь о корнях зе– и зи– в зевать и разинуть (< раз-зинуть). Это разные формы (зе < з) одного и того же индоевропейского корня, отмечаемого в исконном зиять, лит. žióti «разевать» (рот), греч. chainō «зияю, зеваю», др. – в. – нем. giwēn «зевать», лат. hiare «зиять, зевать» и т. д. Значение «зиять» является первичным, оно и сохранилось у нашего зиять «быть раскрытым, отверстым». Значение «зевать» вторично – «делать что-л. зияющим, широко раскрытым». Ну а от раскрытия рта до произнесения звуков – один шаг, и это отражается в значениях «кричать, звать» глагола зевать, свойственных этому глаголу и в русских диалектах, и в других славянских и неславянских языках (ср. диал. зевать «кричать, орать, громко говорить, звать», серб. – хорв. зијати «зиять, кричать», упоминавшееся уже греч. chainō «зияю, зеваю», но также и «кричу, говорю» и т. д.). Поэтому и зев тоже бывает разным.
Да, все это хорошо, но причем тут лингвистический термин хиатус= Очень просто. Слово хиатус как терминологическое обозначение стечения гласных, «не разобщенных» согласным, является суффиксальным производным от родственного словам зиять и зевать лат. Ыаге «зиять, зевать». Выше мы его уже приводили. Правда, забрело к нам слово хиатус, подобно многим стиховедческим терминам, скорее всего, из французского языка и относительно недавно – в советскую эпоху.
Слова, открытые на кончике пера
Помните, как была открыта планета Нептун? Наблюдая за движением Урана, французский астроном Леверье обнаружил, что его орбита не совсем совпадает с той расчетной орбитой, которая у него должна была быть «по правилу», и содержит хотя и незначительные, но несомненные отклонения. Это было на первый взгляд странным и загадочным, и все же тем не менее фактом. Фактом, который требовал объяснения. И Леверье это объяснение нашел. Он предположил, что отклонения в орбите Урана объясняются воздействием на него еще более далекой от Солнца планеты, ученым пока неизвестной, которая и заставляет Уран «вести себя» не совсем так, как мы ожидали бы. По отклонениям в его орбите Леверье установил, где на небе надо искать виновника этого – планету, известную сейчас под именем Нептун. Пользуясь его расчетами, астрономы с помощью телескопов нашли Нептун точно в указанном месте звездного полога. Так планета сначала была открыта ученым «на кончике пера», а потом уже «поймана» путем визуального наблюдения в телескоп.
Точно так же были вначале предсказаны Менделеевым в его периодической таблице и затем лишь реально открыты некоторые химические элементы.
Возможны ли такие случаи в лингвистике? Практика свидетельствует, что открытия «на кончике пера» различных фактов языка, очень точные реконструкции и прогнозирование существуют также и в нашей лингвистической сфере.
Конечно, и реконструкция исчезнувших из языкового стандарта фактов, и прогнозирование будущих требуют хорошего и всестороннего знания языка в его статике и развитии, глубокого и скрупулезного анализа фактов как элементов языковой системы, бережного и непредвзятого отношения к каждому конкретному языковому явлению.
Приведем две иллюстрации из области этимологических исследований.
Ярким и в то же время очень наглядным примером слова, действительно открытого «на кончике пера», является существительное белица в значении «белка». Оно было реконструировано нами, а впоследствии обнаружено в качестве реальной лексической единицы. Вот как это было. Даже самое поверхностное знакомство с прилагательным беличий (в сравнении, с одной стороны, с его ближайшим современным «родственником» белка, а с другой стороны, с однотипными относительно-притяжательными прилагательными) показывало, что оно является уникальным и в общую и регулярную модель не укладывается. В самом деле, слово беличий осознается сейчас как производное от существительного белка. Но все же оно образовано явно не от слова белка, так как в этом случае (как свидетельствуют соотносительные по структуре образования с суффиксом– j-/-ий вроде галка – галочий) имело бы форму белочий. Вот это-то чисто «уранье» отклонение слова беличий от закономерной при существительных с суффиксом – к(а) < ък(а) формы на – очий и заставило нас реконструировать – в соответствии с существующими законами русского словопроизводства – в качестве производящего для этого прилагательного слова белица. Ведь если предположить, что прилагательное беличий образовано не от формы белка (первоначально уменьшительно-ласкательной), а от параллельной формы белица (ср. литер. галка – диал. галица, девка – девица, тряпка – тряпица, корка – корица, водка – водица), то все встанет на свои места. Слово беличий тем самым будет выступать как самое заурядное и рядовое образование посредством суффикса – j-/ ий типа девичий (от девица), птичий (от птица) и т. п.
А водворение неясного по своему происхождению и структуре слова в его словообразовательную семью – это обязательное и очень важное звено в этимологическом поиске, ибо слов, от рождения по своему строению изолированных и особых, в языке не существует. Только потом отдельные слова отрываются от себе подобных и оказываются на словообразовательном отшибе.
Как видим, конкретное рассмотрение прилагательного беличий в широком лексико-словообразовательном контексте и с учетом существующих правил словообразования привело нас к реконструкции его непосредственного родителя – слова белица. И оно нашлось. Вот относящееся сюда место из памятников письменности: «Прислали къ Владимиру послов сво-ихъ… обецуючи платити, якъ схочетъ, хотяй воскомь, бобрами, черными куницами, белицами, албо и сребромъ» (т. е. «Прислали к Владимиру послов своих… обещая платить (дань), как он захочет, либо воском, бобрами, черными куницами, белками, либо серебром»).
Слово белица зафиксировано также в словаре И. Тимченко (Сторичний словник украïньского языка. Т. 1. Киев, 1930. С. 170).
Другим примером слова, открытого «на кончике пера», может быть слово драч в значении «драчун», которое мною при этимологизации существительного драчун сначала было реконструировано, а затем – каюсь, совершенно случайно, но с большой радостью – прочитано вдруг как «самое настоящее» и обычное слово в одном рукописном словаре XVIII в.
При поверхностном знакомстве слово драчун не вызывает у нас ни впечатления необычности, ни интереса. Действительно, рядом с ним есть и соотносительное слово драка, и одно-рядовые слова с суффиксом – ун (вроде крикун, летун, бегун и пр.).
Поэтому оно воспринимается как совершенно нормальное и ясное образование с суффиксом – ун, даже и не заслуживающее этимологического анализа. Однако это только попервоначалу. Оригинальность слова драчун (по сравнению с другими образованиями на – ун) начинает вырисовываться сразу же, как только мы сравним его с другими словами этой модели, также выступающими как производные от основы с конечным согласным к (ср. пачкать – пачкун и т. п.).
Тогда становится ясным, что присоединение суффикса – ун к основам с конечным к не сопровождается чередованием согласных, к остается как он есть (ср. плакать – плакун и др.). В нашем же слове (если считать его производным от драка) наблюдается непонятная мена к на ч.
Именно это отклонение слова драчун от словообразовательной орбиты слов на – ун и заставляет относиться к нему по-особому и, в частности, вынуждает искать причину исключительности, пусть и не очень заметной и существенной.
Не могло быть образовано слово драчун и непосредственно от глагола драться: в суффиксальном инвентаре русского языка суффикса– чун нет.
С другой стороны, нет никаких оснований выводить слово драчун из круга образований на– ун.
А раз так, то оно могло появиться только на базе слова, основа которого оканчивается на ч.
Если учитывать существующие модели, то в качестве такого слова теоретически возможно либо существительное драча, либо существительное драч. Первое слово, представляющее собой гипотетическую реконструкцию отглагольного существительного типа удача (от удаться), в роли производящего для слова драчун маловероятно. Почему? Да потому, что слова на– ун со значением лица от глагольных и суффиксальных по своему характеру существительных не образуются. Среди слов на – ун нет ни одного, образованного от существительного отвлеченного действия, которое, в свою очередь, являлось бы производным от глагола. Поэтому слово драча (если оно даже является реальной лексической единицей) вряд ли было положено в основу нашего драчун. Последнее, скорее всего, было образовано от слова драч, подобного существительным с суффиксом – ч типа трепач, рвач, врач.
«Позвольте, – можете сказать вы, – но ведь, коль скоро слово драч аналогично отглагольным названиям лица с суффиксом– ч, оно и само означает лицо по действию образующего глагола, т. е. драчуна. Выходит, суффикс лица (-ун) был присоединен к основе слова, которое было уже названием лица и содержало в себе «личный» суффикс – ч?» Совершенно справедливо. Так оно и есть. И самое интересное – в этом отношении слово драчун ничего особого и исключительного среди других имен со значением лица не представляет. Целый ряд обозначающих лицо существительных являются производными от существительных, уже имевших значение лица. Таким является, например, слово лазутчик (от существительного лазута «лазутчик», образованного, в свою очередь, от лаза, что значит опять-таки «лазутчик»; и лазута, и лаза в диалектах еще известны).
Заметим, что такое повторение в слове одних и тех же по значению суффиксов для более наглядного и формального выражения категориального значения выступает в развивающейся языковой системе как одна из его специфических закономерностей, проявляющихся во многих словах самого различного характера. Укажем в качестве примеров хотя бы существительные кустарник (от др. – рус. кустарь «кустарник»), логовище (от логово, производного, в свою очередь, от лог), дороговизна (от др. – рус. дороговь «дороговизна», ср. любовь) и т. д.
Метрики прилагательного пышный
По своему происхождению это слово исконно русское и было унаследовано нашим языком, как и другими славянскими языками, из праславянского. В подавляющем большинстве славянских языков (отмечается это значение и у нас) оно значит «гордый, надменный». Продолжением и дальнейшим развитием данной семантики будет современное – наиболее частое и актуальное – значение этого слова – «роскошный, обильный».
Образовано было слово пышный посредством суффикса – ьн– > – н– от существительного пыха «гордость, надменность, спесь», родственного диалектным словам типа пыхать «чваниться», литературным пыхтеть, пыхать «дышать», пыхнуть «надуваться», пышка «мягкая и рыхлая лепешка» и т. д.
Исходным значением прилагательного пышный должно быть значение «надутый, толстый». Такой же признак был положен в основу и некоторых его синонимов. К ним прежде всего следует отнести однокоренное слово напыщенный, которое возникло как страдательное причастие прошедшего времени от напыщити «сделать гордым, кичливым, спесивым», префиксально производного на базе пыщити (от пыск, связанного с пыхать и пр.).
Аналогичны по своей образной структуре синонимические прилагательные надутый и надменный, оба восходящие к страдательному причастию от глагола надуть (первое с суффиксом – т-, а второе с суффиксом– енн-).
Сладкий и соленый
Разница между сладким и соленым общеизвестна. Различно и отношение к ним: одни любят сладости, другие – соленья. Поэтому кажется вполне естественным и оправданным, что прилагательные сладкий и соленый, как и все их родственники, образуют два совершенно особых гнезда слов.
Ведь соленый – это «содержащий в себе соль или приготовленный в растворе соли» (соленая вода, соленый огурец), а сладкий – «имеющий в себе сахар» (сладкий чай, сладкий арбуз). Разве может быть между ними какая-нибудь связь?
И все же эти слова тесно связаны между собой как однокорневые. Это отразилось даже в пословице Без соли не сладко, а без хлеба не сытно, в которой слово сладкий имеет одно из промежуточных (между «сладкий» и «соленый») значений – значение «вкусный».
Попробуем в нескольких словах изложить родословную этих прилагательных. Слово соленый – старое страдательное причастие прошедшего времени от глагола солить, в свою очередь образованного от существительного соль (ср. родственные лит. salti «становиться сладким», лат. salire «солить» и т. д.).
Слово сладкий – заимствование из старославянского языка (исконно русская форма – солодкий). Уже с точки зрения современного русского языка в слове сладкий по соотношению со словом сладость можно выделить суффикс– к– (ср. соотношение крепкий – крепость).
Исчезнувшая ныне форма без суффикса– к– подтверждается и словами солод, болг. слад, серб. – хорв. слад «солод» и лит. saldus «сладкий». Что же касается праславянского *soldъ (именно отсюда возникла полногласная форма солод и соответствующее неполногласие слад), то оно образовано посредством суффикса – d– от той же основы (сол < *sal-), что и соль, солон в солонина, солонка, не солоно хлебавши (< *soln-), готск. salt и т. д. Суффикс – d– выделяется этимологически также в словах молодой (того же корня, что и молоть), твердый (того же корня, что и творить), редкий (родственное лат. rete «сеть»), скудный (того же корня, что и щадить), гнедой (родственное ст. – слав. гнксти «зажигать, жечь») и т. д.
Слово *soldъ < сладкий первоначально значило «с солью, соленый» (ср. солоно, готск. salt с суффиксами – п– и затем «припрайленный», а значит, «вкусный», а потом уже приобрело более узкое значение – «вкуса сахара, содержащий в себе сахар». В результате «единокровные» слова соленый и сладкий выступают сейчас как чужие.
О «сотворении» слова тварь
Слово тварь в современном русском литературном языке имеет три значения. Два из них являются ныне уже устаревшими и проявляют себя только в пределах фразеологических оборотов, связанных по своему происхождению с библейскими мифами (о сотворении мира и Всемирном потопе). Такими выражениями являются Божья тварь и всякой твари по паре.
В первом обороте реализуется значение «произведение, создание, творение». Это значение является исходным, первоначальным, прямо и непосредственно связанным с глаголом творить, на базе которого было образовано слово тварь. Отношения между творить и тварь «произведение, создание, творение» такие же, как между создать – создание, производить – произведение, творить – творение. От синонимических слов типа творение (ср. творения поэта, гениальные произведения и т. д.) существительное тварь отличается лишь способом образования. Будучи таким же отглагольным именем, оно образовано не с помощью суффикса– ниј(е) / – ениј(е), как его синонимы, а посредством перегласовки и темы – i– > – ь – точно так же, как слова вроде гарь (от гореть) и т. п.
На базе значения «произведение, создание, творение» у слова тварь в старославянском языке, откуда оно было заимствовано нами, возникло значение «живое существо, животное». Сейчас оно реализуется четко и свободно лишь в рифмованном обороте всякой твари по паре – шутливом описании пестрой группы, восходящем к преданию о Всемирном потопе, во время которого Ной, спасшийся со своей семьей в ковчеге, для сохранения жизни на земле взял с собой по паре зверей, птиц и пресмыкающихся всех пород.

Именно эта «животная» семантика слова тварь и дала его современное бранное значение. Между прочим, вполне закономерное: достаточно лишь вспомнить бранную семантику синонимических слов типа скотина, животное, зверюга, а также видовых обозначений животных вроде медуза, крокодил, змея, медведь, осел, собака, корова и многих других.
В результате смысловых метаморфоз, как видим, современное и первичное значения нашего слова друг друга совершенно не напоминают. А вообще-то оказывается, что небесное (т. е. Божье) создание и тварь – одно и то же. Недаром слово создание того же корня, что древнерусское существительное зьдь «глина», а слово тварь – того же корня, что и прилагательное твердый (по Библии, Бог создавал животный мир из глины, делая ее твердой, т. е. в отличие от жидкой, имеющей определенную форму, ср. родственные др. – рус. творъ «вид», лит. tvérti «придавать форму» и др.).
Жужу и жучка
ДДва этих слова связаны друг с другом (и это несомненно) принадлежностью к одному и тому же смысловому кругу «собачьих» названий. Некоторые ученые считают, что связь данных существительных является еще более тесной и «кровной», поскольку толкуют их как родственные, однокорневые слова.
М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка», в частности, говорит следующее: «Жучка «маленькая собачка». Вероятно, от жужý. Едва ли прав Горяев, принимая родство с жук»; «Жужу – собачья кличка (Лесков и др.)… Вероятно, отсюда уменьш. жýчка». Как видим, сомневаясь в объяснении существительного жýчка Н. Горяевым, который трактует его как производное от слова жук, М. Фасмер в предположительной форме, правда довольно настойчиво, интерпретирует это название собаки как форму субъективной оценки от собачьей клички Жужу, представляющей собой переоформление франц. joujou «игрушка».
Между тем все факты, имеющиеся сейчас в нашем распоряжении, совершенно неопровержимо свидетельствуют о том, что выдвигаемое М. Фасмером толкование происхождения существительного жучка является неверным. Как, между прочим, и о том, что по своему происхождению это слово, несомненно, является родственным существительному жук. Что же это за факты?
Во-первых, наблюдается смысловое и стилистическое несоответствие слов жучка, с одной стороны, и жужу – с другой. Слово жучка обозначает дворовую непородистую собаку, по большей части черную, ср.: Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив… (Пушкин); Возьми-ка у меня щенка любого От Жучки: я бы рад соседа дорогого От сердца наделить, чем их топить (Крылов); И тогда как одна часть бури ревет вокруг дома, другая… напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей (Григорович). Что же касается существительного жужу, то оно является наименованием комнатной собаки, ср.: Дворовый верный пес… Увидел старую свою знакомку, Жужу, кудрявую болонку (Крылов).
По своему употреблению слово жужу – элемент «смешения французского с нижегородским» – в народной речи неизвестное, в то время как существительное жучка, напротив, носит явно просторечный характер.
Во-вторых, жука (ср. черный жук) и жучку (ср. в словаре В. Даля: «Жучка – кличка черной собаки») объединяет общий для них обоих признак – черный цвет (ср. замечания В.Даля: «Вообще жук и производные его дают понятие о жужжании, о жизни и о черноте»). Тот же признак был положен в основу костромского жукола «черная корова» и вологодского жучка «чернорабочий».
В-третьих, в отдельных диалектах для обозначения черной собаки используется само слово жук (см.: Добровольский В. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914; Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. Вып. 2. Т. 2. М., 1898. С. 628).
Как же возникло в русском языке слово жучка, отмечаемое уже в «Словаре Академии Российской» (1789–1794)?
По нашему мнению, не прямо на основе существительного жук, как можно подумать. Нам кажется, что слово жучка представляет собой видоизменение под влиянием слов типа лайка, шавка, моська и т. д. слова жучко, входящего в ту же словообразовательную модель, что и гнедко, сивко, серко, укр. рябко и т. п. (ср. сивка < сивко, не без воздействия родового лошадка). Слово жучко употреблялось уже Ломоносовым и В. Майковым: Жучко с ним бросился в бой (Ломоносов); Овцы здоровы и Жучко со мной (Майков).
Таким образом, между словами жужу и жучка никаких родственных связей нет, родственником названию черной собаки жучка является жук.
Когда и как появились грамматические термины склонение и наклонение
Термины склонение и наклонение становятся самыми привычными и известными для нас уже в школе. Без них представить себе существование глаголов и существительных просто невозможно.
Между тем далеко не все знают их биографию. А она любопытна и занимательна. Обратите внимание: эти термины обозначают совершенно разные морфологические явления, относящиеся к различным частям речи, но очень похожие друг на друга. Собственно говоря, в этимологическом разрезе морфемный состав этих слов отличается лишь одними приставками си на-, за ними в обоих терминах мы находим одно и то же клонение, соотносительное с глаголом клониться «склоняться, сгибаться, опускаться, падать». Это поразительное сходство наших терминов, удивительно далеких как будто по своему смыслу, не случайно. Ведь, по существу, они имеют одних и тех же, причем не русских, родителей. Это греческие слова klisis и eňklisis. Ведь слово склонение родилось как буквальный перевод, морфемный слепок греч. klisis, а слово наклонение появилось как точная копия греч. eňklisis. Греческие оригиналы наших копий были первоначально еще ближе друг к другу, так как общими у них вначале были не только корни, но и значение.
В качестве грамматических терминов эти слова искони означали одно и то же, а именно морфологическое изменение слова (как склонение, так и спряжение). Специализация первого (klisis) на имени, а второго (eňklisis) на глаголе произошла позже.
Заметим, что терминологическое значение у греческих слов возникло на основе соответствующей семантики исходных для них многозначных глаголов klinō и enklinō (приставочного производного от первого) «склоняю, наклоняю, клонюсь, опускаюсь, падаю, кладу, лежу, поворачиваю, изменяю, изменяю по формам (т. е. склоняю и спрягаю)» и т. д.
При калькировании греческих терминов нашими грамматиками был, между прочим, использован глагол клонить, того же корня и словесной семьи, что и греч. klinō (а также латышск. klans «наклон», др. – в. – нем. hleinan «прислонять» и т. п.).
Таким образом, слова склонение и наклонение предстают перед нами как весьма своеобразные кальки, поскольку передача чужого корневого материала на нашей языковой почве была осуществлена с помощью генетически тождественного корня (klin было передано родным ему клон).
Слова склонение и наклонение обосновались в русской грамматической терминологии не одновременно и по-разному. Первое слово появилось несколько раньше, чем второе, оно встречается уже в «Адельфотисе» (Adelphotēs. Грамматика доброглаголивого еллино-словенского языка… Львов, 1691). Термин наклонение впервые отмечается в грамматике М. Смотрицкого (Эвю, 1619). В грамматике Л.Зизания (Вильно, 1596) наклонение обозначается еще словом образ. Заметим, что еще раньше понятие наклонения выражалось словами чин и залог, a в самой древней статье «О осмих частех слова», переведенной с греческого языка на старославянский Иоанном, екзархом болгарским, передавалось словом изложение.
Термин склонение, по существу, предшественников не имел и укрепился сразу же, как только было введено соответствующее лингвистическое понятие. До него в «Донате» (русский перевод латинской грамматики Доната Элия был сделан Д. Герасимовым в 1522 г.) отмечается лишь клонение и уклонение.
Другой была судьба слова наклонение. Понятие о различных наклонениях глагола отражено, как было отмечено, уже в статье «О осмих частех слова». Однако хороший термин для него искали долго. И лишь у М. Смотрицкого наклонение наконец стало наклонением.
Характерно, что даже намного позже, у М. В. Ломоносова, рядом с новым термином (правда, значительно реже) потребляется и старый, зизаниевский – образ. Правда, именно у него в то же время это понятие впервые приобретает характер настоящего лингвистического понятия.
Вместе с общим понятием наклонения входили в научное обращение и порожденные им частные (вроде понятия изъявительного наклонения). Их фразеологическое выражение также варьировалось, пока не была найдена подходящая формула.
Так, для обозначения изъявительного наклонения в статье «О осмих частех слова» употребляется выражение повестное изложение (буквальный перевод греч. oristike enklisis).
В «Донате» для этого используются словосочетания указательный залог и указательный чин, калькирующие лат. modus indicativus. В «Адельфотисе» мы находим уже изъявительное изложение, которое передает греч. oristike enklisis. У Л. Зизания оно начинает называться уже указательным образом или изъявительным образом. Он словно соединяет прилагательные «Доната» и «Адельфотиса» со своим собственным переводом (вообще-то более точным) латинского слова modus «образ».
М. Смотрицкий ставит здесь последнюю точку, с одной стороны выбирая в качестве основы термина фразеологическую кальку с греческого «Адельфотиса» (изъявительное изложение), но одновременно заменяя в ней существительное изложение более точной (и близкой даже по корню, как вы уже знаете, см. выше) словообразовательной калькой греч. enklisis – словом наклонение. Авторитет М. В. Ломоносова делает это новообразование М. Смотрицкого всеобщим.
Несколько слов о повелительном и условном (или сослагательном) наклонениях.
Термин повелительное наклонение пережил приблизительно те же метаморфозы, что и название изъявительного наклонения. В статье «О осмих частех слова» мы находим кальку с греч. prostaktikē – повеленное изложение, в «Донате», естественно, встречаем в виде повелительный залог или повелительный чин – кальку латинского выражения modus imperativus. В «Адельфотисе» модернизируется прилагательное и вместо повеленного изложения появляется повелительное изложение. Л. Зизаний (по образцу изъявительный образ) вводит повелительный образ. И наконец, у М. Смотрицкого повелительное наклонение получает свое современное имя.
Что касается сослагательного наклонения, то биография его названия значительно проще и короче. Этот термин ввел тот же М. Смотрицкий, «сфотографировав» по словам латинский фразеологизм modus conjunctivus. Параллельное обозначение этого наклонения (условное наклонение) родилось в русских грамматиках в конце XVIII в. в качестве пословного перевода французского термина mode conditionnel.
О «вине» винительного падежа
ВВы никогда не задумывались, почему винительный падеж называется именно винительным, а не как-либо иначе? А над этим стоит подумать! Ведь достаточно сравнить значение слова вина и «амплуа» винительного падежа в парадигме склонения, чтобы сразу же увидеть, что к вине он никакого отношения не имеет.
Совсем иное – названия подавляющего большинства других падежей. Они абсолютно прозрачны по своему морфемному составу и очень «идут» называемым падежам, особенно если иметь в виду их конкретный падежный характер.
В самом деле, открывающий парад падежей именительный падеж – это падеж, который просто что-либо или кого-либо называет, именует, поэтому он и прозывается именительным. А вот последний падеж парадигмы – предложный – получил такое имя по своей несамостоятельности: слова в форме предложного падежа употребляются сейчас в русском языке только в сочетании с тем или иным предлогом (ср. на столе, в саду, о слове, при жизни и т. д.). Так он был, между прочим, окрещен М. В. Ломоносовым.
Такого же типа и «говорящие» названия дательного и творительного падежей (ср. брату, руке, братом, рукой и т. д.), соотносительные в своих значениях с глаголами дать (кому-или чему-либо) и творить «делать» (чем-либо).
Ясным и простым является также название звательного падежа, морфологически оформлявшего раньше обращения, т. е. слова «зовущие», обозначающие, называющие лица и предметы, к которым обращена речь (ср. отче, Боже, врачу в обороте врачу, исцелися сам и т. д.). Правда, ясность и простота этимологического состава перечисленных названий не мешает большей части из них иметь довольно сложную и запутанную биографию в нашей речи. Но это уже особая статья.
Ведь признак, положенный в их основу, мы и сейчас все же ощущаем четко и определенно. А вот связь термина винительный падеж и слова вина кажется если не отсутствующей вовсе, то по крайней мере странной и случайной. Действительно, разве есть что-нибудь общее между виной и винительным падежом? Уж не ошибка ли связала эти два слова? Такое предположение может не без оснований показаться сомнительным (ведь нет же этого в названиях других падежей!). И тем не менее подобное объяснение мы находим даже в таком солидном словаре, каким является «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера: «Винительный падеж – калька лат. casus accusativus, последнее из греч. aitiatikē (ptōsis), первоначально от aitiatos «вызванный, причиненный», т. е. «падеж, обозначающий результат действия». В русском языке отражен неверный перевод с латинского: «винительный, т. е. падеж обвинения».
Как видим, виной появления термина винительный падеж М. Фасмер считает ошибочный перевод латинского словосочетания accusativus casus.
Так ли это на самом деле?
Изучение истории грамматических терминов в русском литературном языке показывает, что оборот винительный падеж появился в нем иначе. Никакой ошибки не было, все было правильно и не так. Сочетание винительный падеж появляется впервые в грамматике Л. Зизания на базе более раннего оборота виновный падеж в результате аналогического подравнивания по модели на– тельный. У Л. Зизания эти два термина (виновный падеж и винительный падеж) употребляются еще рядом. Не является первичным и термин виновный падеж: он возник в результате замены слова падение словом падеж на основе оборота виновное падение. Последний встречается уже в статье «О осмих частех слова» (в переводе Иоанна, екзарха болгарского) и представляет собой непосредственную фразеологическую кальку греч. aitiatikē ptōsis. Да, но греческое выражение буквально означает «причинный падеж», ведь aitia – это «причина». Значит (могут сказать сомневающиеся), ошибка в переводе пусть не с латинского, а с греческого все же налицо? Нет, никакой вины Иоанна, екзарха болгарского, здесь нет.
Не надо только забывать старых, ныне уже устаревших значений слов.
А слово вина имело в старославянском и древнерусском языках, кроме современного значения, также и значение «причина», aitia, causa (ср., например, в послании митрополита Никифора Владимиру Мономаху: Врачеве первую вину недуга пытаютъ, т. е. «Врачи узнают основную причину болезни»). Так что никакой языковой ошибки в возникновении термина винительный падеж не существует. И виной (т. е. причиной, употребим это слово в старом, сейчас архаическом значении) рождения винительного падежа была не ошибка переводчика, а выбор им при переводе такого слова, которое свойственного ему прежде значения уже не имеет.
О спряжении и падежах
Большинство грамматических терминов русского языка так или иначе отражает соответствующие обозначения греческих грамматик древности. Указанные в заглавии названия в этом отношении исключения также не представляют.
Слово спряжение появляется для обозначения соответствующих изменений по лицам довольно поздно. Оно является неологизмом М. Смотрицкого (см. ниже) и родилось, несомненно, на базе более раннего термина супружество (того же корня), имевшего в XVII в. довольно длительную и прочную традицию употребления. Он, кстати, употребляется уже в статье «О осмих частех слова», в «Адельфотисе» и у Л. Зизания (см. заметку «Когда и как появились грамматические термины склонение и наклонение»). Чем объяснить эту замену? Скорее всего, она объясняется двумя причинами: 1) стремлением М. Смотрицкого устранить из сферы грамматической терминологии слово, имеющее очень употребительный бытовой омоним супружество «брак»; 2) стремлением однотипно назвать изменение по лицам глагола и изменение по падежам имени, а в связи с этим ориентацией на образцы в виде склонение и наклонение.
Ответ на вопрос о том, как, в частности, возникло слово склонение, содержится в заметке «Когда и как появились грамматические термины склонение и наклонение».
Первоначальное супружество «спряжение» – старославянизм, совершенно точно калькирующий греческий термин syzygia, исходно обозначавший, между прочим, словоизменение в целом (как спряжение, так и склонение). Так что объединение спряжения с падежами в заглавии не столь уж странное. В греческом языке этот термин возник на базе слова syzygia в значении «связь, соединение; парная упряжка; пара, брак».
Как видим, и там понятие спряжения сопрягалось с понятием соединения, связи, супружества.
Термин падеж впервые отмечается в «Адельфотисе» (конец XVI в.). Он сменил употреблявшееся до этого слово падение, появившееся в русском языке как старославянизм (падение – словообразовательная калька греч. ptōsis).
Книжный характер слова падеж определил его своеобразную огласовку с е, а не о под ударением. В омонимическом существительном устной бытовой речи падёж (ср. падёж скота) отклонения не наблюдается и произносится [ʼо].
О названиях конкретных падежей попутно уже говорилось в заметке «О «вине» винительного падежа». Несколько добавлений.
Название именительный падеж появляется у М. Смотрицкого. До этого исходный падеж именной парадигмы именовали то правым падением, то именовательным падением, то именовным падежом (греч. onomastikē ptōsis).
Тот же «родитель» и у родительного падежа. Этот термин также идет от М. Смотрицкого и сменил прежние терминологические сочетания родный падеж, родственное падение, родное падение (< греч. genikē ptōsis).
А вот название дательного падежа было знакомо грамотным людям и до М. Смотрицкого. Между прочим, именно оно (вместе с именем звательного падежа) послужило образцом, по аналогии с которым создавались остальные падежные «фамилии».
Фразеологическое сочетание дательный падеж появляется одновременно со словом падеж в «Адельфотисе». Оно сменило более старый термин дательное падение, который является дословным переводом соответствующего греческого грамматического термина dotikē ptōsis.
Творцом современного имени творительного падежа, как и винительного, был, вероятно, Л.Зизаний. Во всяком случае, первый раз этот термин мы видим в его книге «Грамматика словенска совершеннаго искусства осми частей слова и иных нуждных» (Вильно, 1596).
О предложном падеже говорилось уже в заметке о винительном. Его название – изобретение М. В. Ломоносова, до этого он носил имя, данное ему М. Смотрицким, – сказательный (говорить – сказать о чем-нибудь).
Осталось сказать два слова о последнем – звательном – падеже. Его название родилось, вероятно, вместе с наименованием дательного в «Адельфотисе» в результате замены в старом обороте звательное падение, встречающемся еще в статье «О осмих частех слова», слова падение существительным падеж. Исходный оборот звательное падение – калька греческого синонима klētikē ptōsis.
Как можно видеть, названия падежей создавались у нас с оглядкой на греческие прототипы при переводе грамматик, если, конечно, не были заимствованы из старославянского.
Греческие грамматики заимствовали, очевидно, понятие ptōsis (откуда идет наш падеж) из игры в кости. Буквально ptōsis значит «падение брошенной кости той или иной стороной кверху». Та или иная падежная форма сравнивается с той или иной стороной игральной кости.
Откуда получают имена реки
С севера на юг и с юга на север, сквозь леса и степи, торопливо и медленно текут большие реки и маленькие речушки – голубые дороги земли. Все они имеют свое имя, которое или сразу (ср. Донец, Сосновка, Ржавец, Невка и т. д.), или после соответствующего анализа, иногда очень глубокого и тщательного (ср. Волга, Десна, Яуза, Луга и пр.), говорит нам о том, чем когда-то обратила на себя внимание народа та или иная река. Тем самым, так сказать, имя говорит само за себя. Что же кладется говорящими в основу «речных» наименований и какую структуру они имеют?
Название реки представляет собой, как правило, слово, указывающее на какой-нибудь ее признак: в одном случае характер течения, в другом случае цвет и вкус воды, в третьем – размер, в четвертом – особенности дна, в пятом – местность, где она течет, или береговая растительность и т. д.
Реку Омь, на которой стоит большой промышленный город Омск, назвали так за ее плавное и медленное течение (на языке барабинских татар слово омь значит «тихая»).
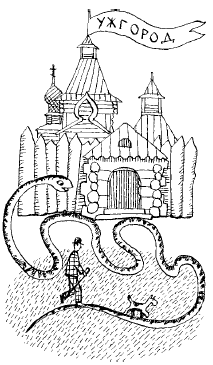
По тому же признаку дали имя и Амуру. Амур окрестили Амуром, также имея в виду его спокойное течение (по-монголь-ски амур – «спокойный»). Быстрицу и Торопу (правый приток Западной Двины), напротив, назвали так за их быстрое, «торопливое» течение.
За тот же самый неспокойный нрав были названы Проней правые притоки Оки и Сожи (ср. чеш. pron «стремительный, буйный») и правый приток Днестра Стрый (с тем же корнем, что и стремя «быстрое течение» и стремительный). Хуанхэ получила свое имя по цвету воды (на китайском языке хуан значит «желтый», а хэ – «река»), точно так же как несколько рек под именем Белая и Аксу (по-тюркски ак значит «белая», а су – «вода»).
Таких «цветных» имен у рек очень много. Вспомните хотя бы реки Красную (в Китае и на севере Вьетнама) и Колорадо. Последнее название происходит из испанского языка, где Rio Colorado значит «река Красная». Колорадо была названа так за красноватую от глины размываемых течением каньонов воду.
Похожее наименование имеют частые в европейских странах Рудни, получившие имя за красноватый и бурый оттенок воды (от глины или болотных руд), ср. диал. рудой «рыжий».
Характеристику черной речки получила за соответствующий цвет воды река Мста в Новгородской области, впадающая в озеро Ильмень (в западных финно-угорских языках musta значит «темная, черная»).
Считают, что молочные реки текут (обязательно в кисельных берегах) только в сказках. Но это неверно. С речкой Молочной мы встречаемся и в Приазовье, и в бассейне Днепра. Эти реки получили такое имя за «молочный», мутноватый цвет воды.
За извилистый характер русла, вероятно, была названа река Уж, на которой стоит город Ужгород.
Как и река Уж, за изогнутость и повороты названы Случью притоки Припяти и Горыни: слово случь образовано от прилагательного слукий «кривой, изогнутый» (того же корня слова лук «орудие стрельбы», излучина, лукавый, лукоморье и т. д.).
Река Вязьма получила свое название по другому признаку: ее назвали так за вязкое, илистое дно.
С этой точки зрения ее «однопризнаковой» тезкой является название такой реки, как Миссури (на языке индейцев Северной Америки Миссури значит «илистая»). Напротив, по каменистому дну названы многочисленные Каменки. А вот река Кума на Северном Кавказе «позаимствовала» свое название у песчаного дна (по-тюркски кум значит «песок», ср. Каракумы «черные пески»).
Горьковатый вкус воды (от солончаков) был виновником имени левого притока Дона – Маныч (по-тюркски манач означает «горький»).
Что же касается Донца (его называют Северским или Северным) и реки Великой, впадающей в Псковское озеро, то они названы так по размеру. Слово Донец образовано от имени Дон с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса – ец: Донец – это маленький Дон. Великая – значит «большая». Конечно, размер в данном случае определяется не абсолютно, а относительно: Донец сравнивается с рекой, в которую он впадает, а Великая – с реками, текущими поблизости.
А вот реки Липовка, Ольшанка, Вязовка были так названы по береговой растительности, за липы, ольхи и вязы по их берегам.
Более общее наименование получили маленькая Дрезна, впадающая около Москвы в Клязьму (ср. диал. дрезда и дрез-на «лес»), и одна из самых больших рек мира Конго (в языке банту это слово значит «горы»).
Разнообразны, как видим, не только речные истоки, но и языковые источники речных имен.
Иногда собственным именем реки становится нарицательное существительное со значением «река» (см. об этом в заметке «О Волге и влаге»).
Строение и история речных названий могут быть самыми различными. Ответ на вопрос, откуда получают имена реки, может, так сказать, лежать на поверхности и быть видным невооруженным глазом. Но иногда, как уже сообщалось, говорящим имя реки становится лишь в результате его этимологического разбора. Так, река Багва получила название по своей «болотистости»: Багва родственно диал. багно «болото» и возникло из старого Багы (как Москва из Москы и т. д.). Топоним Угра этимологически может быть истолкован либо как «угристая река», либо как «извилистая, с многими изгибами». Река с именем Яуза, содержащим старую уменьшитель-но-ласкательнуго приставку я– и– уза «связь» (Яуза – буквально «связка»), названа так потому, что связывает одну речку с другой, и т. д.
О Волге и влаге
Всем хорошо известна великая русская река Волга. Если самим не приходилось бывать на ней, то, во всяком случае, «лично» знакомы с ней по школьному курсу географии и нашим песням. А вот название этой реки для многих, вероятно, загадка. Почему у красавицы Волги такое странное имя, напоминающее по своему звучанию существительное влага?
Даже для видных специалистов по гидронимии (т. е. по названиям всевозможных водных бассейнов: морей, рек, озер и т. д.) долгое время название Волга было «книгой за семью печатями».
Впрочем, такая участь не у одной Волги. Подавляющее большинство больших рек, названных давно и очень часто еще не русскими, носит точно такие же – с первого взгляда загадочные и непонятные – имена. Ведь в отличие от больших городов большие реки своих имен не изменили с древнерусской эпохи. Достоверно известен лишь случай переименования реки Яик, по «высочайшему повелению» Екатерины II после подавления Пугачевского восстания, получившей (по горам, в которых река берет свое начало) название Урал.
В настоящее время, несмотря на несколько гипотез, в которых слово Волга толкуется по-другому, можно считать установленным, что название Волги является не заимствованным, а исконно русским, более того – свойственным также и некоторым другим славянским языкам. Об этом свидетельствует и география этого слова, и его фонетическая структура, и, наконец, его «нарицательный первоисточник». Поэтому совершенно напрасно В. А. Никонов (см. его «Краткий топонимический словарь». М., 1966. С. 87) считает, что с толкованием слова Волга как исконно русского может и сейчас соперничать объяснение его как заимствования из финских языков (ср. финск. valkea, эст. valge «белый, светлый»); как правильно указывает М. Фасмер, объяснение названия Волга из соответствующих финских прилагательных «невозможно фонетически» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).
Кстати, о невозможности объяснения слова Волга как заимствования из финских языков говорит и география этого имени: Волги есть не только в России, но и в Польше и Чехии, где финские гидронимы такого типа исключены абсолютно. В Чехии течет река Влха (Vlha), относящаяся к бассейну Лабы, в Польше такое название – Вильга (Wilga) – носит река бассейна Вислы.
Как раз эти тезки нашей Волги и позволяют восстановить древнейшую фонетическую структуру разбираемого гидронима. В праславянскую эпоху это слово звучало как *Vьlga, принадлежа к образованиям с сочетанием «редуцированный плюс плавный» между согласными типа волна (ср. чеш. vlna), волк (ср. чеш. vlk, пол. wilk), долг «обязанность» (ср. чеш. dluh), болтать (ср. пол. bełtać) и т. д.
Форма *Vьlga изменилась в форму Волга в связи с тем, что перед отвердевшим л ь изменился сначала в ъ, а затем после падения редуцированных прояснился (перед плавным между согласными в и г) в гласный полного образования о. Какой же признак был положен славянами в основу названия Волга? Почему Волга была названа именно так, а не как-либо иначе? Об этом без утайки говорит «нарицательный первоисточник» слова Волга – исчезнувшее прилагательное *vъlga «влажная, мокрая» (ср. пол. wilgość «влажность»), с одной стороны, отложившееся в глаголе волгнуть «становиться влажным», прилагательном волглый, а с другой – близкородственное (поскольку имеет ту же основу, но с перегласовкой оʼь) существительному влага, или – слово влага заимствовано из старославянского языка – древнерусскому волога «жидкость, вода».
Как видим, звуковое сходство слов Волга и влага не является случайным: это слово одного и того же корня. Волга названа (кстати, «несомненно, в верхнем течении» – Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. С. 87, – где вода ее не отличается «белизной и светлостью», что также противоречит финской гипотезе) так просто потому, что она река, т. е. поток, текущая вода, влага.
Заметим, что процесс превращения нарицательного существительного со значением «влага, вода, текущая вода, река» в собственное имя представляет собой широко распространенное явление, для гидронимии очень характерное. В качестве примеров можно привести хотя бы слова Москва (из старого Москы, род. п. Москъве, родственного словам промозглый, диалектному мзга «мокрый снег с дождем» и т. д.; сложное наименование Москва-река закрепилось за рекой после того, как исходное стало именем города), Дон (ср. др. – инд. дану «сочащаяся жидкость», осет. дон «вода, река»), Охота (по которой названо Охотское море; из тунг. – маньч. оката, буквально «вода, река»), Обь (из иран. аб «вода, река»), Парана (от инд. пара «вода, река»), Нигер (из туарег. нʼегирен «текущая вода, река»), Юг (из фин. йокки «река, вода»), правый приток днепровской Десны Снов (из *snovъ = «текучая вода», ср. др. – инд. снаути «течь») и др. Отмеченные факты – еще один (правда, косвенный) аргумент, свидетельствующий о «кровном» родстве слов Волга и влага.
Как называются города
В заметке «Откуда получают имена реки» было рассказано о том, как возникают наименования рек, почему и когда их окрестили именно так, а не иначе. А как называются города? Что принимается во внимание, когда дается наименование тому или иному городу?
Многие города называются по имени той реки, на которой они находятся.
Так, город Москва, стоящий, как известно, на реке Москве, «присвоил» себе ее имя. Имя Москва настолько тесно связалось с городом, что одноименную реку сейчас называют не иначе как употребляя рядом с собственным именем Москва нарицательное существительное река. Москва-река сейчас является единым словом, подобно словам плащ-палатка или платье-костюм. Это новое имя для реки Москвы возникло в связи с тем, что старое стало восприниматься только как имя города.
Как город, получивший свое имя по реке, на которой он расположен, может быть указан Тирасполь. Правда, река, на которой он расположен, называется Днестр, но дело в том, что при наименовании этого города (он был основан в 1792 г.) было использовано не современное исконно русское название реки Днестр, а имя, которым в свое время называли его древние греки, – Тирас (Туras). Давая имя новому городу, наши предки к слову Тирас прибавили по образцу названия Севастополь корень– поль (polis), что по-древнегречески значит «город». Таким образом появился Тирасполь, буквально – «город на Днестре».
От реки Витьбы, притока Западной Двины, получил свое имя город Витебск. Определенно говорит своим именем о местоположении на реке Сестре город Сестрорецк.
Ну а Великий Устюг? Этот город назван так потому, что он стоит на реке Сухоне неподалеку от устья реки Юг, впадающей в Сухону.
Почему так часто использовались для обозначения городов имена рек? Это вполне понятно, ведь многие города возникали и, как правило, возникают на реках.
Конечно, местоположение города в момент его основания может быть и иным. Города могли возникать по берегам озер и морей, в таких случаях они получали имена в соответствии с названием озера или моря: Белозерск, Балтийск, Каспийск и т. д.
Города появлялись в лесных дебрях (отсюда, например, название Брянск из более старого Дьбряньскъ), в долинах (например, город в Станиславской области Украины Долина), по соседству с минеральными источниками (например, Серноводск, Железноводск) и т. д.
Но чаще всего города появлялись все же на реках. Вот поэтому-то многие названия городов перекликаются (если не совпадают полностью) с именами рек.
«Речные» в своей основе имена городов по строению и образованию могут быть различными. Однако можно наметить здесь две большие и продуктивные однотипные группы.
Одну группу составляют такие названия городов, которые являются как бы эхом имени реки. Слова типа Нарва, Вологда, Пярну, Луга, Мшим, Онега, Дрисса, Жиздра, Хатанга, Печора и т. д. – это названия городов, но они в точности повторяют имена рек.
Значительно интенсивнее растет и обогащается новыми образованиями другая группа, в которую входят слова с суффиксом – ск-.
Корень в таких словах указывает на реку, около которой стоит город. Что касается суффикса, то он как бы сигнализирует нам, что слово является названием города. Действительно, ни в каких других существительных, кроме имен городов, этот суффикс не встречается. В эту группу входят названия городов Иркутск, Тобольск, Томск, Омск, Пинск, Орск, Ейск, Вилюйск, Енисейск, Задонск, Приволжск и многие другие.
С «речными» названиями городов по количеству и продуктивности можно сравнить лишь такие названия, которые появились на основе фамилий. По своей структуре они, как и «речные» названия городов, различны.
«Одно и то же» слово обозначает и лицо, и город. Однако слова «одно и то же» взяты нами в кавычки. Это сделано не случайно. Несмотря на родство (город назван в честь лица) и одинаковое написание и звучание, это два разных слова, два омонима, вроде слов мир «вселенная» и мир «противоположное войне». О том, что это разные слова (если они склоняются) говорит, в частности, и их склонение. В творительном падеже будет, например: с юным Пушкиным, но под городом Пушкином.
Как фамилии стали использоваться для названий городов? Почему они свободно употребляются как имена городов? Для того чтобы понять это, вспомним, как появилось название Ярославль и что представляют собой по происхождению русские фамилии.
Слово Ярославль является перешедшим в существительное притяжательным прилагательным, образованным от имени Ярослав с помощью суффикса – j– (-вj– дало– вль, ср. ловить – ловля).
Название города Ярославль возникло из словосочетания Ярославль городъ «город Ярослава». Этот населенный пункт был основан киевским великим князем Ярославом (как полагают, в 1024 г.).
Притяжательными прилагательными первоначально были также и такие слова, как Киев (первоначально Киевъ городъ, т. е. «город Кия»). Алексин[1] первоначально Алексинъ городъ, т. е. «город Алексы», Алекса – сокращение имени Александр) и т. п.
Слов, подобных словам Киев, Алексин, значительно больше, чем названий типа Ярославль (ср. Лихославль, Переяславль, Путивль[2] и некоторые другие). И это понятно.
Притяжательные прилагательные чаще всего образовывались при помощи суффиксов– ин и – ов. Такими же притяжательными прилагательными являются по происхождению и русские фамилии типа Петров, Гаврилин и др. Только они возникли не из сочетания притяжательного прилагательного со словом город, как названия городов, а из сочетания притяжательного прилагательного со словом сын. Ведь современные фамилии – это прежние отчества: Петров появилось из Петров сын, Гаврилин – из Гаврилин сын и т. д. Это общее происхождение и структура фамилий и городских названий типа Киев, Алексин и явились предпосылкой для употребления фамилий как названий городов.
Среди них в новое время появились и такие, которые в своем составе суффиксов– ов, – ин не содержат (например, Жуковский и др.). Однако подавляющее большинство «фамильных» имен городов оканчивается на – ов и – ин. Именно поэтому в народной речи некоторые имена городов, звучавшие ранее по-другому, начинают звучать как слова на – ов и – ин. В этом сказывается влияние внешней формы основного типа. Мы, например, напрасно будем искать в названии Саратов слово, от которого было образовано это на первый взгляд «притяжательное прилагательное». Почему? Да потому что такого прилагательного никогда не было. Конечное – ов в слове Саратов появилось по аналогии с Дмитров, Киев и т. п. На самом деле слово Саратов является заимствованным из тюркских языков и звучало раньше как Сарытау (сары «желтый», тау «гора»).
С названиями городов, точно соответствующими фамилиям, конкурируют другие. Это такие слова, в строении которых есть указание на их значение, именно на то, что они являются именем города.
Одну группу составляют слова с суффиксом – ск: Хабаровск, Мичуринск и т. д. Как и в «речных» названиях городов, этот суффикс указывает здесь на город.
Другую группу образуют слова, отличающиеся от фамилий наличием в их составе конечного– о (по происхождению окончания им. п. ед. ч. притяжательного прилагательного ср. р.). Правда, среди названий городов их меньше, нежели среди названий мелких населенных пунктов (сел, деревень, поселков и т. д.). Такого рода модель возникла на базе сочетания притяжательного прилагательного со словом село. Например, название Борисово возникло на основе словосочетания Борисово село, т. е. «село Бориса».
Села впоследствии вырастали в города, но названия оставались прежними: Сасово, Ртищево, Синельниково и т. д. Сейчас имена городов такого рода образуются от соответствующей фамилии сразу, с помощью прибавления к ней– о. Такого происхождения имена городов Пушкино (Московской обл.), Репино (Ленинградской обл.) и т. д.
Третья группа состоит из сложных слов на– град и – город (Волгоград, Калининград, Зеленоград, Новгород, Миргород, Ужгород, Белгород, Иван-город и др.).
Сложные имена, вторая часть которых является корнем со значением «город», наблюдаются не только в географических названиях славянского происхождения, какими являются, например, Белград в Югославии. Они имеются и в таких топонимических названиях, которые по происхождению являются неславянскими. «Город» по-немецки – бург и штадт. В качестве составных частей эти слова мы встречаем в именах Гамбург, Эйзенштадт, Зальцбург и т. д. В английском языке сродни нашему слову город по значению корни таун, сити, полис и вилл. Отсюда названия Джоржтаун (Малайя), Атлантик-сити (США), Канзас-сити (США), Индианаполис (США), Флорианополис (Бразилия), Джэксонвилл (США) и т. д.
В Средней Азии и в Афганистане имеется ряд городов, оканчивающихся на– абад. Например, Ашхабад в Туркмении, Джелалабад в Афганистане. Корень – абад, выступающий в этих словах в качестве второй части сложения, имеет тоже значение «город».
Такими же по своей «анатомии» являются и названия городов Даугавпилс (по-латышски пилс «город», буквально – «город на Даугаве», т. е. на Западной Двине, ср. старое Двинск), Дунайварош (по-венгерски варош «город», буквально – «город на Дунае»), Ташкент (по-ирански кент «город, селение», буквально – «каменный город», от тюрк. таш «камень»), Тимишоара (по-румынски оара «город», буквально – «город на реке Тимиш») и т. д.
Наконец, родственными указанным сложным именам являются слова с– поль (греч. polis значит «город»), например, Севастополь, Симферополь, Никополь, Ставрополь, Кастро-поль, Мариуполь, а также Тирасполь.[3]
Но близость русских и иноязычных сложных названий городов может быть еще большей. Семантически одними и теми же оказываются не только вторые части, но и первые.
Вот, например, Неаполь в Италии. Перевод частей, из которых состоит это название, показывает, что его назвали так по той же причине, что и наш Новгород. Это, так сказать, итальянский «Новгород»: по-гречески polis – «город», а neos, nea – «новый, новая». Слово polis в греческом языке женского рода, поэтому в названии города ему предшествует «определение» в форме женского рода nea. Напомним, что интересующий нас город был основан древними греками.
Точным переводом слова Петербург, его двойниками (но не с немецкой, а с греческой и старославянской второй частью) являются слова Петрополь и Петроград.
Но вернемся к обзору продуктивных моделей, по которым образуются названия городов в нашем языке.
Очень многие городские имена представляют собой сложные слова со второй частью, звучащей как– горек: Нефтегорск, Пятигорск, Зеленогорск, Магнитогорск, Углегорск, Белогорск и др. Большинство этих названий также связано с разнообразными группами сложных имен городов (на – град и – город) и выступают сейчас как слова, возникшие на базе словосочетаний, включающих город.
Однако среди этих названий есть и такие, в которых часть – горск обозначает иное. Пятигорск – город около Бештау, состоящего из пяти гор; Магнитогорск – город около горы Магнитной. Часть– горек в этих словах складывается из основы – гор(а) и суффикса – ск.
Именно такого рода слова послужили образцом для возникновения слов типа Дивногорск. Опорная основа– горск перестала связываться с породившим его словом гора и отождествилась с частью гор– в слове город. Следовательно, при определении образного характера и структуры слова на – горск надо быть осторожным.
Одни слова на– горск представляют собой «горные» названия городов (ср. Дивногорск, Змеиногорск, Медногорск, Медвежьегорск, Хибиногорск, Бокситогорск, Белогорск, Высоко-горск и т. д.). В других морфема – горек равна морфеме – град или – город (это мы видим, например, в топонимах Светогорск, Электрогорск, Углегорск, Нефтегорск, Зеленогорск, Красногорск, Мончегорск – буквально «город на Мончагубе» и др.).
В последнее время продуктивной моделью городских названий стали «прилагательные» имена городов. Это слова типа Грозный, Верный, в XIX в. бывшие единичными. Сейчас такие топонимы (исходно в виде качественных и относительных прилагательных мужского рода) появляются очень часто: Мирный, Изобильный, Волжский, Отрадный, Заозерный, Долгопрудный, Железнодорожный, Горячеводский и т. д.
Таковы наиболее яркие и многочисленные группы городских имен. Кроме них, есть и такие, которые регулярными не являются и состоят из отдельных изолированных слов, например Павлодар, Владивосток, Владикавказ, Усть-Кут, Усть-Урень, Орехово-Зуево и некоторые другие.
Более того, многие города, подобно большинству крупных рек, имеют весьма своеобразные имена, не похожие на другие ни происхождением, ни строением. В отличие от рассмотренных выше имен, в своей массе сравнительно новых, это названия, возникшие очень давно. Приведем два примера.
В Тверской области есть город Бологое, недалеко от Москвы находится город Бронницы. Почему они так названы? Какие имена образованы так же?
Бологое – это дневнерусское прилагательное того же значения, что и слово хорошее. Сейчас как прилагательное в русском литературном языке оно не употребляется, вместо него бытует старославянская форма благое (ср. благая мысль, благой совет и т. д.). Бологое (первоначально это было село) названо по качеству и значит «хорошее». Так же названы, например, города Болотное (Новосибирской обл.), Раменское (Московской обл.; раменское – буквально «лесное»).
Совершенно другой признак был положен в основу названия Бронницы. Это село, ставшее с течением времени городом, было названо так по основному занятию его жителей. Здесь раньше жили бронники, изготовлявшие броню. Такого же типа имена Вязники (Владимирской обл.) и Чашники (в Белоруссии). Слово Бронницы отличается от них лишь тем, что оно сохранило старую форму им. п. мн. ч. со звуком ц на месте звука к.
Такие городские имена требуют особого, индивидуального подхода, и рассказать их биографию можно только тогда, когда мы призовем на помощь этимологию, историю и географию. О некоторых интересных и забавных названиях городов будет далее рассказано отдельно.
О городке Городке
В Витебской области Белоруссии один из небольших городов носит название Городок. Не правда ли, забавное и интересное имя, сразу говорящее нам и о городском характере населенного пункта, и о его небольшом размере? Как видим, и здесь, подобно наименованиям рек (ср. Эбро в Испании – из баск. эбр «река», правый приток Енисея Кан – из тунг. – маньч. кан «река» и т. д.), нарицательное существительное могло прямо и непосредственно переходить в собственное и название города, вообще становиться

именем какого-либо одного города. Только в наименование города здесь превращается не современное существительное город со значением «крупный населенный пункт, являющийся административным, торговым и промышленным центром», а слово город в своем старом, исходном значении «укрепление, крепость < огороженное место < забор», близкородственное словам городить и огораживать, загородка, ограда и т. д.
Таким образом, выражение городок Городок только с точки зрения нашего языкового сознания выступает как полный повтор. По своему происхождению нарицательное городок, давшее топоним Городок, значит не «маленький город», а «небольшое огороженное поселение, крепостца, укрепленьице».
Действительно, в Городке на правом берегу реки Горожанки и поныне сохранились остатки земляного вала.
Сходное с тем, что мы отметили по поводу названия Городок, наблюдается в биографии имени небольшого города Нижегородской обл. России – Городец.
Хотя В. А. Никонов в «Кратком топонимическом словаре» (с. 108) пишет, что нарицательное городец буквально значит «маленький город», это не так. И здесь собственное городское имя восходит к существительному городец в значении «маленькая крепость, укрепление». Об этом правильно писал еще В. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка»:[4] «Городе) м. городок, крепостца, укрепленное тыном местечко, селение; в Ниж. губ. есть большое село Городец, с остатками земляных укреплений».
Топонимами Городок, Городе) и Городище (Городищи) городские имена «крепостного» характера не ограничиваются. В этот же ряд входит и название города Острог (на Украине). Оно также родилось из нарицательного острог, имевшего в древнерусском языке значение «огороженное место, укрепление, крепость», а также и еще более древнее «частокол, ограда из заостренных вверху кольев».
Разница между городком (или городцом) и острогом заключалась, таким образом, в том, что последний делался наскоро и обносился оградой из бревен, а первый требовал времени и рубился стеной, с углами, башнями и бойницами.
В новое время слово острог сузило свою семантику и стало обозначать «тюрьма».
Естественно, что подобные городские названия наблюдаются и в других языках. Достаточно указать хотя бы на испанский город Бургос, имя которого восходит к вестготскому слову burg «замок, крепость».
Болград и Гранвиль – маленькие «большие города»
Эти разные по географической семантике и происхождению городские названия являются, вероятно, не только однородными членами предложения в заглавии заметки. Они скорее всего однородны и по своей образной структуре. А это с полным правом позволяет охарактеризовать их как особых топонимических тезок, в своем морфемном составе (правда, средствами разных языков) повторяющих друг друга.
Нам уже приходилось говорить об этом явлении в заметке «Как называются города», касаясь Новгорода и Неаполя. К их числу относятся и указанные там Славгород (бывший Пропойск, в Белоруссии, названный городом Славы в знак победы над гитлеровской Германией), и киргизский Джалал-Абад (сложение арабск. джалал «слава» и абад «город»).
Такими же по имени зеркально похожими друг на друга являются и маленькие «большие города», вынесенные в заголовок данной заметки.
Несмотря на свой небольшой размер, Болград в Одесской обл. и Гранвиль во Франции оба по своим названиям большие.
Болград был основан и назван болгарами, бежавшими на Украину от турецкого гнета. Название сложили (по образцу топонимов типа Царьград) из болгарских слов бол «большой» (ср. русск. более) и град «город». Франц. Гранвиль также является двухосновным и образовано сложением слов grand «большой» и ville «город».
«Большие» уже при рождении города не оправдали своих имен и остались маленькими, но в этом они, правда, не были виноваты: так решила история.
Почему в слове Солигорск пишется буква и
Городские имена на– горек в настоящее время возникают постоянно. Это одна из продуктивных моделей, по которым сейчас образуются названия городов. Относительно недавним топонимом является и слово Солигорск, которым был назван в 1963 г. город в Белоруссии. Это имя город получил вполне заслуженно, так как он возник около разработок калийных солей. Поэтому закономерно появление в его имени в качестве первой основы корня соль-. Солигорск – это «город соли», «соляной город». Странным кажется в этом названии только – и– между первой и второй основами. Ведь все слова на – горск являются сложными словами с соединительной гласной о или е. Если первая основа сложения оканчивается на твердый согласный, появляется соединительный о (ср. Светогорск, Зеленогорск и др.). Если же первая основа сложения оканчивается на мягкий согласный, то ее с морфемой – горск соединяет уже е (ср. Нефтегорск, Мончегорск и т. д.). Это железный словообразовательный закон, который действует так же неотвратимо и в нарицательных существительных. Почему же в слове Солигорск не е, как мы ожидали бы по правилу, а и? Может быть, это словообразовательная или орфографическая ошибка? Не то и не другое. Солигорск вместо, как нам кажется, единственно правильного Солегорск появилось потому, что здесь скрестились два разных словообразовательных разряда. С одной стороны, слова на – горек, а с другой стороны, старые «соляные» имена городов типа Солигалич и Соликамск. Вот в результате этой словообразовательной «прививки» и появился такой топонимический гибрид, как наш Солигорск.
Что же касается слов Солигалич и Соликамск, то и там является исконным, так как они возникли в результате аббревиации (сокращения) более старых имен фразеологического характера Соли Галичские и Соли Камские. Таким образом, на первый взгляд совершенно неверное Солигорск оказывается в какой-то мере оправданным словообразовательной аналогией, хотя и противоречит ведущей модели на– горек.
В заключение одно попутное замечание. В образном отношении славянское Солигорск не одиноко. Вспомните хотя бы австрийский город Зальцбург (Salz «соль», Burg «город»), тоже «город соли».
Владимир и Познань
Объединение этих двух городских имен на первый взгляд может показаться совершенно неосновательным. Ведь если название русского города точно перекликается с личным мужским именем, то в польском Познань ничего подобного нет. Да и в фонетическом отношении они совершенно непохожи даже характером конечного согласного основы. В первом конечный согласный твердый, во втором – мягкий. И тем не менее в этих словах есть нечто общее. Что именно? Одинаковым является для названий этих городов их происхождение из притяжательных прилагательных. Топоним Владимир звучал ранее иначе и не совпадал с соответствующим мужским именем. Он произносился с мягким р на конце: Владимирь. Как название города Владимир возникло из оборота Владимирь городъ «город Владимира» в результате выпадения грамматически опорного слова (так же возникло слово Ярославль и прочие городские имена этого типа). Притяжательное Владимирь является производным от Владимиръ с помощью старого суффикса j; рј дало мягкое рʼ, так же как– вј– дало – вль. Город был назван по имени основавшего его киевского князя Владимира Мономаха.
Таким же старым притяжательным прилагательным от исчезнувшего славянского личного имени Познань является слово Познань < Poznań gród «город Познана». Кстати, именно тем, что Познань было первоначально определением к существительному gród «город», и объясняется принадлежность его в польском языке к словам мужского рода. Женский род этого топонима в русском языке объясняется тем, что он был воспринят как слово, аналогичное многочисленному разряду топонимических наименований на – ань типа Рязань, Тамань, Казань, Умань и др.
Житомир
Среди топонимов довольно многочисленную группу составляют так называемые патронимические имена, наименования населенных пунктов по их основателю или владельцу. Немало в этой группе и городских названий.
По своему этимологическому характеру они являются существительными, возникшими морфолого-синтаксическим способом на базе притяжательных прилагательных в результате эллипсиса слов городь: Борисов < Борисовь городь, Ярославль < Ярославль городь (т. е. «город Бориса», «город Ярослава») и т. д. В результате сокращения оборота Владимирь городь «город Владимира» (с последующим отвердением конечного р) возник и топоним Владимир (см. подробнее об этом в заметке «Владимир и Познань»).
Аналогично возникло и городское имя Житомир. Ранее (до отвердения конечного р) оно звучало как Житомирь. Название же Житомирь является аббревиацией фразеологического оборота Житомирь городь, в котором Житомирь представляло собой притяжательное прилагательное от личного имени Житомирь, образованное с помощью суффикса j (ь) еще в общеславянскую эпоху.
Таким образом, Житомир буквально значит «город Житомира».
Мзда, возмездие и безвозмездный
ВВ нашей лексике есть немало слов с общим корнем, которые тем не менее имеют самое различное происхождение. К ним необходимо отнести и слова мзда, возмездие и безвозмездный. Корень мзд– (мезд-) в словах мзда, возмездие и безвозмездный один и тот же, но появились они в русском языке в разное время, пришли в литературную речь различными путями и были образованы каждое по-своему. Да и в семантическом плане эти слова развивались далеко не одинаково.
Самым древним из них является существительное мзда. Оно было унаследовано древнерусским языком из общеславянского языка. Более того, есть все основания предполагать, что в качестве определенной лексической единицы оно родилось даже не в праславянский период, а еще раньше: в целом ряде индоевропейских языков издревле выступают его точные соответствия. Ср. хотя бы осетин. mizd «плата, награда», греч. misthos – тж, готск. mizdō – тж, англ. meed «плата, награда» и др. Когда после возникновения письменности слово мьзда (> мзда) попало из устной речи в литературный язык, оно давно уже было непроизводным. Но эта непроизводность слова мьзда была не исконной. Как не без оснований считают многие этимологи (см.: Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967. С. 148–155), слово мьзда было образовано с помощью суффикса – зд– от того же глагольного корня мь– (< mi-), что и слова мьсть «месть» и – с другой огласовкой (мѣ– < moi-) – мѣна «мена», и родственно греч. (сицилийск.) moitos «вознаграждение, благодарность», лит. maĨna «мена», др. – инд. máyatē «меняет», готск. gamains «общий» и т. д.
По своему суффиксальному характеру слово мьзда (звукосочетание мзда появилось после падения слабого редуцированного ь перед гласным полного образования а) идентично таким существительным, как борозда, звезда, езда и т. п. Древний суффикс– зд– изо всех одноструктурных слов сейчас вычленяется по соотношению с глаголом ехать, еду только в существительном езда.
Родство слов мзда и месть ясно просвечивает и в их семантике. И здесь народная пословица Мста не мзда, переводимая В. Далем как «Месть не возмездие за добро» (см.: Даль В. Толковый словарь…), оказывается справедливой не абсолютно, а лишь в определенных временных пределах, и именно в новую эпоху. Семантика рассматриваемых слов, равно как и их синонимов, в динамике языка перекрещивается и тесно связывает их вместе. Сейчас действительно мста – не «мзда». В современном русском литературном языке месть – «действие в отплату за причиненное зло, возмездие», а мзда – «награда, плата» (см.: ОжеговС.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 344, 347).
Сейчас, конечно, и слово возмездие семантически не равно слову мзда. В том же словаре существительное возмездие совершенно правильно определяется как «оплата, кара за преступление, за зло». Однако так было далеко не всегда.
Слово возмездие еще для Даля было обозначением и кары, и платы, награды, воздаяния (см.: Даль В. Толковый словарь…). Такое же синкретическое значение может быть отмечено и у основы мзд– как составного элемента ныне устаревшего глагола мздовоздаять «карать и жаловать по заслугам», и у др. – греч. misthos, имеющего, помимо уже указанных выше значений «плата, награда», также и значение «кара, возмездие».
Ср. аналогичные семантические отношения в словах плата и расплата «кара, возмездие», расчет и рассчитаться (с кем-нибудь) в значении «отомстить кому-либо» и т. д. Ср. также родственные цена (в др. – рус. языке «плата») и авест. kaena «месть».
Производное от мьсть – общеславянский глагол мьстити обозначает не только «мстить, наказывать», но также «защищать» и «награждать, жаловать» (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. С. 234).
Последнее значение этого глагола позволяет реконструировать также бывшую когда-то у слова мьсть семантику «плата, награда». Таким образом, в очень давние времена слова мзда и месть были синонимами и оба имели значение «плата, награда» (по заслугам). Лишь потом слово месть, как и значительно позже возмездие и расплата, приобрело новое, современное значение «месть, кара». Заметим, что подобное развитие семантики мы наблюдаем и у неславянских родственников другого однокорневого со словом мзда существительного – слова мена «обмен, изменение» (ср. глагол менять «отдавать и брать одно за другое», раньше также и «покупать» и, следовательно, «платить»). Поэтому вполне возможно, что исходным (этимологическим) значением слов мзда и месть было то, которое и поныне свойственно однокорневому мена «обмен» (сначала натурой).
Как видим, слово мзда в русском языке исконное, досталось ему по наследству из праславянского языка еще в до-письменную эпоху. Образовано оно было еще в индоевропейский период суффиксальным способом словообразования и по корню кровным родством связано со словами месть и мена.
Совсем иная биография у существительного возмездие. Оно сразу появилось в письменной речи и до сих пор носит ярко выраженный книжный оттенок. В русском литературном языке оно не исконное, а пришло к нам из старославянского языка. Впервые отмечается в старославянских памятниках письменности русского извода с XI в. со значением «вознаграждение, воздаяние, возмездие». Эта семантика затем сузилась, и слово возмездие стало употребляться лишь для обозначения кары, наказания. Последнее было обусловлено, помимо семантических возможностей, заложенных в самом слове (см. выше), также влиянием контекстов, где речь идет о расплате за дурные поступки и причиненное зло. Таких контекстов в церковнокнижной литературе, где прежде всего употреблялось слово возмездие, встречается предостаточно. Старославянизм вьзмьздие не был образован с помощью приставки въз– и суффикса – uj-, как может показаться с первого взгляда, а представляет собой слово, возникшее путем словообразовательного калькирования др. – греч. antimisthia «плата, воздаяние, вознаграждение, возмездие», т. е. посредством его последовательной поморфемной «съемки»: приставки anti– приставкой въз-, основы misth-основой мьзд– и суффикса– iа суффиксом – и (указываем их здесь для удобства вместе с окончаниями).
Таким образом, если иметь в виду этимологический состав, то слово возмездие можно перевести как «ответная кара».
В биографическом аспекте, следовательно, слово возмездие резко отличается от слова мзда и своим неисконным для русской речи происхождением, и появлением лишь после принятия христианства, и способом словообразования.
В настоящее время в актуальном языковом сознании рядового носителя современного русского языка слово возмездие со словом мзда уже не связывается: они стали совершенно чужими в силу резкого семантического сдвига, происшедшего в первом слове.
А теперь о прилагательном безвозмездный. По сравнению со словами мзда и возмездие оно «подросток», так как родилось на свет совсем недавно. По данным «Словаря современного русского литературного языка», оно впервые фиксируется в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. По своему образованию оно довольно оригинальное, ибо получилось в результате переделки более раннего и «более правильного» прилагательного безмездный, известного еще в древнерусском языке. Безвозмездный возникло на базе безмездный точно так же, по той же модели, что и бесталанный – из бесталантный, свидетель – из съвк дк тель, солянка – из селянка, в результате процесса замещения основы: основа – мзд– под влиянием слова возмездие в старом значении «плата, вознаграждение» была заменена основой возмезд-.
Следовательно, слово безвозмездный, будучи исконным, является собственно русским образованием, весьма поздним по степени своего появления и очень своеобразным с точки зрения деривации. В семантическом плане оно полностью повторяет своего предшественника иной основы (слово безмездный) и своего значения «бесплатный» пока не меняло.
Что касается исходного безмездный «бесплатный» (ср. безмѣздьна врачьба «бесплатное лечение» в Стихираре праздничном Софийской библиотеки до 1163 г.), то оно, вероятно, представляет собой известную в XI в. словообразовательную кальку др. – греч. amisthos «неоплачиваемый, безвозмездный, даровой».
Впрочем, этимология старого безмездный для прилагательного безвозмездный – это уже связи и отношения «второго колена».
Казначей, барабанщик и баемач
ВВ языке немало слов-родственников, генетические связи которых совершенно не чувствуются. Превратности языковой судьбы резко меняют и их фонетическое «лицо», и их морфемный характер. Встречаясь с ними, мы и не подозреваем прежней близости этих слов. К таким лексическим единицам можно отнести и те слова, которые вынесены в заглавие, хотя на первый взгляд кажется, что между ними ничего общего нет и не могло быть. В самом деле, что роднит эти слова сейчас? Пожалуй, только одно категориальное значение лица: все они обозначают пусть и разное, но действующее лицо и в соответствии с этим относятся к разряду имен существительных лица. Ничего другого, что бы их сближало, современное языковое сознание нам не подсказывает. Особенно разными они кажутся по своей словообразовательной структуре и морфемному составу. Слово барабанщик в своей основе членится на непроизводную основу барабан– и агентивный суффикс – щик (-чик), свободно выделяющийся в других словах, более того – активно их образующий (ср.: атомщик, трамвайщик, бетонщик и др.). Что касается слова казначей, то в нем рядом с непроизводной основой казн– (ср. казна) мы наблюдаем уже нерегулярный суффикс– ачей, суффикс в известной степени уникальный. Существительное же басмач вообще предстает перед нами как корневое, и, несмотря на все это, названные существительные оказываются генетически принадлежащими к одной и той же словообразовательной модели. А отрезки – щик, – ачей и – ч восходят к одному и тому же суффиксу лица. Какому? Агентивному суффиксу – чи тюркских языков. Вряд ли вы думали (мне приходилось это проверять на многих аудиториях), что слово барабанщик нерусское по своему происхождению: ведь это «тот, кто играет на барабане», так же как, скажем, стекольщик – это «тот, кто вставляет стекла». И тем не менее это так. Слово барабанщик такой же тюркизм, как казначей и басмач. Только заимствовались эти слова в разное время, поэтому их русификация и происходила по-разному. Данный пример – яркое доказательство глубокой разницы (иногда даже пропасти), которая существует между современной словообразовательной структурой слова и его реальным происхождением в языке.
Но обо всем по порядку. Ранее всего в нашей речи появилось слово казначей. Древнетюркское казначи было переоформлено в древнерусском языке в казначии (конечное и равно /ь), а затем, после падения редуцированных, изменилось в казначей, так же как Сергий > Сергей. Так, сохранив соотнесенность со словом казна, оно получило современную структуру: казн-ачей(). В этом отношении его судьба напоминает устаревшие слова домрачей (< домрачи), арбачей (< арбачи) и др. (по происхождению тоже тюркизмы).
Иная судьба ждала тюркское барабанчи. Оно пришло к нам уже тогда, когда в русском языке суффикс – чик (-щик) стал активным словообразовательным элементом, с помощью которого оформлялись многие новые слова со значением действующего лица. По картотеке древнерусского словаря Института русского языка РАН, оно впервые фиксируется в памятниках начала XVI в. Тюрк. барабанчи при заимствовании было подогнано под слова на– щик типа данщик, точно так же как ранее ямчи > ямщик и позднее духанчи > духанщик. Языковое чутье подводит нас здесь особенно сильно: казалось бы, самое русское слово, образованное продуктивным суффиксом со значением лица, на поверку оказывается иноязычным.
Заимствованный характер слова басмач чувствуется сразу. Это объясняется и тем понятием, которое оно выражает, и новыми условиями его усвоения. Борьба с басмачеством в Средней Азии хотя и является прошлым, но все еще свежа в памяти многих. Узбекское происхождение этого слова ясно. Слово басмач примечательно не столько своим сторонним характером, сколько способом своего переоформления на русской почве. Тюрк. басмачи (буквально «налетчик»), являющееся в языке-источнике суффиксальным производным от басма «налет», было осознано, по аналогии со словами трубачи, лихачи, богачи и т. д., как форма им. п. мн. ч. Кусочек тюркского суффикса– чи – и стал окончанием в русском языке. Произошло «межъязыковое» переразложение на стыке корня и суффикса, которое привело к рождению слова, состоящего из корня и окончания. Так появилось совершенно немыслимое для тюркских языков слово басмач с нулевым окончанием после непроизводной основы.
Как видим, совершенно непохожие друг на друга по своей структуре слова генетически все являются тюркизмами и принадлежат к одной и той же словообразовательной модели. Однако в языке бывает и обратное. Слова, структурно идентичные, в действительности по своему происхождению могут быть самыми разными. Но об этом рассказ особый.
Чужие близнецы
Существительные вольность, дородность, плотность кажутся самыми простыми, словообразовательно и генетически прозрачными словами. С точки зрения современного языкового сознания все они прямо и непосредственно связаны с соответствующими прилагательными и поэтому, несомненно, воспринимаются как производные, образованные в русском языке с помощью суффикса– ость. Пары вольность – вольный, дородность – дородный, плотность – плотный и принадлежность существительных к обширной, с каждым днем растущей категории слов на – ость не позволяют подозревать здесь ничего этимологически особенного. Но осторожнее с такими «одинаковыми» фактами! Именно эти словообразовательные «близнецы», выделяющие все один и тот же суффикс – ость, очень ярко и наглядно свидетельствуют о том, что нередко как будто совершенно очевидное и единственно правильное решение оказывается абсолютно неверным. Если мы скажем, что слова вольность, дородность и плотность в русском языке были образованы посредством суффикса – ость, то совершим грубую этимологическую ошибку, приняв настоящее за прошлое, современные словообразовательные связи этих слов за их реальное происхождение в нашей речи.
Как повествует лексическая история, только слово дородность было создано в русском языке с помощью суффикса– ость. Что касается двух других, то у них родословная совсем иная.
Слово плотность появилось на свет у А.Д. Кантемира в его переводе книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров». Свой неологизм Кантемир (о чем говорит он сам в примечаниях, см.: Соч. Т. 2. СПб., 1868. С. 428) создал не с помощью суффикса– ость на базе прилагательного плотный, а как словообразовательную кальку франц. solidité. Таким образом, слово плотность образовано калькированием, путем поморфемной съемки чужого слова (solid-плотн-, – ité – ость). Оно представляет собой не суффиксальное производное, каким сейчас выглядит, а словообразовательную кальку. И хотя сделано из русского языкового материала, но по структурной «мерке» своего французского «родителя».
Еще больше может удивить биография существительного вольность. Ведь это на первый взгляд самое исконно русское слово в нашем языке по происхождению является пришлым, заимствованным из близкородственной, но иной языковой системы.
Откуда пришло к нам слово вольность! Оно принадлежит к довольно большой группе полонизмов и появилось в лексике нашего языка в XVI в. через посредство так называемого литературного языка Юго-Западной Руси, т. е. украинско-белорусского книжного языка.
Как видим, в мире слов мы должны быть готовы к самым удивительным неожиданностям. Слова, непохожие друг на друга (барабанщик, басмач и казначей), по определенной линии оказываются родственными, слова суффиксально одинаковые – совершенно различными.
Что общего между словами капитан и капуста?
Если не считать их принадлежности к категории имен существительных, то между этими словами как будто нет ничего общего. Впрочем, подождите. Оба слова начинаются с одного и того же звукосочетания и буквосочетания кап. Но так ли это существенно? Разве мало слов, имеющих в своем составе одинаковые звуковые и буквенные отрезки и тем не менее абсолютно никакого отношения друг к другу не имеющих? Сколько угодно. Есть ведь даже омонимы, которые фонетически и орфографически целиком повторяют один другого, но являются друг другу совершенно чужими.
Данные русской этимологии говорят, что совпадение «кусочка» кап в словах капитан и капуста не случайно и они состоят между собой в известном родстве, правда, очень далеком, опосредованном и сложном.
Последнее сказывается, в частности, в том, что слово капуста в такой же степени оказывается родственным не только слову капитан, но также и словам… композиция и компот (!). Дело все в том, что существительное капуста в славянских языках – своеобразный лексический гибрид, возникший путем скрещения слова, родственного существительному капитан, со словом, родным и близким существительным композиция и компот.
Заметим сразу же, что первоначально это скрещение отразилось не только во внешней форме слова капуста, но и в его семантике. Но судите сами.
Существительное капитан пришло к нам в древнерусскую эпоху. В памятниках письменности оно отмечается по крайней мере с 1419 г. Не совсем ясно, из какого языка непосредственно оно у нас появилось (из ит. capitano или пол. kapitan), но первоисточник известен очень хорошо. Им является среднелат. capitaneus, «главный; начальник», представляющее собой суффиксальное производное от лат. caput «голова». По своему «образному» строению слово капитан, таким образом, однотипно нашему слову голова в значении «начальник, предводитель; глава, вождь».
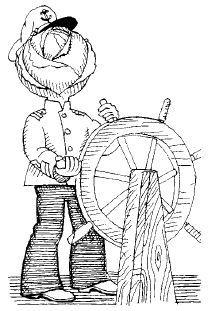
Как видим, в слове капитан корень кап– идентичен cар-в лат. caput «голова». Это же слово своим корнем представлено и в существительном капуста, но оно в нем причудливо совмещено с другим, в чистом виде давшим слова композщия и компот.
Когда же и как это произошло? Какие конкретно лексические единицы были виновниками появления слова капуста? Слово капуста по времени своего появления в нашем языке значительно более древнее, нежели существительное капитан. Оно досталось древнерусскому языку по наследству от праславянского. Там это слово, по мнению большинства этимологов, родилось в результате скрещения двух различных слов, пришедших из разных языковых источников.
Одним словом было существительное того же корня, что и слово капитан. Это др. – в. – нем. capuz, восходящее к лат. caputium «кочан (головка) капусты», суффиксальному образованию от caput «голова». Другим словом было существительное с тем же корнем, который в историческом плане можно выделить в словах компози)ия и компот. Это среднелат. composta < composita (буквально «сложенная» зелень), пришедшее к славянам через немецкое посредство (ср. ср. – в. – нем. kumpost «кислая, квашеная капуста», «блюдо, кушанье из квашеной, кислой (а потом и сладкой) зелени, капусты»). Капус и компоста дали капусту. В значениях обоих исходных слов слово капуста известно еще в древнерусском языке (ср. в «Уставе» XII в.: капуста солона без масла, где капуста значит «кушанье из квашеной, соленой капусты», и в «Псковской летописи» под 1477 г.: Повезе псковитин съ огорода капусту, где капуста значит «кочанная капуста») и диалектах (ср: Налей мне капусты, где капусты значит «щей»; Вешний пир капустой давят, где капустой значит «квашеной капустой» и т. д.).
Родственники среднелат. composta < composita композиция и компот пришли к нам: первое – из латинского языка, а второе – из французского.
Что моет судомойка?
Каждому известно, что судомойка моет. Конечно, посуду. Почему же ее называют не «посудомойкой», а судомойкой?
В самом деле, судомойка – это женщина, которая по своей должности занимается мытьем посуды. Но это вовсе не женщина, моющая суда. Почему же в существительном судомойка корень суд– соотносится не со словом судно, суда в значении «корабль, корабли», а со словом посуда? В этом корне сохраняется старое значение слова судно, суда – «посуда». Кроме существительного судомойка, это значение сохранилось только в корнях слов посуда, судок и судно, суда.
Заметим, что наше судно, суда является яркой иллюстрацией очень интересного и регулярного развития значения «посуда» в значение «судно, корабль, лодка», проявляющегося в целом ряде слов.
Возьмем в качестве примера существительное лодка. Его современная семантика как уменьшительно-ласкательного образования от утраченного слова лода тоже восходит к «посудному» значению, о чем говорит родственное ему норвежское olda «корыто» (начальное olперед согласным d изменилось в восточнославянских языках в ло, ср. ст. – слав. ладья). Как свидетельствует современное употребление посудных названий в качестве обозначения судов (ср. посудина, корыто), первоначальное использование слов со значением «посуда» по отношению к судам было уничижительным, ироническим.
Между прочим, превращение оценочных названий в нейтральные наблюдается часто и образует один из наиболее важных внутренних законов языка.
Но вернемся к слову судомойка. В наполовину родственном ему существительном портомойка мы наблюдаем такое же сохранение старого значения первой частью сложного слова. Здесь непроизводная основа порт– также не равняется по смыслу корню порт-, который мы сразу же вспоминаем как основную принадлежность одного из названий брюк (сейчас просторечного и грубоватого) – портки.
Ведь портомойка – это та же самая прачка, т. е. женщина, которая стирает одежду, верхнее и нижнее белье, а не только брюки. И в слове портомойка часть порт– по вещественному значению равна слову одежда. Таким и было, кстати, прежнее значение слова портъ, в древнерусском языке «заглавного» и наиболее употребительного общего наименования одежды. Не случайно, что именно оно легло в основу слова портной, обозначающего мастера, шьющего одежду.
Как видим, основа порт– сузила свое значение, превратившись из родового названия одежды вообще в обозначение одного из ее видов – брюк. Та же участь постигла и слово платье, которое сейчас в основном специализируется на обозначении вида женской одежды.
Почему назвался груздем
Кратко историю появления на свет восточнославянского названия груздя (ср. укр. груздь, белорусск. груздзъ) можно представить себе следующим образом.
Слово груздъ (изменившееся впоследствии в груздь) возникло в результате сокращения словосочетания груздъ грибъ «хрупкий, ломкий гриб» (ср.: портной < пъртьныи шьвьць «портной швец», мостовая < мостовая улица и т. д.). Прилагательное груздъ идентично лит. gruzdús «хрупкий, ломкий» (ср. лит. gruzdélis «вид ломкого, хрупкого печенья»; «крупный песок, щебень, мусор») и является словом того же корня и происхождения, что и груда «куча, ворох». Словообразовательные отношения между груздь и груда такие же, как между литовскими словами gruzdús и grandús «хрупкий, ломкий», русскими громада и громоздить, диалектными глудкий и глуздкий «гладкий, скользкий» и т. д., и отражают чередование имеющих одно и то же значение суффиксов – zd– и – d-.
Слова груда (первоначально «обломки», ср. др. – рус. груздие «комки», диал. груда «насыпной курган») и груздь (буквально «ломкий, хрупкий гриб») выступают не как производящее и производное, а как равноправные образования от одной и той же основы гру-, той же самой, что и лат. rudus «обломки, щебень», латыш. grūt «разрушаться», др. – исл. grautr «крупа», нем. Gries «крупный песок», а также – в «глухом» варианте – греч. krouō «толку», слова кроха, крупа, диал. крух «щепка, осколок» (откуда крушить «ломать»), диал. крепкий, скропкий «хрупкий, ломкий» (с так называемыми подвижными с; ср. кора – скора и т. п.) и, наконец, хруст «сушняк, хворост» (ср. диал. хрустеть «ломаться»).
Последнее в словообразовательном и семантическом отношении является точным повтором (только в «глухом» варианте, ср. свист – др. – рус. звиздъ и т. д.) нашего груздь < груздь и первоначально также, вероятно, было прилагательным со значением «ломкий, хрупкий». Именно ему и было обязано своим рождением не отмеченное еще ни в одной специальной этимологической работе название груздя – хрущ (< *chrustjь, ср. хвощ – от хвостъ, хрящ – от хрястъ и т. д.), тоже указывающее на ломкость, хрупкость этого гриба. По тому же признаку – по хрупкости древесины – названа крушина (см.: Даль В. Толковый словарь…).
Исконная смежность действий «разрушаться» (ломаться, дробиться, разбиваться и т. д.) и «издавать при этом те или иные звуки», широко отраженная в языке (ср., в частности, хрустеть «хрустеть» и диал. хрустеть «ломаться», грохать «стучать» и грохнуться «разбиться», диал. хряпать «хрустеть» и диал. хряпнуть «треснуть, сломаться», хрупкий и хрупать и т. д.), проявилась, возможно, и в еще одном грибном имени, на этот раз уже подгруздя – скрипун. (Если это слово не возникло под влиянием глагола скрипеть из скропун как производного от той же основы (скроп-), что и диал. скроп-кий «хрупкий, ломкий».)
Электрификация и янтарь
По своему происхождению существительное электрификация, как и многие другие слова с суффиксом– ификация (ср. кодификация, классификация, спецификация, фортификация и т. п.), является новым заимствованием из французского языка, где оно появилось в конце XIX в. Французское слово électrification, на русской почве как обычно латинизированное (-tion > – ция), было образовано (по аналогии со словами типа fortification «фортификация») на базе слова électrique «электрический» с помощью суффикса – ification.
Любопытна история словообразовательного элемента – ification, возникшего в результате слияния – i– первой основы (имени существительного), глагольного корня – fic– (ср. народнолатинское ficare «делать») и суффикса – ation (< лат. – atio). Одно из самых старых слов этой структуры фортификация (во французском языке оно из народной латыни) в языке-источнике делилось еще так: fort-, – i– (ср. fortis «форт», где – s – окончание), – fic-, – ation.
Во французском и русском языках основа этого слова состоит лишь из корня (форт-, fort-) и одного суффикса.
Небезынтересно, что в русском языке у элемента– ификация в исконных словах появился «усеченный» вариант – фикация: это произошло тогда, когда стали образовывать подобные слова от несклоняемых существительных на гласный о (ср. кинофикация, радиофикация). Последнее повлекло за собой и неверные в словообразовательном отношении (ср. правильные газификация, русификация) слова типа теплофикация, звукофикация, в которых как бы оживляется (с помощью соединительного гласного о) корневое прошлое морфемы – фикация.
Заметим, что в отдельных словах с суффиксом– ификация можно наблюдать и еще одну особенность – уже в характере объединения морфем в словесное целое. Это случаи аппликации, наложения морфем, что наблюдается, в частности, в слове тарификация (тар/иф + иф/икация).
Теперь (поскольку электрификация представляет собой внедрение в народное хозяйство и быт электричества) несколько слов о существительном электричество. Состав этого слова прозрачен, сравнение со словами того же корня электрический, электровоз, электрик и т. п. позволяет установить его очень легко: электр-ич-еств-о.
Но характер и значение выделяющихся в нем суффиксов становятся понятными лишь тогда, когда мы узнаем его этимологию. Ясно одно: они в слове электричество совершенно иные, нежели в существительных типа соперничество, где– ич– (< ик-) – суффикс лица, а – еств– – суффикс отвлеченного действия или состояния. Ведь существительное электричество не осознается как производное от электрик (ср. католик – католичество) и не обозначает ни действия, ни состояния. Такое своеобразие этого слова объясняется тем, что по своему происхождению оно является словообразовательной полукалькой новолатинского electricité (откуда франц. électricität, нем. Electricität, англ. electricity): часть electric была заимствована, а суффикс – itas переведен суффиксом – еств(о) (ср. гуманность < нем. Human-it?t). В результате этого в слове электричество суффикс – ич– после связанной основы электр– передает латинский суффикс ic (us) (ср. электрический), а суффикс – еств(о) выступает как суффикс абстрактного качества.
В заключение две этимологические справки. Слово electricus «электрический» (а отсюда – électricitas «электричество») было образовано английским физиком Гильбертом в 1600 г. на базе лат. electrum «янтарь», передающего греч. electron того же значения.
Янтарь не случайно дал название электричеству. Ведь электрическая энергия впервые предстала перед человеком как крошечный заряд, возникающий в янтаре, когда его трут о суконку. Электротехника, электроприборы, электромоторы, электровозы и электрички (а со всем этим и соответствующие слова) появились относительно недавно – в советскую эпоху.
Что такое писатель
Ну кто же не знает, что такое писатель? Писатель – это человек, который занимается литературным трудом, сочиняет художественные произведения. А вот могут быть другие писатели? Слово писатель самой своей структурой свидетельствует, что могут.
Заглянем вместе с вами внутрь этого слова. В языковом сознании любого говорящего на современном русском языке существительное писатель прямо и неразрывно связано с глаголом писать. В соответствии с этим его основа делится на корень пис-, тематический суффикс глагола – а– и суффикс действующего лица– тель, и наше слово входит в ряд слов типа читатель, подражатель, наблюдатель, мечтатель, мучитель, исполнитель, грабитель. Однако среди слов этого рода писатель все-таки выглядит в известной степени чужаком. Правда, особый характер существительного писатель проявляется лишь в результате специального, хотя и очень элементарного анализа.
В самом деле, значение слов типа мечтатель целиком составляется из значений составляющих их морфем: мечтатель – «тот, кто мечтает», читатель – «тот, кто читает», мучитель – «тот, кто мучит», исполнитель – «тот, кто исполняет», грабитель – «тот, кто грабит» и т. д. Что же касается слова писатель, то оно обозначает не всякого, кто п и ш е т, а только того, кто не столько пишет, сколько сочиняет художественные произведения. Наше слово имеет более узкое значение, чем то, которое можно сложить из составляющих его значащих частей. Заметим, что такое явление наблюдается у слов, пожалуй, даже чаще, нежели простое суммирование в семантике целого слова значений образующих его морфем. Нередко признак, положенный в основу названия, и его структура выступают лишь как самые первые наметки его действительного значения и ясного представления о последнем не дают. Например, чувство признака, положенного в основу болгарского слова писец (мы сразу же и верно связываем его с нашим глаголом писать и суффиксом – ец), не дает нам в то же время знания о его действительном значении. А в болгарском языке оно обозначает не «писец», а «перо» (т. е. не того, кто пишет, а то, чем пишут).
Смысловая оригинальность слова писатель по сравнению с названными образованиями на– тель не является исконной. В древнерусском языке это слово имело буквальное значение «тот, кто пишет». Так что действительно писатель писателю рознь. Обратившись к древнерусским письменным памятникам, мы можем прочитать: Радуется купец в дом свои пришедъ, а корабль в тихо пристанище пришедъ, якоже отрешится волъ отъ ярма, так писатель книг кончавъ. Эта приписка в рукописи принадлежит не автору, а писцу, который закончил переписывание книги. Это ведь было трудным делом, длившимся, как правило, целыми месяцами (так, известное «Остромирово евангелие» дьякон Григорий переписывал для посадника Остромира около семи месяцев).
Ну а как и когда появилось в таком случае современное слово писатель= Это частое в нашей речи и всем известное существительное родилось в XVIII в. как семантический перевод (семантическая калька) французского écrivain (< лат. scriba «писец»).
Почему в слове гаплология нет гаплологии
Вспомните, если запамятовали, фонетическое явление гаплологии. Так называется упрощение одинаковых или схожих слогов в слове. В результате этого процесса слово становится на слог меньше, два стоящих рядом одинаковых или близких по звучанию слога сливаются в один. Последнее довольно часто приводит даже к изменениям в морфологической структуре слова. Гаплология меняет иногда «лицо» слова настолько сильно, что, для того чтобы установить его первоначальную форму, требуется вмешательство этимолога.
Так, если гаплология в словах знаменосец (из знаменоносец) и лермонтовед (из лермонтововед) повела лишь к наложению морфем и связи этих существительных с образующими (знамя, носить; Лермонтов, ведать) не нарушила, то в словах шиворот и перец она привела к полной их перестройке.
Мы уже не видим в существительном шиворот сложное слово. А ведь сначала оно звучало шивоворотъ и ясно осознавалось как сложное, состоящее из основ слов шивъ «шея» (от шити, как и шея < шия, буквально «то, что сшивает голову и туловище») и воротъ, связанных между собой соединительной гласной о.
Мы сейчас абсолютно не ощущаем суффиксальный характер слова перец. А ведь было время, когда это было ясно каждому; в древнерусском языке рядом с пьпьрьць «перец» (в котором два начальных пь упростились в одно, а ь после падения редуцированных изменилось в е) употреблялось и его производящее пьпьрь «перец», передающее греч. peperi.
Но вернемся к гаплологии, и уже не к понятию, а к слову. Странно, но тем не менее факт: термин, называющий явление гаплологии, существует как будто в незаконном, негаплологизированном виде. Вместо ожидаемого гаплогия перед нами гаплология, с двумя соседствующими ло. Почему же в слове гаплология не произошло гаплологии? Это объясняется двумя причинами. Во-первых, тем, что слово гаплология является недавним и книжным, а в современном литературном языке явление гаплологии наблюдается уже далеко не всегда (ср. прилагательное противовоздушная с двумя во). Во-вторых, тем, что это слово появилось как термин и в среде лингвистов, для которых правильное гаплогия было бы все же недостаточно точным и ясным с точки зрения своей терминологической структуры.
Сырок и сырник
Есть самые заурядные по своему значению и совершенно обыденные по употреблению слова, которые оказываются в то же время очень своеобразными и интересными по своему происхождению. И рассказ об их истории позволяет легко и свободно ввести читателя в сложный и запутанный мир лингвистических законов и правил. К таким принадлежат и «кулинарные» слова сырок и сырник. Первому посчастливилось попасть и в «Этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанского, и в русский перевод «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера. Второе эти этимологические справочники обошли. Почему? Вероятно, потому, что оно по своему анатомическому сложению очень уж простое и его основа в сознании говорящего при свойственной нам этимологической рефлексии четко членится на части, сыр– и– ник. И тем не менее это слово в объяснении нуждается: простота этого слова, как и существительного сырок, весьма обманчива. Но перейдем к нашим лексическим героям. О. Н. Трубачев в русском переводе Словаря Фасмера толкует слово сырок очень кратко и неточно: «сырóк I, род. п. – рка; уменьш. производное от сыр». Неполным является объяснение существительного сырок и в «Кратком этимологическом словаре», хотя из него читатель получает более конкретную информацию. В этом словаре указывается: 1) на сравнительную молодость этого существительного в русском языке («недавнее») и 2) суффикс – ок() не квалифицируется как уменьшительный. И действительно, суффикс уменьшительности здесь абсолютно исключается. Ведь с его помощью делаются либо уменьшительно-ласкательные существительные (ср.: листок, ветерок, лесок и т. д.), либо так называемые формы субъективной оценки (творожок, квасок, сахарок и пр.). Что же касается слова сырок «кондитерское изделие из творога (обычно сладкое)», ср. сочетания: творожный сырок, ванильный сырок, детский сырок, чайный сырок, то его семантика не складывается из значения сыр и суффикса – ок(). А это значит, что слово сырок по своему происхождению иное. Оно, как и слово сырник, пришло в русский язык из украинского языка, в котором существительное сир значит «творог». Только существительное сырник появилось в нашем языке еще в XIX в., а слово сырок – лишь в советскую эпоху.
Кстати, еще в «Книге о вкусной и здоровой пище» (М., 1953. С. 256) то, что сейчас мы обычно называем сырниками, именовалось творожниками. Суффикс – ок() в исходном украинском сирок является суффиксом не ласкательно-уменьшительным, а предметным, образующим названия предметов, сделанных из того, или похожих на то, что обозначено производящим словом (ср.: лубок, рожок «род музыкального инструмента», глазок (в дверях), дубок «род лодки», холодок «род ментоловых конфет», мелок, «Снежок» «название конфет» и т. д.).
В заключение хочу обратить внимание на этимологически тавтологическое, но уже нормативное сочетание творожный сырок. Такие случаи «масла масленого» в языке возникают в процессе его развития довольно часто, ср. хотя бы черные чернила, белое белье и т. п.
Где корень в слове корень?
Вряд ли когда-нибудь у вас этот вопрос возникал как практический. И это понятно: существительное корень сейчас четко и определенно выступает как корневое, целиком в этом отношении присоединяясь к словам типа дом, локоть, море и т. д.
С точки зрения современного русского языка основа в этом слове явно непроизводная. Слово делится в настоящее время лишь на корень и окончание (в именительном падеже – нулевое).
Однако в момент своего рождения слово корень не было корневым. Об этом свидетельствуют родственные ему слова в русских диалектах и родственных языках. В говорах еще сейчас встречается существительное корь «корень», в польском языке до сих пор употребляется родственное нашему корень слово kierz «куст». Есть у него «родственники» (без конечного – ень) и в балтийских языках, ср. хотя бы лит. keras «корень, куст, засохший пень». Эти языковые данные говорят, что в слове корень основа вначале была производной и состояла из корня кор– и суффикса– ень.
Заметим, что е в этом суффиксе было исконным, а не возникло из старого редуцированного гласного переднего ряда ь. На первый взгляд наше замечание может показаться неверным. Ведь при изменении слова корень звук е в нем ведет сейчас себя как беглый: корень – корня – корню и т. д., а это самый яркий показатель происхождения е из ь. На поверку же выходит, что беглость гласного е в нашем существительном является вторичной и не только не объясняет современное е в слове корень, но сама требует объяснения.
Обратившись к древнерусскому языку, мы видим, что род. п. от слова корень звучал тогда как корене, а затем – кореня, но не корня. Это нашло отражение и в пословице От доброго кореня добрая и отрасль, т. е. «от хорошего корня хорошие и побеги». Существительное корень получило форму род. п. корня значительно позднее, под влиянием слов с «законным» беглым е (из ь) типа клубень – клубня (< клубьня), студень – студня (< студьня) и т. д.
Кстати, такого же аналогического происхождения в форме корня < кореня и окончание – я: им «заразили» слово корень те же существительные на– ень, которые упоминались выше. Исконно же слово корень имело окончание – е (ср. старые формы род. п. имене, камене, пламене и т. д.).
Как видим, если смотреть в корень, о слове можно узнать немало интересного и полезного.
Как была названа рука
Как известно, предметы и явления называются по какому-либо характерному для них признаку. Поэтому в момент своего рождения наименования не случайны, а мотивированны.
Есть слова, в которых эта мотивированность жива до сих пор (ср. ухват «то, чем ухватывают»; ручонка «маленькая рука»; ёжиться, «сжиматься, как ёж»; шиповник «кустарник с шипами» и т. д.). Но немало в языке и слов, уже не говорящих прямо, почему данный предмет или явление названы так, а не иначе. К таким названиям относится и слово рука. «Говорящим» это слово становится лишь тогда, когда мы сравниваем его с родственным существительным в литовском языке. Наше рука, которое восходит к общеславянскому *ronka, точно соответствует литовскому названию этой же части тела – ranká. Что же касается последнего, то его происхождение совершенно ясно: оно образовано от глагола renkú «собираю, беру, хватаю».
Значит, рука – это буквально «то, с помощью чего берут, хватают». Тот же признак был положен в основу греч. agystos «рука, горсть» (из *agyrstos, от глагола ageirō «собираю») и нем. Griff «ручка» (от глагола greifen «хватать»). Заметим, что однопризнаковые слова, свойственные и одному языку, и разным, не редкость. И их существование объясняется возможностью одинакового языкового видения объективного мира.
В глаза иногда бросаются одни и те же (очевидно, особенно яркие и устойчивые) признаки.
Рожок назван по материалу, из которого этот музыкальный инструмент делали (из рога); тот же признак дал в немецком языке название для горна (нем. Horn «горн» восходит к нем. Horn «рог»). Грудь названа так за возвышение (ср. того же корня, но с перегласовкой грядка); такой же признак был взят и латышами (ср. в латышском языке kruts «грудь» и krúte «холмик»).
То же явление наблюдается и среди собственных имен. Достаточно обратиться хотя бы к названиям рек (см. заметку «О Волге и влаге»).
Два слова о слове один
Слово один (если это действительно одно слово, а не несколько омонимов) многозначно. Оно выступает не только как количественное числительное, но и в роли других частей речи.
Одно из своеобразных употреблений слова один составляет использование его в качестве ограничительной частицы, синонимической словам только и лишь (ср: Только Петров не сделал уроков и Один Петров не сделал уроков; Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум (Пушкин). Поэтому выражения только один, лишь один являются такими же тавтологичными, как целиком и полностью, судить да рядить, вокруг да около (ср.: круг и др. – рус. коло «круг, колесо») и т. д.
Возникает вопрос: чем объясняется появление у слова один функций ограничительной частицы?
Дело в том, что по своему происхождению слово один так же тавтологично, как и выражение только один. Ведь слово один возникло из общеславянского *еdinъ (ср. старославянские по своему происхождению единый, единица, единственный). А последнее является сложением корней *ед– и *ин-. Первый корень мы наблюдаем в слове едва (ср. диал. одва) «лишь только, только что», «чуть, еле-еле» (ср. нем. etwas). Второй корень ин– содержится в словах инорог (животное с одним рогом), иноходь «бег лошади, при котором одновременно выносятся сначала обе правые ноги, а затем обе левые», инок «монах» (ср. нем. ein) и значит «один». Следовательно, буквально слово один обозначает «лишь только один».
Для ради предлогов для и ради
Не сомневаюсь, что вы сразу же угадали в заглавии этой заметки переделку фразеологического оборота для ради важности, по своему происхождению представляющего собой ставшее крылатым выражение из романа «Отцы и дети» И. С.Тургенева. В романе оно родилось в виде полной иронии реплики Базарова по адресу старой княжны, которую в доме Одинцовой «для ради важности держат, потому что княжеское отродье».
Но эта заметка написана не для одного лишь объяснения родословной оборота для ради важности. И не только ради важности обращения специального внимания на литературное происхождение многих разговорных оборотов.
Предлогом к ее написанию послужили предлоги для и ради, которые не только причудливо повторяют в обороте для ради важности одно и то же причинно-целевое значение при одном и том же существительном важность, но и очень похожи друг на друга по своей судьбе.
Синонимические предлоги для и ради сближает не только одинаковое значение, но и сходное происхождение. Ведь, хотя это на первый взгляд может показаться невероятным, оба предлога (и для, и ради) в конечном счете восходят к существительным со значением «работа, дело, труд».
Посмотрим, как это произошло и на базе каких существительных выросли наши предлоги.
Начнем с предлога для. Он появился в результате сокращения (в быстрой, небрежной разговорной речи) общеславянского предлога дѣля, который, в свою очередь, сформировался на основе существительного дѣль «дело, работа, труд». Последнее в качестве самостоятельного слова сейчас утрачено, но сохраняется в виде основной части производного от него существительного неделя (первоначально имевшего значение «безделье», потом – «нерабочий день, праздник, воскресенье» и затем лишь получившего современную семантику «неделя», ср. болг. делник «будний, рабочий день» и неделя «воскресенье»).
По своей словообразовательной форме существительное дѣль является параллельным и родственным словам дѣло, дѣя «то, что сделалось, совершилось; событие, факт» и т. д.
Превращение существительного со значением «работа, дело, труд» в предлог со значением «для, ради» наблюдается не только в славянских языках. Достаточно указать хотя бы на лат. causa «ради, по причине» (из твор. п. существительного causa «дело»), фин. tähden «из-за, ради», родственное глаголу tehdë «делать», и т. п.
То же мы видим и знакомясь с биографией предлога ради. Этот предлог также восходит к существительному со значением «труд, дело, работа», на этот раз – к исчезнувшему сейчас существительному радь (в форме одного из косвенных падежей: либо родительного, либо дательного, либо местного, ср.: радь – ради и др. – рус. задь «зад» – зади «позади» и т. д.). Слово радь, давшее жизнь предлогу ради, является лингвистической реконструкцией, однако вполне обоснованной. Его существование в прошлом (именно в значении «труд, работа, дело») подтверждается наличием целого ряда слов той же семьи: сербскохорватскими рад «труд» и радити «работать, делать, трудиться», старославянскими радити «заботиться», русскими радеть, нерадивый «ленивый, бесхозяйственный» и т. д.
Соединение И. С. Тургеневым в одном словосочетании и для и ради не является его прихотью, а отражает особенности старой речевой практики. Так, в памятниках XVII в. можно прочитать: Ты, светъ мой, для ради доброты и приятства Василья жалей; Для ради ихъ (стрельцов) скудости напередъ выдано жалования… и т. д.
Про дорогу и улицу
Слова улица и дорога – не «родственники», но тем не менее имеют немало общего. Конечно, улица – не дорога и дорога – не улица, однако значения этих слов в современном русском языке являются смежными: улица – это пространство между двумя рядами домов в каком-либо населенном пункте, дорога – это пространство для проезда или прохода. В городах улицы широкие, и дороги «исчезают» в мостовых (для транспорта) и тротуарах (для пешеходов). А в небольших деревнях (есть ведь и такие, где имеется всего лишь одна улица!) улица, особенно если она узкая, практически может совпадать с дорогой. В момент зарождения улиц и дорог последнее, естественно, наблюдалось постоянно. Именно поэтому наши слова (а они возникли еще в праславянскую эпоху) выступают нередко как синонимы. Такое их употребление мы видим и в диалектах русского языка, и в отдельных славянских языках. Так, слово улица обозначает в некоторых диалектах дорогу, а слово дорога улицу. В верхнелужицком языке droha значит и «дорога», и «улица», в чешском языке ulica – это не только «улочка, переулок», но и «проход, коридор» и т. д. Подобная связь значений наблюдается в названиях улицы и дороги также и в других языках

.
Дороги появились раньше улиц (в том виде, в каком они существуют сейчас), поэтому «уличное значение» у слов, обозначающих и обозначавших дорогу, является, несомненно, вторичным.
Как же будут выглядеть «метрики» наших слов? Слово улица (ср. диал. улка, улок) было создано с помощью суффикса– иц– на базе существительного ула, родственного, между прочим, слову улей. Слово ула ныне славянскими языками утрачено, но его «мужской вариант» ул (ср. отношения глист – глиста, завор – завора, жар – жара, укор – укора и пр.) со значением «улей» в чешском и польском языках существует.
Исчезнувшее в русском языке ула отмечается в древнегреческом, где aulã (дорическое aula) имело значение «двор, пространство, примыкающее к дому». Это архаическое значение сохранилось и у слова улица в отдельных севернорусских диалектах (архангельских, костромских, пермских). Но указанное значение – не исходное. Первоначальным значением было здесь, конечно, более конкретное – «пустое пространство» (в данном случае – очищенное от леса).
В словах улей, чешском ul первоначальным значением было «полое пространство, дупло дерева», что подтверждается древнегреческим родственником aulos «полая трубка, свирель».
Значение «очищенное в лесу, пустое пространство» было первичным и для праславянского слова *dorga, давшего наше дорога. Оно было образовано посредством суффикса – г– от той же основы (дор-), что и диалектное дор «рóсчисть, корчевье, новь», а в литературном языке – дергать «рвать, тащить, расчищать» и драть «раздирать на части, рвать, дергать» (в диалектах также «пахать лесную новину, росчисть, дор»).
На диалектное дор очень похоже диалектное же слово тор «дорога» (от глагола тереть), отложившееся в тавтологическом обороте торная дорога. Если допускать, что корни дер– тер– представляют собой вариацию звонкого и глухого вида типа плевать – блевать, совр. свист – др. – рус. звиздъ и т. д. (а это некоторыми учеными делается), то слова дорога и тор родственны между собой, так же как дергать и теребить «дергать, рвать, драть; очищать» (ср. тереб «росчисть из-под кустарника»), драть и тереть и др.
Как видим, слова улица и дорога хотя и не из одной семьи, но тем не менее близкие лексические товарищи, товарищи по исходному значению и дальнейшей языковой судьбе.
За что говядина называется говядиной
Говядина – мясо коровы или быка как пища. Рядом со словом говядина существует однокоренное ему прилагательное говяжий «из говядины». Это дает нам возможность выделить в существительном говядина – помимо окончания– а – непроизводную основу говяд– и суффикс – ин– (соответственно в прилагательном говяжий – корень говяж-, суффикс – ий и нулевое окончание). Суффикс – ин– в слове говядина тот же, что в существительных свинина, баранина, конина, осетрина, лососина и пр. (образованных от слов свиное (мясо); баран, конь, осетр, лосось и т. д.). Отличие заключается в том, что исходное слово говядо, от которого было образовано с помощью суффикса – ин– существительное говядина, с течением времени в русском языке было утрачено. Это общеславянское слово имело значение «крупный рогатый скот». В праславянском языке оно появилось как суффиксальное производное от корня гов-, родственного латыш. guovs «крупный рогатый скот», арм. kov «корова», нем. Kuh «корова», лат. bos, bovis «бык» и т. п. Таким образом, то современное определение говядины, которое мы находим в словарях («мясо коровы или быка как пища»), счастливо совпадает с его этимологией.
Происходит ли существительное врач от слова врать?
Для подавляющего большинства говорящих на русском языке сочетание врач от слова врать представляется сейчас, несомненно, таким же ложно-этимологическим каламбуром, целиком построенным на сближении слов по созвучию, как и выражение художник от слова худо. Кажется, что объединяет слова врач и врать (так же как и пару художник – худо) лишь наша словесная шутка. Между тем дело здесь значительно сложнее и тоньше.
Если слова художник и худо содержат совершенно разные корни и по происхождению ничего общего друг с другом действительно не имеют, то существительное врач и глагол врать связаны между собой не только известной «общностью звучания» (врач, врать). Они являются (бывают же причуды языка!) кровными родственниками и ярко демонстрируют отношения «ребенка и родителя». Правда, существительное врач образовано не от современного слова врать «лгать, говорить неправду», старые родственные узы между ними давно порвались и почти никем уже не ощущаются. Ведь тех отношений, которые характерны для слов типа ткач – ткать (ткач – «тот, кто ткет»), в паре врач – врать не существует. Врач – это не тот, кто врет. И все же с этимологической точки зрения слово врач < вьрачь оказывается (таково мнение подавляющего большинства языковедов-славистов) производным с помощью суффикса – ч– (< чь) от врать (< вьрати). Оно в его старом, исконном значении было известно еще в XIX в., ср. у А. С. Пушкина в повести «Капитанская дочка»: Полно врать пустяки, т. е. «Хватит говорить ерунду».
Выходит, что врачи все же были названы по свойственному для них ранее действию говорения: они сопровождали лечение какого-либо недуга словом, заклинаниями, заговаривали боль.
Подобным по своей образной природе является также и старославянское название врача – балии, родственное глаголу баять «говорить, рассказывать».
Можно ли доказать, что в слове топор надо писать о, а не а?
Существительное топор, как и слова типа корова, башлык, полынь и пр., относится к словам с так называемыми непроверяемыми безударными гласными. Поэтому, чтобы доказать, что в этом слове о, а не а, надо сделать «невозможное»: проверить непроверяемый безударный гласный.
Это действительно невозможно, пока для проверки привлекаются лишь родственные в настоящее время слова, одни, так сказать, современные «родственники», но тем не менее вполне возможно, когда мы призовем на помощь этимологию, вспомним языковые факты прошлого. Именно тогда многое из того, что усваивается лишь по формуле «писать нужно так», будет восприниматься осознанно.
Выходы в языковое прошлое при этом могут носить различный характер. Так, для того чтобы не писать корова «через ять», вполне достаточно вспомнить соответствующее старославянское название. Старославянское крава (с неполногласием ра) сразу указывает (ср. град – город, врата – ворота и т. д.) на оро в русском корова. Определить же, какой звук (о или а) идет после начального согласного в словах башлык и полынь, можно, только проследив их родословную. Сделав это, мы проверим а в слове башлык (оно образовано в тюркских языках, откуда и пришло к нам, от слова баш «голова», ср. выражение баш на баш) и о в слове полынь (оно является родственным старому слову полкти «гореть», растение было названо по характерной для него горечи, как и горчица).
То же дознание необходимо провести и для определения безударного гласного в слове топор. Только здесь оно должно быть еще более дотошным. Прежде всего следует вспомнить, что раньше слово топор обозначало не только орудие для рубки, но и определенный вид боевого оружия, т. е. то, чем бьются, бьют врагов (ср. в «Задонщине»: Грянута копия харалужныя, мечи булатные, топоры легкия). После этого можно попытаться найти уже и ближайшего родственника. Им является для слова топор ныне исчезнувший, но в древнерусском языке еще известный глагол тети (1-е л. наст. вр. – тепу) «бить, колотить, сечь»: Жилами сухами, нещадьно ты тепомъ и камением побиваемъ («Новгородские минеи» 1096 г.), т. е. «Сухими лозами нещадно ты сечем и камнями побиваем».
От этого глагола с помощью суффикса– ор– (ср. с тем же суффиксом будор «шум» в будоражить, мусор < бусор и т. п.) и перегласовки е/о наше слово и было образовано. Таким образом, соотношение тепу «бью, колочу, секу» – топор аналогично тем, которые наблюдаются в везу – воз, несу – ноша, теку – поток, секу – осока и т. д. Непроверяемое о в слове топор этимологически, следовательно, оказывается и проверяемым, и совершенно законным.
Заметим, что глагол тети, тепу (откуда – диалектное тё-пать «тяпать, рубить»), кроме слова топор, дал и еще одно производное. Это слово недотепа.
В заключение нашего разговора о слове топор сделаем два уточнения.
Первое касается еще одного возможного способа проверки написания. Ведь доказать, что в этом существительном надо писать о, а не а, можно и иначе и даже проще (правда, для тех, кто знает другие славянские языки). Достаточно привлечь данные украинского языка, где есть слово тотр и нет аканья. Но этот путь менее интересен и не ведет к этимологии нашего слова.
Второе замечание касается этимологии слова топор. Выше излагалась лишь та точка зрения, которая кажется автору предпочтительной. Ее придерживаются многие ученые. Однако существует и другое объяснение. Некоторые лингвисты толкуют слово топор как общеславянское заимствование древнеиранского tapara «топор, секира». Но это, по ряду причин, менее вероятно. Скорее всего общеславянское и древне-иранское слова просто родственники: как у славян, так и у иранцев это свои, исконные слова – или доставшиеся им по наследству из более древнего языка-источника, или самостоятельно образованные на основе одного и того же корневого глагола.
Почему прачку назвали прачкой?
На этот сугубо этимологический вопрос, который нередко появляется у говорящих на русском языке, ответить нетрудно. Достаточно вспомнить старый глагол прать, и сейчас еще употребительный в некоторых русских диалектах и славянских языках. Его основное значение – «стирать, мыть, колотить». Это значит, что прачку назвали так по ее действию, занятию, так же как, скажем, доярку (за то, что она доит коров), ткачиху (за то, что она ткет полотно), учительницу (за то, что она учит детей) и т. д. Буквально прачка – это «женщина, которая занимается стиркой».
Однако было бы неправильно думать (как это, между прочим, делает даже такой опытный и известный этимолог, каким является М. Фасмер), что слово прачка родилось прямо и непосредственно от глагола прать. Ведь в таком случае придется считать (ср. прачка – прать), что оно образовано с помощью суффикса – чк-. А такого, как известно, не существует. Ставя рядом прачка и прать, мы допускаем ошибку, пропуская промежуточное звено, разделяющее в процессе словопроизводства эти родственные слова.
Таким посредником является существительное прач (из др. – рус. пьрачь), в отдельных диалектах русского языка живущее и поныне. Прач в них обозначает валёк («плоский деревянный брусок с рукояткой») для стирки или полоскания белья.
Как видим, слово прачка было создано посредством самого обычного суффикса– к-. Так же, кстати, как и слово прач. Ведь это «инструментальное имя» было образовано с помощью регулярного и ранее значительно более «творческого», чем сейчас, суффикса – ч. Вспомните хотя бы подобные по своей «анатомии» и способу образования существительные бич (от бить), секач (от старого секать «рубить», ср. рассекать, высекать и т. д.), др. – рус. бричь (от брити «брить»), вытесненное затем словом бритва, сравнительно недавнее тягач, возникшее в советское время в качестве словообразовательной кальки англ. tractor, и т. д.
В заключение заметим, что по своей номинальной вторичности слово прачка аналогично слову бритва. Как слово бритва вытеснило прежнее бричь, так и существительное прачка пришло на смену более древним наименованиям: портомóя и образованному от него с помощью суффикса – к-портомойка, в качестве архаизмов иногда еще встречающимся. Но о них следует прочитать заметку «Что моет судомойка».
Что значит слово хлябь
В качестве самостоятельной лексической единицы слово хлябь практически в нашей речи отсутствует. Оно живет лишь как часть целой словесной семьи, и только в ней. Вспомним шутливое выражение разверзлись хляби небесные «пошел сильный, проливной дождь». Мы видим, что в названном фразеологическом сращении архаично не только существительное хлябь, но и глагол разверзлись. Хорошо знакомо лишь прилагательное небесный. С чем же небесным и что же сделалось? Начнем с последнего. О глаголе разверзлись нельзя не упомянуть, если говорится об этимологии существительного отверстие. Разверзлись может значить «раскрылись, развязались, расшатались, ослабли».
Чтобы понять, какое значение было первоначально у оборота разверзлись хляби небесные, нам осталось узнать, что значит слово хлябь. Это существительное имеет значение «простор, пустота, глубь; бездна, пропасть». Таким образом, буквальный перевод выражения разверзлись хляби небесные дает нам «открылись небесные просторы» (или «бездны» и т. д.). Тем самым становится яснее и оправданнее современное значение оборота, которое является как бы следствием исходной семантики. И все же история нынешнего значения «пошел сильный, проливной дождь» «разверзается» перед нами полностью лишь тогда, когда мы привлекаем тот контекст, из которого выражение разверзлись хляби небесные явилось на свет.
А извлечено оно было из библейского рассказа о Всемирном потопе: Разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесные отверзошася. И бысть дождь на землю четыредесять дней и четыредесять ночей. Н. С. и М. Г. Ашукины (Крылатые слова. 3-е изд. М., 1966. С. 570) по традиции передают этот отрывок таким образом: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Однако, как можно заключить, имея в виду уже изложенное, такой перевод неточен. Ни великой бездны, ни небесных окон здесь нет, а словоразверзошася требует перевода «раскрылись».
Заметим попутно, что наши небесные хляби, после того как они «разверзлись», отложились не только в разобранном выражении. Слова разверзлись хляби небесные оставили после себя и других потомков. Среди них в первую очередь следует назвать глагол расхлябаться «расшататься, разойтись, ослабеть» (ср.: гайки расхлябались, т. е. расшатались, сапог расхлябался, т. е. стал свободным, и т. д.) и существительноерасхлябанность «недисциплинированность» (от расхлябанный, страдательного причастия глагола расхлябать, приставочного производного от хлябать «качаться, шататься»).
Глагол расхлябаться среди только что названных слов особенно интересен. Он возник в результате своеобразной конденсации словосочетания разверзлись хляби, на базе слова хлябь, но по модели разверзлись: в структурную схему раз-(рас-) – лись вместо– верз– было «засунуто» – хляба-. Еще более оригинальным сжатием оборота разверзлись хляби небесные в слово предстает перед нами диалектное существительное хляба «дождь, слякоть».
Два глагола обуять
В настоящее время свободно и часто употребляется лишь одно обуять – то, которое имеет значение «охватить, объять, овладеть»: И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть (Куприн).
Однако в художественных произведениях XIX в. можно встретить и другое обуять, обладающее совсем иным значением. И это надо обязательно учитывать, чтобы правильно понимать, что хотел сказать писатель. Так, во фразе Виновен я; гордыней обуянный, обманывал я Бога и царей Пушкин использовал слово обуянный в современном значении «охваченный, объятый». А вот, например, в его же стихотворении «Наполеон» мы встречаемся уже с таким обуять, которое в эту семантику не укладывается: Надменный! Кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Здесь обуять значит «лишить рассудка, сделать безумным».
Между прочим, разными являются не только значение этих омонимов, но и их происхождение.
Глагол обуять «охватить, объять, овладеть» является древнерусским производным с помощью префикса об– от уяти (ср. современное унять), в свою очередь образованного посредством приставки у– от яти «брать, хватать» (ср. взять, снять, отъять и др.). От слова объять его отличает лишь наличие как бы лишней приставки у-.
Что касается глагола обуять «лишить рассудка, сделать безумным», то он образован в старославянском языке посредством приставки о– и суффикса– ати от прилагательного буи «глупый, безумный».
Далеко не всегда так просто и легко опознать в тексте разные обуять, как в приведенных примерах. В отрывке из поэмы Пушкина «Медный всадник» перед нами такой случай, когда слово обуянный как бы совмещает оба указанных значения, т. е. когда омонимы вдруг сливаются в одно слово: И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! – Шепнул он, злобно задрожав. – Ужо тебе!..» Здесь обуянный может быть понято и как «лишенный рассудка, сведенный с ума» (черной силой), и как «такой, которым овладела (черная сила)».
Опять и обратно
К. И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» пишет: «Вот уже лет двадцать в просторечии утвердилось словечко обратно с безумным значением опять». Но такое ли уж «безумное» значение «снова, опять» у просторечного обратно? Анализ слова опять с исторической точки зрения показывает, что такая характеристика этой семантики у слова обратно является неверной. Ведь тогда и у наречия опять его современное значение следует признать «безумным», поскольку в древнерусском языке слово опять, как и слово обратно, имело значение «вспять, назад, обратно». Это же значение известно и в диалектах: Луканька, поиграй, да опять (= назад) отдай.
Таким образом, в словах опять (ср. родственные пятиться, вспять и пр.) и обратно (ср. родственные возвращаться, поворот и пр.) наблюдается одинаковое развитие – от значения «назад» к значению «снова». Только в слове опять оно в настоящее время завершилось, а в слове обратно лишь началось. Последним, между прочим, и объясняется тот факт, что употребление наречия обратно в новом значении квалифицируется как неправильное.
О чем рассказывает слово окно
«Что такое окно! Если обратиться к словарю, то мы в нем найдем такое определение этого предмета: «отверстие для света и воздуха в стене здания или стенке какого-либо транспортного устройства (поезда, парохода, самолета и т. д.)». Но всегда ли окно служило таким целям? Оказывается, не всегда. И об этом свидетельствует уже название этого предмета.

Окно – один из многочисленных примеров того, как из слов можно извлечь исторические данные. Ведь слова иногда говорят о называемом ими предмете не меньше, нежели археологические находки.
Зачем же делали окно раньше, в эпоху общеславянского языкового единства, т. е. тогда, когда это слово возникло как значимая единица? Об этом четко и определенно говорит его этимологический состав. Сейчас это слово имеет непроизводную основу (окн-о). Однако образовалось оно с помощью суффикса – н– (< ън) от существительного око, обозначающего глаз, орган зрения, то, с помощью чего мы видим.
Следовательно, исходная структура слова говорит нам, что окно первоначально было не отверстием для света и воздуха, а служило другим целям: оно делалось (кстати, как свидетельствуют археологи, вначале из щели между бревнами сруба) для того, чтобы можно было наблюдать, видеть то, что происходит вне дома. Поэтому оно и уподоблялось оку, т. е. глазу.
Между прочим, позже для обозначения отверстия, посредством которого можно видеть, наблюдать за происходящим, русские использовали также и новое название органа зрения – слово глаз (ср. глазок «отверстие в дверях для наблюдения за кем– или чем-либо»).
Нечто подобное мы наблюдаем и в некоторых русских диалектах, где слово зенко «зрачок» (родственное поэтическому зеница, просторечному зенки «глаза») известно и в значении «окно, рама, оконный переплет»; у болгар, которые окно сейчас называют словом прозорец (от прозирам «вижу»); у поляков, которые обозначают иногда окно словом wyziernik (от wyzierać «высматривать, выглядывать»), и т. д.
Чем существительные порт, гавань и пристань отличаются друг от друга
Слова порт и гавань по отношению друг к другу являются синонимами как в прямом, первичном значении «место у берега, специально оборудованное для стоянки судов», так и в переносном, производном значении «приморский портовый город». Не отличаются они между собой и сферой употребления, стилистической окраской и словесными связями. Синонимия этих слов выступает в настоящее время почти как абсолютная. Однако определенная разница между словами порт и гавань существует. Она проявляется и в большей частотности слова порт в значении «приморский портовый город», и в наличии у существительного гавань совершенно несвойственного для слова порт значения «бухта». Кроме того, дифференцируются в известном отношении эти слова и с точки зрения словообразовательной (ср. наличие прилагательного портовый (город) при невозможности образования гаванный). Наконец, различными оказываются эти существительные и по своему происхождению: слово порт заимствовано русским языком из французского, гавань же из голландского языка.
Что касается исконно русского существительного пристань (от глагола пристать), то оно синонимично словам порт и гавань лишь в первом из указанных выше значений («место у берега, специально оборудованное для стоянки судов»), причем для него не очень частотном и актуальном.
Чаще слово пристань употребляется сейчас в ином и более конкретном значении – «мол». Именно этим объясняется, в частности, тот факт, что оно свободно и охотно сцепляется с предлогом на (на пристани, ср. на молу), а не с предлогом в (как порт и гавань, ср: в порту, в гавани).
Таким образом, являясь в части своей семантики синонимичными, слова порт, гавань и пристань тем не менее отличаются друг от друга и входят в силу этого в разные синонимические ряды. Один ряд составляют слова порт, гавань и пристань. Другой образуют существительные гавань, бухта (от нем. Bucht, от biegen «сгибать»), залив и губа (от (с)гибать). В третий входят лишь два слова – пристань и мол. Как видим, одинаково «водные» слова порт, гавань и пристань имеют каждое свой семантический «шесток» в общей системе лексики русского языка.
Голышом, нагишом и телешом
В журнал «Русский язык в школе», где были опубликованы уже известные вам заметки, пришло письмо, которое не только меня очень обрадовало, но и подсказало тему новой новеллы. (Вы не чувствуете тавтологии в двух последних словах? Ведь слово новелла, пришедшее к нам из итальянского языка, восходит к лат. novella, что значит «новая», от nova – тоже «новая».) Вот выдержки из письма: «Меня заинтересовала заметка, в которой Вы говорите о словах, открытых «на кончике пера», а именно о слове драчун. Вы пишете, что слово драч после его реконструкции Вами на основе фактов языка было прочитано как самое настоящее и обычное слово в одном рукописном словаре XVIII в. А я хочу
Вас порадовать. Это слово существует в наших южнорусских говорах и сейчас. Значит, Ваше мнение о происхождении существительного драчун действительно является верным…» И далее: «Р. S. А еще я где-то читала, что слово голышом произошло от голыш. Не такого ли образования и наречие телешом? В литературном языке существительного телеш нет, но в нашем говоре оно употребляется совершенно свободно».
Читательница права. Наречие телешом образовано так же, как синонимические ему наречия голышом и нагишом: от существительного в форме творительного падежа.
На такое происхождение слова телешом указывает и однотипность его в смысловом и грамматическом плане с названными синонимами, и наличие в нашем языке большой семьи наречий с суффиксом– ом на конце (ср. бегом, кругом, броском, порожняком, верхом и т. д.), и очевидность происхождения суффикса – ом из окончания – ом.
Все это, несомненно, «уличает» слово телешом в том, что родилось оно как наречие, покинув родную ему часть речи – существительное. Более того, позволяет восстановить, реконструировать, обнаружить и его «родителя» – телеш.
Реальность этого существительного документально подтверждается диалектным телеш, но не стала бы меньшей, если бы этого диалектизма не было. Ни от чего другого, по законам и правилам нашего словопроизводства, наречие телешом возникнуть не могло! Такова уж логика системы языка.
А вот исходные для наречных синонимов слова голыш, на-гиш (подтверждается фамилиями Нагишев, Нагишкин), с одной стороны, и слово телеш – с другой, и по структуре, и по образованию являются совершенно разными.
Два первых слова – как производные от прилагательных голъ и нагъ с помощью суффикса– ышь (> – ыш, – и—) – принадлежат к обширному сообществу существительных, составляющих регулярную модель: малыш, глупыш, крепыш, слепыш, коротыш, мякиш и т. д., ср. также Черныш(ов), худышка и т. п.
Что же касается слова телеш, то оно определенно сделано иначе. А вот как именно – вопрос. На первый взгляд может показаться, что оно подобно древнерусскому слову лемешь «лемех» (ср. фамилию Лемешев). Однако это вряд ли так. Слово ле-мешь очень древнее (ср. родственное латыш. lemesis) и образовано от глагольной основы лем– с гласным е, в перегласованном виде выступающей в глаголе ломить, ломать (ср. болг. лом «мотыга, кирка»). Существительное телешь > телеш можно толковать как производное той же структуры, очень старое отглагольное (!) образование орудийного значения. Причем в таком случае – только как слово со значением «одежда, то, чем прикрываются, закрывают, постилают» от глагольной основы тел– (*toil-), родственной диал. тулить «закрывать, прятать», др. – рус. тулитися «прикрываться, скрываться», белорус. тулщь «укрывать», болг. тулям «прячу» и т. д. (где тул-*toul-) и, значит, слову туловище < тулово < туло со значением «то, чем закрывают, защищают» (ср. др. – рус. тулъ «колчан» – и далее – «то, что закрывают, одевают», а затем – «туловище»). Предполагаемое значение слова телеш (при такой его трактовке) как будто свидетельствуется глаголом растелешиваться «раздеваться, разоблачаться».
Объяснять слово телеш как суффиксальное производное от тело (< тело, телесе) нельзя, так как в ту эпоху, когда суффикс – ешь был жив как словообразовательный элемент, существительное тело имело еще основу на согласный (т. е. тклес-, ср. хотя бы производное телесный).
Именно глубокая древность морфемы– ешь в лемешь и заставляет нас усомниться в том, что телеш – того же образа и подобия. Ведь если слово лемешь, как уже отмечалось, очень древнее (вероятно, даже балто-славянское) и известно всем славянским языкам, то слово телеш не фиксируется ни в древнерусских памятниках, ни в других славянских языках и, очевидно, «по паспорту» недавнее. Взгляд на это слово как на сравнительно новое позволяет объяснить его по-другому, проще и, возможно, вернее.
От слова телеса был вначале образован (по аналогии с разнежиться, разрядиться, раскраситься, распоясаться, расхрабриться и т. д.) глагол растелеситься. От него потом по существующему обычаю (ср.: окраситься – окрашиваться, раскваситься – расквашиваться, свеситься – свешиваться и т. п.) была создана соотносительная форма несовершенного вида – растелешиваться. Именно от нее и могло родиться существительное телеш в результате так называемого обратного словообразования. В ряду пояс – распоясываться, супонь – рассупониваться из глагола растелешиваться было извлечено существительное телеш. Этимологически оно было неправильным, но имеющим не менее прав на существование, нежели фляга (см. заметку «Что было раньше: фляга или фляжка!»), зонт (из зонтик < голл. zondek «покрышка от солнца», по модели лист – листик, мост – мостик), дояр (от доярка, аналогично санитар – санитарка) и др.
Но вернемся к нашим наречиям. Голышом, нагишом, телешом – все это сейчас стилистически окрашенные синонимы просторечно-диалектного употребления. Нейтральным словом данного синонимического ряда является прилагательное голый, рядом с которым активно употребляются смысловые тезки иного характера. Это шутливые фразеологизмы в чем мать родила, в натуральном (т. е. в природном, естественном. – Н. Ш.) виде и, наконец, в костюме Адама (или Евы).
Что есть кто
В заглавии этой заметки мы, конечно, прежде всего видим забавную игру слов. Ведь оно сразу напоминает нам газету с биографическими очерками под названием «Кто есть кто». И недаром, потому что сейчас мы обратимся к биографии слова кто. Но заглавие по прихоти лингвистической случайности содержит в себе информацию не только о том, ч т о будет предметом нашего рассказа. Оно является одновременно и этимологическим сообщением, говорящим о том, что кто и что по происхождению тождественны. Как ни странно может показаться, но что есть кто, так же как и квадрат гипотенузы есть сумма квадратов катетов. Впрочем, обратимся к самим местоимениям.
Отметим только, что в некоторых родственных языках однокорневые формы могут быть тождественными даже с точки зрения смысла, а не одного лишь родства. Примером может служить латыш. kas, обозначающее и «кто», и «что».
Итак – кто. Как оно возникло, с какими словами находится в родственных отношениях? Литературное кто (из обще-слав. къто) появилось после падения редуцированных, как и диалектно-просторечное хто, последнее – в результате расподобления оказавшихся рядом взрывных к и т, в силу которого взрывное к заменили фрикативным х.
До этого в праславянском (а потом и в древнерусском) языке оно звучало как къто. Это слово появилось на свет как сложное. Его сложили из двух местоимений: относительно-вопросительного местоимения къ и указательного то. Последнее употребляется в нашем языке и сейчас.
А вот къ в качестве самостоятельного слова давно исчезло, хотя в виде составной части кое-где еще и известно. В частности, старое къ наблюдается в только что употребленном слове кое-где, в обеих составляющих это слово морфемах.
Приставка неопределенности кое– (ср. кое-кто, кое-как, кое-какие и др.) восходит к слову кое – форме среднего рода местоимения кои. Форма мужского рода этого местоимения (кой) в составе фразеологических оборотов употребляется до сих пор: кой черт, в кои веки, ни в коем случае и т. п. Она является не чем иным, как полной формой нашего къ: первоначальное къи (къ + указательное местоимение и) изменилось в кыи, а затем – после падения редуцированных (редуцированное ы в сильном положении прояснилось в гласный полного образования о) – в кой.
Наречие где появилось после падения редуцированного ъ и озвончения к перед д из общеславянского къде. Последнее же образовано с помощью наречного суффикса – де (ср. везде < весь и т. д.) от того же къ, что и кое-.
Заметим, что в кто старые къ и то полностью растворились и сейчас никак уже не ощущаются, так же, как и части, составляющие слово что.
Что – alter ego, второе «я» местоимения кто. Оно тоже возникло как сложное, и его составные части были по своей сущности теми же, которые когда-то были в слове кто. В качестве второй части сложения выступало то же указательное местоимение то. В качестве первой части – «передний» вариант местоимения къ – слово _кь, изменившееся в результате палатализации заднеязычного к перед гласным переднего ряда ь в ч (ср. река, но речка < рѣчька и т. п.). Древнерусское чьто (так и в общеславянском) с падением редуцированных изменилось в современное что.
Как и древнее къ, старое чь < *кь известно лишь в виде составной части. Причем содержащему его сейчас слову повезло больше, чем местоимению кой, имеющему фразеологически связанное употребление. Местоимение чей является сейчас самым обычным и свободным в своих словесных связях. А возникло оно, как и кой, в качестве полной формы от чь (U и): чьи > чии > чей (ср. чья, чье, чьи), в результате прояснения редуцированного и в е, точно таким же образом, как казначии – в казначей.
Теперь вам хорошо известно, что что есть кто. Но не будем ставить на этом точку. Еще несколько слов о слове то в разобранных только что местоимениях. Его там, как уже упоминалось, как отдельной лексической единицы давно нет. Но как составная часть оно в них существует и живет внутри них… как окончание. Действительно, по соотношению с падежными формами к-ого, к-ому, к-ем, о к-ом, ч-его, ч-ему, ч-ем, о ч-ем и т. д. в им. п. в словах к-то и ч-то выделяется окончание– то. Так что в словах кто и что то сейчас совсем не то, каким оно было в них в момент их рождения и каким является сейчас в качестве самостоятельного указательного местоимения.
Что было раньше: фляга или фляжка?
«Позвольте, – могут сказать в ответ, – этот вопрос по своему существу лишний. Строение этих слов совершенно определенно говорит, что сначала появилось слово фляга. Ведь оно имеет непроизводную основу. Что же касается существительного фляжка, то в его составе, помимо корня фляж-, выделяется суффикс – к-». Рассуждение как будто совершенно правильное. И все же на самом деле ошибочное, так как в действительности процесс словопроизводства здесь был обратным: первоначально появилось слово фляжка и лишь затем – фляга. Но и это еще не все: не является исходной и форма фляжка.
Не позже XVI в. в русском языке появилось из польского слово фляшка (пол. flaszka < нем. Flasche). Это было заимствование изустное, с голоса. Поэтому оно «пристроилось» по конечному звукосочетанию к словам типа ножка, дорожка, дужка, лачужка и т. д. А когда его стали изображать на письме, то начали так же, как эти слова, и писать – с ж вместо этимологически правильного ш. Сработало «правило»: «фля[шк]а произношу, как но[шк]а, слово но[шк]а пишу с ж – ножка, значит, и существительное фля[шк]а надо писать с ж – фляжка».
Затем аналогичное воздействие слов типа ножка, дорожка, дужка, лачужка и пр. на существительное фляжка пошло еще дальше: оно было осознано уже как слово, входящее в их структурную «семью», т. е. как образование с суффиксом– к-. Это закономерно привело к возникновению непроизводного слова фляга: ножка – нога, дорожка – дорога, дужка – дуга, лачужка – лачуга и пр., значит, должно быть фляжка – фляга.
Такой способ словообразования, когда в построенном на аналогии словообразовательном «квадрате» появляется не четвертый член (ср.: нога > ножка // конфета > конфетка), а третий (ср.: нога > ножка // фляга < фляжка), называется обратным словообразованием. С его помощью были в русском языке, кроме существительного фляга, образованы слова зонт (от зонтик), вдохновить (от вдохновение), дояр (от доярка), пугать (от пужать) и т. д.
В качестве недавнего индивидуально-авторского неологизма, образованного этим способом, можно указать слово русал (от русалка, по модели фискал – фискалка): И мы увидели его, старого русала, барахтающегося в воде близ гранитных ступенек (Нагибин).
Родословная дворняжки
Слово дворняжка принадлежит к числу таких, которые обычно не привлекают к себе внимания и воспринимаются как самые заурядные и обычные слова. Прозрачный морфемный состав создает впечатление ясности происхождения и этого существительного. Тем не менее далеко не все правильно представляют себе, как оно появилось и было образовано. На поверку оказывается, что это простое «собачье» имя возникло в результате многоступенчатого процесса словопроизводства.
Любопытно, что слово дворняжка в этимологических словарях русского языка не толкуется, очевидно, потому, что, являясь формой субъективной оценки существительного дворняга, свободно ассоциируется как родственное слову двор (дворняга – «собака, охраняющая двор»).
И все-таки слово дворняжка требует специального анализа. Это объясняется тем, что между словами двор и дворняжка наблюдается не одно ясно осознаваемое звено (дворняга), а (кроме него самого) два. Как свидетельствуют факты недавнего прошлого, слово дворняга представляет собой суффиксальное производное пренебрежительного характера (ср. портняга и т. п.) от существительного дворная «дворовая собака» (см.: Даль В. И. Толковый словарь…), возникшего на базе фразеологического оборота дворная собака (ср. легавая собака и др.). Слово дворняжка появилось сравнительно недавно и скорее всего в дворянской среде, так как только здесь дворная собака могла быть так пренебрежительно противопоставлена комнатным и охотничьим. В словарях слово дворняжка отмечается лишь с XIX в., впервые в «Общем церковно-славяно-русском словаре» Соколова (1834). Оно такое же сравнительно новое, как и болонка, название комнатной собаки, заимствованное в начале XIX в. из французского языка. Франц. bolinais «(собака) из Болоньи» было переоформлено у нас с помощью привычного для слов данного смыслового поля суффикса – к(а) (ср.: лайка, овчарка, шавка и т. п.).
По времени появления в русском языке названия двух совершенно различных собак (ср. хотя бы басню И. А. Крылова «Две собаки»), как видим, почти сверстники.
Пылесос и пылесосить
В наш домашний обиход все более и более входит бытовая техника, в квартирах появляются все новые удобства. Газ, мусоропровод, телевизор, видеомагнитофон, пылесос из предметов удивления и желания стали такими же повседневными явлениями, как водопровод, электричество, телефон, радио. Убирая квартиру, мы давно уже пользуемся не дедовским веником или щеткой, а пылесосом. И в связи с этим, набирая словесные силы, в наш язык в 60-е гг. XX в. вошел глагол пылесосить «обрабатывать пылесосом». В литературный язык он пришел из просторечия. Оттенок непринужденной разговорности чувствуется у него и сейчас, точно так же как он чувствуется у его структурных собратьев типа телеграфить и телефонить.
По своему образованию слово пылесосить – самый заурядный отыменной глагол, каких в нашем языке немало. Он входит в словесный ряд образований со значением «действовать с помощью того (орудия, устройства, инструмента и т. д.), что обозначено образующим существительным» (ср. барабанить, мотыжить, пилить, сверлить, бурить, боронить, гарпунить, косить и др.).
Иначе представляется нам по своей словообразовательной биографии производящее существительное пылесос (к основе которого и был «прибавлен» суффикс – и(ть). Это тоже слово новое. Однако не только новое, но и с особенностью. Ведь несмотря на свою внешнюю похожесть по способу словообразования на существительное кровосос, оно возникло не в результате сложения корней пыль– и сос-, а в результате калькирования нем. Staubsauger, как и слова ледокол (< Eisbrecher), миномет (< Minenwerfer), громкоговоритель (< Lautsprecher) и т. д.
Как показывают наблюдения над современным русским языком, глагол пылесосить – одно из многих образований, которые ярко свидетельствуют, что наш язык постоянно пополняется новыми глаголами в первую очередь не от глаголов за счет приставок, а от имен и с помощью суффиксального способа образования.
«Микроповесть» о слове микробус
М ожно сказать довольно точно, что существительное микробус окончательно вошло в нашу речь в 1973 г. В словаре-справочнике «Новые слова и значения» 1971 г. оно не отмечается. Нет его и в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова 1972 г. Более того, отсутствует оно и в книге А. А. Брагиной «Неологизмы в русском языке» (вышедшей в свет в апреле 1973 г.), хотя в этой работе слова на– бус разбираются специально. Что касается книги В. В. Лопатина «Рождение слова» (она вышла после июля того же года), то в ней оно мельком уже упоминается (причем в отличие от слов автобус, гидробус и троллейбус как новое).
Как видим, дата рождения слова микробус более или менее ясна. Не совсем ясно другое – как и на базе чего оно образовано. Можно предложить два одинаково возможных решения.
Не исключено, что существительное микробус образовано путем простого и непосредственного сложения определяющей морфемы микро– «маленький» (ср. микрорайон, микроклимат, микросистема, микротелевизор, микровзрыв, микродвигатель) с кусочком– бус, извлеченным из слова автобус. Замечу, что в западноевропейских языках бус известно как самостоятельное слово со значением «автобус» (ср. нем. Bus – «автобус», англ. bus – тж). Нельзя не учитывать также, что рядом со словом автобус были в ходу и существительные аэробус, электробус с иноязычными, но уже своими авто-, аэро-, электро-.
Но, скорее, дело было иначе и проще. И на это решение нас наталкивает уже упоминавшийся словарь-справочник «Новые слова и значения». В нем, как уже говорилось, нет микро-буса, но есть микроавтобус. И датируется он 1959 г. (со ссылкой на «Правду» от 16 июня 1959 г.). Очевидно, дело обстояло так. На базе существительного автобус с помощью микро-(ср.: район – микрорайон // автобус – микроавтобус) было сделано слово микроавтобус. Это слово широко и часто употреблялось на протяжении всех 60-х гг. и встречается до сих пор.
От полного микроавтобус путем аббревиации его середины (а именно исключением части авто-) было сделано затем краткое микробус так же, как из слов ра(диостан)ция – рация, па-па(верин – диба)зол – папазол, пирам(идон – коф)еин – пирамеин, т(ринитротолу)ол – тол, мо(товелоси)пед – мопед, мо(тоо)тель – мотель, луно(мо)биль – лунобиль.
В заключение заметим, что и исходное автобус, французское слово, заимствованное русским языком через немецкое посредство в 1 908 г., представляет собой тоже результат внутреннего сокращения французского сочетания auto(mobile omni)bus – «автомобиль, омнибус, автобус».
Вот что касается исходных транспортных обозначений, то их родословная совсем другая. Автомобиль попало к нам в самом конце XIX в. из французского языка, где оно перешло из прилагательного в существительное automobile. Последнее же суть искусственное сложение греч. autos – «сам» и лат. mobilis – «двигающийся» по аналогии с локомобиль.
Устарелое омнибус – «многоместный конный экипаж для перевозки пассажиров» значительно старше и забавнее. Оно забрело к нам еще в первой половине XIX в. (вероятно, тоже из французского языка, хотя потом конечное ударение сменилось «мнимоанглийским»). Франц. omnibus получилось путем сокращения оборота voiture omnibus – «карета для всех или всем». От «правильного» и полного названия осталось только пояснительное слово omnibus – форма дат. п. мн. ч. лат. omnis – «весь – всем, для всех». Это-то «всем, для всех» и было виновником различных в разных языках слов на бус, в том числе и обозначения маленького автобуса – исконно русского слова микробус.
Слова троллейбус, аэробус и электробус – иноязычные и были усвоены из английского и французского языков.
Слова ЭВМ и компьютер
Первое поколение ЭВМ появилось в середине 40-х гг. XX в. Слово же ЭВМ вошло в наш обиход значительно позднее. В «Энциклопедическом словаре», третий том которого был подписан к печати 31 марта 1955 г., нет не только этого слова, но и исходного сочетания, послужившего базой для новообразования, – электронно-вычислительная машина. Первая его словарная фиксация отмечается лишь в первом издании «Словаря сокращений русского языка», составленного под руководством Д. И. Алексеева. А он был сдан в набор 20 июня 1962 г. Вот в этот временной промежуток и пошло гулять по свету слово ЭВМ. Во второй половине 60-х гг. оно стало уже общеизвестным и обычным.
Слово ЭВМ по своей структурной мерке представляет собой сложносокращенное слово инициально-буквенного характера. От исходного словосочетания электронная вычислительная машина при сложении были взяты первые буквы слов – ЭВМ. Таким образом, оно принадлежит к одному из трех самых продуктивных типов сложно-сокращенных слов, которые сейчас рождаются и входят в многочисленную семью слов типа МГУ, АТС, НТР, ЧП (чрезвычайное происшествие), СВ (спальный вагон), КПД (коэффициент полезного действия) и др.

В настоящее время слово ЭВМ можно считать уже архаизмом. Из активного употребления его вытеснил синоним, пришедший к нам из английского языка. Это существительное компьютер. В английском языке оно является терминологическим образованием с помощью продуктивного там суффикса– ер (ср. лайнер, сейнер, грейдер, танкер, траулер, миксер, глиссер и т. д.) от глагола compute «считать, вычислять», восходящего к лат. computare «считать, вычислять». Буквально, таким образом, компьютер значит «вычислитель». Слово компьютер появилось у нас несколько позднее исконно русского ЭВМ и сразу в этом именно значении. В общем употреблении оно укрепилось только в 70-е гг., но сейчас уже в нашей речи является самым обыденным. Более того, в силу своего корневого характера в русском языке (суффикс – ер в нем нами, в отличие от английского языка, не вычленяется, так как нет соответствующего глагола без – ер), а также по причине сосуществующей соотносительности ЭВМ с его сверхсловным родителем – электронная вычислительная машина слово компьютер имеет по сравнению с существительным ЭВМ известные преимущества в способности порождать производные: от него легче и свободнее можно образовать новые слова. Они в нашем языке уже существуют. Это относительное прилагательное компьютерный, глагол компьютеризировать, существительные компьютеризация, микрокомпьютер и мини-компьютер. Если говорить о последних двух словах, то у существительного ЭВМ в конце 70-х гг. появились синонимичные ему микроЭВМ и мини-ЭВМ. Кстати, синонимичные микро– и мини– «маленький» находим и в обозначении центрального устройства электронной вычислительной машины, коль скоро оно небольшого размера. В «Словарных материалах-80» под редакцией Н. З. Котеловой (М., 1984) мы уже встречаем и мини-процессор, и микропроцессор. Две эти маленькие начальные корневые части активно конкурируют между собой в образовании новых слов.
Названные в очерке лексические единицы уже вошли в толковые словари (см., например, Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998).
Где корень в слове солнце?
На этот вопрос можно ответить (и это будет одинаково правильно!) по-разному. Все дело в том, о каком корне пойдет речь.
Если в слове солнце надо выделить корень, т. е. непроизводную основу, которая имеется в нем с точки зрения современного русского языка, то это будет солн-. Та же непроизводная основа связанного характера содержится в словах солнышко, подсолнух. Все эти существительные соответственно имеют суффиксы – ц– (ср. сердце, донце, сальце), – ышк– (ср. перышко, зернышко, горлышко) и– ух– (ср. кожух).
В диалектах тот же корень содержат слова посолонь «по солнцу», солнопек «солнцепек», усолонь «тень» и др. А в стихах С. Есенина мы наблюдаем эту непроизводную основу и в свободном виде (солнь).
Придется ответить на вопрос заголовка совсем по-другому, если в слове солнце надо выделить корень с этимологической точки зрения, т. е. такую часть, которая далее не членится даже при привлечении сравнительно-исторических данных.
В таком случае в качестве корня в нашем слове необходимо будет выделить сол– (< съл-, ср. др. – рус. сълньце). Этот корень вычленяется в нем по сопоставлению с родственными словами в других индоевропейских языках: др. – прус. saule, лат. sol, др. – сканд. sōl, греч. hēlios, нем. Sonne – в значении «солнце», греч. selēnē «луна» и др.; следующая после сол– морфема – н-в этимологическом плане будет суффиксом.
Этимологический анализ обнаруживает в слове солнце тот же корень, что и, например, в словах гелий (от греч. hēlios) и солярий «площадка для приема солнечных ванн» (от лат. solarium «терраса», производного от solaris «солнечный»). Более того, в известной степени слову солнце окажутся родственными названия гелиотропа и зонтика. В слове гелиотроп слову солнце «родной» является часть гелио– (см. выше), часть– троп (ср. поэтический троп) передает греч. tropos «поворот». Цветок назван так за те же свойства, что и подсолнечник. У слова зонтик нашему существительному «родственником» приходится часть зон-: в голландском языке, откуда нами было взято это название, zondek является сложением слов zon «солнце» и dek «покрышка». До заимствования этого слова в нашем языке для названия зонтика от солнца использовалось слово солнечник. Ср. в «Путешествии» И.Петлина 1618 г.: А над воеводами несут солнешники великие.
Может ли ком быть суффиксом?
Для многих из вас этот вопрос, вероятно, выглядит так, словно он специально придуман для книжки по занимательной грамматике или языковой викторины на уроках русского языка в школе. Между тем этот вопрос самый что ни на есть серьезный: он касается важных сторон разбора слова по составу. Конечно, звуковой комплекс ком заставляет вспомнить прежде всего о существительном ком, но отнюдь не о суффиксе – ком. Да, – ком может быть суффиксом, и в качестве значимой части слова он выделяется в небольшой, но приметной словесной семье. Если обратить внимание на то, как только что графически был обозначен этот суффикс, то можно определить, к какой части речи относятся имеющие его слова. Ведь дефиса с правой стороны не было. Значит, за суффиксом нет окончания, и слово с суффиксом – ком всегда выступает как чистая основа. А чистую основу, как известно, имеют лишь неизменяемые части речи, среди которых на первом месте стоит наречие. Именно среди этой разношерстной по морфемному составу части речи и находятся слова с нашим чудным суффиксом, не отмеченным пока ни одной грамматикой русского языка.
Для начала обратимся к слову пешком. Как оно членится на морфемы? Ввиду того что это наречие прямо и непосредственно связано со словами пеший, пешеход, пехота, его можно и должно разделить лишь на корень пеш– и суффикс– ком. Делить слово пешком на пеш-к-ом (это иногда делается) нельзя потому, что в современном русском языке нет уже слова пешькъ «пешеход», а со словом пешка «шахматная фигура», «ничтожество» наше наречие давно порвало всякие родственные узы.
Вот вам первое слово с суффиксом– ком. Первое, но не последнее. Эту же морфему содержат в себе и наречия ползком (ср. ползать), тайком (ср. тайно, утаить), силком (ср. силой; об этом слове см. заметку «Чему родственно слово силком?»), гуськом (ср. как гуси), битком (ср. набитый), торчком (ср. торчать), ничком (ср. ниц (падать), поникнуть и пр.) и т. д. Так что суффикс – ком не составляет собственность отдельных и изолированных слов (как, скажем, суффиксы – алей и – овизн(а), известные лишь в словах дуралей и дороговизна), а образует определенную, хотя и непродуктивную словообразовательную модель.
Может возникнуть новый и естественный вопрос: а каково происхождение этой морфемы? Языковые факты говорят, что суффикс– ком разрастался «как снежный ком» в связи с изменениями в структуре слова.
Вот как это было.
В праславянском языке на раннем этапе его развития окончание твор. п. ед. ч. у существительных с основой на ǒ (> ъ) было *-ть. В результате слияния тематического суффикса основы ъ(< ǒ) с *-ть родилось окончание– ъмь, которое затем – уже в древнерусскую эпоху – превратилось (после падения редуцированных и отвердения конечного м) в – ом. При превращении существительных в наречия окончание – ом становилось суффиксом (ср. *mig-ъ-mь > миг-ом (сущ.) > миг-ом (нареч.). Такой суффикс в свое время возник и у наречия пешком, когда оно появилось на свет от существительного пешькъ «пешеход» в форме творительного падежа (пешькъмбь > пешком).
Подобный суффикс видим мы и сейчас в наречиях типа броском (ср. бросок) и волчком (ср. волчок). В слове пешком он не сохранился, поскольку исчезло «промежуточное звенышко» словообразовательной цепочки – исходное существительное (пешькъ в значении «пешеход»). В результате в наречии пешком произошло переразложение основы: она стала делиться не на пеш-к-ом, а на пеш-ком. Так родился суффиксальный– ком: – ъмь – ом (из ъ < ǒ + мь) – – ком (из к < ьк, ьк + ом). Заметим, что далеко не во всех словах этот суффикс именно такого происхождения. В некоторых словах он выступает как – ком с самого момента их рождения. Это там, где наречие было сделано с его помощью, по аналогии со словами типа пешком (например, в наречиях стойком, торчком и т. п.).
Чему родственно слово силком?
На первый взгляд ответ на этот вопрос лежит, так сказать, на поверхности и определяется значением и смысловыми связями этого слова.
Его значение – «насильно, силой». Соотносительное ему корневое слово – существительное сила. Ср.: …Их обезоружили силой (Шолохов); …Меня и замуж силком выдали (Арбузов).
Однако современная родственность этого слова существительному сила не является исконной. И об этом в достаточной мере ясно говорит уже его «ненормальная» структура: суффикс– ком при основе существительного женского рода (сила). Ср.: силой, зимой, порой и т. д.
Рассмотрение слова силком в ряду других, имеющих то же конечное звукосочетание (бочком, щипком, броском и др.), показывает его действительное происхождение. Это существительное образовалось на базе творительного падежа слова силок «петля для ловли птиц и мелких животных» (вначале лишь в выражениях поймать силком, тащить силком). Омонимичность корневого сил– в силок непроизводной основе в сила и смежность значений «поймать, тащить силком» и «поймать, тащить силой» привели к смешению этих слов. В результате слово силком оторвалось от своего родителя (от слова силок) и стало осознаваться как производное от существительного сила.
Баки, дупель, Каспий и другие
Эти слова, так не похожие по своему значению друг на друга, не только однородны синтаксически, но и связаны между собой в другом отношении: они однотипны по своему образованию. Все эти существительные представляют собой по происхождению «кусочки» слов, ставшие целыми словами.
Способы словопроизводства очень разнообразны. И среди них действует в русском языке и такой, как сокращение (аббревиация). Слова образуются с его помощью путем то большего, то меньшего сокращения производящего слова или словосочетания с последующим оформлением остатка в существительное, синонимическое исходному материалу. Способ этот в целом не очень продуктивный, благодаря ему возникают одни существительные, однако его все же не учитывать нельзя. Тем более что в последнее время – не без влияния прежде всего английского языка – образование слов аббревиацией оживилось. Но известен этот способ словопроизводства в русском языке давно, и перечисленные в заглавии слова – вящее тому доказательство.
Слово баки возникло в XIX в. путем сокращения существительного бакенбарды (из нем. Bakenbart). Существительное дупель «вид кулика» является не чем иным, как отрезком немецкого слова Doppelschnepfe (буквально «двойной бекас»). Название Каспий образовалось в результате сокращения словосочетания Каспийское море (море названо по имени обитавшего ранее в Закавказье народа каспи).
Старыми аббревиатурами будут также слова Питер (из Петербург), унтер (из унтер-офицер), самоцвет (из самоцветный камень).
Одним из самых древнейших сокращений является прежнее название буквы х – хер (из херувиʼм), сохранившееся в производном глаголе похерить «зачеркнуть».
Среди новых слов, образованных аббревиацией, можно прежде всего отметить существительные противогаз (из противогазовая маска), псих (из психопат), спец (из специалист), зам (заместитель), пом (помощник), зав (заведующий), член-корр (член-корреспондент); ср. совсем недавние образования типа беспредел, детектив, интим, неформалы, криминал, дебил, рэ (из рубль) и др. По своей структуре ко всем этим словам примыкают заимствованные существительные типа кило (ср. килограмм), метро (ср. метрополитен), фото (ср. фотография) и пр., возникшие как сокращения не в русском языке, а уже в языке-источнике.
Следует иметь в виду, что аббревиация – это определенный способ словопроизводства. Поэтому слова, образованные с его помощью, нельзя смешивать с такими словами, которые возникли в разговорной речи по фонетическим причинам, как «скороговорочные» разновидности полных по произношению лексических единиц.
Прилагательные моровая и смертельная как они есть
Слово моровая сейчас известно лишь в составе фразеологических оборотов моровое поветрие и моровая язва, имеющих значение «массовая эпидемическая болезнь, вызывающая большую смертность, мор». В этих синонимических выражениях оно выступает как смысловой эквивалент прилагательному смертельная. Такое значение его вполне законно и определяется целиком происхождением. Ведь прилагательное моровая является суффиксальным производным (ср. одноструктурные образования годовая, силовая, меховая и т. д.) от существительного мор, того же корня, что слова умереть, смерть, мертвый и т. д.
Слова поветрие и язва значат в указанных фразеологизмах «болезнь» (ср. также ветряная оспа, сибирская язва). Отдельно, вне фразеологизмов, мы в настоящее время употребляем их в других значениях: поветрие – «получившее повальное распространение явление», язва – «гнойная или воспаленная рана; зло».
Таким образом, употребление прилагательного моровая заключено в узкие рамки прокрустова ложа фразеологически связанных по своему характеру слов поветрие и язва в значении «болезнь». Что касается существительных болезнь, рана, то они сцепляются уже с прилагательным смертельная. Это слово любопытно и по своему составу, и по своему происхождению.
По соотношению со словом смерть (ведь смертельная – это «приводящая к смерти») в прилагательном смертельная мы выделяем наряду с окончанием – ая также и суффикс– ельн-. Этот суффикс в других словах не встречается. Он «живет» только в нашем слове. Может показаться, что оно с его помощью от слова смерть и было в русском языке образовано. Однако на самом деле слово смертельная заимствовано русским языком из польского (не позднее XVI в.). Заметим, что и в польском оно не исконно, а было усвоено из чешского языка. Вот уж чешское smrtelny «смертельный» действительно возникло как суффиксальное образование от smrt «смерть».
Как видим, в конце концов все же рассматриваемые прилагательные (и моровая, и смертельная) родственны, так как с помощью разных суффиксов возникли на базе однокорневых и даже более того – «близкозначных» слов мор и смерть.
О трех воинских званиях
По своему происхождению слова лейтенант, майор и сержант являются заимствованными и появились в русском языке соответственно из немецкого (два первых) и французского языков (слово сержант) уже в XVII в.
Существительное лейтенант передает нем. Leutnant, в свою очередь представляющее собой переоформление франц. lieutenant, восходящего к лат. locum tenens «наместник, заместитель». Между прочим, значение «наместник, заместитель» было характерно для слова лейтенант в начале XIX в. и в русском языке; ср.: Не Гете ли был его льетенантом в Германии (в письме Тургенева Вяземскому). Правда, в этом случае оно непосредственно передавало французское слово.
Существительное майор передает немецкое Major, заимствованное, в свою очередь, из латинского языка, где maior (буквально «больший») является сравнительной степенью слова magnus «большой».
Существительное сержант заимствовано из французского языка, в котором sergeant восходит к лат. serviens, вин. п. ser-vientem «служащий» (корень serv, ср.: servus «раб», servio «служу, являюсь рабом, подчиняюсь»).
В русском языке в советскую эпоху все эти слова первоначально были в пассивном словарном запасе. Словами активной и актуальной лексики современного русского литературного языка они стали после введения в Советской Армии соответствующих воинских званий (в 1935 г. званий лейтенанта и майора и в 1940 г. звания сержанта).
От мимохода до лунохода
Слово луноход – один из сравнительно недавних неологизмов среди имен существительных русского языка. Самой первой его печатной фиксацией является первая заголовочная строчка газеты «Вечерняя Москва» от 1 7 ноября 1970 г., в которой было помещено соответствующее сообщение ТАСС о мягкой посадке на поверхность Луны в районе Моря Дождей автоматической станции «Луна-17».
Вот та фраза, в которой появилось на свет наше слово: «Первый советский луноход – на Луне». Слово луноход сразу же «зашагало» по страницам газет, причем не только в прозе, но и в стихах: Сквозь закат и сквозь восход В кипень белопенную Мчится, мчится луноход Через всю вселенную (Островой С. Лунопроходец // Правда. 1970. 19 нояб.); Увидев нынче на экране пейзаж луны и луноход, предугадать хочу заранее: Какое чудо завтра ждет? (Каныкин А. Рубежи чудес // Там же). Более того, оно послужило отправным пунктом образования других однотипных новых слов. По его образу и подобию возникли (правда, пока еще не привившиеся) слова венероход, марсоход и даже планетоход. Газета «Известия» от 23 декабря 1970 г. поместила статью Б. Коновалова под названием «Будущее планетоходов», в которой, в частности, можно прочитать такие предложения: Как, на ваш взгляд, появятся ли когда-нибудь венероходы?; Марсоходы – вещь в будущем вполне реальная.
Появившись на наших глазах, слово луноход выступает в качестве очень ясного и простого производного. Никаких этимологических тайн оно не содержит: понятно и то, на базе чего оно образовано, и то, как, по какой словопроизводной модели и по какому именно конкретному лексическому образцу оно сделано.
Как пишет В. Орлов в своей «Оде луноходу» (Правда. 1 970. 1 8 нояб.), единым вздохом миллионов уст родилось крылатое русское слово, которого нет у Даля, – луноход. Но изобретено оно было, как и сама машина, не на голом месте. Оно имело своих предшественников и в материальной, и в «духовной» части. И совершенно очевидных, о чем свидетельствуют своеобразные словообразовательные экскурсы, встречающиеся в газетных статьях о луноходе: Надо внимательно посмотреть сегодня на Луну: где-то там есть Море Дождей, где-то там ходит наш луноход. Не паровоз, не самолет, не пароход – луноход! (Московский комсомолец. 1970. 18 нояб.); Вслед за лунным геологом – первый лунный вездеход (Правда. 1970. 19 нояб.); Итак, «Летучий голландец» на Луне. Им стал посланник Земли, советский луноход, впервые бороздящий безбрежные просторы Моря Дождей (Комсомольская правда. 1970. 18 нояб.); Впервые в истории астронавтики, подчеркивает научный обозреватель агентства, вездеход, доставленный с Земли, начал передвигаться по поверхности Луны (там же).

Совершенно ясными являются и морфемный состав нового «лунного слова» (лун-о-ход()), и его образование. Его создали наши ученые по модели сложных слов на– ход, обозначающих «самоходные аппараты» (пароход, теплоход, электроход, самоход, атомоход и т. д.), однако с оглядкой конкретно на существительные снегоход и вездеход. Таким образом, луноход – это «лунный самоходный аппарат, машина, которая ходит по Луне, лунный вездеход». Именно эти словосочетания «сжались» в процессе словопроизводства в существительное луноход, подобно тому как словосочетание автомобиль, предназначенный для передвижения по глубокому снегу, снежной целине, дало слово снегоход. Ведь в словах подтипа пароход и т. д. первая часть сложения говорит не о месте действия самодвижущегося аппарата, а о характере его двигателя, о том, чем машина ходит. И они поэтому дальше от слова луноход, чем слова снегоход и вездеход, и образуют близкую, но особую структурную группу, самым старым среди которых является слово первой половины XIX в. пароход, обозначавшее вначале и «паровоз», и родившееся в качестве своеобразной кальки англ. steam-boat «пароход». Заметим, что слово электроход отмечается в качестве индивидуально-авторского образования уже у Ф. Одоевского. Несколько особо от рассмотренных стоят слова дымоход «труба для отвода дыма из печи» и плотоход «устройство, позволяющее пропускать плоты через гидротехнические сооружения», оба сравнительно недавние (в частности, эти слова в словаре В. Даля еще отсутствуют). Они обозначают уже не самодвижущуюся машину, а более простое техническое устройство.
Всем названным существительным противостоит группа слов на– ход, обозначающих лицо: пешеход, скороход, тихоход, устаревшие судоход и мореход. Они значительно старше, и именно им были обязаны своим появлением первые слова типа пароход, электроход и др.
Ближе всего по структуре к нашему луноходу здесь мореход (луноход ходит по Луне, мореход – по морю), возникшее, несомненно, в качестве словообразовательной кальки др. – греч. pontonautes «мореплаватель», когда для передачи др. – греч. nautes было использовано ныне исчезнувшее в значении действующего лица слово ход (об агентивном значении этого слова и ему подобных см.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. М., 1968. С. 81 и др.).
Однако исходный тип образования представлен другими словами, среди вторых на первое место должно быть поставлено существительное пешеход (пешеход, судоход, скороход, тихоход). Из ныне существующих слов на – ход оно самое древнее. Но и самое странное! Ведь в нем его корневые части как бы тавтологично повторяют одно и то же: пеший тоже ведь «пешком идущий», утраченное в настоящее время ход «пеший, пешеход» (ср. диал. ходок, ходец той же семантики). Такая оригинальность слова пешеход объясняется тем, что в древнерусском языке (как и в современном) глагол ходить имеет значение не только «идти, ступая ногами», но и «двигаться, передвигаться». По словарю И. И. Срезневского, в памятниках письменности слово пешеход встречается уже в XIV в.
«Все это очень хорошо, – скажете вы, – но почему заметка называется «От мимохода до лунохода»!» Мимоходом, в двух словах о слове мимоход. Слова мимоход как существительного сейчас в языке нет. От него осталась одна только форма творительного падежа единственного числа мимоходом, относящаяся уже к категории наречия (в значении «проходя мимо, по пути; между прочим»). Но раньше – в древнерусском письменном языке – оно было и значило «прохожий».
О прошлом и настоящем существительных сапожник и портной
На первый взгляд слова сапожник и портной не имеют ничего общего, кроме разве лишь того, что оба одинаково относятся к разряду имен существительных со значением действующего лица (и уже – к названиям профессий). Но ведь к этому же пласту слов принадлежат многие и самые разнородные наименования типа врач, каменщик, строитель, слесарь, тракторист и др. Узы, связывающие слова сапожник и портной, значительно более тесные, нежели их общее значение профессии. В известной степени, как ни удивительно, эти разные слова объединяются по своему происхождению. И то и другое возникло на базе не отдельного слова, а целого словосочетания. Более того: и то и другое возникло на базе фразеологических оборотов с одними и теми же опорными словами. Так что в определенной мере слова портной и сапожник – родственники, своеобразные «сводные братья». Различным оказалось уже их дальнейшее словообразовательное оформление.
Как же явились на свет эти слова? Их рождению предшествовало довольно длительное употребление оборотов сапожный швец, сапожный мастер и портной швец, портной мастер. Использовалось слово швец (потом и слово мастер), но с уточняющим определением (сапожный, портной), в зависимости от того, что этот швец шил: сапоги или порты, т. е. одежду.
Указанные словосочетания активно и свободно употребляются еще в XVII в. Однако уже в это время появляются и виновники нашего рассказа. Оба они возникли в результате сжатия оборота в слово. Но эта конденсация фразеологизма происходила по-разному. Слово портной появилось на основе оборотов портной швец, портной мастер в результате простого опущения опорного существительного (швец, мастер). Значение оборота сконцентрировалось в слове портной, прилагательном, ставшем существительным. Таким образом, оно возникло с помощью того способа словообразования, который называется морфологосинтаксическим, путем перехода слова из одной части речи в другую. Заметим, что это серьезно сказалось на окончании слова портной: из чистого окончания прилагательного– ой превратилось в такое оригинальное окончание существительного, которое одновременно выполнит роль также и суффикса, указывая (по сравнению с – их(а) в слове портниха) на мужской пол портного.
По-другому складывалась судьба оборотов сапожный швец, сапожный мастер. Оборот сжали в слово посредством суффикса – ик. Именно он взял на себя те функции, которые в обороте выполняли опорные существительные швец, мастер.
Словообразовательный анализ слова сапожник в современном русском литературном языке позволяет как будто толковать его как производное с помощью суффикса– ник от слова сапог. Но на самом деле он дает нам лишь следующий вывод: слово сапожник соотносится сейчас с существительным сапог, выделяет в своем составе корень сапог-, суффикс – ник, нулевое окончание и входит в словообразовательный ряд существительных с суффиксом – ник, обозначающих действующее лицо: печатник, охотник, огородник и т. д.
По происхождению же, по своей истинной этимологии слово сапожник, как вы теперь знаете, отнюдь не производное от сапог с помощью суффикса– ник. Его родителем было не слово сапог, а обороты сапожный швец, сапожный мастер.
А образовано оно было не с помощью суффикса– ник, как нам кажется, а посредством суффикса – ик, и не от существительного сапог, а от прилагательного сапожный.
Как видим, слово сапожник – еще одно и очень яркое свидетельство того, что словообразовательный анализ и разбор слова по составу, с одной стороны, и анализ этимологический – с другой, далеко не одно и то же.
А теперь о разборе этих слов по составу в школе. Слово портной проще, и разных решений здесь быть не может. Оно делится сейчас на непроизводную основу портн– и окончание – ой. Но не забудьте при этом обратить внимание на то, что здесь это окончание, как уже говорилось, указывает не только на им. п. ед. ч., но и выступает в функции суффикса мужского пола. Заметим, что таким же по структуре является слово нищий, в котором за непроизводной основой нищ– следует окончание-суффикс мужского пола – ий (ср. нищенка, в котором значение женского пола заключается в суффиксе– енк-).
Существительное сапожник может быть соотнесено учениками и со словом сапог, и с оборотом – хотя и устаревшим, но еще известным – сапожный мастер. В соответствии с этим производную основу этого имени возможно делить и на сапож-ник, и на сапож-н-ик. Оба решения являются допустимыми.
Откуда в слове ишь мягкий знак?
Эта лингвистическая загадка не принадлежит к числу трудных, хотя на первый взгляд перед нами вопрос, который может поставить в тупик. По крайней мере, современный орфографический разбор слова ишь законности ь не доказывает: ведь звук ш сейчас твердый, и после буквы ш ь употребляется лишь в различительно-грамматических целях (последовательно в им. п. существительных ж. р. и глаголах 2-го л. ед. ч. наст. вр. и повелительного наклонения: черная тушь, но сыграли туш; думаешь, ешь и т. д.). Ответ на вопрос о происхождении мягкого знака в слове ишь заключается в разгадке происхождения самого этого слова. И вот здесь-то мы видим, что ь достался междометию ишь по наследству от производящего слова, в котором он писался по общему правилу.
Но обратимся к истории слова ишь. Междометие изумления и укоризны ишь (ср.: Ишь, как хорошо читает!; Ишь, какой быстрый! и т. д.) родилось в нашей речи как «скороговорочная» форма слова вишь, выражающего сейчас удивление или недоверие, но имевшего ранее – как и слово ишь – также значение «вон, посмотри». В этом последнем значении слово вишь возникло, в свою очередь, скорее всего как фонетическое сокращение глагола видишь. Другое объяснение слова вишь – из формы 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения глагола видкти (вижь «смотри» > вишь после падения редуцированного ь и оглушения конечного ж в ш) – менее вероятно.
В таком случае ь в междометии ишь (< вишь < видишь) носит по своему происхождению такой же характер, что и в словах бишь (из баешь «говоришь»), слышь (из слышишь), хошь (из хочешь).
Остается несколько слов сказать о фонетической трансформации в разговорной – и потому часто быстрой – речи вишь > ишь.
Такое исчезновение начальных звуков (как гласных, так и согласных) уникальным не является и изредка в языке наблюдается. В качестве примеров можно привести хотя бы междометия лафа и усь. Первое возникло на базе тюрк. алафа «польза, выгода». Второе – «скороговорочный» вариант слова кусь, первоначально формы повелительного наклонения от глагола кусити «укусить» (см. раздел «По следам междометий»).
Таким образом, ь в междометии ишь (как и в других грамматически и орфографически подобных ему словах) – глагольного происхождения.
Иным было появление ь в частице лишь. Как и почему он в этом слове появился, можно узнать, прочитав заметку «Лишь только».
Чудесные превращения слова каждый
Многие, вероятно, даже не подозревают, какую удивительную метаморфозу пережило слово каждый в течение своей долгой жизни в русском языке. Слишком уж оно заурядное и привычное. И тем не менее простое местоимение каждый имеет очень сложную биографию. Достаточно сказать, что из суффиксального образования оно превратилось в непроизводное, а из склоняемого в своей первой (основной) части – в слово с окончанием на конце.
В самом деле, сейчас местоимение каждый делится лишь на корень кажд– и окончание – ый и нормально склоняется как обычное прилагательное: каждого, каждому, каждым, о каждом и т. д. А рядом с формой каждый употребляются соотносительные ей родовые формы женского и среднего рода – каждая и каждое.
В древнерусском же языке троицы каждый – каждая – каждое не существовало. В XII в. вместо них была цепочка форм къжьдо – кажьдо – кожьдо. По морфемному составу эти формы можно сравнить с современными словами вроде какой-либо. Они делятся на корень, окончание (флексию) и следующий далее «пофлексийный» суффикс (как-ой-либо). И старое къжьдо делилось так же: к– корень, – ъ– окончание и– жьдо – суффикс. Отличие лишь в конкретных морфемах и орфографии (какой-либо пишется через дефис, а къжьдо писалось слитно).
Косвенные падежи от какой-либо – это какого-либо, какому-либо и т. д. Так же склонялось и къжъдо: когожъдо, кому-жъдо и пр., например: И въда рабомъ своймъ власть и комужьдо дѣло свое («Остромирово евангелие»), Повелъ… комужьдо своему полку («Ипатьевская летопись»). Как видим, слово каждый из местоимения, которое склонялось, так сказать, своим началом, превратилось в местоимение с флексией на конце. Окончание в этом слове было как бы оттеснено суффиксом – жьдо на свое законное «конечное» место. Несомненно, такая удивительная метаморфоза произошла в слове къжъдо под влиянием большинства местоимений, близких ему по значению, типа любой и всякий. В заключение несколько слов о происхождении местоимения къжъдо. Оно представляет собой форму, сменившую более древнюю къжъде (как полагают, конечное о появилось под влиянием местоимения къто «кто»).
Больше забот причиняет лингвистам исходное къжъде. Хотя это слово уже в древнерусскую эпоху воспринималось как суффиксальное, возникло-то оно с помощью сложения слов, а именно путем объединения местоимения къ (именной формы слова кой < кыи) и, очевидно, отглагольного наречия жъде. О родстве в этом местоимении части– жьде глаголу жъдати писал уже И. И. Срезневский. Кажется менее вероятным объяснение второй части древнерусского къжъде как сочетания усилительной частицы же и относительного наречия де.
Если– жьде считать родственным глаголу ждатъ, то его значение в местоимении къжъде можно определить как «угодно, желательно» (ср. то же значение у явно однокорневого со словами погодитъ и ждатъ др. – рус. годе «угодно»). Тогда старым значением слова къжъде было «тот, которого ждут, тот, кто угоден, тот, кого желают».
Значение «который угодно, всякий, любой» развилось у нашего слова позже. И. И. Срезневский не случайно сравнивает местоимение къжъде с болг. жъденый «желанный, дорогой» и лат. libet «угодно, желательно». Ведь такую же смысловую эволюцию от «того, кто угоден, кого желают и, значит, любят» ко «всякому, каждому» пережило и синонимическое местоимению каждый слово любой < любый «любимый, желанный, дорогой».
Как родилось слово драндулет
Разговорное слово драндулет в качестве шутливого названия старого, разбитого экипажа, повозки знают все, хотя в словарях оно начало фиксироваться относительно недавно (см. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова).
Однако вряд ли многим известно его происхождение: в существующих этимологических словарях оно еще не объяснялось. Как же оно появилось в русском языке? Существительное драндулет возникло (очевидно, в интеллигентском просторечии) на базе заимствованного из польского языка dryndula «старый, разбитый экипаж, повозка» по аналогии с галлицизмом кабриолет.
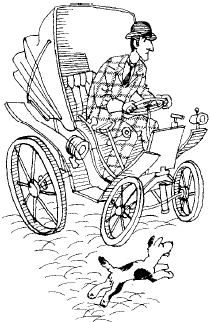
В польском языке слово dryndula (откуда dryndulka) – суффиксальное производное от drynda того же значения, образованного от глагола dryndac «тащиться, медленно ехать», возникшего, в свою очередь, на базе звукоподражания dryn, передающего возникающие при движении звуки (см.: Slawski Fr. Slownik etymo-logiczny jezyka polskiego. Т. 2. Krakow, 1953. S. 172), ср. глагол тренькать. Этимологически правильным написанием русского слова является «дрындулет».
Правильно ли мы пишем слово гуталин?
Вопрос является риторическим. Конечно, правильно, поскольку написание гуталин – единственное, указываемое словарями. Другое дело: соответствует ли это принятое сейчас написание действительной этимологии слова. И вот когда мы начинаем заниматься происхождением существительного гуталин, становится ясным, что современное его написание не первоначально.
В этимологических словарях русского языка слово гуталин не объясняется. Единственным словарем, который дает справку о происхождении этого слова, является «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. Однако предлагаемое им объяснение (от нем. gut «хороший») более чем сомнительно. Во-первых, слова на– алин образуются от основ существительных (ср.: нафталин – от греч. naphtha «нефть», формалин – от формальдегид), а во-вторых, все они обозначают химические соединения. О неправильности объяснения этимологии слова гуталин в словаре Ушакова говорит и написание этого слова в 20-е гг. – гуттолин. Следовательно, надо искать новое объяснение.
Думается, что наиболее правильным будет такое толкование: существительное гуталин (гуттолин) образовалось в результате сложения лат. gutta «гуттаперча, твердый кожеподобный продукт, представляющий отвердевший сок гуттоносных растений; камень» и лат. oleum «масло» с одновременным присоединением суффикса – ин (< ine) по модели ланолин (от лат. lana «шерсть» и oleum), газолин (от газ и oleum) и т. д.
В современном написании слово гуталин впервые, очевидно, отмечается в «Малой советской энциклопедии» (М., 1929).
По следам междометий
Что такое междометие

Без междометий наш разговорный язык просто нельзя себе представить.
Разные по своему значению и стилистическим свойствам междометия, пожалуй, являются самыми оригинальными словами языка. Обращает внимание уже их синтаксическая особенность. Ведь это слова, которые в качестве рядовых членов предложения не выступают. В составе предложения они оказываются изолированными словами-одиночками, островками непосредственного чувства и воли, как бы брошенными между словами, передающими мысли и образующими определенные словосочетания и фразы. Кстати, именно этим объясняется и их общее наименование – междометие, которое точно калькирует лат. interjectio (inter = между, ср. интервал, интернет; ject = мет-, брос-, кид-; – io = – ие, ср. инъекция с in «в»).
Но еще более примечательны и своеобразны междометия по своему происхождению. Многие из них являются первообразными и представляют собой вербализованные (т. е. превращенные в слова) рефлекторные звуки и инстинктивные выкрики. Таковы А! Ой! Ух! Фу! Ба! и др. Некоторые появились позже, уже на основе междометий (к ним, например, относятся слова типа Ого!< О! + 0! с интервокальным г; Ау! < А! + У! и т. д.). Однако занятней всего по своей родословной третья группа междометий, куда входят такие образования, которые вначале междометиями не были и попали в большую и пеструю междометную семью из других частей речи. Происхождение некоторых таких междометных «пришельцев», наиболее известных и употребительных, далее в краткой форме и сообщается. Из междометий двух первых групп взяты лишь наиболее интересные.
Адью, прощай и до свиданья
По прихоти языка наш этимологический обзор междометий приходится начинать словами, которые «по правилу» должны бы его заканчивать. Адью – это грубовато-фамильярный синоним нейтральных прощай и до свиданья. Его иноязычное (а именно – французское) происхождение ясно чувствуется уже в звуковом облике. К нам оно пришло в XIX в. В языке-источнике adieu появилось на два столетия раньше – в результате слияния в одно слово предлога а и существительного dieu «Бог». Так что по своему образу французское adieu подобно русскому междометию с Богом «прощай, до свиданья», сейчас уже устаревшему, но пожилым еще хорошо известному.
Совершенно иными по своему происхождению являются нейтральные синонимы адью – до свиданья и прощай.
Междометие до свиданья – сочетание предлога до с родительным падежом существительного свиданье – имеет точные однообразные параллели в других языках (например, пол. Do widzenia! – ср. widziec «видеть»; нем. Auf wiedersehen! – ср. wieder «вновь», sehen «видеть»; рум. la revedere – ср. re «снова», vedere «видеть» и т. п.). В нем, как и в его иноязычных «двойниках», в основу положено пожелание увидеться, свидеться вновь.
Совсем иное по своему внутреннему стержню и исходной структуре слово прощай: это ставшая междометием повелительная форма глагола прощать, имеющая «извинительное» значение. Первоначально прощай значило «прости (если что не так)». Эта семантика ярко чувствуется еще у слова прощай во фразеологическом обороте Прощай, не поминай лихом. Кстати, в русском языке XIX в., кроме прощай, в этом же значении употреблялось и междометие прости, являющееся императивом от глагола – уже совершенного вида – простить (последний, между прочим, образован от прилагательного простой в значении «свободный», ср. опростать).
Так, у А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» читаем: Кто б ни был ты, о мой читатель. Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель. Прости (где прости = прощай). Синонимичные в обыденной речи, до свиданья и прощай поэтами используются иногда как антонимы (ср. у П. Антокольского в стихотворении, посвященном памяти А. Фадеева: Никогда не прощай, навсегда до свиданья, Милый друг, дорогой человек).
Заметим, что антонимическими по своему значению могут быть (даже в общем употреблении) и слова, имеющие один и тот же образный стержень. Так, Будь здоров! значит «прощай, до свиданья», а Здóрово! Здравствуй! является междометием приветствия, хотя этимологически оба выражают одно и то же – пожелание быть здоровым.
Между прочим, это наблюдается не только в русском языке. Латинское vale (от valere «здравствовать, быть здоровым») значит «до свиданья, всего хорошего»: вспомните Евгения Онегина, который знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить vale, Да помнил, хоть не без греха, Из Энеиды два стиха. Что же касается лат. salve, то оно уже равнозначно словам Здравствуй! Привет! хотя и оно является производным от глагола, имеющего семантику «быть здоровым», – salvere.
Такое развитие противоположных значений у слов одного и того же корня или имеющих одинаковый образный стержень – явление нередкое (ср. диал. погода «вёдро», откуда – распогодилось, погожий денек, и диалектное же погода в значении «непогода»; бесценный «очень дорогой», «неоценимый» и бесценный «малоценный», откуда – за бесценок; урод и пол. uroda «красота» и т. д.).
Айда и гайдамаки
В ас не удивляет, что эти слова стоят рядом? Ведь выражают они совершенно разное. И все же их созвучие (фонетический комплекс айда целиком повторяется в существительном гайдамак) не случайно: это слова одного и того же корня.
Слово айда пришло к нам из татарского языка, где оно является формой повелительного наклонения («иди, ну») от глагола айдамак «погонять, гонять скотину на пастбище». Как можно видеть, первоначально это междометие применялось при «обращении» к скоту (ср. аналогичное по исходной сфере употребления – сначала лишь к лошади – слово ну).
Что касается слова гайдамак, то оно попало в нашу речь из украинского языка, в котором появилось из родственного татарскому языку турецкого (чем и объясняется начальное г). В последнем у слова гайдамак значение «разбойник, грабитель» развилось из значения «погонщик скота». Так что слово айда чаще всего вначале было в ходу у гайдамаков.
Алло – «слушаю, у телефона»
Это междометие является одним из недавних и появилось в языке вместе с телефоном. А. И. Германович в книге «Междометия русского языка» (Киев, 1966. С. 39) отождествляет его с морским алло, заимствованным из английского языка, однако это неверно. Алло, которое представляет собой морской призыв к переговорам (с одного судна на другое), восходит с англ. hallo «здравствуй», иногда употребляющемуся в виде хэлло и у нас. Совсем иного рода «телефонное» алло. Во-первых, оно пришло в русский язык в конце XIX в. из французского. Во-вторых, оно является одним из немногих в речи искусственных новообразований. Подобно тому, как слово газ было создано Я. Б. ван Гельмонтом на основе греческого хаос, французское alló в 1878–1880 гг. было образовано Ш. Бивором от слова allons «ну».
Так как allons «ну» восходит к allons «Идем! Пошли!» (это форма 1-го л. мн. ч. от aller «идти»), то по своей исходной образной структуре алло, как видим, оказывается похожим на своего алфавитного предшественника – айда.
Амба и баста
Эти междометия объединены не только одним и тем же значением как синонимы слов хватит, довольно, достаточно, полно и т. д. Они пришли к нам из одного источника – из итальянского языка, и, более того, оба являются по своему происхождению игорными терминами, укрепившимися в литературной речи в XIX в.
Слово амба – это лотерейный термин, которым обозначался выход в лотерее двух номеров сразу. Наше амба передает итал. ambo – тж, восходящее к лат. ambo «оба» (которое, заметим, является родственным своему русскому эквиваленту – оба).
Что касается междометия баста, то оно является термином карточной игры. Итал. basta «хватит, довольно» аналогично нашему полно (от полный): оно является производным от глагола bastare «быть достаточным, хватать», в свою очередь образованным от прилагательного basto «полный».
Обратите внимание на тот же признак (достаточность), который был положен в основу также и других русских синонимов слова баста – достаточно, хватит и довольно (от довольный, которое является производным от довол < довълъ «достаток, обилие, имущество», отсюда же и довлеть).
От междометия баста в русском языке было образовано бастовать (первоначально «кончать, переставать играть»), от префиксального производного которого – забастовать – во второй половине XIX в. появилось существительное забастовка.
Ась и сейчас
Коротенькое, в один слог, междометие отклика (оно равнозначно словам что? как?) на самом деле составное и образовалось из двух слов. Оно родилось в результате сращения в одно слово союза а и указательного местоимения се «это, вот». Первоначально (а в памятниках оно отмечается с XVII в.) это междометие имело значение «а вот я, здесь я» и звучало как асе. Потом конечное безударное е отпало, так же как о в тамо (ср.: камо «куда», семо и овамо «сюда и туда»), у в нету (см. ниже), и в буди (сейчас будь) и т. д.
Раньше ученые объясняли происхождение этого слова по-другому, считая его то видоизменением старославянского азъ «я», то сокращением а с(ударь)ь? Однако эти толкования принадлежат к области лингвистической фантастики, которой, между прочим, в этимологии немало и сейчас. Кстати, последнее слово предыдущей фразы (сейчас) своей первой частью роднится со второй частью нашего ась. Разница здесь лишь в роде и форме: се «это» в ась является краткой формой среднего рода, а сей «этот» в сейчас – полной формой мужского.
Ату и его антоним тубо
Эти охотничьи междометия различаются между собой прежде всего значением. Ату является термином натравливания и синонимично словам усь, бери, хватай. Тубо – команда лежать на месте, равнозначная словам смирно, не тронь, будь на месте.
Но разница между этими словами четко выявляется и в другом: в степени прозрачности и ясности их происхождения. Этимология тубо проста и несомненна: это одно из слов, заимствованных в XVIII в. русским дворянством из французского языка (ср. оттуда же пиль, иси, куш, апорт и др.). Наше тубо передает французский типа почтовая контора tout beau, буквально значащий «все хорошо».
Что касается происхождения ату, то оно вызывает споры. Одни (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка Т. 1. М., 1964; Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1963) склоняются к тому, что оно также заимствовано из французского языка и, как и его антоним тубо, содержит то же tout «все» (ату франц. á tout, где á является предлогом). Другие считают его исконно русским сложением междометия а и наречия ту «тут» (см.: Германович А. И. Междометия русского языка. Киев, 1966. С. 53); в таком случае оно аналогично галлицизму иси (буквально франц. ici значит «здесь, тут»).
Предпочтительнее, несомненно, первое объяснение. Возможно, что франц. á tout восходит к выражению á toutes jambes «со всех ног», в котором был опущен именной компонент. В таком случае следует предполагать также отпадение в атут конечного т, что само по себе – без влияния слов типа тубо – маловероятно.
Баю-бай
Родное, знакомое всем с детства междометие усыпления ребенка употребляется обычно не в одиночку (баю или бай), а целой цепочкой, иногда даже в уменьшительно-ласкательной форме (баюшки или баиньки).
По своему происхождению баю (бай < баю) после отпадения конечного безударного & (ср. нет < нету) является формой 1-го л. ед. ч. глагола баять «говорить; рассказывать сказки». Таким образом, слово баю-бай оказывается того же корня, что и басня, краснобай и обаятельный.
Бис и браво
Эти слова сразу переносят нас в театр. Оба они являются междометиями одобрения зрителей, но бис значит не только «превосходно, замечательно», но и содержит в себе просьбу повторить номер еще раз. У нас бис и браво «иностранцы», они пришли из разных языков: первое – из французского, второе – из итальянского.
Франц. bis восходит к лат. bis «дважды, два раза» (ср. содержащее это же слово существительное биссектриса).
Итал. bravo возникло в качестве междометия одобрения (между прочим, в театре итальянской оперы) на базе bravo «смелый, храбрый; молодец». Так что по своему происхождению оно напоминает наше хоккейное Молодцы!

Брр! Мороз
Соседство этих слов в речи всем понятно, а связь их вполне оправдана. Слово брр! является междометием, выражающим чувство сильного – до дрожи – холода, который бывает в первую очередь при морозе (ср. у Короленко в рассказе «Мороз»: Брр!.. – сказал он. – Мороз, братцы.).
По своему происхождению брр! принадлежит к звукоподражаниям, средствами языка передавая рефлекторные звуки, сопровождающие дрожь от холода (ср. тьфу! передающее звук плевка).
Кроме отмеченного (прямого) значения, слово брр! в нашем языке имеет и переносное, выступая в этом случае для выражения чувства крайнего отвращения. И вот что особенно любопытно: нечто подобное в семантическом развитии мы наблюдаем и у полнозначных слов, уже не выражающих чувство холода, а этот холод называющих. Так что и в этом аспекте существительное мороз находится рядом с междометием брр! В самом деле, слово мороз (ст. – слав. мраз) называет холод, а однокорневое – по происхождению старославянское – существительное мразь обозначает «гадость, нечто отвратительное и противное»; те же отношения наблюдаются в родственных им словах мерзнуть и мерзкий.
Аналогичное явление можно отметить и для слов стынуть «становиться холодным» и постыдный, серб. – хорв. зебети «зябнуть» и «испытывать отвращение, бояться», греч. heima «зима, холод» и dishimos «страшный, отвратительный» и т. д.
Брысь и прочь
По своему значению эти однородные члены далеко не однородны. Вместо брысь, отгоняя кошку, сказать прочь можно всегда. Употреблять же междометие брысь вместо слова прочь можно только шутливо и в определенных речевых ситуациях.
Различны эти междометия и по своей этимологии. Слово брысь (см. айда, прощай, пли, стоп, усь и др.) является, очевидно, отглагольным. Его можно объяснить как образование, родственное словам брыснуть «отогнать, выгнать» (обычно кошку), бросать, брызгать и даже прыскать, ср. Хотелось брыснуть, а пришлось свистнуть, т. е. «Хотелось выгнать, а пришлось звать»; Кошка так и брызнула от собак на дерево (Даль В. Толковый словарь…); Ребята сразу же прыснули в разные стороны и т. д.
Совершенно «иного рода и племени» междометие прочь. Оно пришло в междометия из наречий. И сейчас рядом с междометием прочь не менее часто и охотно употребляется омонимическое наречие. Междометное прочь возникло из наречия прочь в результате выпадения глагола в оборотах типа пошел прочь. Само же наречие прочь является производным от общеславянского прилагательного прокъ, прочь «остальной, прочий» (ср. того же корня прочный, прочить, впрок и др.).
В темпе аллегро о вишь
Происхождение этого междометия (из видишь) правильно объяснял еще В. Даль (см. «Толковый словарь…»). Вишь является, таким образом, одним из многочисленных в междометной семье примеров отглагольных и аллегровых («скороговорочных») образований одновременно. Подробнее об этимологии данного слова можно прочитать в заметке «Откуда в слове ишь мягкий знак».
О третьем есть и единственном нет
В русском языке сейчас есть три слова есть. Одно есть < ѣсти является неопределенной формой глагола и значит «кушать». Другое есть представляет собой форму 3-го л. ед. ч. глагола быть и имеет значение «имеется». Они каламбурно объединены, например, в старой поговорке И зубы есть, да нечего есть.
Сейчас нас интересует третье есть – междометие, выступающее как ответ или отзыв на оклик или команду и имеющее семантику «слушаю, готов, согласен, хорошо, ладно». Находится ли оно в каком-нибудь родстве с предыдущими есть? И каково его происхождение?
В качестве морского термина это слово, как предполагают, пришло из английского языка. Однако тот факт, что английское уеs «да» было в таком случае у нас переоформлено именно в есть, не случаен. Он определенно связан с тем, что раньше в русском языке с таким же значением употреблялось выражение есть будет. Ср. употребление этого оборота в документах посольства стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию 1650–1652 гг.: И Алексей… говорил: Только изволит ц-ое в-во отписать о том к Александру царю… и царь Александр и католикос повеление е. ц-го в-ва совершат ли, и из Дидьян ее возьмут ли, и к Москве… пришлют ли. И митрополит сказал: Есть будет ц-ое в-во. К Александру царю и к католикосу отпишет, и тое ц-го в-ва повеление исполнят.
Таким образом, междометие есть выступает как скрещение английского уеs «да» и русского есть из старого сочетания есть будет «хорошо, согласен, слушаю».
С этим же есть «имеется» (от быть) связано кровными узами – как ни странно – и нет, возникшее (что уже отмечалось) после отпадения конечного безударного у из нету. Есть «имеется» и нету связаны между собой как исходное и производное, так как нету возникло из есть.
Нету представляет собой скороговорочный вариант (аллегроформу) сочетания нѣ(сть) ту «нет тут, нет здесь» из первоначального не есть ту. Старое несть < нѣсть «нет» еще сохраняется во фразеологизме несть числа «нет числа».
Здравствуй
Сколько раз за свою жизнь мы произносили это слово, самое распространенное и обычное русское междометие приветствия при встрече! Но вряд ли кто-нибудь из нас задумывался при этом о его исконном и исходном смысле. Сейчас оно для нас простой знак вежливости. А между тем первоначальное значение этого слова было глубоко благожелательным.
Ведь здравствуй буквально значит «будь здоров», возводить ли его непосредственно к форме повелительного наклонения глагола здравствовать «быть здоровым; жить» (здравствуи > здравствуй после отпадения конечного безударного и, ср. будь < бýди, но несú, возú и т. д.) или же объяснять как форму 1-го л. ед. ч. глагола здравствовать «приветствовать; желать здоровья» (здравствую > здравствуй после отпадения конечного безударного у).
Заметим, что правильнее – второе. А это значит – наше Здравствуй! аналогично по первоначальному строению современному Приветствую!..
Между прочим, такое же приветственное значение имело когда-то и слово целовать. Обычная для нас семантика этого слова (= лобзать) возникла в нем позднее, в связи с обычаем при встрече не только приветствовать, но и целоваться. Буквально же целовать «желать быть целым, невредимым, здоровым». Именно поэтому «Здравствуй!» у полабских славян – cʼol! «цел!». Ср. также немецкое хайль (< др. – в. – нем. heil «целый, здоровый»), также родственное общеславянскому цълъ «целый».
Стоп и штопор
Стоп! передает англ. stop «задержи, остановись», производное от to stop «задерживать, останавливать» (< лат. stuppare «затыкать, задерживать», образованного, в свою очередь, от stuppa «пакля»).
Отметим, кстати, что слову Стоп! являются родственными такие слова, как штопать, передающее нем. stopfen «затыкать, задерживать», восходящее к указанному латинскому глаголу, и даже – как это ни странно – штопор.
Последнее слово пришло к нам не из английского языка, где оно (stopper, st читается как ст) имеет «законное» значение «затычка, пробка», а из голландского, в котором оно (stopper, st читается как шт) получило как бы противоположное значение и стало обозначать приспособление для откупоривания.
Английское stopper в виде стопор «затычка, пробка» сохранилось сейчас лишь как непроизводная основа глагола стопорить (ср. застопорить).
Пли!
Об этом коротеньком слове скажем кратко. Оно тоже отглагольное. И также является бывшей формой повелительного наклонения русского глагола палить «стрелять» (ср. того же корня самопал, пальба).
Исходное пали «стреляй» изменилось в пли в разговорном стиле (ср.: барин – из боярин, бишь – из баишь, товсь – из готовься и т. д.).
Спасибо и пожалуйста
Эти два междометия вежливости являются совершенно различными с точки зрения своего происхождения. И все же они содержат в себе нечто одинаковое – глагольный в своей основе компонент, которым оба «начинаются».
Междометие спасибо возникло в результате сращения в одно слово устойчивого словосочетания спаси Бог < съпаси Богъ (конечное г отпало после утраты редуцированного ъ).
Слово пожалуйста было образовано от пожалуй с помощью частицы (а точнее – суффикса, восходящего к частице) – ста; ср. устаревшие спасибоста, здоровоста и т. д.
Исходное пожалуй появилось, очевидно, из пожалую «отблагодарю», формы 1-го л. ед. ч. от пожаловать (ср. благодарствуй < благодарствую), с отпадением конечного безударного у.
Что касается частицы– ста, то ее происхождение точно не установлено. Скорее всего, она является такой же бывшей формой 2—3-го л. ед. ч. аориста (от глагола стать), как частицы бы и чу (см. ниже).
Ура
По данным картотеки древнерусского словаря Института русского языка РАН, слово ура впервые отмечается в «Юрнале» 1716 г.: В пятом часу король и все протчие… кричали ура трижды (ср. в «Походном журнале» 1721 г.: Палили из тринадцати пушек, кричали ура по отъезде пять раз). Эта первая фиксация слова ура, относящаяся к Петровской эпохе, причем в контексте, характеризующем действия иноземцев («короля» и если не всех, то также и некоторых «протчих»), позволяет согласиться с М. Фасмером, который считает (см. его «Этимологический словарь русского языка»), что это слово «из-за значения скорее является заимствованным из н. – в. – нем. hurra от ср. – в. – нем. hurrä, которое восходит к hurren «быстро двигаться», чем из тюрко-татарск. ича «сбивай» от urmak «бить».
Таким образом, первоначальное значение междометия ура было «быстро вперед».
Время появления в русском языке, сфера первоначального употребления и значения слова ура совершенно исключают выдвинутую недавно А. И. Германовичем точку зрения о том, что «ура пришло к нам от народов нашего Востока» (Междометия русского языка. Киев, 1966. С. 32). Указываемое им якутское уруй (шаманский возглас) «даруй, ниспошли» никакого отношения к нашему ура не имеет.
Слово ура известно не только русскому языку, но и употребляется во многих других. Ср. франц. hurrah, швед. hurra, итал. hurra, дат. hurra, исп. hurra, англ. hurrah и т. д.
Слово ура выступает перед нами как образование, аналогичное междометиям айда, алле «вперед, марш» (франц. allez < allez «идите» от aller «идти»), марш и т. д.
Два исчезнувших звука в слове усь
Междометие натравливания собак (а усь служит именно для этого) появилось в разговорном стиле как аллегроформа (т. е. скороговорочная форма) слова кусь. Последнее возникло после отпадения конечного безударного и из куси «кусай», формы повелительного наклонения глагола кусать «укусить» (кусь < куси после отпадения конечного безударного и, как встань < встани, брось < броси; ср. неси, гони с ударным и); глагол кусить, известный сейчас лишь в диалектах, относится к литературному кусать, так же как бросить к бросать.
Таким образом, по первоначальному характеру усь аналогично своему французскому собрату пиль (франц. pille «хватай» < piller «хватать»). А по фонетической судьбе кусь > усь напоминает ишь (см. выше). Междометие усь лежит в основе глагола науськивать «натравливать, подстрекать», его не следует смешивать с близким по значению глаголом наустить, наущать «подговорить, подстрекать», этимологическим корнем которого является существительное уста «рот».
Галлицизм ли фюить?
Образное и эмоциональное выражение исчезновения чего-нибудь, каким является междометие фюить, обычно считается иноязычным, пришедшим в нашу речь из французского языка. В таком случае оно возводится к французскому существительному fuite «бегство».
Сфера употребления и характер слова фюить заставляют, однако, сильно сомневаться в этой этимологии.
Думается, что здесь мы имеем дело с передачей звуковыми средствами языка короткого и энергичного свиста. Возможно, что присущее междометию фюить значение закрепилось за ним в связи с тем, что глагол просвистать переносно обозначал «промотать состояние, деньги».
Чуть-чуть о чу
Народно-поэтическое междометие чу призывает нас к вниманию и значит «слушай!», «слышишь?».
Вслед за А. И. Соболевским его принято объяснять как бывшую форму 2—3-го л. ед. ч. аориста от глагола чуть (< чути) «слышать, ощущать», до сих пор еще известного в русских диалектах. Вероятно, это так и есть. Как бы то ни было, его родство с указанным глаголом (в литературной речи он известен лишь в «осложненном» виде чуять «чувствовать»; ср. отношения бати – в баять, сѣти – в семя и сеять и т. д.) несомненно. Как старая форма 2—3-го л. ед. ч. аориста слово чу в таком случае аналогично частице бы. По своему внутреннему образному стержню оно похоже на слова внимание! (от внимать «слышать»), слышь (из слышишь).
Между прочим, первое слово заглавия этой заметки, каламбурно сближенное с чу, является и на самом деле ему очень близким. Ведь чуть (чуть-чуть образовано удвоением; ср. еле-еле, только-только и др.) произошло от того же глагола (ср. знать «должно быть, вероятно» – от глагола знать), что и междометие чу.
Первоначальное значение слова чуть, таким образом, – «ощущаемое, самая малая часть чего-либо, которую можно ощущать, чувствовать». Думаю, что если вы не знали, то теперь догадываетесь, что и два последних слова в предыдущем предложении того же корня, что и наше чу.
От чш! до цыц!
Думаю, что вряд ли кто-нибудь из читателей чувствует родство этих междометий. Вот смысловую близость этих слов ощущает каждый говорящий: ведь и то и другое обозначает прежде всего требование молчать. Что же касается общности в их происхождении, то, вероятно, она кажется вам сомнительной и сейчас. И тем не менее эти два слова связаны между собой очень тесными этимологическими узами. И не только эти. Известно, что приказ соблюдать тишину выражается также и словами ш-ш! тсс! сс! тс! Они тоже близкие родственники наших чш! и цыц! Однако степень родства отмеченных междометных синонимов, требующих тишины, разная. И дальше всего, в самом конце этого синонимического ряда стоит цыц! Начинает же этот ряд слово, которое еще не называлось, но назвать которое совершенно необходимо потому, что оно является родоначальником всех остальных. Это слово тише! Однако не все междометия, выражающие приказ молчать, непосредственно восходят «к слову тише, у которого опущены гласные и иногда изменяются согласные» (?!), как считает А. И. Германович (Междометия русского языка. Киев, 1966. С. 39). От слова тише образовалось – как «скороговорочная» форма разговорного стиля – только междометие чш! (ср. вишь из видишь): тш! > чш! с долгим шипящим. Уже на базе чш! возникло (с устранением аффрикатного затвора) ш-ш! и (с заменой шипящего согласного свистящим) тсс! Это последнее, с одной стороны, дало с устранением аффрикатного затвора – сс! а с другой стороны, после устранения длительности свистящего – тс! (= ц), произносимого нередко также и в вокализованном виде с гласным ы – цы. Именно от него с помощью суффикса – ка (ср.: мяукать, тявкать, тыкать «говорить ты», акать и т. д.) и был образован (Преображенский А. Этимологический словарь русского языка) глагол цыкать, междометным производным от которого – по аналогии со словами типа бац – является вульгарно-грубоватое цыц.
Как видим, от исходного тише до цыц – несколько промежуточных звеньев, но и эти слова находятся между собой действительно в родственных отношениях.
Шабаш!
Междометие это имеет значение «довольно, хватит» и в этом отношении аналогично слову баста (см. выше). Однако его происхождение иное – не глагольное. Оно возникло в русском языке на базе существительного шабаш, имевшего семантику «отдых, конец работы», «день отдыха», а еще раньше – «суббота».
С последним значением существительное шабаш было заимствовано нашим языком из польского, в котором szabes передает евр. schabbes. Кстати, существительное суббота является, по существу, тем же словом, что и шабаш. Только пришло оно к нам значительно раньше, еще в древнерусскую эпоху и из старославянского языка. А туда это существительное попало из греческого, где sambaton передает др. – евр. šabbāth. Пара шабаш и суббота – один из примеров, иллюстрирующих большое значение, которое имеют в процессе заимствования различные языковые посредники, и переоформление иноязычных слов по внутренним законам русского языка.
Чтобы не считать этот случай исключительным, достаточно вспомнить такие слова, как сарай и сераль, мастер и маэстро, известь и асбест, гитара и цитра, рынок и ринг, таллер и доллар, фунт и пуд, и другие им подобные.
Среди фразеологизмов
Лишь только

В ряд ли вас когда-нибудь специально интересовало это устойчивое словосочетание. Таких немало среди частиц и союзов русского языка, очень привычных и совершенно безобразных.
Между тем выражение лишь только не такое уж обычное и заурядное, как мы привыкли считать. И это становится очевидным, лишь только мы обратимся к его конкретному значению как выделительно-ограничительной частицы (Лишь только слышно: кто идет? – Лермонтов) или временного союза (пример можно не приводить: им является только что прочитанное вами предложение). В самом деле, оборот лишь только синонимичен, равен по значению отдельным словам, его составляющим (лишь и только). Лишь только можно заменить и одним первым его компонентом лишь, и одним вторым только. Понятно, почему: лишь и только сейчас употребляются как синонимы, обозначают одно и то же.
Таким образом, оказывается, что выражение лишь только принадлежит к числу фразеологических оборотов, построенных на синонимии, составленных из однозначных слов, тавтологически повторяющих в усилительных целях одно и то же (ср.: целиком и полностью, судить да рядить, ум за разум заходит, переливать из пустого в порожнее, маг и волшебник и т. д.).
Однако – и это еще один любопытный факт, касающийся данного оборота, – слова, его составляющие, не всегда были синонимами.
В устойчивом словосочетании вокруг да около бывшие синонимы (вокруг – от круг, около – от коло «круг», ср. округ, окрест) превратились в слова с разным значением: вокруг – не около. В нашем же выражении несинонимы превратились в синонимы.
Об исконной несинонимичности лишь и только ярко свидетельствует старая поговорка Только стало, а лишку нет. Только восходит к толико (ср. малая толика), обозначавшему первоначально «столько» («сколько есть»), т. е. определенное любое количество.
Лишь возникло из лише «больше, сверх, свыше» (после отпадения конечного безударного е; ср.: авось из авосе < а осе «вот»), сравнительной формы от прилагательного лихъ «большой, лишний» (давшего также и лишек «излишек»). Мягкий знак в слове лишь стали писать по аналогии со словами типа авось, с одной стороны, и бишь – с другой.
Где же были смысловые точки соприкосновения в таких искони разных по значению словах, как лишь и только? Они обнаружились, очевидно, в обозначении словом толико > только малого количества (недаром в «Толковом словаре…» В. Даля лишь и только объясняются через посредство слов чуть, едва, еле) в контекстах типа малая толика, только-только хватило и т. д.; излишек же всегда был по отношению к общему количеству небольшим.
Люблю молодца за обычай
Этой поговоркой мы хвалим, одобряем чье-либо поведение или поступок.
Превращению фразы в устойчивое словосочетание способствовала потеря словом обычай того значения, которое было ему свойственно в исходном переменном словосочетании: «умение, сноровка» (между прочим, первоначально слово обычай к своим родственникам навык, учеба стояло значительно ближе). Таким образом, буквально люблю молодца за обычай значит «люблю молодца за умение, сноровку».
Кануть в вечность
Этот оборот, на первый взгляд самый заурядный и неинтересный, позволит нам познакомиться с тем, как создаются новые устойчивые сочетания слов по модели.
Как известно, кануть в вечность значит «исчезнуть навсегда и бесследно, подвергнуться совершенному и полному забвению». Сравнение этого целостного значения со значениями составляющих оборот слов, несомненно, указывает на моделированный характер нашего фразеологизма.
В самом деле, глагол кануть вначале обозначал «упасть каплей, капнуть». Так, еще у А. С.Пушкина читаем: Слеза повисла на реснице И канула в бокал.
Современная форма капнуть возникла значительно позже, чем кануть. Образование кануть общеславянское, а капнуть собственно русское, оно отмечается в словарях лишь с XVIII в. Кстати, образовалось оно на базе кануть в результате переноса п из капать.
Отмеченное начальное значение кануть «упасть каплей, капнуть» исключает существование в прошлом свободного сочетания слов кануть в вечность, имевшего прямое значение. Ведь кануть «упасть каплей, капнуть» в вечность «в бесконечное существование во времени» невозможно. Это значит, что наше выражение не могло возникнуть из переменного словосочетания (именно так появился оборот перемывать кости; см. заметку «О слове костить и обороте перемывать косточки»), а образовалось по модели на базе уже существовавшего в языке фразеологического образца.
Как же появился на свет оборот кануть в вечность? Расскажем об этом в хронологическом порядке. В начале было слово… да, было слово кануть. Затем с его участием возник сравнительный оборот исчез (или пропал), как в воду канул.
В этом обороте слова как в воду канул обозначали «бесследно, не оставив следа» (действительно, разве найдешь упавшую в воду каплю?).
В процессе употребления выражение исчез (пропал), как в воду канул сокращается. Глаголы исчез и пропал становятся необязательными. Появляется самостоятельный фразеологический оборот как в воду канул (а далее и – без союза! – в воду канул), причем уже не с наречным значением «бесследно», а с современным глагольным значением «исчез, пропал бесследно».
На основе этого разговорного выражения в начале XIX в. в книжной речи (в первую очередь в поэзии) был образован оборот кануть в Лету (в древнегреческой мифологии Лета – «река забвенья в подземном царстве»), ср. у Н. В. Гоголя: Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь этакую Лету, как называют поэты. Этот оборот получил не только значение «бесследно исчезнуть», но также значения «исчезнуть навсегда» (ведь из подземного царства, т. е. с того света, не возвращаются!) и «стать совершенно забытым, подвергнуться полному забвению» (ведь Лета – это река забвенья, из которой души умерших пили воду, чтобы забыть свою прошлую жизнь). Все эти значения по наследству от своего родителя кануть в Лету получило и наше выражение кануть в вечность. Оно возникло в результате замещения слова Лета словом вечность, извлеченным из оборотов отойти в вечность, переселиться в вечность в значении «умереть».
Таким образом, фразеологизм кануть в вечность представляет собой скрещение, контаминацию оборотов кануть в Лету и отойти, переселиться в вечность. В этих оборотах слово вечность имеет значение «загробная жизнь» (вечная по религиозным представлениям, в отличие от жизни на этом свете), ср. синонимичное выражение отправиться на тот свет.
Очень интересно индивидуально-авторское преобразование фразеологизма кануть в вечность – связанное с оживлением «этимологических представлений» – у В.Г.Белинского: Тихо и незаметно еще канул год в вечность, канул, как капля в море.
Филькина грамота
Так мы называем не имеющую никакого значения пустую бумажку, липовый, не обладающий какой-либо реальной ценностью документ. Как показывает лексический состав этого выражения и сравнение с оборотами, имеющими то же опорное слово (жалованная грамота, духовная грамота, купчая грамота и т. п.), наш фразеологизм возник по модели с «оглядкой» на выражения типа духовная грамота. Притяжательное прилагательное от интимно-пренебрежительного имени Филька, появившееся на месте относительных прилагательных типа духовная, придало нашему обороту яркую экспрессию.
Значение фразеологизма первоначально было несколько иным, чем сейчас. Об этом недвусмысленно говорит нарицательное употребление существительного филька в значении «глупый, недалекий человек, дурак» (ср. простофиля). Филька образовано от Филя, которое, в свою очередь, является производным от Филимон. Вспомните аналогичные фофан < Феофан, фефёла < Феофила и т. п.
Таким образом, филькина грамота буквально значило «глупо составленный, плохо написанный документ».
Во весь опор
Этим фразеологическим оборотом выражается понятие чрезвычайной быстроты движения. В силу этого он сцепляется только с такими глаголами, которые обозначают соответствующее действие (бежать, скакать, мчаться, нестись и т. д.), причем глаголы с приставками обозначают начало движения. Поэтому, например, во весь опор, т. е. «очень быстро», можно только бежать и побежать. Употребить это выражение при глаголе прибежать уже нельзя. Если мы захотим понятие «очень быстро» при глаголе прибежать выразить фразеологически, то придется прибегнуть к каким-нибудь другим оборотам, вроде в мгновение ока (ср.: прибежал он в мгновение ока).
Отмеченная разница в употреблении синонимических оборотов во весь опор и в мгновение ока с глаголами движения определяется различием той образной структуры, которая для этих выражений была характерна в начале их фразеологической жизни.
Фразеологический оборот в мгновение ока в значении «очень быстро» (мгновение от мигнуть; ср.: дуновение – от дунуть; око – то же, что глаз) восходит к выражению идеи маленького отрезка времени, буквально такого, в который можно лишь один раз моргнуть. Фраза прибежал он в мгновение ока, собственно, значит «прибежал он, затратив столько времени, сколько нужно, чтобы моргнуть».
Совершенно иная биография у выражения во весь опор. И идет оно в своем современном значении «очень быстро» уже не от характеристики времени, затраченного на движение, а от наименования образа действия, способа, посредством которого осуществляется движение.
Первоначально оборот во весь опор употреблялся лишь для обозначения особого бега лошади – галопа, когда она скачет «во весь опор», опираясь почти одновременно то на обе передние, то на обе задние ноги.
Между прочим «лошадиное» происхождение имеют и синонимические нашему выражению фразеологизмы во весь дух и во все лопатки. Второй оборот чуть ли не полностью повторяет образную структуру выражения во весь опор: во все лопатки буквально значит «во все передние ноги, скоком» (ср. оборот со всех ног), ведь лопатки у лошади – это «плоские широкие треугольные кости в верхней части спины, к которым прикреплены передние ноги». Что касается выражения во весь дух, то оно (дух здесь имеет значение «дыхание»; ср.: перевести дух «отдышаться», дух захватило «стало трудно дышать») аналогично выражению что есть духу и значит «так быстро, насколько хватает дыхания».
Заметим, что первоначально словами-спутниками всех трех разобранных выражений были глаголы скакать и бежать, со словами мчаться и нестись они стали сцепляться позднее.
Прокатить на вороных
Прокатить на вороных – значит «забаллотировать, провалить на выборах». Возникает естественный вопрос: откуда появилось такое значение у этого, казалось бы, типично «транспортного» оборота?
Метафорическое значение появилось у него в XIX в. из каламбура, который объясняется существовавшей тогда процедурой голосования белыми («за») и черными («против») шарами.
Каламбурное устойчивое сочетание слов прокатить на вороных буквально, таким образом, обозначает «положить кому-нибудь черные (вороные) шары».
Так, по прихоти словесной игры (правда, очень удачной) слово вороные, обозначавшее лошадей, получило в данном обороте значение «шары».
Прописать ижицу
Это шутливое выражение представляет собой выразительный фразеологический эквивалент словам высечь, наказать. По своему происхождению оно тесно связано с нашей старой азбукой и письмом и существовавшей ранее на Руси «пóрочной» (и, конечно, порочной) методой обучения грамоте отстающих. Для того чтобы стало ясно, как родилось это устойчивое сочетание слов, надо знать, во-первых, что такое ижица, и, во-вторых, каково здесь значение глагола прописать. Ижица – это название последней буквы старого кириллического алфавита, которая по форме напоминает развилку. Что касается глагола прописать, то в нашем обороте он употребляется в значении «очень хорошо написать, написать образцово, так, как пишут для прописи».
Если учитывать, что очень часто прописные буквы ранее писали не чернилами, а красной краской, то становится особенно понятной меткость иронии выражения прописать ижицу. Ведь при «хорошей», старательной порке (когда удары ложатся под углом друг к другу) на теле действительно возникает что-то вроде прописной ижицы.
Разные шалаши
Всем известны популярные выражения С милым рай и в шалаше и Милости прошу к нашему шалашу. Пословица С милым рай и в шалаше значит «с любимым человеком всегда хорошо, даже в очень стесненных материальных условиях». Поговорка Милости прошу к нашему шалашу является фамильярно-шутливым приглашением присоединиться к компании, сесть за стол. Выражения эти очень непохожие, но есть в них и общее. Сближает эти обороты наличие в их составе существительного шалаш. Однако шалаши в этих выражениях, при всей своей близости друг к другу, все же разные. И эта разница смысловая, она возникла в результате развития у слова шалаш переносного значения. Но почувствовать и увидеть ее можно лишь тогда, когда мы узнаем биографию обоих выражений.
Пословица С милым рай и в шалаше возникла в XIX в. По своему происхождению она является получившей крылатость строчкой из стихотворения поэта Н.М. Ибрагимова «Русская песня» (1815), которое не только очень быстро завоевало любовь и популярность, но и действительно стало русской народной песней. Фраза из песни вошла в пословицу. Вот ее родное четверостишие, откуда она была извлечена:
Не ищи меня, богатый:
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
Как видим, здесь шалаш значит «бедное жилище», «лачуга», «легкая постройка», наскоро сделанная, как выражается В. Даль, «из подручных припасов» (веток, соломы и т. д.). Недаром ведь он противопоставляется слову палаты предыдущего предложения (Что мне, что твои палаты?).
Иное (уже вторичное и более узкое) значение имеет слово шалаш в поговорке Милости прошу к нашему шалашу. В ней шалаш выступает уже не как антоним существительного палаты, а как синоним его уменьшительно-ласкательного производного палатка (!) в значении «легкая постройка с прилавком для мелкой торговли». Дело в том, что выражение Милости прошу к нашему шалашу, несомненно, пришло из речи мелких торговцев на ярмарке, зазывавших покупателей каждый к своему шалашу – небольшой палатке или ларьку с товарами (в них нельзя было войти, как, например, в лавку, к ним можно было только подойти).
Такое значение слова шалаш в XVI–XVIII вв. было очень употребительным. Два примера из многих. В писцовых книгах Казани 1565–1568 гг. читаем: Среди площади шалаши, а сидят в них с рыбою с вареною и с пироги с пряжеными и с кисели.
В «Проекте законов о правах среднего рода жителей» 1768 г. находим: Мелочные купцы суть те, которые, не быв в состоянии имети лавки, сидя в прилавках и так называемых окошках и шалашах, мелочные товары, назначенные для торгу им, продают в розницу.
Заметим, что подобное развитие «торгового» значения наблюдается и у некоторых других названий построек. Достаточно назвать слова палатка – 1) «временное помещение из натянутой на остов ткани», 2) «легкая постройка с прилавком для мелкой торговли»; балаган – 1) «легкое строение, предназначенное для временного жилья», 2) «легкая постройка для торговли и зрелищ»; шатер, имеющее в сербскохорватском языке значения «шатер» и «рыночная палатка»; киоск (во французском языке первоначально «садовая беседка»); павильон (исходно лишь «палатка, шатер»).
Как ни кинь – все клин
Этот фразеологический оборот интересен не только по значению, но и по структуре. Образующие его части связаны между собой в единое целое (помимо грамматических и смысловых отношений) с помощью неточной, но очень удачной рифмы. Поэтому в речи он выступает как своеобразное «фразеологическое стихотворение», подобное выражениям типа редко да метко, Федот да не тот, ни ответа ни привета, ни кожи ни рожи, для милого дружка и сережка из ушка и т. п. У фразеологизма как ни кинь – все клин есть вариант куда ни кинь – все клин, возникший независимо, но при тех же самых обстоятельствах.
Значение обоих выражений можно сформулировать так: «выхода из положения нет» (ср. в романе И. С.Тургенева «Новь»: Только от этого мне бы не было легче – и ничего бы не изменилось… Куда ни кинь – все клин!).
По происхождению наши фразеологические синонимы связаны с бывшим ранее крестьянским обычаем при распределении общинной земли кидать жребий. Заметим, что земля при этом (хорошая и плохая отдельно) распределялась малыми долями. В исходном свободном сочетании слов существительное клин значит «самая маленькая мера земли, узенькая полоска поля» (даже меньше осминника, т. е. 1/8 десятины, ср. старую пословицу Не постой за клин, не станет и осминника, имевшую обобщенно-метафорическое значение «Уступишь в малом, не будет и большого»).
Это объясняет современную семантику разбираемых оборотов. Ведь действительно выхода из положения нет, если, как и куда ни кинь крестьянин жребий при дележе земли, все равно целого хорошего участка он не получит: достанутся одни клинья.
Заварить и расхлебывать кашу
В заглавии заметки для краткости два оборота объединены. Обычно же они употребляются в речи отдельно и представляют собой антонимы. Ведь заварить кашу значит «затеять хлопотное и сложное дело (иногда даже очень неприятное)», а расхлебывать кашу, напротив, – это «хлопотное и сложное дело распутывать». В рамках одного словесного целого оба эти выражения обязательны лишь в поговорке Сам кашу заварил, сам ее и расхлебывай, т. е. «сам затеял что-либо хлопотное, сам и выпутывайся».
Каково происхождение этих очень употребительных выражений? Почему и откуда появились у них указанные значения (явно образно-метафорического характера)?
Сначала были свободные сочетания слов заварить кашу и расхлебывать кашу. Современное обобщенно-переносное значение у них появилось после того, как слово каша стали употреблять в значении «званый обед, праздник по поводу крестин или свадьбы» (такое значение существительное каша в диалектах сохранило и сейчас), а затем и в значении «беспорядок, суматоха, сумятица, путаница».
Заметим, что последнее значение у кулинарных терминов развивается очень часто (ср. хотя бы существительные винегрет, кавардак и вермишель).
Интересно, что подобное развитие пережило слово, родственное глаголу из выражения заварить кашу, – простонародное существительное заваруха, также имеющее значение «сложное и запутанное дело». Оно тоже вначале имело только «кулинарное» значение и было одним из названий каши (в диалектах «кашные» имена завара, заваруха, заварила еще известны).
Что же касается противопоставления слова заварить именно глаголу расхлебывать, а не какому-либо другому, то это объясняется тем, что слово каша обозначало прежде не современную кашу, т. е. одно из вторых блюд, а первое блюдо – похлебку из крупы (с этимологической точки зрения каша буквально значит «крупа, очищенное зерно»). Кашу тогда можно было действительно расхлебывать.
Заметим, что слова кашевар и однокашник появились как производные от словосочетаний варить кашу и одной каши, в которых существительное каша имеет еще одно, пока не названное значение «артель, семья», в русских диалектах XIX в. очень распространенное. Слова кашевар и однокашник в момент возникновения их в языке соответственно обозначали артельного повара и товарища по артели или воспитывающегося в той же семье.
Китайская тень в единственном числе
В поэме «Сашка» М. Ю. Лермонтов подробно описывает слугу героя – арапа Зафира, прототипом которого был слуга в доме Лопухиных (думается, что не надо подробно о них говорить: все знают, что поэт страстно и долго любил В. А. Лопухину). Зафир «жил у Саши как служебный гений, Домашний дух (по-русски домовой)».
В 133-й строфе поэмы герой дает ему поручение: И, наконец, он подал знак рукой. И тот исчез быстрей китайской тени. Приведенное двустишие содержит сравнение, которое наверняка многих ставит в тупик, и потому нуждается в толковании.
Действительно, что хотел сказать поэт, сообщая нам, что Зафир исчез быстрее, чем китайская тень? И вообще не странно ли сочетание этих слов? Ведь тень может быть густой, длинной и т. д., но не русской, французской и др. Ответ на этот вопрос требует не только языковых фактов. Надо вспомнить также, что среди видов искусств существует такой, как театр теней, род игрушечного картонного театра, при котором между «показывающим» экраном и источником света используются плоские куклы из бумаги или кожи, создающие на той или иной декорации различные силуэты. Родился он в Азии, к нам попал из Китая, откуда и пошло его название китайские тени (ср.: Большой он балагур и потешник… даже китайские тени умел представлять – Тургенев). Оборот китайские тени как наименование театра употребляется только во множественном числе. У Лермонтова, как и у некоторых других писателей, мы наблюдаем словосочетание «единственного числа» (китайская тень), приобретающее переносное значение – «быстро двигающийся силуэт куклы, призрак».

Не ради красного словца о фразеологизмах красный угол, красное знамя и им родственных
В русском языке есть слова, разные по своей способности «образовывать» фразеологические обороты. Одни держатся особняком, употребляясь только как самостоятельные единицы. Другие иногда свободно сливаются со своими соседями в единое целое, превращаются в компоненты устойчивых сочетаний слов, при необходимости извлекаемых нами из памяти в составе своеобразного словесного блока. К числу таких слов, равно известных и в свободном употреблении, и в виде составной части фразеологизма, принадлежит, в частности, прилагательное красный. В свободном употреблении слово красный имеет сейчас только одно – цветовое – значение, которое, кстати, является исконным и собственно русским, возникшим уже в эпоху раздельного существования восточнославянских языков. Что же касается его фразеологически связанного употребления, то здесь мы наблюдаем целую гамму значений: 1) «красный», 2) «красивый, хороший», 3) «почетный», 4) «революционный, связанный с советским строем», 5) «ясный, светлый» и др.
Во фразеологизмах, образующих заглавие данной заметки, реализуется несколько названных значений. В обороте не ради красного словца «не для того, чтобы только красиво сказать» ясно видно значение «красивый» (а красивым может быть меткое и выразительное слово), ср. красноречие.
В обороте красный угол «самое почетное место в избе или комнате» явственно проглядывает семантика «почетный». В обороте красное знамя просвечивают сразу два значения – цветовое «красный» и идеологическое «революционный».
Ну а теперь о родословной названных фразеологизмов. Биография их различна. Фразеологизм красное знамя «знамя революции (красного цвета)» является калькой французского выражения drapeau rouge. Вспомните, например, как в 1848 г. погиб во Франции Рудин, герой одноименного романа И. С.Тургенева: …Вдруг на самой ее вершине (баррикады. – Н. Ш.) …появился высокий человек в старом сюртуке… в одной руке он держал красное знамя, в другой – кривую и тонкую саблю и кричал что-то напряженным тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая знаменем и саблей.
В советскую эпоху (в 20-е гг. XX в.) появился ныне уже устарелый фразеологический оборот красная доска. Одновременно с ним родился и его антоним – черная доска. На красной доске отмечали ударников, на черной – отстающих. Сейчас более употребительным и частотным в значении «красная доска» является фразеологизм доска почета, которая по цвету уже не всегда красная. Оборот красная доска образовался как фразеологическое целое в результате переносно-метафорического переосмысления свободного сочетания слова.
Путем фразеологизации первоначального переменного сочетания слов возникло и выражение красный угол. Но его конкретная этимология серьезно отличается от предыдущих. Во-первых, наблюдается разница в исходном материале: слово красный выступает здесь в паре со словом угол в значении «почетный, передний, парадный» (ср. красное крыльцо = парадное крыльцо). Во-вторых, по времени своего возникновения оборот красный угол восходит к древнерусскому языку.
Совершенно иным, нежели разобранные, предстает перед нами фразеологизм, начинающий заглавие заметки. Ради красного словца родилось в результате аббревиации (сокращения) поговорки Ради красного словца не пожалеет родного отца, точно так же, между прочим, как распространенное сейчас выражение не красна изба углами (см. выше о красном угле), являющееся сокращением выражения Не красна изба углами, а красна пирогами. Такой способ оборотообразования довольно продуктивен (см. об этом заметку «Собаку съел»).
О фразеологизмах черный ящик и черная дыра и их опорных существительных
В последние годы в русский литературный язык беспрестанно вливается поток заимствований из английского языка, иногда, между прочим, вовсе не обязательных в нашей богатой и выразительной речи.
Среди этого наплыва англицизмов мы видим большое количество фразеологических калек самого различного рода, но в основном относящихся к научно-технической и общественно-политической сфере общения (ср.: летающая тарелка < англ. fluing saucer, кризис доверия < англ. credibility gap, черный рынок < англ. black market, детектор лжи < англ. lie detector, джентльмены удачи «бандиты, авантюристы» < англ. gentlemen of fortune, закон джунглей < англ. the low of the Jungle, холодная война < англ. cold war, ветер перемен < англ. the wind of change, политика с позиции силы < англ. the position of strength policy, утечка мозгов < англ. brain(s) drein и т. д.).
Парой недавних фразеологических англицизмов терминологического характера, омонимичных свободным сочетаниям прилагательного черный с существительными ящик и дыра, являются обороты черный ящик и черная дыра. Фразеологическим термином черная дыра называется обычно космический объект, являющийся результатом коллапса (т. е. катастрофического гравитационного сжатия) звезд.
Оборот черный ящик означает и «какой-либо объект, внутреннее устройство которого неизвестно», и «метод исследования таких объектов, о которых знаем только то, что характеризует их на входе и на выходе, процессы же, происходящие в них, не даны и требуют разгадки». Этот фразеологизм появился в русском языке немного ранее оборота черная дыра (в 60-е гг. XX в.).
Опорные существительные разобранных оборотов еще интереснее, особенно если иметь в виду их переносные значения.
Слово дыра по своему фонетическому обличию собственно русское и подобно словам типа крыло (из др. – рус. крило), в которых старое и в результате аналогического замещения заменилось звуком ы.
По всей вероятности, древнерусское дира > дыра появилось в результате контаминации с разрывать (так же, как крыло (из крило) – в результате контаминации с крыть). Мнение о том, что ы в дыра появилось от нырять по семантическим связям слов, явно ошибочное. Вообще же дира – безаффиксное производное от дирати «разрывать, раздирать». Об этом писал уже И. И. Срезневский (Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. С. 666), раньше, чем Бернекер и Брюкнер (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Слово дыра «отверстие, щель, прореха» в XIX в. получает значение «захолустье, глушь». Как и оборот черная дыра, слово дыра в значении «глушь, захолустье» не исконное. Оно, очевидно, является, как и англ. hole «захолустье, глушь», калькой франц. trou с той же переносной семантикой.
Семантической калькой является и существительное ящик в его забавном значении «телевизор». Только здесь уже новую семантику нашему старому слову «подарил» разговорный английский язык благодаря хорошо известному нам существительному box, ведь последнее вошло в русский язык в виде технического и медицинского термина и так, в его «живом» виде: бокс и «герметически закрытая камера», и «изолированное помещение в медицинских учреждениях».
Но вернемся к слову ящик. Оно имеет еще одно необычное значение. В живой непринужденной разговорной речи (не ранее 60-х гг. XX в. мы нередко употребляем его в значении «закрытое учреждение или предприятие, которое обозначается в официальной речи номером почтового ящика». Эта семантика исконно русская, она возникла в нашем языке и ведет нас к фразеологизму почтовый ящик. Сравните выражение номерной завод «закрытый завод», обязанное своим рождением уже номеру почтового ящика. Разбираемые факты показывают, как слова и их значения возникают… из текста. Ведь вначале кажется, что процесс языкотворчества может идти только в обратном порядке: от слова (с его прямым и переносным значениями) к тексту.
В заключение несколько слов о слове ящик в его первозданном смысле. Оно появилось в русском языке как уменьшительно-ласкательное существительное с суффиксом – ик, подобно словам домик, мостик, мячик и т. д. В словарях фиксируется только с «Лексикона треязычного» Федора Поликарпова 1704 г. От какого слова оно было образовано? От существительного яскъ, «вылупившегося» из слова аскъ (ср. агнец, но ягненок). Что же касается древнего аскъ «ящик, корзина, коробка», то его происхождение, как говорят, покрыто мраком неизвестности. Обычно его считают переоформлением др. – сканд. askr «деревянный сосуд» или eski «корзина, чашка».
Два разных сезона
Речь пойдет о бархатном и мертвом сезонах. Действительно, это совершенно разные вещи, а отсюда и абсолютно чужие друг другу фразеологические обороты. Они отличаются и значением, и родословной. Выражение бархатный сезон обозначает «осенние месяцы (сентябрь и октябрь) на юге». Фразеологизм мертвый сезон – это «время затишья». Первое возникло в нашем языке в результате фразеологизации свободного сочетания слов, где прилагательное бархатный имеет значение «мягкий, умеренно теплый» (ср. зима была мягкая, погода становится мягче). Второй представляет собой одну из фразеологических калек с прилагательным мертвый. Скорее всего, оборот мертвый сезон является калькой франц. morte saison (во французском языке он отмечается с XV в.). Соответствующие выражения есть и в других языках Западной Европы (ср. нем. tote Saison, англ. the dead season), но, думается, что и в этих языках указанные фразеологизмы являются галлицизмами.
Из фразеологических калек со словом мертвый следует прежде всего указать выражения мертвый язык (франц. langue morte), мертвая точка (франц. point mort), мертвый капитал (нем. totes Kapital), мертвый груз (англ. dead load).
И специально – оборот живой труп, укрепившийся как оксюморонное сочетание Л. Н. Толстого, которым он назвал свою драму, несомненно исходя из французского фразеологизма un mort vivant (буквально – «живой мертвый»). Выражение мертвые души, ставшее крылатым с появлением поэмы Н. В. Гоголя под таким названием, особенно во вторичном, тоже оксюморонном значении «люди, мертвые духом», является уже собственно русским от корки до корки и входит в серию исконных субстантивных фразеологизмов во главе с прилагательным мертвый типа мертвая петля (после соответствующего полета Нестерова), мертвый сон, мертвая вода (в сказках) и т. д.
Но оставим в покое первый компонент наших «заглавных» фразеологизмов и ненадолго обратимся к их опорному слову сезон. Оно толкуется как лексическая единица, имеющая сейчас в русском языке два связанных друг с другом значения (см., например, 17-томный «Словарь современного русского литературного языка»): «1) одно из времен года, 2) часть года, наиболее подходящая и обычно используемая для какой-либо деятельности, занятий, работ, отдыха и т. д.». Среди второго значения выделяются еще два «созначения»: «а) период времени, в течение которого работают театры, б) время созревания плодов, цветения растений».
Внимательный анализ употребления существительного сезон в настоящее время заставляет дать корректировку его толкованию: слово сезон следует охарактеризовать как однозначное, имеющее одно-единственное значение – «определенный отрезок времени в году», все остальные – «от лукавого» и являются выходом за пределы слова в контекст. Значение слова сезон в словосочетаниях зимний сезон, сезон охоты, купальный сезон, фруктовый сезон, футбольный сезон и т. д. абсолютно одинаково.
Такое же по семантике французское сезон, заимствованное нами во второй половине XIX в., демонстрирует явление расширения значения. Этимологически оно восходит к лат. satio «время сева», того же корня, что и слова сев, сеять, семя.
Мурашки забегали
Фразеологический оборот, представленный в заглавии, имеет целый ряд родственных, имеющих то же опорное слово и семантику «бросило в озноб» (от холода, страха, волнения и т. д.). К нему примыкают выражения с глаголами пошли, пробежали, побежали, поползли и существительными по спине, телу, коже. Все эти фразеологизмы имеют ярко выраженный разговорный характер и употребляются часто и охотно.
Свободное сочетание слов превратилось в устойчивое фразеологическое единство в результате возникновения и закрепления в нем переносно-метафорического значения. В основу последнего легло сходство ощущения, испытываемого от озноба (холода, страха, волнения и т. д.), с тем, которое человек испытывает, когда по его спине пробегает мурашка, т. е. «маленький муравьишка».
Слово мурашка, производное от мураш, возникло по аналогии с букашка. Существительное мураш сейчас является периферийной лексической единицей и осознается как просторечное, хотя иногда употребляется и в поэзии. Ср., например, у Б. Пастернака:
Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
(«Степь»)
Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.
(«Сосны»)
Что касается слова мураш, то оно, как и муравей, родилось на базе общеславянского названия этого насекомого – morvF, ггюгуа, которое в других славянских языках дало соответственно серб. – хорв. мрав, болг. мравка, пол. тголука, mrowie «муравьи», словацк. mravec, полаб. morvi и др.
Древнерусское моровии изменилось в муравей под народно-этимологическим влиянием слова мурава «трава» (ий > ей в результате падения редуцированных звуков; ср. Сергий > Сергей).
Появление на месте звука в звука ш отражает нерегулярное суффиксальное «чередование» неясного происхождения (ср. кудрявый – кудряш, торговец – торгаш, воробей – воробушек, соловей – соловушка и т. д.).
Но не будем более ворошить «этимологический муравейник». Под занавес отметим лишь, что наш оборот встречается не только у нас. Он, например, имеет несомненные соответствия в польском языке (ср. mrowie przechodzi), в болгарском языке (ср. мравки полазват) и т. д. Поэтому не исключено, что фразеологизм мурашки бегают восходит в своей образной основе к общеславянской эпохе.
Черным по белому о выражении черная кошка пробежала
Фразеологических оборотов, имеющих в своем составе зоонимы, очень много, и они самые разнообразные. Приведем хотя бы выражения как белка в колесе (из басни Крылова), медведь на ухо наступил (о человеке, лишенном музыкального слуха), собаку съел (о нем см. с. 179), пустить красного петуха «поджечь», остались от козлика рожки да ножки «ничего не осталось», слово – не воробей, вылетит – не поймаешь, слона-то я и не приметил, белая ворона, дойная корова, (врет) как сивый мерин «бессовестно», (глуп) как сивый мерин «очень» и т. д. Среди них есть и несколько выражений со словом кошка (знает кошка, чье мясо съела; кошки скребут на сердце «тревожно, тоскливо» , жить как кошка с собакой «плохо, в бесконечной ссоре» и т. д.). К этому фразеологическому «семейству» относится и оборот черная кошка пробежала (между кем-либо) «произошла ссора, размолвка», в обиходе очень частотный и хорошо известный. Истоки этого оборота и его значения связаны с сейчас уже уходящими приметами и суевериями. Так, через порог нельзя здороваться – поссоришься; назад возвратишься, выходя из дому, – дороги не будет; встретить женщину с пустым ведром – к неудаче и т. д. Ср. у Мамина-Сибиряка в «Зеленых горах»: На охоту или рыбную ловлю он обыкновенно выходил ранним утром… Делалось это с целью, чтобы, – Боже сохрани, – какая-нибудь баба не перешла дороги.

Кроме названных, бытовало также поверье, что с человеком случится какая-нибудь неприятность, если ему дорогу перебежит черная кошка. Отсюда и «вырос» оборот черная кошка пробежала (между кем-либо), своеобразно отраженный затем в производном от него выражении дорогу перебежать (кому-либо) «опережая или мешая, испортить какое-нибудь дело».
Что касается фразеологизма, начинающего заглавие заметки, то оно имеет иные корни. Черным по белому является, несомненно, фразеологической калькой, и скорее всего калькой немецкого фразеологизма schwarz auf weiβ. А. И. Герцен употреблял его еще в «исконном виде»: если ты забыл или написал сгоряча – то все же оно остается schwarz auf weiβ.
Впрочем, подобные обороты известны и в других западноевропейских языках (ср. франц. noir sur blanc, англ. to put down in black and white и др.).
Своим рождением в древнем мире они обязаны обычаем писать на белой бумаге черными чернилами.
О двух «дорожных» фразеологизмах
Дороги бывают разные. Разными представляются и их названия (как словные, так и фразеологические). Остановимся кратко на перекрестке двух дорожных имен фразеологического характера. Их биография в целом довольно проста, однако не такая единообразная, как структура. По своей структуре они оба выступают в виде сочетания «прилагательное + существительное»: столбовая дорога и железная дорога.
Коротко скажем об их происхождении. О фразеологизме столбовая дорога у М. Фасмера в его «Этимологическом словаре русского языка» говорится буквально в двух словах: «Столбовая дорога. От столб». Это объяснение трудно считать достаточным. Оно является неполным даже по отношению к прилагательному столбовая. А уж о фразеологизме и говорить нечего. Вспомните использование нашего выражения в XIX в.:
В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков…
(Н. Некрасов)
Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дороге столбовой.
(Народная песня)
Ведь слово столб, от которого посредством суффикса – ов-было образовано прилагательное в обороте столбовая дорога, вовсе не тот столб, который содержится в выражении пригвоздить к позорному столбу или во фразеологизме дойти до геркулесовых столбов. Вспомним, что позорный столб – это «установленное вертикально бревно, к которому раньше привязывали для всеобщего обозрения (выставляли на позор, т. е. «на обозрение»)». Пригвождали, кстати, к кресту. Поэтому оборот пригвоздить к позорному столбу является фразеологической контаминацией. Вспомним также, что на краю света Геркулес воздвиг совсем не деревянные столбы, а каменные в виде… Гибралтара и Мумы.
Слово столб в обороте столбовая дорога означает придорожный столб с указанием расстояния до какого-либо пункта. Такие столбы ставились на больших, магистральных, столбовых дорогах, соединяющих крупные населенные пункты, в отличие, например, от дорог проселочных.
Что касается оборота железная дорога, то его родословная совсем иная. Он возник (естественно, после появления в России первой железной дороги Петербург – Царское Село в 1837 г.) как калька франц. chemin de fer (буквально «дорога железа»).
На базе оборота железная дорога в разговорной речи возникло слово железка, аналогичное словам многотиражка < многотиражная газета, бетонка < бетонная дорога, фугаска < фугасная бомба и т. д. Оно подобно широко употребительному в XIX в. синониму чугунка.
Интересно, что в основу названия железной дороги было положено французское имя, а не английское (railway – «рельсовая дорога»), хотя первые железные дороги появились в Англии. Зато оттуда к нам пришло слово трамвай (tram «вагон, тележка», way «дорога»). Из американского варианта английского языка в качестве «дорожных» слов у нас (правда, на правах экзотизмов) можно отметить также такие производные от way «дорога», как собвей (subway) «подземная железная дорога» и Бродвей (Broadway), буквально «широкая дорога».
Два сердца в одном сердце
Как известно, у человека только одно сердце. Одно слово сердце найдете вы и в толковых словарях. Правда, у этого слова несколько значений, и в одном из них налицо любопытный «разрыв сердца» на две (по своему значению противоположные, антонимические) части.
В исходном, прямом, основном значении слово сердце выступает как название центрального органа кровообращения (ср. операция на сердце). В другом – вторичном и переносном – значении это слово употребляется сейчас как синоним слова средоточие (ср. Москва – сердце нашей Родины).
Еще одно значение, также вторичное и переносное, обычно определяется очень расплывчато: «сердце как символ переживаний, чувств, настроений человека». Ведь переживания, чувства и настроения у человека могут быть самые разные, даже противоположные. Именно этим и объясняется отмеченный смысловой «разрыв сердца».
Данное значение существительного сердце проявляется только тогда, когда оно употребляется в составе фразеологических оборотов. Здесь-то и становится особенно яркой антонимичность слова сердце. В одних оборотах оно называет различные хорошие чувства (душевности, расположения, внимания, волнения и даже любви): (у кого-либо) золотое сердце, от всего сердца, брать за сердце (что– или кто-либо), (быть) по сердцу «нравиться», принимать близко к сердцу, (у кого-либо) нет сердца «черствый человек» и т. д. В других выражениях слово сердце имеет уже значение «злоба, гнев, раздражение»: сорвать сердце (на ком-либо) «излить злобу», иметь сердце (на кого-либо) «сердиться, злиться», сказать с сердцем «сказать со злобой или с раздражением».
Чем объясняется такая смысловая многоплановость и противоречивость слова сердце? Она свойственна ему потому, что сердце считалось (в отличие от головы) вместилищем всех чувств, которыми может обладать человек, – от любви до гнева и злобы.
Многозначность слова сердце проявляется и в производных от него словах. Так, слова сердцевидный, сердцебиение образованы на базе существительного сердце в его прямом значении, слово сердцевина является производным от сердце уже в значении «средоточие». Но обратитесь к такому слову, как сердечный. От какого сердца оно образовано? Все будет зависеть от того, какое прилагательное мы возьмем. Сердечный в словосочетании сердечная болезнь является суффиксальным производным от слова сердце в его исходном значении «центральный орган кровообращения». А вот сердечный в словосочетаниях сердечный прием «искренний прием» и сердечные тайны «любовные тайны» будет уже иным: суффиксальным производным от слова сердце в переносном (притом положительном) значении «душевность, любовь». Возникает вопрос: а нет ли производных от слова сердце тоже в переносном, но уже отрицательном значении – «злоба, гнев»? Есть и такие. Во-первых, это наречие в сердцах «осердясь, в гневе» (это одно слово, хотя и пишется раздельно), возникшее в результате сращения предложно-падежного сочетания. Во-вторых, это глагол серчать «сердиться», образованный от сердце в значении «злоба, гнев» с помощью суффикса– а(ть) (ср. ужинать, мужать, делать и т. д.). Заметим, что его современное написание этимологически является неверным. Еще в XIX в. (ср. «Толковый словарь…» В. Даля) его писали правильно – сердчать.
Словами в сердцах и серчать состав производных от слова сердце «злоба, гнев» и ограничивается. Особняком стоят слова сердить, сердиться и сердитый. Но об этом в заметке «Как членится на морфемы и как образовано прилагательное сердитый– (см. с. 243).
С грехом пополам
Данное разговорное выражение означает «кое-как» или «с большим трудом». Второе значение более позднее, оно возникло на базе значения «кое-как». Наш фразеологический оборот появился из свободного сочетания слов с грехом пополам, в котором существительное грех обозначало не проступок, как сейчас, а ошибку. Таким образом, с грехом пополам буквально значит «пополам с ошибкой» (и следовательно, «кое-как»).
Заметим, что такое же значение имеет слово грех и в пословице На грех мастера нет.
В эпоху Пушкина значение «ошибка» у слова грех было еще вполне обычным. Вспомните хотя бы строки из романа «Евгений Онегин»: …Да помнил, хоть не без греха (т. е. «не без ошибки». – Н. Ш.), Из Энеиды два стиха.
С гулькин нос о с гулькин нос
Вы никогда не задумывались, почему этот оборот имеет именно такое значение? Очень просто. Ведь буквально выражение с гулькин нос обозначает «с голубиный (очень маленький) клюв». Предлог с указывает на употребление по размеру (ср. сам с ноготок). А слово гулькин является притяжательным прилагательным от гулька «голубь», в свою очередь образованного с помощью суффикса – к(а) от гуля того же значения. Слово же гуля как название голубя возникло на базе звукоподражательного подзывания гуль-гуль.
Бразды правления
Выражение это представляет собой книжный синоним слова власть. Отвлеченное значение «власть», характерное для него сейчас, является вторичным и возникло на основе очень конкретного. Это становится ясным, как только мы обращаемся к истории фразеологизма. Он сформировался на базе свободного сочетания слов бразды правления, в котором первое существительное, ныне устаревшее, означало «вожжи». Таким образом, буквально бразды правления значит «вожжи правления».
Заметим, что слово бразды «вожжи» не является старославянизмом и со словом бразды «борозды» (ср. у А. С.Пушкина: Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая) совершенно не связано. Слово бразды «борозды», заимствованное из старославянского языка, образовало омонимическую пару с исконно русским бръзды после того, как сильный ъ прояснился в о, а последнее затем в результате аканья совпало по звучанию с а (что по ошибке также было закреплено и в написании).
Стоять у кормила
Этот книжный фразеологический оборот со значением «быть у власти, управлять» возник в древнерусском литературном языке из свободного сочетания слов стоять у кормила, в котором слово кормило (ср. одноко-ренное кормчий «рулевой») обозначало руль для управления ходом судна.
Уже в советское время на базе нашего оборота возник фразеологизм стоять у руля (в результате замены архаизма кормило синонимическим руль, заимствованным из голландского языка). На его же основе как следствие «скрещения» с синонимическими выражениями находиться у власти, быть у власти появился, между прочим, и его более распространенный и этимологически явно ошибочный (в силу тавтологич-ности слова власть и оборота стоять у кормила) вариант стоять у кормила власти, который весьма употребителен, несмотря на свою исходную «незаконность».
Заметим, что и обороты находиться у власти, быть у власти появились на свет также не без влияния идиомы стоять у кормила. Ведь в древнерусском письменном языке слово кормило имело также и (несомненно, извлеченное из оборота стоять у кормила) метафорическое значение «власть».
Очная ставка
Очной ставкой, как известно, называется одновременный и перекрестный допрос лиц, сведение их лицом к лицу (в ходе судебного разбирательства) для выяснения правды.
Оборот очная ставка целиком состоит из частей, которых вне его сейчас нет. Ведь прилагательное очная «глазная» и существительное ставка, обозначающее действие по глаголу ставить, отдельно уже не существуют.
По своей структуре выражение очная ставка относится к модели «прилагательное + существительное», поэтому можно подумать, что оно возникло на базе свободного сочетания слов именно такого типа (ср. красная девица, зачетная книжка, голубая кровь и т. д.). Неважно, что его сейчас нет, раньше оно ведь могло быть. Однако такое решение было бы неверным, так как искомого (казалось бы, совершенно необходимого) переменного сочетания прилагательного и существительного очная ставка не было никогда.
Выражение очная ставка родилось сразу как фразеологизм в результате переработки более старой юридической формулы ставить с очей на очи (ср. в записи 1606 г.: Доводов ложных мне, великому государю, не слушати, а сыс-кивати всякими сыски накрепко и ставити съ очей на очи).
За душой нет ничего
Этот фразеологический оборот среди других ничем как будто не выделяется. Состоит он из привычных и всем известных слов. Ясно и его значение: (у него) за душой нет ничего значит или «он беден, у него нет денег», или – это значение вторично – «он пустой человек, духовное ничтожество».
И все же выражение это своеобразным и любопытным делает слово душа, имевшее в первоначальной форме оборота совсем не тот смысл, который мы сейчас в него вкладываем (и который выступает до сих пор в таких, например, фразеологизмах: (предан) душой и телом «полностью», от всей души «искренне», (жить) душа в душу «дружно» и т. д.). Дело в том, что существительное душа в исходном словосочетании за душой нет ни копейки (затем ни копейки заменилось более общим ничего) обозначает не душу, а ямочку, расположенную между ключицами на шее. Душой это углубление названо в свое время потому, что, по народным представлениям, здесь помещается душа.
Возникновение нашего оборота связано с существовавшим ранее обычаем хранить деньги на груди, за душой.
Заметим, что такое же несовременное значение имеет существительное душа еще в одном выражении – (у него) душа нараспашку, служащем для образной характеристики искреннего, откровенного и чистосердечного человека. В момент своего появления в речи словосочетание (у него) душа нараспашку обозначало человека с расстегнутым воротом рубахи, не боящегося показать, что у него за пазухой.
Сравните выражение с открытым забралом «честно, открыто», в котором слово забрало обозначает переднюю часть шлема, опускаемого на лицо для его защиты в сражении.
Нести околесицу и говорить невесть что
Названные в заголовке выражения синонимичны: и то и другое имеет значение «болтать чепуху». Но они объединяются друг с другом не только этим. В обоих оборотах современное значение возникло не сразу, причем и там и там в результате строгой, но справедливой оценки народом стилистики речи (в первом случае – с точки зрения ее ясности и краткости, во втором – с точки зрения ее точности). Оборот нести околесицу первоначально обозначал «говорить вокруг да около, не затрагивая прямо сути предмета, вести разговор намеками и недомолвками, не кратко и ясно, а очень многословно». Слово околесица (от наречия около) в нем ранее обозначало «не идущие к делу речи», которые, с позиции слушающего, являются помехой для понимания сути дела, и следовательно, лишним, пустяками, чепухой.
Выражение говорить невесть что получило значение «болтать чепуху» по другой причине. В новом значении этого оборота отразилось отрицательное отношение к людям, говорящим о том, чего сами точно не знают. В момент своего возникновения как устойчивого сочетания слов он буквально обозначал «говорить о том, чего не знает» и имел закрепленную форму 3-го л. ед. ч. говорит, не весть что. Слово весть в этом фразеологизме представляет собой 3-е л. ед. ч. настоящего времени глагола вѣдѣти «знать», вытесненного затем словом ведать того же значения.
Обороту говорить невесть что аналогично по своему внутреннему образному стержню выражение говорить черт знает что (другой вариант – говорить Бог знает что).
Три фразеологических алогизма
Почему мы говорим пятая спица в колеснице, и дешево и сердито, на воде вилами написано? Вы не обращали внимания на эти выражения? Нет, нет, не на значение этих устойчивых словосочетаний (оно ясно всем), а на то, что слова в них сочетаются «не в лад» с их значением, без учета логики и привычных смысловых связей. Почему же все-таки мы так говорим?
Выражение пятая спица в колеснице (о ком-нибудь или чем-либо лишнем и ненужном) возникло в нашей речи в результате соединения рифмованной поговорки последняя спица в колеснице («человек или предмет, имеющий очень небольшое – даже ничтожное значение в чем-то») и оборота пятое колесо в телеге (о ком-либо или чем-нибудь лишнем и ненужном), представляющего собой скорее всего дословный перевод немецкого выражения das fünfte Rad im Wagen. У Салтыкова-Щедрина еще встречается «промежуточное звено» – пятое колесо в колеснице: На одну минуту помпадуру даже померещилось, что он как будто совсем лишний человек, вроде пятого колеса в колеснице.
Разбираемое выражение взяло значение у оборота пятое колесо в телеге, а подавляющее большинство слов (кроме прилагательного пятая) позаимствовало из фразеологизма последняя спица в колеснице. Так родилась новая поговорка – пятая спица в колеснице.
Совсем другая история произошла с оборотом и дешево и сердито (о чем-нибудь дешевом, но в то же время вполне отвечающем своему назначению). Его состав остался неизменным, но нами оказалось забыто старое значение наречия сердито. Дело в том, что раньше слово сердитый среди других имело также значение «дорогой, хороший» (прилагательное сердитый образовано от сьрдь «сердце», ср. сердечный друг и дорогой друг). Это значение особенно часто и ярко проявлялось в обороте сердитая цена (ср. у Лескова: У графини теперь… страстное желание иметь пару сереньких лошадок с колясочкой, хотя не очень сердитой цены). Отсюда в качестве каламбура и появилось наше выражение и дешево и сердито (буквально «и дешево и дорого, хорошо», но дорого не по цене, а по качеству), причем несомненно как своеобразный полемический выпад против пословицы Дорого, да мило; дешево, да гнило.
Аналогичный случай того, как логичное стало алогизмом, наблюдается и в поговорке на воде вилами написано («очень сомнительно, неясно»), в которой первоначальное вилы «круги» (ср. вилок, диал. вил «завиток» и т. д.) – в силу выхода его из употребления – понимается (а правильнее – не понимается!) как вилы «вид сельскохозяйственного орудия».
Быть немым как рыба и реветь белугой
Эти выражения по своему значению прямо противоположны, антонимичны. Однако в их составе есть нечто общее. Вы обратили на это внимание? Ведь и в первом, и во втором фразеологическом обороте есть слово, обозначающее рыбу (в первом случае – рыбу вообще, во втором – одну из разновидностей осетровых рыб).
И если выражение быть немым как рыба никаких вопросов не вызывает (рыбы действительно «не говорят»), то оборот реветь белугой, несомненно, привлекает к себе внимание. Почему мы говорим реветь белугой? Ведь белуга реветь не может. В чем же здесь дело? Может быть, это сознательное сочетание несочетающихся логически слов, например такое же, как в выражениях живой труп, начало конца, без году неделя и т. д.? Нет, оказывается, не совсем так.
Дело в том, что вначале было выражение реветь белухой (а не белугой), в котором слово белуха обозначает полярного дельфина, действительно способного реветь. И лишь потом оно было «переделано» в реветь белугой и превратилось в каламбур.
Глухая тетеря
ККак образно писал С. Т. Аксаков в своих «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», этой «всем известной укорительной поговоркой потчуют того, кто будучи крепок на ухо или по рассеянности, чего-нибудь недослышал». Выражение это имеет грубоватый, даже бранный оттенок, однако употребляется часто и охотно.
Кроме своей основной, «женской» формы (глухая тетеря), оно известно уже и в «мужской» форме – глухой тетерев. «Мужской» вариант используется лишь по отношению к лицам мужского пола. В своем же основном виде (в «женской» форме) рассматриваемый оборот употребляется и по адресу лица женского пола, и по адресу лица мужского пола. Он выступает в качестве «фразеологического существительного» общего рода, вроде слов разиня, соня, рёва и т. п.
Каково происхождение этого оборота? По мнению С.Т. Аксакова, появление его прямо и непосредственно связано с названием птицы – глухого тетерева (глухаря). В таком переносе птичьего имени на человека сказалось будто бы общепринятое в русском народе представление о глухом тетереве как о глухой птице: «В молодости моей я еще встречал стариков охотников, которые думали, что глухие тетерева глухи, основываясь на том, что они не боятся шума и стука…

Народ также думал, да и теперь думает, что глухарь глух. Это доказывает всем известная укорительная поговорка… «Эх ты, глухая тетеря».
Однако этот перенос названия с птицы на человека, как полагает писатель-охотник, не является законным, так как распространенное мнение о глухоте глухого тетерева «совершенно ошибочно… Глухарь, напротив, имеет необыкновенно тонкий слух, что знает всякий опытный охотник». Что же касается названия птицы, то «имя глухаря дано ему не потому, что он глух, а потому, что водится в глухих, уединенных и крепких местах».
Таким образом, если верить С.Т. Аксакову, оборот глухая тетеря возник в результате метафоризации составного наименования глухаря по отношению к человеку. На первый взгляд в этом он как будто прав. И все-таки в его объяснении есть явные ошибки. Во-первых, несправедливо, будто народ «думал, да и теперь думает, что глухарь глух». Во-вторых, перенос названия с птицы на человека является вполне законным: ведь, несмотря на тонкий слух, в определенные моменты, при токовании, глухарь действительно не слышит. В-третьих, неверно, будто название глухарь дано птице потому, что она «водится в глухих, уединенных и крепких местах». Это название связано «с тем, что эта птица при токовании как бы глохнет…» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Но дело не только в этом. Внимательное «дознание» приводит к выводу, что С.Т. Аксаков ошибался и в главном. Фразеологизм глухой тетерев – вовсе не образно-переносное употребление птичьего составного термина, обозначающего глухаря. Он возник путем прямого сочетания прилагательного глухой с существительным тетерев на основе сжатия выражения глух, как тетерев на току.
Что касается «женской формы», то она появилась позднее и по общему правилу на базе «мужской».
Быльем поросло
Если говорят, что нечто быльем поросло, то это значит, что оно давно забыто. Этот оборот появился на свет в результате сокращения фразеологизма было, да быльем поросло, в свою очередь возникшего путем сжатия пословицы Было да прошло, да быльем поросло. Последняя организована как художественное целое не только ритмом и рифмой. В ней мы наблюдаем также и игру слов, основанную на каламбурном сближении исконно однокорневых, но давно уже очень далеких друг от друга слов было и былье. Слово былье «трава» искони является собирательным существительным (типа тряпье, старье, гнилье и т. д.) от слова быль «травянистое растение, трава, бурьян». Это старое слово до сих пор сохраняется в составе вариантного нашему выражению фразеологизма былью поросло и в производном слове былинка. Образовано же оно было от глагола быть (быти), но не в современном его значении, а в более древнем – «расти, произрастать». Омонимическое, хотя и этимологически родственное слову быль «трава, растение» существительное быль (ср. пословицу Быль молодцу не укор «за прошлое не упрекают») восходит уже к глаголу быть в значении «быть».
Заметим, что отношения, подобные быль «растение, трава» – быль «то, что было», наблюдаются и в других языках, ср. например, греч. phyton «растение» и physis «то, что есть, природа, действительность».
Шарашкина контора
Фразеологический оборот шарашкина контора (как и синонимичное и дублетное ему выражение шарашкина фабрика) возник в живой разговорной речи и имеет негативный характер. Он был образован по модели с использованием как структуры фразеологических оборотов типа почтовая контора, волостная контора и т. д., так и их грамматически опорного слова контора (об исконно русских фразеологических оборотах, образованных по модели, см.: Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 1985. С. 95–96).
Поэтому, для того чтобы установить этимологию этого выражения, достаточно определить, каково происхождение слова шарашка (шарашкина является, несомненно, притяжательным прилагательным, ср.: с гулькин нос). Однако именно это и является невыясненным. Более того, в словарях не фиксируется даже сам фразеологизм.
Поскольку в этимологических словарях слово шарашкина (контора, фабрика) не получило пока абсолютно никакого объяснения, в настоящее время можно предложить лишь предварительную, хотя, как нам кажется, и очень вероятную этимологию.
Это объяснение полностью согласуется со значением фразеологического оборота шарашкина контора, а также сферой его употребления и экспрессивно-стилистической окраской. Скорее всего, слово шарашкина этимологически связано как родственное с таким словом, как диалектное шарашь (нагольная) «шваль, голытьба, жулье». Если это так, то шарашкина контора – буквально «контора жуликов, обманщиков» (ср.: шарахнуть «ударить», ошарашить «оглушить», подобное ошеломить, которое первоначально значило тоже «оглушить, ударить»).
Фразеологизм шарашкина контора дал недавно нашей речи обратное образование – шарага (ср.: фляга – из фляжка, см. с. 102).
Как вкопанный и как заведенный
Эти ходовые и выразительные обороты различны по значению, но тем не менее имеют немало общего. Бросается в глаза прежде всего их одинаковая структура: и в том и в другом после сравнительного союза как следует страдательное причастие прошедшего времени, образованное от приставочного глагола совершенного вида. Но не только это роднит их друг с другом. Похожим оказывается и появление их в речи. Ведь и одно, и второе выражение родилось от более полных фразеологизмов.
Оборот как заведенный значит «без остановки». Еще во второй половине XIX в. его в современном виде не существовало. И употреблялась несокращенная форма фразеологического единства как заведенные часы (ср. у Л. Н. Толстого: Князь… по привычке, как заведенные часы, говорил вещи, которым он и не хотел, чтобы верили; у В.Даля: Василько молол без умолку, как заведенные часы и т. д.). После сокращения оборота причастие стало изменяться по числам и родам. Рядом с одной-единственной ранее формой как заведенные (в составе выражения как заведенные часы) появились формы как заведенная, как заведенный.
Оборот как вкопанный в литературном языке сцепляется только со словами стоять и остановиться. Его прямое значение – «неподвижно, замерев на месте от ужаса или удивления». По происхождению он также является сокращением более ранней формы как вкопанный в землю, восходящей, в свою очередь, к соответствующему свободному сочетанию слов. Последнее родилось вместе с бывшим – вплоть до Петра I – наказанием закапывать живых людей за какое-либо серьезное преступление (см. указ Алексея Михайловича 1663 г., по которому так наказывали жену за убийство мужа).
Разделать под орех
Значение «разругать, раскритиковать» возникло у этого оборота на базе более старого – «сделать (что-либо) очень основательно и хорошо».
В своем первоначальном значении фразеологизм родился в профессиональной речи столяров и краснодеревщиков из соответствующего свободного сочетания слов. Изготовление мебели под ореховое дерево из других сортов древесины требовало большого труда и хорошего знания дела.
Из речи столяров и краснодеревщиков выражение разделать под орех и проникло в русский литературный язык. Ср. оттуда же обороты топорная работа (первоначально о работе плотников) и без сучка и задоринки (буквально – «без каких-либо изъянов»).
Нечем крыть
Так в непринужденной разговорной речи мы нередко передаем значение «нечего возразить» или «нечего ответить» (ср. хотя бы у Н. А. Островского в романе «Как закалялась сталь»: Да тебе любой скажет – увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем). Этот очень выразительный и энергичный оборот – один из довольно многочисленных в современном русском литературном языке фразеологических арготизмов. Пришел он в литературную речь из арго картежников, где обозначал, что у игрока нет карт, которыми он мог бы крыть, т. е. бить карту противника.
Таким образом, выражение нечем крыть – из той же «картежной» семьи, что и фразеологизм смешать карты «расстроить чьи-либо планы или намерения», ставить на карту «надеясь чего-либо добиться, подвергать что-либо опасности», втирать очки «обманывать кого-либо, изображая что-либо в искаженном, но выгодном для себя свете» (выражение возникло первоначально для обозначения шулерства с очками, т. е. знаками игральных карт), идти ва-банк «действовать, рискуя всем, что есть» (буквально – «играть на все деньги, которые поставлены на кон») и др.
Идти напропалую
Фразеологизм этот принадлежит по своему происхождению к той же «картежной» семье, что и выражения нечем крыть, втирать очки, в известной степени синонимичный ему оборот идти ва-банк (о нем см. заметку «Идти ва-банк») и некоторые другие.
Его значение в настоящее время – «идти наугад, не раздумывая, напролом». В арго картежников оно имело иную семантику, о чем очень наглядно говорит его происхождение. А родилось оно там как выражение, прямо противоположное по смыслу обороту идти на верную (идти на верную ставку) «играть наверняка», давшему, между прочим, слово наверное «наверняка» (затем оно получило значение «вероятно»). Причем и возникло наше выражение по модели оборота идти на верную с использованием еще одного фразеологизма – поговорки или пан, или пропал, из которой был взят последний ее компонент пропал. Так идти на верную + или пан, или пропал дали идти напропалую.
Притча во языцех
Фразеологизм притча во языцех в современном русском языке имеет значение «предмет всеобщих разговоров, объект постоянных пересудов».
Появился он в нашей речи как одно из довольно многочисленных библейских выражений, заимствованных из старославянского языка. По своему лексическому составу этот оборот представляет собой объединение слов притча (с исходным значением «рассказ, пословица, поговорка») с предложно-падежной формой во языцех, в которой слово язык имеет значение «народ». Таким образом, буквально притча во языцех «поговорка в народе», затем «то, о чем постоянно говорят».
Форма во языцех < въ язъцѣхъ является старой формой предл. п. мн. ч. с чередованием к – ц (ср. современную форму в языках). Аналогично «застряла» старая форма с ц в выражениях темна вода во облацех «непонятно, неясно» и всё в руце Божией «на все воля Бога, судьба» (ср. современные формы в облаках, в руке), также, между прочим, восходящих к Библии и усвоенных русским литературным языком из старославянского.
Идти ва-банк
О значении этого оборота говорилось в связи с объяснением фразеологизма идти напропалую. Как же оно появилось? Возникло оно в речи любителей картежной игры также по модели, т. е. по аналогии с другими, уже существовавшими оборотами. Но есть в рождении этого оборота и своя особенность. Дело в том, что родился он… по ошибке, в результате «смешения французского с нижегородским». Было это так. Сначала в среде игроков-дворян появилось французское выражение va banque (собственно – «иду на банк»), слившееся затем в нашей речи в слово. Затем это слово было включено во фразеологическую схему со словом идти. И пошло гулять выражение идти ва-банк, в буквальном смысле не что иное, как «идти, иду на банк» (т. е. на все, что разыгрывается на кону).
Нечто подобное – по этимологической неправильности – мы находим и в выражении не в своей тарелке.
Не в своей тарелке
Это очень употребительное в разговорном языке выражение равнозначно наречиям неудобно, плохо, стесненно и в качестве обязательных слов-сопроводителей имеет глаголы чувствовать или быть. Этот оборот с этимологической точки зрения неправильный. Фразеологическое сращение не в своей тарелке является ошибочным переводом французского оборота ne pas dans son assiette. Слово assiette «состояние, положение» спутали с его омонимом assiette «тарелка». В результате этого вместо правильного не в своем положении, не в своем состоянии возникло не в своей тарелке. Сейчас этот плод переводческого недоразумения никаких возражений у говорящих не вызывает и является самым обычным и рядовым, никаких норм литературной речи не нарушающим. В первой же половине ХГХв. против его употребления бурно протестовали. Выступал против него, в частности, и А. С.Пушкин.
Разводить тары-бары
Разводить тары-бары – это болтать пустяки, заниматься пустыми разговорами. Выражение было создано по модели, по аналогии с фразеологизмами разводить разводы, разводить антимонии и т. д. При этом в качестве нового грамматически зависимого компонента было использовано сложное существительное тары-бары, представляющее собой «перегласованный» повтор типа трень-брень, шаляй-валяй, шуры-муры, фигли-мигли, шахер-махер и т. д. Обе части этого слова являются звукоподражательными и соответственно связаны с глаголами тараторить и тарабарить – «говорить пустяки». Следовательно, буквально тары-бары значит «болтовня».
В разбираемом обороте перед нами форма множественного числа. В форме единственного числа существительное тара-бара наблюдается в составе производного от него слова тарабарщина.
Собаку съел
ВВряд ли кто-нибудь из нас никогда не употреблял в своей речи этого выражения. Очевидно, почти у каждого когда-нибудь возникал вопрос: а почему мы так говорим? Почему понятие «мастер на что-либо» выражается оборотом, состоящим из существительного собаку и глагола съел? Надо сказать прямо, вопрос этот очень трудный. Даже те, кто действительно собаку съел на решении таких задач (имеем в виду этимологов и специалистов по фразеологии), пока что не дали не только удовлетворительного, но и более или менее вероятного объяснения происхождения этого странного фразеологического сращения.
А. А. Потебня в свое время предполагал, что оборот собаку съел появился в крестьянской среде и что его рождение связано с земледельческим трудом: лишь «тот, кто искусился в этом труде, знает, что такое земледельческая работа: устанешь, с голоду и собаку бы съел» (К истории звуков русского языка. IV. Варшава, 1883. С. 83). Однако такое объяснение В. В. Виноградов (см. его «Русский язык». М., 1972. С. 24) не без оснований считает ложным субъективным осмыслением имеющегося выражения вместо реального определения его биографии. Ведь на самом деле устойчивого сочетания слов «устанешь, с голоду и собаку бы съел» никогда в нашей речи не существовало.
Явно неправильное, анекдотическое объяснение нашего загадочного оборота находим мы у С. В. Максимова (Крылатые слова. М., 1955. С.194–196), считающего, что фразеологизм собаку съел восходит к свободному сочетанию слов, заключающему в себе насмешку над петрозаводцами, нечаянно будто бы чуть не съевшими на свадьбе щи с собачиной.
Думается, что оборот собаку съел при всей своей исключительности (с точки зрения логического несоответствия значения целого и составляющих его частей) не представляет собой ничего исключительного. Скорее всего, это выражение является одной из многих идиом, родившихся в результате сокращения полной формы (ср.: Голод – не тетка < Голод – не тетка, пирожка не подсунет; как заведенный < как заведенные часы; На чужой каравай рот не разевай < На чужой каравай рот не разевай, а раньше вставай да свой затевай и т. д.). И истоком его является поговорка, зафиксированная В. И.Далем, – Собаку съел, а хвостом подавился. Эта поговорка употребляется по отношению к человеку, который сделал что-то очень и очень трудное и споткнулся на пустяке (мясо у собак невкусное, собак не едят, и съесть целую собаку если не невозможно вовсе, то действительно чрезвычайно трудно).
Современное же значение («мастер на что-либо») возникло уже у сокращенной формы собаку съел: тот, кто сделал или может сделать что-либо очень и очень трудное, является, несомненно, мастером своего дела.
Дополнительной аргументацией в пользу предлагаемого объяснения может служить «морфологическая ущербность» нашего оборота. Ведь можно сказать лишь собаку съел (-а, – и), употребив глагол в тех же формах прошедшего времени, что и в соответствующей полной поговорке.
Заметим, что «морфологическая недостаточность» выражения собаку съел устранена в глаголе насобачиться «стать мастером на что-либо», возникшем в результате сжатия фразеологизма в слово (ср. подобные по происхождению глаголы наладиться < пойти на лад, надрызгаться < напиться вдрызг, смотаться < смотать удочки, зажмуриться < зажмурить глаза и т. д.).
Кстати, грубовато-просторечный оттенок этот глагол приобрел сравнительно недавно. Еще в начале XIX в. слово насобачиться совершенно свободно в своей авторской речи употребляли самые взыскательные стилисты.
Чужими руками жар загребать
Оборот этот представляет собой образно-метафорическое выражение, синонимическое словам пользоваться результатами чужого труда. Он появился в нашем языке в результате сокращения более распространенного и полного. А именно этот фразеологизм возник на базе поговорки Легко чужими руками жар загребать. Отметим, что в последней слово жар употребляется в конкретном значении «горящие уголья» (загребать которые из печи для хозяйки было делом нелегким). То же значение слово жар имеет и в фольклорной формуле как жар горит («блестит»), и в составном названии птицы русских сказок жар-птица, а возможно, и в диалектном наименовании клюквы – жаро-вика (ср. жаровый «огненный, багряный, красный»), если ягода, как черника, голубика, вороника, получила свое имя по цвету.
Задеть за живое
Фразеологический оборот задеть за живое в значении «обидеть, взволновать» возник в результате переосмысления выражения задеть за живое со значением «поранить». Последнее родилось в живой разговорной речи благодаря сокращению более полного по составу фразеологизма задеть за живое мясо «пораниться» (при стрижке ногтей или срезке мозолей). Так объяснял это выражение уже В. Даль (см. его «Толковый словарь…»).
Семь пятниц на неделе
Выражение семь пятниц на неделе – это образное обозначение человеческого непостоянства. Так говорят о том, кто часто меняет свои решения, постоянно отступает от своего слова, не выполняет своих обещаний, т. е. о людях, на которых нельзя положиться и которым нельзя доверять.
О происхождении этой поговорки спорят, но кажется, решение, предложенное С. В. Максимовым еще в конце ХГХ в., является единственно правильным. Разгадка каламбурного выражения семь пятниц на неделе заключена в слове пятница: ведь если данное выражение передать буквально, то это можно сделать словами вся неделя состоит из пятниц, неделя – сплошная пятница. По какой же причине для обозначения людей, не выполняющих своих обещаний, в качестве главного «героя» была выбрана пятница, а не какой-либо другой день недели? И отчего это выражение стало художественно-выразительным обозначением человеческого непостоянства?
Оказывается, все определяется историческими причинами, условиями старого русского быта. Дело в том, что пятница некогда была свободным от работы днем (и не только у славян – ср. нем. Freitag – буквально «свободный день»), а потому и базарным. Поэтому-то пятница была долгое время также и днем исполнений различных торговых обязательств. В пятницу, получая деньги, давали честное слово привезти на следующей неделе заказанный товар. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день (т. е. в пятницу следующей недели) отдать полагающиеся за него деньги.

О нарушающих эти обещания и было первоначально гиперболически сказано, что у них семь пятниц на неделе. Вполне возможно, что обобщенно-метафорическое обозначение непостоянства в решениях человека, на которого нельзя положиться, закрепилось в выражении семь пятниц на неделе под влиянием народно-этимологического сближения слов пятница и пятиться «отступать» (от своего слова) (ср. идти на попятную), особенно ясно проявляющегося в поговорке семь раз на неделе попятиться.
Выразительность оборота семь пятниц на неделе всегда привлекала к себе художников слова. Очень удачно использовал его, в частности, А. С. Пушкин в своей эпиграмме на книготорговца Смирдина:
Смирдин меня в беду поверг;
У торгаша сего семь пятниц на неделе,
Его четверг на самом деле
Есть после дождичка в четверг.
В этом контексте оборот семь пятниц на неделе органически связан с выражением после дождичка в четверг, т. е. «никогда». Заметим, что еще более тесно связаны друг с другом, по существу своему слиты воедино эти обороты в синонимической поговорке после пятницы в четверг.
Выражение после дождичка в четверг в этимологическом отношении представляет собой, как полагают, формулу недоверия к Перуну, славянскому языческому богу грома, днем которого был четверг: поскольку мольбы, обращенные к Перуну, не достигали цели, то о том, чего не будет, стали говорить, что это будет – после дождичка в четверг.
К черту на кулички
Сейчас это выражение значит «очень далеко, неведомо куда, в глухомань». По своему происхождению оно, скорее всего, является распространением ответа все на тот же действительно сакраментальный, «запретный» вопрос куда? (ср. ходячую реплику к черту в ответ на пожелание успеха в виде фразеологизма ни пуха ни пера). Современная форма, как обычно полагают и как считал еще В. Даль, представляет собой переделку более старого выражения к черту на кулижки, возникшую в результате подмены ставшего узкодиалектным слова кулижки «лесные полянки, острова на болоте» и т. д. созвучным существительным кулички «кулички, пасха». В результате этого фразеологизм приобрел (сейчас уже, правда, осознаваемую очень слабо) экспрессивную выразительность соединения противоречивых понятий (оксюморона): отправляться «к черту на кулички», а значит, и на пасху – само собой разумеется, идти или ехать Бог знает куда, – ведь понятия черта и религиозного праздника Пасхи совершенно несовместимы.
Острая каламбурность этого выражения (ср. реветь белугой, белая ворона, живой труп, от жилетки рукава и т. п.) потускнела у него потому, что в современном русском языке нет уже слова кулички в значении «пасха» и почти не употребляется уменьшительно-ласкательная форма от слова кулич.
На кудыкину гору
Этот оборот чаще всего используется сейчас в качестве экспрессивно-выразительного ответа на назойливый и ненужный с точки зрения спрашиваемого вопрос: куда (идешь, едешь, спешишь и т. д.)? По своему значению он равен фразам типа А тебе какое дело? или Тебе не все равно? и т. п. По сфере употребления это общенародный фразеологизм, свойственный живой и непринужденной разговорной речи.
Родился же он в охотничьей среде и первоначально представлял собой ответ охотников на запрещенный, с их точки зрения, вопрос о том, куда они отправляются. Строгий запрет охотников на такой вопрос объясняется существовавшим у них ранее поверьем, что, если хочешь успеха, нельзя называть места охоты (ср. поговорку Не кудыкай, счастья не будет). Вполне возможно, что такое табу было наложено на вопрос куда? по чисто лингвистическим причинам (см.: Зеленин Д. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Л., 1929. С. 79), в силу созвучия куда со словами куд (куда) «злой дух, черт, дьявол», кудесить «колдовать», кудь «колдовство», известного в диалектах прокуда «лукавый, зловредный человек» и др.
Таким образом, искони в выражении на кудыкину гору как бы сливаются два значения: буквальное – «на твою – кудыкину – гору» (кудыка – это «тот, кто спрашивает, куда охотник направляется») и метафорическое «к черту» (куды-ка – от куд(а) «злой дух, черт, дьявол»).
Фразеологизм на кудыкину гору, по сути дела, «повторяет» выражение к черту на кулички.
О слове костить и обороте перемывать косточки
Современная форма фразеологического сращения перемывать косточки, синонимического глаголам сплетничать, злословить, судачить (о ком-либо), сменила более старую перемывать кости, известную еще в XIX в. Именно эта старая форма и явилась основой для образования слова костить «ругать».
Оборот перемывать кости в качестве устойчивого сочетания слов родился на базе переменного словосочетания, связанного с существовавшим в древности у славян обрядом так называемого вторичного захоронения, которое осуществлялось спустя несколько лет после похорон умершего для очищения его от грехов и снятия с него заклятия. Перед вторичным захоронением выкопанные останки (т. е. кости) перемывались, что, естественно, сопровождалось воспоминаниями о покойнике, оценкой его характера, поступков и дел. Это и явилось причиной образно-метафорического переосмысления слов перемывать кости, первоначально имевших самый прямой, буквальный смысл.
Это его конек
Так мы называем чье-либо увлечение, излюбленное занятие или, как теперь часто говорят, хобби. Слово конек выступает здесь в качестве синонима словам увлечение, страсть, хобби. Очень хороший пример этого мы находим в одной из журнальных статей: …Это пристрастие, которому отдается свободное время. Можно его назвать очень распространившимся в последнее время английским словом «хобби». Или русским литературным «увлечение». Или менее литературным, но более метким «конек» (Театр. 1965. № 5. С.136). Такое значение существительное конек получило уже в момент появления в русском языке выражения это его конек (а также оборотов сесть на своего конька и оседлать своего конька). А все эти выражения увидели свет в конце XVIII в. Все они суть не что иное, как фразеологические кальки, т. е. пословные переводы французских оборотов, в свою очередь калькирующих английские фразеологизмы. Родились последние в романе «Сентиментальное путешествие» Л. Стерна, с которым русское общество конца XVIII в. вначале познакомилось в переводе на французский язык. Наше выражение передает французский оборот cʼest son dada, родившийся при переводе английской поговорки It is his hobby-horse. Обратили внимание на последнее английское слово? Да, вы правы. Оно имеет прямое и непосредственное отношение к популярному сейчас хобби. Ведь это оно же, но только в полном, несокращенном виде. Таким образом, английское слово хобби (сокращение первоначального hobbyhorse) приходило в наш язык дважды: в виде кальки конек в конце XVIII в. ив качестве прямого заимствования совсем недавно – в середине ХХ в.
Намылить голову и задать головомойку
Эти очень употребительные и образные выражения – синонимы. Оба они имеют значение «сильно бранить, распекать». Но не только это делает их фразеологическими «собратьями» в нашей речи. Они одинаковы и с точки зрения сферы их употребления, и по своей стилистической разговорно-фамильярной окраске.
Больше того, эти фразеологизмы родственны и по происхождению. Правда, родство их не непосредственное, и родственники они дальние. Однако языковой источник у них один и тот же.
Как ни удивительно, эти, казалось бы, чисто русские выражения отражают в себе (правда, по-разному) иноязычное влияние и в конечном счете обязаны своим появлением на свет соответствующему немецкому выражению.
Как же все-таки родились в русском языке обороты намылить голову и задать головомойку?
Сначала, как пословный перевод, точная фразеологическая калька немецкого оборота den Kopf waschen, появилось выражение мыть голову. В XIX в. этот оборот (и его формы) употреблялся довольно часто (ср. в письме П. А. Вяземского А. И.Тургеневу: Я знал, что Оболенский мыл голову Каченовскому за какие-то стихи), но затем стал архаизмом и вышел из речевого обихода. Но он не исчез бесследно. На его базе возникли фразеологизмы намылить голову, с одной стороны, и слово головомойка – с другой.
Выражение намылить голову появилось в обороте мыть (вымыть, помыть) голову путем замены глагола словом той же смысловой сферы (мыть – намыливать). Подобные процессы в фразеологии – не редкость (ср.: на всех парах < на всех парусах, городить чушь < городить чепуху, Бог знает < Бог весть и т. д.).
Существительное головомойка возникло на базе оборота голову мыть посредством сложения и суффикса – к(а). Такие «фразеологические» по своему происхождению слова в словообразовательной системе русского языка также встречаются очень часто (вспомните хотя бы слова головоломка < голову ломать, головокружение < голова кружится, зубоскал < зубы скалить, кривотолки < кривые толки и т. п.).
Позднее существительное головомойка было использовано говорящими как слово той же смысловой сферы, что и слово баня, и появилось – на базе фразеологизма задать баню – выражение задать головомойку.
Заметим, что выражение задать баню само по себе также не исконно. Оно родилось (как, между прочим, и фразеологизм задать жару) от оборота задать пару, в связи с замещением слова пар опять-таки словом той же тематической группы – существительным баня.
Что же касается выражения задать пару (< дать пару), то оно является изначальным и возникло как устойчивое сочетание слов уже не по модели, а из свободного сочетания, когда составляющие его слова стали употребляться не в прямом («парильном») значении, а в обобщенном и образно-переносном.
В заключение заметим, что заимствованный характер выражения мыть голову отмечался уже В.Далем: «Намылить и вымыть кому голову, с нем. пожурить» («Толковый словарь…»), но впоследствии никем из лингвистов замечен не был. Мы до сих пор плохо используем то, что было сделано нашими предшественниками.
Пиррова победа
Фразеологизм пиррова победа «победа, не оправдывающая понесенных за нее жертв, победа, равная поражению», возник из свободного сочетания слов. По описанию Плутарха, победа над римлянами в 279 г. до н. э. эпирскому царю Пирру стоила стольких жертв, что когда он узнал об этом, то воскликнул: «Еще одна такая победа, и мы погибли!» И в самом деле, в следующем, 278 году его войска были разбиты теми же римлянами.
Не зная происхождения этого оборота, нельзя оценить прелесть и изящество остроумной миниатюры Ф. Кривина: «Много побед одержал великий Пирр, но в историю вошла только одна пиррова победа».
Заметим, что в этой небольшой фразе писатель не только разлагает выражение пиррова победа на его составные компоненты, но и, делая это, употребляет еще один оборот со словом победа – сочетание одержать победу. Вряд ли оно когда-нибудь останавливало на себе ваше внимание: обычное, рядовое описательное выражение, равное глаголу (победить) и входящее в привычную и типовую модель (ср.: дать гудок – загудеть, провести беседу – побеседовать, нанести удар – ударить и т. д.). Но особенность у него все же есть. Она не в том, что в выражении одержать победу лексическое значение целиком прибрало к рукам существительное победа, оставив на долю глагола одержать чисто морфемное значение (равное значению суффикса – и(ть) в глаголе победить). Это интересно, но свойственно всем такого рода описательным оборотам. Своеобразие в том, как наш оборот появился на лингвистический свет. А возникло это (книжное!) выражение на базе разговорно-просторечного оборота одержать верх, в результате замещения слова верх в известной степени синонимичным (ср.: верх – его, победа – его) словом победа.
Крокодиловы слезы
Фразеологический оборот возник в русском языке в результате буквального перевода сложного немецкого слова Krokodilstränen (ср. подобное происхождение выражений детский сад – Kindergarten, соломенная вдова – Strohwitwe и т. д.).
Первую запись этого фразеологизма мы находим в «Немецко-латинском и русском лексиконе» Вейсмана 1731 г. Появление соответствующего образования в немецком языке связано с поверьем о том, что когда крокодил пожирает человека, то он плачет (ср. в «Азбуковнике» XVIII в.: Крокодил зверь водный… Егда имат человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает).
Зарыть талант в землю
Это выражение интересно тем, что в одном слове талант здесь содержатся… два слова, различных не только по значению, но и по происхождению. Очень часто оборот зарыть талант в землю объясняют как фразеологизм, заимствованный из старославянского языка. В действительности же он возник уже в русском языке, хотя и на базе евангельской притчи.
В притче рассказывается о том, как один из рабов некоего господина – в отличие от других, пустивших деньги в ход и умноживших их, – зарыл данный ему талант в землю, так как не хотел обогащать далее хозяина своим трудом. Эта притча и легла в основу нашего устойчивого сочетания слов в переносно-метафорическом значении «погубить свои способности». Здесь слово талант имело вначале свое исходное значение «крупная денежная единица». По происхождению оно является старославянским переоформлением греч. talanton. Позднее, уже в XVIII в., чему способствовало целостное значение оборота «погубить свои способности», старое слово талант, являющееся историзмом, заместилось заимствованием из немецкого языка (правда, этимологически восходящим к первому) уже со значением «талант, дарование». И в нашем обороте произошла незаметная подмена греческого talanton немецким Talent.
Заметим попутно, что рассматривать слово талант «дарование, способности» как переносное значение существительного талант «большая денежная единица», возникшее на русской почве, было бы совершенно неправильно. А это иногда наблюдается (см. например: Попов Р. П. Фразеологические единицы современного русского литературного языка с историзмами и лексическими архаизмами. Вологда, 1967. С. 20).
Хранить молчание и играть в молчанку
П онятие «молчать» в нашем языке можно выразить по-разному. Самым обычным и стилистически нейтральным является однословное его выражение – с помощью глагола молчать. Но можно в том же значении употребить и иные средства. В самом деле, в современном русском литературном языке рядом со словом молчать как его фразеологические синонимы свободно и часто употребляются также обороты хранить молчание и играть в молчанку.
Первый принадлежит книжной речи, второй относится к устойчивым сочетаниям слов разговорного языка. Как же они возникли?
Совсем недавно – только в XVIII в. (ср. у Пушкина: Хранить молчанье в важном споре… ) – в книжной речи возникает выражение хранить молчание. Оно рождается как пословный перевод латинского оборота silentium servare.
Несколько позже в качестве разговорного эквивалента обороту хранить молчание входит в употребление выражение играть в молчанку. По своему происхождению оно является таким же результатом фразеологизации свободного сочетания слов, обозначающего вид игры, как и обороты играть в кошки-мышки «хитрить, обманывать», играть в прятки «скрывать, утаивать что-либо», играть в бирюльки «заниматься пустяками» и т. д. Основной смысл игры в молчанку (слово молчанка значит «молчание») заключался в том, чтобы не проговориться первому; первый сказавший что-нибудь платил штраф. Сама игра исчезла из обихода, но ее название в виде фразеологизма играть в молчанку «молчать» осталось жить.
Не миновать глаголя
Этот оборот имеет значение «быть повешенным, погибнуть» и, между прочим, не имеет никакого отношения к глаголу. Он требует объяснения лишь потому, что содержит в своем составе устаревшее ныне слово глаголь «виселица». Таким образом, буквально выражение не миновать глаголя значит «не миновать, не избежать виселицы».
Что же касается существительного глаголь «виселица», то оно возникло на базе слова глаголь как названия буквы «Г». Виселица получила свое новое имя от прописной буквы «Г» благодаря сходству формы этих (во всем остальном вовсе не похожих друг на друга) предметов.
Гол как сокóл
Это рифмованное выражение означает «очень бедный». Как показывают факты истории русского языка, такое значение возникло в нем после появления у слова голый «нагой, неодетый» переносного значения «бедный» (ср. собирательные голытьба, гольтепа «беднота»). Мирное сосуществование обоих этих значений у прилагательного голый наблюдается в обороте С миру по нитке – голому рубашка, в котором, кстати, существительное мир имеет архаическое значение «народ, крестьянская община».
Что касается сравнительной части нашего выражения (как сокол), которая равна по значению слову очень, то она никакого отношения к известному названию птицы не имеет, о чем свидетельствует не только исходный смысл слова голый, но и наконечное ударение в существительном сокол.
Сокóл в ней – обозначение металлического тарана, употреблявшегося в древности в качестве стенобитного орудия. Этот таран представлял собой совершенно гладкую, т. е. «голую», чугунную болванку, подвешенную на цепях. Заметим, что фамилия Соколов по своему происхождению у одних ее владельцев может восходить к древнерусскому имени Сóкол (из сóкол), а у других – к Сокóл (из сокóл).
Очертя и сломя голову
Обороты очертя голову и сломя голову имеют каждый не только свое, одному ему присущее значение (очертя голову «безрассудно, не подумав», сломя голову «стремительно, опрометью, стремглав»), но и особые, лишь для него характерные словесные связи.
Выражение очертя голову свободно сцепляется с самыми различными глаголами. Правда, есть у него и «любимчик» – глагол броситься. Что касается фразеологизма сломя голову, то его окружение ограничено глаголами быстрого передвижения (бежать, мчаться, скакать и т. д.).
И все же у этих различных по значению и словесным связям фразеологических оборотов есть нечто общее.
Прежде всего, что видно даже невооруженным глазом, у них является одинаковым зависимый компонент – голову. Однако общий зависимый член в идиомах очертя голову и сломя голову лишь внешнее выражение их кровного родства по происхождению. Дело в том, что выражение очертя голову родилось, так сказать, при поддержке и содействии оборота сломя голову. Оно появилось в языке в результате контаминации оборотов очертя (себя или кого-либо другого) крýгом и сломя голову. Происхождение первого связано с суеверным (еще языческим) обычаем очерчивать себя или кого-либо другого кругом для ограждения от нечистой силы. В момент своего появления в языке сочетание очертя кругóм было синонимично более позднему обороту осеня крестом.
Очертя себя крýгом или осеня крестом, можно было уже как будто делать что-либо, не боясь. Но это, по мнению тех, кто семь раз отмерял, чтобы один раз отрезать, и на Бога надеялся, а сам не плошал, значило «действовать не думая, безрассудно». Отсюда и пошло современное значение оборота очертя голову.
Совершенно иного происхождения выражение сломя голову. Оно тоже, между прочим, вначале имело только значение «безрассудно, отчаянно», о чем свидетельствует, в частности, существующее и сейчас в диалектах слово сломиголова «отчаянный смельчак, сорви-голова».
Оборот сломя голову возник из соответствующего свободного словосочетания со значением «потеряв голову», соприкасающегося с сочетаниями сложить голову, с одной стороны, и сложа руки – с другой. На развитие современного значения у фразеологизма сломя голову, возможно, повлияло (кроме закономерной соотнесенности «не думая» – «очень быстро») также выражение стремя голову, известное сейчас лишь в диалектах и других славянских языках. По корневому составу и значению оно как бы повторяет литературное наречие стремглав (буквально «опустив голову, вниз головой»), заимствованное русским языком из старославянского.
Вкратце о личных именах Евангелия

Богат и разнообразен современный русский именослов, образующий первое звено нашего трехзначного официального наименования человека (Иван Сергеевич Тургенев, Виктор Владимирович Виноградов, Мария Ивановна Миронова, Татьяна Дмитриевна Ларина и др.). Ученые насчитывают в нем от 6 до 23 тысяч имен. В их числе причудливо сосуществуют самые различные по времени и происхождению слова – от старых дохристианских имен до недавних новообразований и заимствований: Вадим, Владимир, Борис, Ярослав, Глеб, Людмила, Светлана, Игорь, Олег; Василий, Павел, Вера, Надежда, Галина, Лариса, Татьяна, Юрий, Егор, Лев, Виктор; Феликс, Стелла, Регина, Пина, Роза, Марина, Вилен, Донара, Воля, Сталина, Линель (< Ленин), Злата, Муза, Рада, Жанна, Рем, Майя, Эдуард, Леонард, Алиса и т. д. Но основное ядро русских имен составляют канонические имена.
В переработанном по законам русского языка виде церковнославянские антропонимы и сейчас – несмотря на большой и разнохарактерный влив неканонических имен нового времени – являются наиболее распространенными и излюбленными. Достаточно назвать, например, такие имена, как Алексей, Анастасия, Анатолий, Андрей, Анна, Артем, Афанасий, Валентин(а), Варвара, Василий, Вера, Георгий, Дарья, Дмитрий, Дорофей, Евгений – Евгения, Евдокия, Егор, Елена, Елизавета, Ефим, Иван, Илья, Кирилл, Константин, Кузьма, Лука, Любовь, Макар, Максим, Мария, Марфа, Михаил, Надежда, Наталия, Никита, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Татьяна, Тимофей, Федор, Филипп, Юрий, Яков и т. п.
Некоторые из этих антропонимов восходят к именам действующих лиц благовестия Нового завета, повествующего о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Став неотъемлемой принадлежностью русского календарного именослова, они обрусели и в ряде случаев дали затем устойчивые словосочетания или производные слова, послужили основой пословиц и поговорок, поэтической символики и т. д.
Разберем далее в постраничном порядке все так или иначе вошедшие в русский язык имена главных действующих лиц Евангелия, прежде всего как они были зафиксированы со второго богослужебного начала первой главы в святом благовествовании от Матфея издания Свято-Введенской Оптиной Пустыни 1991 года. Первое начало (1, 1), содержащее родословную Иисуса Христа, как вторичный текст, отсутствующий в других канонических евангелиях, не рассматривается. Комментарий является по преимуществу лингвистическим, но иногда он будет сопровождаться также и некоторыми энциклопедическими объяснениями (естественно, только в той мере, в какой это совершенно необходимо для адекватного понимания объективной стороны евангельского текста). Толкованию, таким образом, будет подвергаться слово как единица языка, а не называемое им лицо, причем лексическая единица по возможности будет анализироваться со всех сторон и во всех ее ипостасях – от ее происхождения до ее употребления в нашей речи. Слова греческого и латинского языка передаются латиницей, исходные слова из древнееврейского – кириллицей (с неизбежными транскрипционными упрощениями).
Имя Иисус является первым антропонимом Евангелия. Оно часто давалось детям и до рождения Христа, причем просто по заведенному обычаю, в соответствии с существовавшей уже традицией. Христа же его юридический отец Иосиф назвал Иисусом по совету явившегося ему Ангела Господня не случайно. В Евангелии читаем: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их» (Мф. 1, 21). Действительно, имя Иисус, пришедшее в русский из церковнославянского языка буквально значит «спаситель». Последнему это слово досталось из греческого языка, где оно является переделкой древнееврейского Иешуа «спаситель» из первоначального сложения Иегошуа, буквально обозначавшего «Бог спасет». Именно поэтому в русском языке появились слова Спасъ и Спаситель в значении «Иисус Христос». Эта семантическая калька имени Иисус получила свое отражение в названиях городов и деревень (по церкви) типа Спасск, Спас-Деменск, Спасское, а также в оборотах яблочный Спас и Спас не спас и др.
В настоящее время именем Иисус, как и Христос, детей по понятным причинам уже не называют. Косвенно с именем Иисус связано как дальнородственное слово иезуит, поскольку оно представляет собой немецкое Jesuit, производное от латинской формы слова Иисус – Iesus, обозначавшее члена католического ордена Иисуса. К нам оно пришло как германизм, вероятно, в XVI в. из польского языка. Значение «коварный и двуличный человек» существительное приобрело ввиду характера деятельности иезуитов, осуществлявшейся по сформулированному основателем ордена Игнатием Лойо-лой канону – «цель оправдывает средства».
Название Христос было дано Иисусу как пророку, обладающему святостью первосвященника и могуществом царя, пришедшему спасти человечество от его грехов. По своему происхождению это греческое слово представляет собой словообразовательную кальку древнееврейского слова, усвоенного нашим языком в виде мессия. Его первичное значение – «помазанник». Пророков, первосвященников и царей умащали (мазали) благовонным маслом – миром. Само греч. Christos – суффиксальное образование от chriō «умащаю, мажу». В русский язык слово Христос пришло из церковнославянского языка, прочно укрепилось в нем и послужило базой для целого ряда нарицательных имен существительных (христианство, христарадничать, христосоваться, христопродавец и т. д.) и фразеологизмов типа Христа ради, Христом-Богом прошу, как у Христа за пазухой и т. д. В русском языке слово Христос оказалось своеобразным и с точки зрения своего морфемного состава. Так, слова космос, эпос легко делятся сейчас на морфемы: корень, суффикс и нулевое окончание (космоса, эпосом; космический, космонавт; эпическое, эпопея и др.): косм-ос(), эп-ос(). Что касается существительного Христос (Христа, Христу и т. д.), то косвенные падежи без – ос– позволяют поставить вопрос: «Где в этом слове окончание?» Если иметь в виду отношения форм Христос – Христа, Христу и пр., то можно как будто интерпретировать– ос как нерегулярное окончание – ср.: да(м), об(а), тр(и) и т. п. Но все же предпочтительней считать, что в этом слове нулевое окончание, как во всех существительных мужского рода с основой на согласный (колос(), голос(), вопрос() и т. д.). В таком случае морфему – ос– можно трактовать как суффикс, указывающий на именительный падеж, подобно тому, как суффикс – ер– в форме матери и т. д. указывает на косвенные падежи слова мать.
Мать Иисуса Христа носила имя Мария, впоследствии самое известное и любимое русскими. По происхождению Мария – это церковнославянизм, восходящий к греч. Maria, которое, в свою очередь, является переоформлением древнееврейского имени Мариам. Этимология этого слова не установлена: одни толкуют его как производное со значением «высокая», «возвышенная», другие – «горькая», третьи – «отвергающая, противящаяся». Во всяком случае Богоматерь получила это имя по установившейся традиции, и оно у нее «говорящим» уже не было. В русской народной речи рядом с кодифицированным именем Мария появился ее фонетический дублет – Марья, отраженный в фитонимах иван-да-марья и марьин корень. У паспортного Мария в нашей речи существует большое количество соответствующих интимных имен: Маша, Маруся, Муся, Маня, Маняша, Мака, Муля и др.
Имя Иосиф, которое носил муж Богоматери, также появилось у нас как церковнославянизм, передающий греческое слово Iōsēph, заимствованное из древнееврейского языка, где оно толкуется как «Божье прибавление» (ср. имя Богдан, калькирующее греч. Theodotos). В русском живом языке имя Иосиф изменилось сначала в Есип, а затем в Осип, отложившихся в фамилиях Есипов и Осипов. Последняя, кстати, дала жизнь слову осиповщина, обозначающему одну из сект беспоповщины.
Имя Ирод в наш именослов не вошло, но в разговорной речи употребляется как бранное обозначение человека («жестокий человек») довольно часто. Появление такой семантики у личного имени иудейского царя Ирода Великого объясняется его страшной жестокостью, выразившейся, в частности, в том, что при известии о рождении Иисуса Христа он «послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже…» (Мф. 2, 16). Косвенно этот антропоним отразился в нашем языке также во фразеологических оборотах иродова образина и избиение младенцев. Слово ирод в бранном значении «мучитель, изверг» лексикографически фиксируется, кажется, лишь со Словаря Ушакова (см.: Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940), хотя в художественной литературе оно отмечается уже в XIX в.
С именем Ирод опосредованно связано одно из самых частых русских мужских имен – Иван. Ведь имя Иван является переоформлением антропонима Иоанн, который носил Иоанн Предтеча (иначе Иоанн Креститель). Как известно, последний был обезглавлен по приказу Ирода (но не Ирода Великого, а его сына – Ирода Антипы) по просьбе Саломеи, дочери Иродиады, жены Ирода Антипы, являвшейся внучкой Ирода Великого. Саломея – у Матфея она по имени не названа – своей пляской в день рождения отчима угодила ему так, что он клятвенно «обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя» (Мф. 14, 7–8).
Слово Иоанн по происхождению в русском языке – церковнославянский грецизм, передающий древнееврейское Иоханан (буквально – «Божья благодать, Божий дар», ср. Божедар). Имя Иоанн уже в древнерусскую эпоху в живой речи было «переработано» в Иван, которое сразу же обросло интимными (как уменьшительно-ласкательными, так и уничижительными) производными типа Иваха, Ивашка, Ива, Иванча, Ивахно, Ваня, Ванюша и др. Некоторые из этих производных употребляются и сейчас или/и отложились в фамилиях (Иван, Иванчиков, Ивашин, Ванин, Ванюшечкин и пр.). Фамилия же Иванов, как и имя Иван (ср. фразеологизм русский Иван), стала символом русскости, хотя его первоисточник (Иоанн) живет (естественно, в соответствующем фонетическом облике) в антропонимике самых различных языков (ср.:
Жан, Ян, Иоганн, Вано, Ованес и т. д.). Имя Иван отразилось в ряде нарицательных существительных и фразеологизмов, ср. ванька «извозчик» (устар.), иван-чай < ивань чай «Иванов чай» (ср. городское Владимир < Владимирь (град), Иванушка-дурачок, ваньку валять и т. д.
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море…» (Мф. 4, 18). Иисус Христос позвал их за собой, и они стали первыми его учениками. Все три их имени прочно вошли в русский именослов, и новорожденных у нас до сих пор охотно называют Семен, Петр и Андрей. Как свидетельствует текст, слово Петр было вторым (возможно, мирским) названием рыбака, а затем знаменитого апостола Симона и носило первоначально «прозвищный» характер (ср. у Грибоедова: Вы сударь – камень, у Чехова: Дядя, Иван Иванович, наоборот, был кремень). Но затем оно стало для этого человека основным, и трижды «прежде нежели пропоет петух» (Мф., 26, 34) отречется от Иисуса Христа уже не «Симон, называемый Петром», а просто Петр. Имя Петр, в отличие от древнееврейского имени Симон, является по происхождению греческим и восходит к нарицательному petros «камень» (ср. петрография). Антропоним Петр отложился в лексике и фразеологии русского языка в единицах Петроград, Петрополь, Петербург, Петрозаводск; петровки («пост перед Петровым днем, праздником в честь апостолов Петра и Павла»), Петровка (улица в Москве), петрушка в названиях растений, петров крест; в деминутивах Петя, Петруха, Пе-тюня и др.
Имя Андрей, как и «братское» Петр, также пришло к нам из Евангелия в качестве церковнославянского грецизма. В греческом языке оно является исконным и восходит к нарицательному andreos «мужественный, смелый», суффиксальному производному от aner, andros «мужчина». Сейчас оно у нас одно из самых частотных мужских имен, хотя набор и интимных имен, и нарицательных производных у него очень скромен (Андрюша, Андря, Андрейка и нек. др.; андреевка < андреева трава).
Первоначальное имя апостола Петра – Симон является вариантом слова Симеон и, будучи заимствовано русским языком из церковнославянского, восходит в качестве греческого переоформления к древнееврейскому Шимон, нарицательному существительному от глагола шпмаʼ «слушать». Буквально оба антропонима значат «послушный». От них уже в древнерусскую эпоху и образовалось современное Семен, вытеснившее своих «родителей» на антропонимическую периферию. Разобранные имена живут сейчас также в интимным формах (Сема, Сеня, Симоня и др.) и фамилиях.
Следующими учениками Иисуса Христа были также рыбаки, сыновья Зеведея – апостол Иаков и апостол и евангелист Иоанн. Имя отца апостолов в русский язык не попало. О слове Иоанн уже говорилось. Мужское Иаков изменилось у нас в Яков и стало довольно частотным. От него возникла распространенная фамилия Яковлев и ряд деминутивов (Яша, Якуня, Якуша, отсюда фамилии – Яшин, Якунин, Якушев). По происхождению имя Иаков – церковнославянский грецизм Иаков, восходящий к древнееврейскому Йакоб «последователь, ученик» < «следующий за кем-л.». В белорусском языке это имя звучит как Якуб и представляет собой полонизм Jakob. Оно дало фамилии Якубов, Якубинский. Латинская форма имени, кстати, со времен Великой французской революции живет в слове якобинец и производных; якобинцев назвали так по захваченному ими монастырю святого Якова (Якоба) в Париже.
Следующим действующим лицом Евангелия от Матфея, названным по имени, был сам Матфей, который последовал за Иисусом, бросив по Его приказу профессию мытаря, сборщика пошлин. Матфей стал одним из двенадцати апостолов и автором одного из четырех канонических евангелий, написанного, как полагают, на основе Евангелия от Марка и Христовых логий (изречений, притч, проповедей самого Иисуса Христа). Слово Матфей является церковнославянским переоформлением древнегреческого Mathaios, полукальки соответствующего древнееврейского слова Матитйеху, буквально обозначающего «дар Яхве (Бога)». Кстати, это имя в древнегреческом языке было скалькировано также полностью и дало в результате этого Федора и Дорофея. Слова Федор и Дорофей – имена-близнецы, состоят из одних корней, но с различным их расположением: Theodoros – theos «Бог» и doros «дар», Dorotheos – doros «дар» и theos «бог». Оба эти имени дали и женские: Федора и Доротея (с западноевропейским т, ср. Теодор). В русском языке имя Матфей после диссимиляции глухих тф стало звучать Матвей. Сейчас имя Матвей дается детям очень редко. Как исходная часть оно живет в фамилии Матвеев и нескольких уменьшительно-ласкательных образованиях типа Матвейка, Матюша, Мотя.
В 10-й главе Евангелия от Матфея (Мф. 10, 2–4) называются двенадцать учеников Иисуса Христа: «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его». Некоторые из имен уже были разобраны. Впервые появившимися в тексте являются Филипп, Варфоломей, Фома, Фаддей и Иуда.
Имя Филипп в церковнославянском языке передает греч. Philippos, восходящее к нарицательному существительному, образованному сложением phileō «люблю» и hippos «лошадь» (ср. филология, ипподром, в паспортной и интимной форме ряд фамилий: Филиппов, Филин, Филюшин). В русском языке оно дало начало слову простофиля и фразеологизму филькина грамота.
Антропоним Варфоломей восходит к древнееврейскому имени Бар-Талмай, которое буквально значит «сын Фалмая». Сейчас оно в качестве наименования новорожденных уже не встречается. В просторечии это имя трансформировалось в Вахрамей. Из интимных производных следует отметить слово Вахруша, давшее фамилию В(Б)ахрушин. Фразелогизм варфоломеевская ночь «массовое побоище» является калькой соответствующего французского оборота. Буквально – «ночь на 24 августа (день святого Варфоломея) 1572 г., когда католики устроили в Париже массовую резню гугенотов» (Словарь иностранных слов. 18-е изд. М., 1989. С. 97).
Слово Фома также находится на периферии современного русского именослова. По своему происхождению оно – церковнославянский грецизм, который является переоформлением древнееврейского имени со значением «близнец». Сейчас оно известно прежде всего как компонент фразеологизма Фома неверный (буквально – «неверящий Фома»), но у Матфея о неверии Фомы в воскресение Иисуса Христа еще ничего не говорится. Эти сведения мы находим только у Иоанна, поэтому подробно об этом позже.
Имя Иуда у русских сейчас новорожденным не дается. Даже немыслимо себе представить, что родители назвали бы своего ребенка словом, которое является обозначением предателя. Однако этимологически это имя самое нормальное и, более того, хорошее. Ведь древнееврейское Иехуда, переоформленное в греческом языке в Ioudas и превратившееся в церковнославянское Иуда, представляет собой сложное слово со значением «восхваляющий Яхве» (т. е. Бога), а вовсе не предающий его. Кстати, это имя носили многие, кого, наоборот, предавали. Вспомним хотя бы брата Иисуса Христа «по плоти» Иуду Апостола, иначе называемого Фаддеем (см. выше), который за проповедь Евангелия «сначала был повешен на дереве, а затем пронзен стрелами» (Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. М., 1891. С. 371).
В современной семантико-стилистической сути этого имени «повинен» поступок Иуды Искариота, за тридцать сребреников предавшего Христа. Сцена предательства этого двенадцатого ученика Господа и последующего самоубийства раскаявшегося в содеянном Иуды «родили» фразеологизмы поцелуй Иуды и иудино дерево «осина». Но это предмет особого разговора.
Имя Илья в настоящее время является модным и дается детям довольно часто. Самым любимым интимным производным от него выступает Илюша. Отсюда, рядом с фамилией Ильин, распространенное фамильное наименование Илюшин. Имя Илья – естественно, в старой форме – Илия – употребляется Иисусом Христом по отношению к Иоанну Крестителю: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти» (Мф. 11, 14). Это церковнославянское существительное – через греческое посредство – восходит к древнееврейскому имени ʼЕлияху (буквально – «Яхве – мой Бог»).
Среди имен братьев Иисуса Христа «по плоти» (сестры не названы) сохранились все, кроме Иосий (ср.: «Не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры Его не все ли между нами?; Мф. 13, 55). Все три имени были прокомментированы выше.
Имя Моисей сейчас не характерно для русской антропонимической системы и воспринимается как нерусское. По происхождению оно в принципе таким и является, но старославянское Моисии в русской форме Моисей (возникшей после падения редуцированных с утратой конечного слабого ь и прояснением сильного и в е, ср. Сергий – Сергей и т. д.) сравнительно редко, но употреблялось. Отсюда идет, кстати, фамилия Моисеев. Этимологически антропоним Моисей – радикальная переработка в трех языках (греческом, церковнославянском и русском) древнееврейского Моше (спасенный из воды в детстве законодатель и вождь еврейского народа).
Понтий Пилат как наименование римского прокуратора Иудеи в русскую антропонимику не вошло. Память об этом имени сохранилась лишь в устаревшем нарицательном существительном пилат «мучитель» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка) и фразеологизме умыть руки, рассказ о котором еще впереди.
Антропоним Магдалина заканчивает список вошедших в русский язык имен, упоминаемых в Евангелии от Матфея: «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Мф. 27, 61). Кстати, перевод здесь неточен: существительное гробъ надо переводить словом гробница, ср.: «и, привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф. 27, 60). В тексте Евангелия слово Магдалина не является собственно именем, а говорит лишь о происхождении упомянутой Марии из галилейского города Магдалы. Так что Мария Магдалина – это Мария из Магдалы. Как имя собственное слово Магдалина первоначально стало использоваться у католиков. Затем «перекочевало» и к православным. Первоначально интимная его форма Магда превратилась в самостоятельное имя. Наиболее частотным уменьшительно-ласкательным производным от имени Магдалина сейчас является Лина.
К разобранным личным именам остальные канонические евангелия добавляют всего четыре антропонима: Александр (Евангелие от Марка), Елизавета, Анна (Евангелие от Луки) и Марфа (Евангелие от Иоанна). Имена евангелистов Марка и Луки в современной русской антропонимической системе встречаются очень редко. Оба они являются церковнославянскими грецизмами (Markos, Loukas), передающими латинские Marus, Lukas, восходящие, как полагают, к нарицательным Mars «Марс» и lux, lucis «свет». Имена Александр, Елизавета, Анна и Марфа сейчас используются при наречении новорожденных довольно активно. Не являясь модными, они у русских любимы. Об этом, в частности, свидетельствуют и многочисленные уменьшительно-ласкательные производные от имен: Александр – Саша, Саня, Сашура, Шура и др.; Анна – Нюра, Анюта, Нюша, Аннушка и пр. От имени Елизавета самым частотным деминутивом выступает Лиза.
По своему происхождению имя Александр – церковнославянизм, передающий греческое Alexandras, сложение alex? «защищаю» и andros «мужчина».
Имя Анна – церковнославянизм, восходящий – через греческое посредство – к древнееврейскому Ханна, производному от хён «красота, грация».
Имя Марфа – церковнославянизм, являющийся греческим переоформлением арамейского Марта «госпожа», а имя Елизавета – церковнославянскую обработку греческого Elisabet (из др. – евр. Елишеба «клянущаяся Богом»).
У Марфы есть западноевропейский двойник в виде Марты. Имя Анна интересно тем, что первоначально оно было мужским. Имя Александр в своей интимной форме Шура забавно тем, что является словом без какой-либо малой толики корня: Александр – Саша – Сашура – Шура. Имя Шура образовано аббревиацией начала слова Сашура с корнем Са-, подобно словам Агин – Елагин, Пнин – Репнин.
Происхождение слов и этимологический анализ

В заметках, с которыми вы уже познакомились, рассказывалось о том, что можно назвать генеалогией слов. Эти лингвистические «метрики» слова, указывающие время и место появления его на свет, его «родных и родителей», его первоначальную форму и значение и т. д., являются результатом того или иного (то глубокого, то весьма приблизительного и предварительного) этимологического анализа.
Словообразовательный анализ слова вскрывает его строение и место среди других слов современного языка с точки зрения существующей системы русского словообразования.
Для слов с активно производящими основами, с продуктивными словообразовательными элементами этимологического анализа часто практически не существует: он совпадает в них с разбором словообразовательным. Например, в таких словах, как норка, кареглазый, резчик, бурный, горнист, выбросить, ледокол, голосистый, садовый, соткать, входить, соавтор, пригорок, уяснение их словообразовательного строения (норк(а), кареглаз(ый), резчик(), бурн(ый), горнист(), вы-брос-и(ть), лед-о-кол(), голос-ист(ый), сад-ов(ый), со-тк-а(ть), в-ход-и(ть), со-автор(), при-гор-ок()) является одновременно и установлением их реального образования.
Такое совпадение словообразовательного разбора с этимологическим объясняется тем обстоятельством, что в настоящее время они членятся на части так же, как членились в то время, когда появились в русском языке. Изменение в морфологическом составе наблюдается не во всех словах и отнюдь не является обязательным для всех слов русского языка.
Вместе с тем, производя анализ состава слова, следует всегда иметь в виду, что многие слова за время существования в языке изменили свое строение. Поэтому, например, нет никакой гарантии, что слова, ныне корневые, непроизводные, ранее не распадались на морфемы, что слова, сейчас каким-либо образом членимые, ранее членились так же. Определение словообразовательных связей, существующих между такого рода словами и другими словами в настоящее время, не будет уже уяснением того, когда, как, от каких слов, при помощи каких способов словопроизводства они возникли. Во всем этом позволяет разобраться лишь этимологический анализ.
Для разбора с морфологической точки зрения слов, изменивших по тем или иным причинам свою первоначальную словообразовательную структуру, большую роль приобретает этимологический анализ.
Различие словообразовательного, с одной стороны, и этимологического – с другой, разбора слова можно показать, например, на анализе слов здание, жук, час, смородина, окно, ужин, скрупулезный, халатное (отношение), целовать, посетить и т. д.
Если с точки зрения современных словообразовательных связей все это слова с непроизводной основой (слова целовать, посетить выделяют в основе лишь суффиксы – а– и– и-), то с исторической точки зрения, как показывает этимологический анализ, все они оказываются и разложимыми словами с производными основами, и вместе с тем словами, сохранившими внутреннюю форму слова, т. е. словами, в которых ясен мотив возникновения их как названий предметов объективного мира.
С этимологической точки зрения слово здание предстает перед нами как образование от зьдати «строить» (ср. зодчий «архитектор») при помощи суффикса– ниј(е), слово жук — как производное с суффиксом – к– от звукоподражательного комплекса жу, слово час как слово, возникшее на базе глагольного корня ча– (ср.: чаяти «ждать», паче чаяния «сверх ожидания»), осложненного суффиксом – с-.
Этимологический разбор приводит нас к выводу, что такими же производными являются и слова смородина (с суффиксом – ин(а), от слова смородъ «сильный запах»; ср. ст. – слав. смрадъ), окно (от слова око «глаз», с суффиксом– ън(о)), ужин первоначальное «полдник» (от слова угъ «юг», с суффиксом – инъ), скрупулезный (с суффиксом – езн(ый), от слова скрупул – название старинной единицы аптекарского веса, равной 1,24 грамма), халатный (с суффиксом – н-, от слова халат).
Такой разбор позволяет нам вскрыть мотивацию называния и невыделяемые с современной точки зрения морфемы в словах посетить и целовать: посетить оказывается образованием с приставкой по– и корнем– сет– (ср. др. – рус. скть «гость»), а целовать – производным от прилагательного цкль «здоровый, невредимый», первоначально обозначавшим не «целовать», а «приветствовать» (ср. современное «здравствуй»).
Необходимость этимологического анализа для выяснения происхождения и действительной картины образования многих слов, существующих в современном русском литературном языке, определяется зачастую не теми изменениями, которым подверглось их словообразовательное строение, а тем, в качестве каких – исконно русских или заимствованных – появляются они (с соответствующим смысловым значением и морфемной структурой) в нашей речи.
В словообразовательной структуре, например, таких слов, как октябрь, дуэль, флигель, флюгер, небоскреб, живопись, утка (газетная), с того времени, как они появились в русском языке, никаких изменений не произошло.
Этимологическое рассмотрение этих слов для объяснения их образования и происхождения обусловливается их сторонним, заимствованным характером. Оно показывает, что слова небоскреб и живопись являются словообразовательными кальками (первое – с англ. слова skyscraper, второе – с др. – греч. слова zōographia), а слово утка (газетная) – «ложный слух» – представляет собой семантическую кальку с франц. слова canard).
Этимологическое рассмотрение дает возможность установить иноязычное происхождение слов: октябрь – из латинского, дуэль – из французского, флигель и флюгер – из немецкого языка. Знакомство с их значением и употреблением в языке-источнике позволяет выяснить и тот образ, который был положен в основу соответствующего названия: октябрь (от octo «восемь») по римскому календарю был восьмым месяцем в году; дуэль (из ср. – лат. duellum) восходит к латинскому словосочетанию duo bellum и буквально означает «война двух»; слова флигель и флюгер представляют собой трансформацию немецкого слова Fl?ger в значении «крыло» (от глагола fliegen «летать»).
Производя на практике этимологический разбор слова, не следует забывать, что его никоим образом нельзя смешивать с делением слов на морфемы с точки зрения современных языковых связей и соотношений. Ведь если морфемный анализ дает нам картину состава рассматриваемого слова в настоящем, то этимологический разбор знакомит нас с его прошлым, иногда весьма отдаленным.
При разграничении словообразовательного и этимологического анализа уже указывалось то, что прежде всего отличает их друг от друга. Этимологический и словообразовательный анализ противопоставлены друг другу прежде всего тем, что первый является средством выяснения прошлого в жизни слова, тогда как второй имеет своей целью объяснить его настоящее. Но разница между ними не только в этом. Словообразовательный и этимологический анализ не соотносительны и резко разнятся между собой объемом своих задач.
Когда слово подвергают словообразовательному анализу, то интересуются лишь его строением и составом, но отнюдь не его значением, как таковым, и исконно русским или заимствованным характером.
При разборе со словообразовательной точки зрения слов подгруппа, колоннада, подлодка важно установить, что слово подгруппа делится на приставку под– и непроизводную основу– групп(а) и образовано приставочным способом; что слово колоннада представляет собой суффиксальное образование с помощью – ад(а) от основы – колонн(а); что слово подлодка соотносительно со словосочетанием подводная лодка и осознается как сложение сокращенной основы под– и полной основы – лодк(а) и т. д. В этом случае специально не рассматриваются другие факты, например то, что слово подгруппа является исконно русским, слово колоннада – заимствованным из греческого языка, а слово подлодка – калькой с французского слова (из лат. submarina).
Что касается значений слов, то их в данном случае не анализируют, а из них исходят при установлении семантико-словообразовательных связей с другими словами. Предметом словообразовательного анализа оказывается лишь современная структура слова.
Этимологический анализ слова не ограничивается определением того, как слово делилось раньше, каким способом и на базе каких слов оно образовано. Его задачи оказываются гораздо более разнообразными и соответственно более сложными.
Конкретно в задачи этимологического анализа слова входит: 1) определение исконного или заимствованного характера слова (с данным значением и структурой), 2) выяснение образа (представления), положенного в основу слова как названия предмета действительности, 3) установление того, когда слово появилось в языке и как, на базе чего и с помощью какого способа словообразования оно возникло, 4) реконструкция его праформы и старого значения.
При выяснении этимологии слова прежде всего важно установить его происхождение: является ли данное слово исконно русским или же оно заимствовано из какого-либо языка. Здесь существенно четкое разграничение: 1) иноязычных слов и слов, возникших на их основе в русском языке, 2) происхождения морфем, составляющих слово, и самого слова, 3) одинаковых по структуре и значению слов разных языков и словообразовательных и семантических калек и 4) языка-передатчика и языка-источника.
Нельзя считать, например, заимствованными слова ехида, спец, нигилист (или такие, как чайник, соавтор, школьный, якшаться, известняк и т. п., имеющие русские словообразовательные элементы). Несмотря на их иноязычные корни, они являются словами русского языка: слово ехида возникло в результате усложнения основы на базе греч. echidna (от непроизводной основы– ехидн– отпочковался суффикс – н– по аналогии со словами голодна, свободна и т. д.); слово спец появилось в советскую эпоху как сокращение слова специалист (франц. spécialiste); слово нигилист – как образование от лат. nihil «ничто», впервые в статье Надеждина «Сонмище нигилистов» в первой трети XIX в. В других языках мы можем встретить эти слова лишь как заимствованные из русского языка.
Определяя источник иноязычного слова, надо четко отличать происхождение частей того или иного слова от реального возникновения этого слова в языке при назывании явлений действительности.
Неправильно, например, было бы, учитывая греческое происхождение частей слов утопия и телефон, относить их к заимствованиям из греческого языка, потому что как слова они возникли в английском языке: слово утопия – неологизм Томаса Мора (XV–XVI вв.), слово телефон появилось в конце XIX в.
Требуется четко различать кальки и слова, возникшие как одноструктурные и синонимические в разных языках совершенно самостоятельно (ср., например, слова выход и Ausgang как аналогичные образования от глаголов выходить и ausgehen). Для того чтобы слово отнести к калькам, необходимо иметь совершенно определенные факты, говорящие о том, что его структура или значение воспроизводит соответствующий факт иноязычного слова.
Наконец, при определении, из какого именно языка пришло в русский язык то или иное слово, обязательно следует учитывать, что слова попадают в нашу речь часто не непосредственно из того языка, в котором они возникли, а через какой-либо другой или другие языки.
В ряде случаев при этом в языке-передатчике происходит такая трансформация звуковой оболочки, значения и структуры слова, что в русском языке его приходится уже считать заимствованным не из языка-источника, а из того языка, из которого слово в наш язык поступило.
Было бы совершенно неверным, например, считать, что слово бронх является заимствованием из латинского языка, а слово рынок – из немецкого. С тем звучанием и значением, которое им свойственно, они характерны соответственно французскому и польскому языкам и в русском языке должны определяться: бронх как галлицизм, а рынок как полонизм. Другое дело, что во французском языке слово bronche является заимствованием из латинского языка, а в польском языке слово rynek не что иное, как переработка немецкого слова Ring.
Второй задачей этимологического разбора слова (с которой связаны и две остальные) является определение образа, который был положен в основу слова как названия. Почему данный предмет объективной действительности назван именно так, а не как-либо иначе? Таков вопрос, который возникает в данном случае. Ответ на него часто является одновременно ответом на другой вопрос: «От какого слова было образовано анализируемое слово?»
Название первоначально при своем возникновении всегда является мотивированным. Называя тот или иной предмет объективной действительности, люди используют названия других предметов или явлений, в том или ином отношении с ним связанных или соотносительных. Вещи и явления в результате этого начинают называться по тому признаку, иногда весьма несущественному, который казался достаточно характерным для того, чтобы отличить их от других.
Таким бросающимся в глаза признаком, по которому предмет или явление получает свое название, может быть форма, цвет, функция, размер, сходство с чем-либо и другие внешние и внутренние свойства. Кольцо, например, получило свое название по форме (коло «круг»; ср. около), желток (яйца) – по цвету, мыло – по функции, окно – по сходству (от око) и т. д.
Образ, положенный в основу названия, и оформляющие его словообразовательные элементы составляют лишь основу того значения, которое закрепляется потом за словом в результате длительной традиции употребления. Признак, положенный в основу названия данного предмета, может характеризовать не только его, но и другие явления объективного мира. Кроме того, он всегда является весьма общим и неопределенным. Реальное значение слова, напротив, конкретно и индивидуально. Поэтому очень часто ясного представления о действительном значении слова образ, положенный в основу названия, не дает.
Например, понимание образа в болгарских словах черница, ветрило, птичка не приводит нас к знанию их фактического значения (черница «тутовое дерево», «ягода этого дерева», ветрило «веер», «бумажный змей», птичка «воробей»).
Ясное представление образа в русских диалектных словах голянка и зеленец не дает все же возможности твердо сказать, не зная соответствующего говора, что они называют (голянка «особого типа рукавица», зеленец в разных диалектах – «свежий веник», «незрелая ягода», «островок, поросший камышом или ивняком», и т. д.).
Напротив, нередко бывает, что во многих хорошо знакомых нам словах образ уже не ощущается, так как в результате изменений значения, звучания и структуры слова он очень часто стирается и мотивированность названия исчезает. В ряде случаев это приводит к возникновению в языке таких словосочетаний, которые с этимологической точки зрения как бы противоречат логике, или объединяя совершенно различные вещи (розовое белье), или тавтологически повторяя одно и то же (торная дорога, силосные ямы; тор «дорога», ср. чеш. tor «дорога», силос – из испанского языка, silos буквально «ямы»).
Все слова с непроизводными основами и некоторые производные функционируют в языке как чисто условные и немотивированные обозначения. Первоначальные представления, образы, положенные в основу, например, таких слов, как комната, долото, курица, забота, греча, зеркало, яровые, в настоящее время совершенно исчезли, и слова предстают перед нами как условные названия.
Этимологический анализ восстанавливает забытое говорящими. Оказывается, комната была названа так потому, что первоначально это было помещение с камином (лат. caminata). В основу слова долото был положен глагол долбить (долото из *dolbto «орудие для выдалбливания»). Слово курица оказывается производным от слова кур (ср.: как кур во щи), для обозначения особи женского пола. Кур, т. е. петух, получил название звукоподражательного характера (по крику кукареку). Забота (ср. сев. – рус. забота) осознается как образование от глагола зобать «есть». Греча получила наименование по происхождению (из Греции), яровые – по времени (от исчезнувшего в русском языке слова яро «весна», ср. ярка, поярок, Ярило и др.), зеркало (старое – зерцало) – по функции (как орудие для «созерцания», видения, ср. глагол созерцать).
Для восстановления признака, ставшего основой названия, важнее всего определить то слово, которое послужило базой для образования анализируемого. Тем самым его определение в известной степени ведет к выяснению того, как данное слово было образовано.
При выяснении этого чрезвычайно важного вопроса этимологический разбор слова должен привести нас к реконструкции наиболее древней, насколько это возможно, структуры слова, к определению конкретного слова, на основе которого разбираемое слово образовано, наконец, к установлению действительного способа его образования.
Разбирая слова с этой точки зрения, следует учитывать прежде всего историчность их звучания, структуры и значения, процессы опрощения, переразложения, замещения и усложнения основы, а также факты тесного слияния морфем в слове. Совершенно необходимо возникающие на основе всестороннего анализа выводы проверять данными словарей как современного русского литературного языка, так и древнерусского, диалектных словарей и словарей других языков.
Анализируя способы образования того или иного слова, важно четко отграничивать их один от другого. Будет неверным, например, утверждение, что слова вожатый и закусочная образовались путем превращения соответствующих имен прилагательных в существительные.
На поверку оказывается, что слово вожатый никогда не было прилагательным (обращает особое внимание на себя уже его структура: суффикс– ат– следует за глагольной основой и не имеет присущего ему значения), напротив, это существительное с суффиксом – атай (ср. у Пушкина: Но я молю тебя, поклонник верный твой. Будь мне вожатаем), подвергшееся влиянию имен прилагательных на – ый. Результатом было переразложение основы в пользу окончания, образование на месте суффикса – атай суффикса – ат– и включение слова в систему склонения имен прилагательных.
Что же касается существительного закусочная, то оно тоже никогда не было прилагательным, а создано по модели прилагательных, действительно превратившихся в существительные женского рода, обозначающие то или иное помещение (гостиная < гостиная комната, прихожая < прихожая комната и т. д.; определение «перетянуло» на себя значение всего сочетания, определяемое существительное исчезло). Слово закусочная никакого существительного в таком значении не определяло.
Неправильно будет отнесение к прилагательным, перешедшим в существительные, такого слова, как вселенная, к причастиям, перешедшим в прилагательные, такого слова, как рассеянный (человек): оба слова являются кальками соответствующих греческого и французского слов oikoimene и distrait.
Мы совершим ошибку, если современные словообразовательные соотношения между словами жилище – жить отождествим с реальным образованием первого слова с помощью суффикса – ли;(е). Как указывает устаревшее слово жило (ср.: Почему ты думаешь, что жило недалече? у Пушкина в «Капитанской дочке»), слово жилище образовано посредством суффикса – и;(е).
Определяя старую структуру слова и его производящую основу, следует учитывать все те изменения, которые возможны в слове.
Чтобы стала несомненным фактом связь слова набалдашник с исчезнувшим словом балдак «эфес, рукоятка», заимствованным из тюркских языков, необходимо иметь в виду фонетические изменения в слове, именно закрепление на письме произношения чн как [шн] (ср.: Столешников переулок, Свешников и т. д.).
При восстановлении картины образования слова разинуть нельзя будет не принимать во внимание изменений в структуре слова, связанных с тесным слиянием приставки раз– и корня– зи-, который, в частности, мы находим в глаголе зиять.
Естественно, что очень часто для определения первоначальной составной структуры корневых слов приходится прибегать к сопоставлению данных русского языка с фактами других языков. Так, отлагольное происхождение слова рука (из _ronka) проясняется лишь при учете родственных литовских слов: существительного rank? «рука» и глагол renku «собираю»; образование слова крупа с помощью суффикса– п(а) – при сопоставлении его с родственным ему греческим словом kru? «ударяю» и т. д.
Так как значение слова в процессе употребления в языке с течением времени может меняться и во многих словах сейчас совершенно другое, нежели раньше, то этимологический анализ слова включает в себя также и определение наиболее древнего значения, которое возможно установить на основании существующих языковых фактов и их взаимоотношений.
Такое определение старого (иногда чрезвычайно давнего) значения того или иного слова осуществляется, как правило, при помощи сравнительного анализа данных древнерусского и других – славянских и прочих индоевропейских – языков. Однако в ряде случаев необходимо также и всестороннее рассмотрение фактов, бытующих в системе современного русского языка (как литературного, так и диалектов). Так как такого рода факты привлекаются в этимологической практике довольно редко, а именно они являются наиболее доступными для школьников, то прежде всего остановимся на них.
На старое значение слова, употребляющегося в настоящее время с иным значением, могут указывать: 1) значения производных слов и 2) фразеологические обороты, включающие в свой состав анализируемое слово. Использование при этимологическом разборе производных слов оказывается возможным потому, что эти слова были образованы на базе слов с ныне исчезнувшими значениями. Использование с этими же целями фразеологических оборотов связано с тем, что в ряде устойчивых выражений сохраняются не только устаревшие, ныне не употребляющиеся отдельно слова, но и старые значения таких слов, которые с другими значениями еще и сейчас входят в активный словарный запас. Разберем эти два источника отдельно.
Значения производных слов могут быть использованы для уяснения старого значения слова, от которого они были образованы, только в том случае, если они имеют прозрачную морфологическую структуру и если имеющимся в них словообразовательным элементам свойственно четкое, закрепленное за ними значение. Привлекаемые слова подвергаются в таком случае обязательно морфологическому разбору с исторической точки зрения.
Возьмем к примеру такое слово, как богатый. С современной точки зрения оно предстает перед нами как слово с непроизводной основой, несоотносительное со словом Бог. Однако этимологически по своему строению оно явно составное, и суффикс– ат– в нем вычленяется совершенно свободно. Суффикс – ат– (ср. рогатый, крылатый, бородатый и т. д.), как известно, имеет значение «обладающий чем-либо». Исходя из этого, мы видим, что корню бог– в слове богатый свойственно иное значение, чем слову Бог. Учитывая общее значение слова богатый «обладающий большим имуществом, богатством» и как бы вычитая из него значение суффикса – ат – «обладающий чем-либо, что обозначено корнем», можно прийти к выводу, что корень бог– в нем имеет значение «богатство», «большое имущество» и т. д. Этот корень в слове богатый лишен религиозной окраски и имеет старое конкретно-бытовое содержание. Отсюда можно сделать заключение, что когда-то (до появления на Руси христианства) слово богъ имело значение «богатство», «большое имущество», и именно от него (в таком значении) было образовано слово богатый, в отличие, скажем, от слов богиня, богомолье и т. д., возникших на базе слова Бог в сравнительно новом, религиозном значении. О том, что этот вывод правилен, свидетельствует наличие других слов с данным корнем (ср.: убогий «крайне бедный», приставка &– здесь имеет значение отрицания), а также факты других индоевропейских языков.
То же можно отметить и для слов грех, господь, первоначально не имевших в русском языке религиозных значений (они были заимствованы из старославянского языка). Старые значения этих слов сохраняются в словах огрех, господин, господство и др.
Слова краснобай, красноречие указывают на старое, когда-то бывшее у слова красный значение «хороший», «красивый» (ср. краснозем, краснокожий, раскраснеться и т. п., образованные уже от слова красный как обозначения цвета).
Слова черепок, Черепанов (ср. диал. черепан «гончар, горшечник») отражают старое значение слова череп – «глиняная посудина, горшок, плошка».
Слова непогода, погожий, беспутный свидетельствуют о старых «положительных» значениях слов погода и путь (слово погода обозначало ранее только хорошую погоду, слово путь – только хорошую дорогу).
Слово пятиалтынный своим значением точно определяет для нас значение слова алтын «три копейки», ныне существующего лишь в пословице Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Слово сад-виноград своей структурой и семантикой «выдает» нам старое значение существительного виноград, обозначавшего ранее «сад», «виноградник». Ведь по своему характеру это сложносоставное образование принадлежит к разряду словесных производных, возникших в результате объединения синонимов того же типа, что и друг-приятель, путь-дорога, сила-моченька, грусть-тоска и т. д.
Слова разглагольствовать и наречие дают возможность ясно представить старые, ныне исчезнувшие значения слов глагол и речь: нетерминологическое значение «слово» у слова глагол и терминологическое значение «глагол» у слова речь (наречие – словообразовательная калька греч. epirrēma, т. е. «приглаголие»).
Слова средний и бремя сохраняют прежние значения слов среда («середина»; средний «находящийся в середине») и брать («нести», ср. подобное значение в латинском слове fero, греческом слове pherō и т. д.).
О старых значениях ряда перечисленных выше слов говорят также и некоторые фразеологические обороты, имеющие эти слова в качестве одного из своих членов (ср. с грехом пополам, на миру и смерть красна, плошки да черепки – те же горшки и т. д.).
О старых, иных, нежели свойственных им сейчас, значениях слов неверный «неверующий», жир «богатство», талант «монета», горб «спина», стопа «шаг» говорят такие фразеологические выражения, как с жиру беситься, зарыть талант в землю, гнуть горб перед кем-нибудь (слово спина укрепляется в русском языке как заимствование из польского в XVI в.), Фома неверный, пойти по стопам и т. д.
Производные слова говорят не только о старых значениях употребляющихся в настоящее время слов, но и о существовании слов, сейчас уже в русском языке неизвестных. Очень часто один этимологический анализ слова, без привлечения других данных, приводит к знакомству с устаревшими словами. Так, простой этимологический разбор слов персидский, беличий, подаяние, утлый, одеяло указывает на исчезнувшие из употребления слова Персида (старое название Персии), белица (старое название белки), подаять «подавать», тло «дно» (ср. дотла), одеять «одевать» и т. д.
В целях установления старого значения важно также привлекать лексические данные русских диалектов, сохраняющих в отдельных случаях очень древние языковые факты. Так, например, старое значение слова полено «расколотое надвое» (от пол «половина») вскрывается при сопоставлении его с диалектным словом полоть «разрубать, раскалывать надвое». Собственное имя Шульга раскрывается в своем первоначальном нарицательном значении при сравнении его с диалектным нарицательным шульга «левша» и т. д.
Вопросы, на которых мы остановились, не исчерпывают, конечно, всех этимологических проблем. В частности, мы почти не касались использования при этимологическом анализе данных и приемов сравнительно-исторического языкознания, вопросов реконструкции старой (исходной) словообразовательной структуры и семантики, первичного (для определенного временного среза) звучания, проблем языковых универсалий, привлечения экстралингвистических, т. е. внеязыковых, фактов и т. д. Для восприятия этого надо владеть уже не азами нашей науки, а знать ее досконально, как подобает специалисту. Для рядового носителя русского языка, будь он ученик, преподаватель или окончивший школу взрослый, достаточно простого взгляда назад, в более или менее обозримое прошлое слова. Ведь, вскрывая его, мы тем самым открываем для себя в нем и то, что принадлежит ему как определенной лексической единице также и сегодня, точнее и вернее понимаем его семантику, полнее представляем себе его место в языковом «обществе», сознательно усваиваем его орфографическое обличье, глубже проникаем, наконец, в его художественно-выразительные возможности и образную суть.
Внутри слова
Внутри слова
Внутри слова внутри

Наше «анатомическое» путешествие внутрь слова мы можем начать с «разреза», а затем и анализа предлога внутри, имеющего омоформного двойника-наречие (ср.: находиться внутри комнаты и находиться внутри).
Неказистое и ничем не примечательное как будто слово поставит перед нами не один вопрос и окажется в конце концов любопытным и интересным.
Начнем с самого элементарного и необходимого – с разбора предлога внутри по составу. Членится ли он на морфемы? Если членится, то на какие?
Сопоставление (а оно нам подсказывается родством и соседством данных слов) с предлогом внутрь заставляет разделить слово внутри на внутрʼ и и. Поскольку смысловая разница между словами внутрь и внутри создается и получает свое материальное выражение в отсутствии и в первом предлоге и наличии его во втором, приходится признать, что и – значимая часть слова, морфема. А коль скоро эта морфема стоит за какой-то основной частью в неизменяемом слове (предлоги ведь не склоняются и не спрягаются), она может быть только суффиксом.
Внутрь – направление в пределы чего– или кого-либо, внутри – уже нахождение в этих пределах. Значит, суффикс – и указывает в данном случае (есть другие, ему омонимичные и чужие и, ср. и в дружески, неси и т. д.) на нахождение кого-или чего-нибудь в определенном месте. Внутри и внутрь отличаются семантически друг от друга так же, как в с предложным (ранее местным) падежом от в с винительным: внутри комнаты – внутрь комнаты = в комнате – в комнату. Семантическая изоморфность, какая-то особая близость внутрь и в с винительным падежом (о последнем см. заметку «О «вине» винительного падежа») сказалась в образовании просторечного удвоения вовнутрь того же значения (ср. снять «сфотографировать» и заснять и т. п.). Это очень похоже на чистое удвоение вов (< въвъ) «в», встречающееся в диалектах нередко.
Однако, как говорят французы, используя для обозначения чрезмерного отвлечения от основной темы разговора выражение из первого фарса об адвокате Пьере Патлене (XV в.), «вернемся к нашим баранам» (revenons à nos moutons).
Внутри имеет сейчас немало родственников, но все это его потомки: внутренний, внутренность, внутрикомнатный, внутреннее и т. д. С точки зрения современного языкового сознания вряд ли целесообразно далее «резать на части» слово внутри (особенно в школе), хотя лингвистическое чутье, вероятно, и извлекает из нашей памяти слово нутро. Слишком уж далеки в настоящее время по смыслу и в сфере употребления литературный предлог внутри и просторечное существительное нутро с узким значением «внутренности» (ср. все нутро болит, нутром чует и т. д.).
Несмотря на известную связь, которую может установить наше языковое чутье между предлогом внутри и существительным нутро, родственные отношения их все в прошлом, да и там они не выступают непосредственными: между предлогом внутри и существительным нутро в качестве промежуточного звена стоит наречие внутри, прямым отпрыском которого и является одноименный предлог.
Чтобы закончить рассказ о современной морфемике предлога и наречия внутри, еще два слова о суффиксе– и. Он по своей функции «места» не является уникальным. Стоит лишь вспомнить об антонимическом наречии снаружи, где четко и ясно выделяется по соотношению со словом наружу тот же самый суффикс – и, а также сзади, впереди.
Таким выглядит слово внутри, когда мы смотрим на него с колокольни современных словообразовательных связей и соотношений. Иным, но таким же забавным, оно оказывается, если мы обратимся к его прошлому.
По своему происхождению предлог внутри, как уже говорилось, родился из наречия. (Такой переход из одной части речи в другую называется морфолого-синтаксическим способом словообразования.) Что до наречия внутри, то оно возникло путем слияния двух слов: предлога вън и существительного утрь в форме местного падежа утри. Слово утрь «внутренность» как самостоятельная лексическая единица в древнерусском языке еще употреблялось. Сейчас и предлога вън, и существительного утрь как отдельных слов нет и в помине.
Законным «наследником» вън (а оно родственно нем. en, лат. in и т. д.) является (после отпадения конечного н) предлог в, во в консонантном и вокализованном виде, т. е. без гласного и с гласным (ср. с, со; к, ко), тоже из трехзвучных сън, кън. Старое вън содержится в виде этимологического кусочка также в словах внушать (ср. ухо), внимание (ср. имать).
Заметим попутно, что поскольку в бывшем вън начальное в не исконное (ср. приведенные выше соответствия из других языков), а протетическое (вставное) (ср. подобное в вобла < обла, буквально «круглая», просторечное вострый < острый и т. п.), то в консонантном варианте предлога в исконного корня нет. Нечто подобное наблюдается и в глаголе вынуть (см. заметку «Есть ли в слове вынуть корень?»).
О бывшем существительном утрь можно рассказать интересного не меньше. По своему образованию оно подобно словам типа синь, лень, глубь, рань, ширь и т. д. и было создано с помощью суффикса – ь– < *-i– от исчезнувшего прилагательного утръ < *ontros (суффикс – ь– еще в дописьменную эпоху стал в результате переразложения окончанием, а затем последнее – после падения редуцированных – из материально выраженного – ь– превратилось в нулевое). Общеславянское _on-tros того же корня и структуры, что и др. – инд. antaras «внутренний», лат. interus – тж, и «сделаны» с помощью суффикса – tr– на основе того же слова, что и предлог в, но только с перегласовкой (ън – он). Так что уже упоминавшееся просторечное вовнутрь тавтологично трижды: во <въ<вън, вн < вън, у < он. Впрочем, в дублировании одних и тех же морфем в слове нет ничего из ряда вон выходящего. Несколько примеров наудачу (вековечный, поверхностность, разойтиться) будет достаточно.
В заключение затянувшейся заметки о слове внутри добавим, что его этимологическим родственником является неуклюжее слово утроба, сейчас обычно употребляющееся лишь в значении «живот», но в недавнем прошлом известное и как обозначение внутренностей вообще. Образовано оно было от того же прилагательного утръ «внутренний», что и вышеназванное утрь, при содействии суффикса – (о)ба, точно по такому же образу и подобию, как слова злоба (ср. злой), хвороба (ср. хворый), худоба (ср. худой) и др., в которых суффикс– об(а) выделяется до сих пор.
Нам осталось, чтобы внутри слова внутри все стало ясным и понятным, сказать два слова о мельком упомянутом уже существительном нутро: оно было «вынуто» из наречия внутри по аналогии со словами типа вдали, впереди и оформлено на– о по образцу однокорневого общеславянского ятро «внутренности», в диалектах еще отмечаемого (ятро < *ẹntro еще ближе к лат. interus «внутренний» и особенно к греч. entera «внутренности»).
Не правда ли, немало можно увидеть, если заглянуть внутрь слова внутри?
Почему – ся не частица
Очень часто недоуменно спрашивают, почему – ся перестало называться частицей и получило звание суффикса. Такие вопросы вполне понятны и обоснованны в своем возникновении, поскольку преподаватели русского языка в школе (да и обучающиеся тоже) издавна привыкли считать– ся возвратной частицей. Однако столь же понятным и обоснованным является определение – ся как суффикса в действующих учебниках. И вот почему.
В качестве определенной значимой единицы современного русского языка– ся, с одной стороны, не обладает теми свойствами, которые характерны для частиц, а с другой – имеет все признаки, присущие суффиксам. Разберемся в этом подробно.
Что представляют собой частицы, образующие известную часть речи? Это прежде всего с л о в а, имеющие не только специфическое словное звучание и значение, но и полную словесную самостоятельность. В предложении они поэтому могут свободно передвигаться и располагаться после любого слова, ясно и четко осознаваясь как отдельная, самостоятельная, автономная лексическая единица. Вспомним хотя бы возможные варианты такого высказывания, какими являются предложения: Я уже вчера это знал, Я вчера уже это знал, Я вчера это уже знал, Я вчера это знал уже и Он бы этого не сделал, Он этого бы не сделал, Он этого не сделал бы.
Обратите, например, внимание на такие разные высказывания, которые возникают, когда начинают кочевать по предложению частицы только и нет: Только он тогда пожалел тебя, Он тогда пожалел только тебя, Он только тогда пожалел тебя; Не здесь твой плащ, Здесь не твой плащ. И т. д. Варьируя одно и то же, создавая совершенно новые смыслы или оттенки значения, частицы всегда живут своей собственной жизнью.
Является ли – ся, подобно частицам, самостоятельным словом? Нет, не является. В отличие от действительных частиц типа уже, только, бы, не, вот, еще, почти, лишь, разве, даже, неужели, же и т. п., существующих как с л о в а в п ре д л о ж е н и и, – ся в качестве определенного языкового факта наблюдается т о л ь к о в с л о в е (либо в глаголе, либо в образованных от него причастии и деепричастии). А коли так, то– ся представляет собой лишь значимую часть слова, морфему, единицу внутрисловного проявления и семантики, неотделимую от соответствующих глаголов и их причастных и деепричастных образований.
В качестве покорневой служебной морфемы, находящейся после непроизводной основы, – ся может быть только суффиксом, и ничем другим. Правда, – ся стоит в слове после окончания (ср. носится, возвращающегося и т. д.), однако никто не предписывал суффиксу быть обязательно перед окончанием. Он может быть и пофлексийным. Суффиксом (об этом говорит и этимология этого слова) мы называем служебную значимую часть слова, располагающуюся после корня, неважно, сразу же после корня или нет, до окончания или после. По своему пофлексийному характеру суффикс– ся не одинок. Такими же пофлексийными суффиксами являются, в частности, суффиксы – то, – либо, – нибудь (ср. кого-то, кому-либо, кем-нибудь и т. д.).
Заметим, что морфемность – ся, равно как и – то, – либо, – ни-будь, обозначена (в отличие от частиц, которые пишутся раздельно) и орфографически: – ся пишется слитно, а– то, – либо, – нибудь – через дефис, подобно префиксально-суффиксальному блоку по—и в словах типа по-братски.
Выше говорилось, что в качестве служебной морфемы, стоящей после корня, – ся может быть охарактеризовано лишь как суффикс. Такая квалификация– ся определяется, естественно, не одним только его покорневым местоположением: ведь после корня располагаются и окончания; – ся не является окончанием, в силу того что оно не имеет флексийной семантики. Известно, что окончания указывают на связи слова с другими словами в предложении, суффиксу же – ся такие функции не свойственны: он имеет различные, но всегда несинтаксические значения: значение взаимности (они целуются), страдательности (дом строится), интенсивности действия (стучатся) и т. д.
Таким образом, морфема– ся называется суффиксом потому, что она, находясь за корнем, не обладает семантическими признаками окончания и, напротив, имеет такие значения, которые целиком укладываются в смысловые рамки, характерные для суффикса. Суффиксом морфему – ся называют в науке о русском языке уже давно. В частности, так именовал – ся академик В. В. Виноградов в своей работе «Современный русский язык» еще в 1938 г., правда (имея в виду пофлексий-ный характер – ся), с уточняющим определением «агглютинативный». «Грамматика современного русского литературного языка» под ред. Н.Ю.Шведовой (М., 1970) называет – ся постфиксом, однако постфиксами могут быть и суффиксы, и окончания.
Суффикс– ся не всегда выступал, как это наблюдается сейчас, пофлексийным суффиксом. Было время, когда – ся действительно представляло собой частицу. Однако в качестве отдельного, хотя и служебного, слово – ся существовало лишь в древнерусском языке. Затем оно слилось с предшествующим глаголом, причастием и деепричастием и превратилось в суффиксальную морфему, стоящую после окончания. Вот один пример употребления частицы ся в древнерусском языке. В «Слове Даниила Заточника» (XII в.) мы встречаем такое предложение: Очима бо плачют со мною, а сердцемъ опосле смеют ми ся («Глазами плачут со мной, а сердцем после смеются надо мной»). Здесь совершенно самостоятельная и независимая, употребляющаяся отдельно частица ся находится там, где сейчас глагол без – ся (смеяться) даже невозможно представить, так как без – ся он вообще не существует.
В заключение отметим, что этимологически– ся представляет собой энклитическую (краткую) форму возвратного местоимения себя, т. е. в конце концов восходит даже не к служебному, а к полнозначному слову.
Об окончаниях и суффиксах в словах вечером и дома
Н еобходимо всегда разграничивать морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слова. Цель морфемного анализа – установить состав значимых частей слов на том или ином этапе развития языка. При этом учитываются те связи и соотношения между словами, которые в это время имеются, а также те грамматические свойства, которыми в данный момент разбираемое слово обладает. Рядом с наречиями вечером «в вечернее время» и дома «у себя дома» сейчас употребляются родственные слова, в которых корни вечер– и дом– имеют те же значения, что и в наших наречиях. Следовательно, слова вечером и дома членимы и, кроме непроизводных основ вечер– и дом-, содержат морфемы – ом и – а. Наречия как неизменяемая часть речи представляют собой чистую основу и окончания не имеют. Значит, – ом и – а – суффиксы. Что касается существительных вечером и дома, то они будут делиться уже иначе: на непроизводную основу вечер-, дом– и окончания – ом и – а.
С точки зрения современного русского языка наречия вечером и дома – и это устанавливает уже словообразовательный анализ – воспринимаются как суффиксальные производные.
Однако современная структура слова далеко не всегда совпадает с исходной, характерной для него в момент возникновения в языке. Поэтому словообразовательный анализ очень часто не дает нам ответа, как в действительности слово было образовано. Да это и не его задача. Устанавливать реальное происхождение слова – дело этимологии. Этимологический анализ приводит к выводу, что наречия вечером и дома по происхождению представляют собой окаменевшие падежные формы. Но это заключение относится лишь к тому, как появились те слова, которые сейчас существуют, но отнюдь не касается того, какой у них морфемный состав в настоящее время. Следовательно, нет никакого противоречия в утверждении, что слова вечером и дома делятся на корни вечер-, дом– и суффиксы– ом, – а, но образовались путем превращения в наречия падежных форм существительных: оно касается разных фактов языка – современного морфемного состава слова, с одной стороны, и их реального происхождения – с другой.
Слово вешалка делится сейчас на морфемы веш-, – а-, – лк– и – а и осознается как производное с помощью суффикса – (лк)а от глагола вешать, хотя образовано посредством суффикса– (к)а от вешало «вешалка».
Глагол уничтожить по составу и происхождению
По своему составу глагол уничтожить по соотношению с уничтожать, изничтожить, превратить в ничто (и дальше – с чего, чему, чем и т. д.) членится на следующие морфемы: у-ни-ч-то-ж-и-ть. Поэтому перенос унич-тожить является таким же правильным, как и переносы уни-что-жить, уничто-жить.
С точки зрения современной языковой системы в слове уничтожить выделяются два корня: местоименный корень – ч– (из чь < кь, ср.: кто < къто) и отрицание ни.
Комплекс – то– в настоящее время, как это ни покажется, может быть, парадоксальным, выступает в качестве окончания именительного-винительного падежа (ср.: что, чего, чему, чем, о чем). Окончание это является нерегулярным и встречается, кроме местоимения что, лишь в слове кто и их производных. По своему происхождению же это указательное местоимение то, в котором корнем является– т-, а – о представляет собой окончание.
Что касается морфемы– ж-, которая выделяется в глаголе уничтожить по соотношению со словами ничто и уничтожать, то ее следует охарактеризовать, если иметь в виду современное состояние русского языка, как суффикс, образующий вместе с приставкой у– глагольную основу. Этимологически же эта морфема тоже является корневой и представляет собой частицу же, так как глагол уничтожить в действительности возник не на базе ничто, а на основе ничтоже «ничто», ныне из употребления исчезнувшего.
Для точности о выражении для блезиру
Выражение для блезиру по своему употреблению является просторечным и устаревшим. Сейчас его единственное значение – «для вида», однако такое значение не является для этого оборота исходным: во второй половине XIX в. ему было свойственно еще значение «для забавы, для удовольствия, для развлечения» (ср. у Н. С. Лескова: Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, но… солидно).
По своему происхождению оборот для блезиру представляет собой народно-этимологическую переработку выражения для плезиру, в котором слово плезир, во второй половине XIX в. еще употреблявшееся, является заимствованием из французского языка (франц. plaisir «забава, удовольствие»).
Какая приставка в слове встать?
При разборе слов по составу следует иметь в виду существование омонимов, имеющих иногда не только различное значение, но и разную структуру. Это относится и к слову встать.
Глагол встать «помещаться» – В этом углу столу не встать – членится на приставку в-, корень– ста– и инфинитивное – ть (ср. однотипные внести в комнату, влететь в окно, вбежать в сад и т. д.).
Глагол встать «подняться» – Вошла учительница, и ученики встали – распадается уже на приставку вс-, корень – ста– и инфинитивное – ть (ср. аналогичные: взлететь, всплыть, взойти и др.).
В последнем случае соседние морфемы (вс-ста) частично накладываются друг на друга. Об этом явлении будущая заметка «Какой суффикс участвует в образовании глагола участвовать!»
Немного о приставке пра-
Приставка пра– в современном русском литературном языке принадлежит к числу непродуктивных.
Реальность этой морфемы как значимой части, ощущаемая при сопоставлении таких слов, как прадед – дед, праязык – язык, прародитель – родитель, правнук – внук и пр., сосуществует с ее непродуктивностью как словообразовательного аффикса: в XX в. с ее помощью не образовано ни одного слова.
По своему значению приставка пра– может быть разной: в одних словах она имеет значение предшествования или следования во времени (прадед, прабабушка; правнук, правнучка), в других – значение древности или изначальности (празначение, праязык, праотцы, прародина, праславяне, прародитель), в третьих – это, правда, наблюдается лишь в диалектном употреблении, но было свойственно и древнерусскому языку – она обладает значением высшей степени качества (= очень, ср. диал. прастарый, празелень, др. – рус. прапруда «ливень» и т. д.).

Самыми новыми словами с пра-являются лингвистические термины, появившиеся в русском языке в результате калькирования нем.
Ursprache, Urform, Urheimat во второй половине XIX в. (праязык, праформа, прародина).
По своему происхождению приставка пра– является очень древней и родственна лат. prō «перед», др. – в. – нем. fruo «рано», др. – инд. pra «перед» и т. д.
Почему в глаголе расспросить два с
Слово расспросить образовано с помощью приставки рас– от спросить, а не непосредственно от просить. Этим и объясняется наличие в нем двух с.
Глагол расспросить в настоящее время вообще несоотносителен с глаголом просить; они разошлись по значению и как родственные уже не осознаются. В древнерусском языке эти глаголы были связаны друг с другом тесными генетическими узами (ср.: Аще самъ недоумеваеши, проси оумеющаго не стыдяся, т. е. «если сам не понимаешь, спроси умеющего не стыдясь»).
Тем на менее в качестве непроизводной основы в глаголе расспросить выделяется прос-: рас-(с-прос-и-ть). Позволяет отделить от прос– приставку с– наличие рядом с глаголом спросить соотносительных ему слов вопрос, вопрошать, вопросить, содержащих префикс во-.
Непроизводная основа прос– в словах спросить, вопрос и т. п. является связанной и употребляется лишь в сочетании с приствками с– или во-.
Выделяемая в слове просить непроизводная основа прос-является свободной, а в соединении с окончанием образует целое слово (ср.: прошу, просит и пр.).
Я в слове приятный
Слово приятный (< приятьныи) представляет собой в русском языке заимствование из старославянского, в котором оно является производным с помощью суффикса – ьн– от приятыи «достойный принятия, позволительный, угодный» (ср.: скрытный – от скрытый, понятный – от понятый), в свою очередь образованного от глагола прияти «принять». Последний – префиксальное образование (посредством приставки при-) от яти «брать, взять».
Таким образом, корнем, если рассматривать прилагательное приятный в этимологическом плане, в этом слове будет – я-, тот же, что в словах изъять, занять, отнять, обнять и пр. Однако ныне это слово следует рассматривать как непроизводное, основа которого сейчас на морфемы уже не делится, так как между словами приятный и принять прямых смысловых и словообразовательных связей в настоящее время нет: значение прилагательного приятный так же не вытекает из значения глагола приять (приять вообще является архаизмом), как, например, значение прилагательного замечательный – из значения глагола замечать. Сдвиги в семантике этих прилагательных привели к тому, что они пережили процесс опрощения и из слов с производной основой превратились в корневые слова.
Где же, наконец, суффикс в прилагательном розоватый?
Однажды на адрес редакции журнала «Русский язык в школе» я получил письмо от ребят из села Майкопского Краснодарского края. Оно очень походило на сигнал SOS. «Где же, наконец, суффикс в прилагательном розоватый!» – спрашивали школьники.
Учащиеся, имеющие «Школьный словообразовательный словарь» 3. А. Потихи (М., 1964), разобрали это слово по словарю: корень розов-, суффикс – ат-, окончание – ый. А те, которые не имели словаря, разобрали прилагательное по-другому: корень роз-, суффикс– оват-, окончание – ый.
Поскольку этот вопрос связан с некоторыми принципиальными проблемами членения слова на морфемы, остановимся на нем подробнее.
Прежде всего следует сказать, что ни то, ни другое членение слова розоватый на значимые части (т. е. ни розов-ат-ый, ни роз-оват-ый) не является правильным. Оба решения, как на первый взгляд это ни покажется странным, не верны. Проанализируем их по порядку.
Почему неправильно членение розов-ат-ый?
Если это прилагательное сравнивать с производящим, т. е. образующим, словом розовый, то кажется совершенно необходимым выделять в его основе суффикс – ат– (розова-тый – это не в полной степени розовый). Но верно ли мы поступим, если выделим в прилагательном розоватый суффикс– ат-, который будет указывать на неполноту качества? Формально как будто верно. Однако если обратиться к прилагательным с суффиксом – ат-, то станет очевидной, по крайней мере, поспешность этого решения. Ведь такие прилагательные имеют иное и вполне определенное значение (ср. крылатый, хвостатый, чубатый, бородатый, волосатый, брюхатый, носатый и др.). Они совершенно иного характера, в них суффикс – ат-обозначает не неполноту качества, а указывает на обладание тем, что обозначено в корне (крылатый «имеющий крылья», бородатый «имеющий бороду», носатый «имеющий большой нос» и т. д.). Кроме того, суффикс – ат– в подобных словах всегда присоединяется к основам имен существительных (крыло, борода, хвост, чуб, волос, брюхо, нос и т. п.), а не имен прилагательных. Таким образом, и значение суффикса – ат-, и словообразовательные его связи (способность сцепляться только с основами существительных, причем, как правило, обозначающих части тела человека или животного), свойственные ему в регулярной словообразовательной модели косматый, усатый, пузатый, горбатый, лохматый и т. д., говорят о том, что выделение в слове розоватый суффикса – ат-и корня розов– противоречит реальным фактам языка.
Неверным будет и членение роз-оват-ый. Ведь в таком случае прилагательное розоватый толкуется как производное с помощью суффикса– оват– от существительного роза. А от существительных с помощью суффикса – оват– образуются лишь такие прилагательные, которые обозначают или похожего на то, что названо исходным существительным (мужиковатый «похожий на мужика», чудаковатый «похожий на чудака» и т. д.), или содержащего то, что названо исходным существительным (суковатый «с сучьями», узловатый «с узлами» и т. п.). Что касается слова розоватый, то оно, как известно, не обозначает ни похожего на розу, ни имеющего розы, содержащего розы, с розами.
Как же надо разбирать это слово по составу?
Для того чтобы правильно разделить это слово на морфемы, необходимо учитывать не только родственные ему слова, но и одноструктурные, причем одновременно не упускать из виду также и то обстоятельство, что в русском языке в ряде случаев морфемы располагаются в слове не в линейной последовательности (одна за другой), а накладываясь – частично или полностью – одна на другую.
Слово розоватый, образованное от слова розовый, входит в большую группу прилагательных со значением неполноты качества, свободно и четко выделяющих в своем составе суффикс– оват– (-еват-) (ср. беловатый, красноватый, зеленоватый, голубоватый, желтоватый и т. д.).
Неполнота качества в современном русском языке выражается именно суффиксом– оват– (-еват-). Значит, в слове розоватый также выделяется суффикс – оват-, указывающий на неполноту «розовости». Однако – в отличие от прилагательных типа голубоватый – он здесь располагается не отдельно за непроизводной основой, а частично на нее накладывается. Поэтому членить это слово надо так: /роз(ов/-ат) – ый, выделяя в нем непроизводную основу розов-, суффикс – оват– и окончание – ый.
Два слова о непроизводной основе розов-. Ее нельзя путать с производной, т. е. членимой, основой розов– в относительном прилагательном розовый «относящийся к розе, приготовленный из лепестков розы» (ср. розовый куст, розовое варенье и т. д.), которое является аналогичным словам типа липовый. Ведь качественное прилагательное розовый в цветовом значении – это уже не «цвéта розы» (розы могут быть и белыми, и желтыми, и даже черными), а просто «светло-алый». 3начение «светло-алый» в слове розовый не складывается из значений морфем роз– и– ов-, поэтому членить комплекс розов– далее в этом прилагательном нельзя. Слово розовый «светло-алый» оторвалось от существительного роза, и основа розов– в нем пережила процесс опрощения, превратилась в корень.
Наблюдающееся в слове розоватый частичное наложение суффикса– оват– на образующую основу свойственно и некоторым другим прилагательным, имеющим в конце образующей основы сочетание – ов– или – ев– (ср. коричневатый, лило-ватый, оранжеватый и т. п.).
Наложение части суффикса– оват– (-еват-) на образующую основу в таких случаях объясняется, несомненно, фонетическими причинами: необходимостью устранения повтора звукосочетания – ов– (-ев-). При словопроизводстве как бы происходит гаплология на стыке образующей основы и суффикса, и эти морфемы частично сливаются, накладываются друг на друга.
Заметим, что в некоторых из таких прилагательных образующая основа может быть производной, с суффиксом– ов-(-ев-). Такой она является, например, в слове бежеватый, которое делится на корень беж– (ср. чулки цвета беж), суффикс – ев-, суффикс – еват– и окончание – ый: /беж-(ев/ат) – ый.
Три ли морфемы в слове томский?
Н а первый взгляд этот вопрос может показаться просто странным. «Конечно же три, – скажут очень многие. – Том-ск-ий». Однако такое членение прилагательного Томский (в контекстах Томский университет, Томская область и т. д.) будет совершенно неправильным.
Ведь разбираемое слово является относительным прилагательным от слова Томск (заметим, что от слова Томск, а не от слова Томь). Следовательно, как все соответствующие образования самаркандский, рязанский и т. д.), оно содержит в себе суффикс относительного прилагательного– ск-. Но пойдем дальше. Какова структура слова Томск? Это обычное и частое «речное» название города. Томск назван так потому, что он стоит на реке Томь. Значит, в основе существительного Томск содержится топонимический суффикс, а именно суффикс города – ск– (ср. Волжск, Ангарск, Уральск и т. д.).
Таким образом, в слове Томский, о котором мы пока говорим, последовательно выделяются окончание– ий, суффикс относительного прилагательного – ск-, «городской» суффикс – ск– и непроизводная основа Том-, т. е. не три, а четыре морфемы. Только располагаются они по-особому, не последовательно, одна за другой, а в одном месте – на стыке двух суффиксов – накладываясь друг на друга (апплицируясь).
Такое же явление мы будем наблюдать и во многих других прилагательных такого типа (ср. пятигорский, новосибирский и т. д.).
И все же есть слово томский, в котором надо выделять не четыре, а три морфемы. Это прилагательное, образованное не от слова Томск, а от слова Томь. Так, в предложении Холодна тогда была томская вода слово томская делится лишь на непроизводную основу том-, суффикс относительного прилагательного – ск– и окончание – ая (ср. волжская, донская, байкальская и т. п.).
Но это прилагательное по отношению к первому является омонимическим, совершенно другим словом не только по своему морфемному составу, но и по значению.
Есть ли в слове вынуть корень?
Глагол вынуть относится к числу немногочисленных русских слов, которые этимологически исходного корня в своем составе не содержат. Однако это не означает, что он с современной точки зрения является словом без корня. Непроизводная основа свойственна абсолютно каждому слову и является важнейшим элементом, мотивирующим его значение. Есть корень и в анализируемом глаголе, но это уже другой корень, не совпадающий с тем, который выделялся в нем в момент появления его в языке.
Наш глагол образовался (с помощью приставки вы-) от глагола яти «брать», так же как и взять (с помощью приставки въз-), объять (с помощью приставки объ-), внять (с помощью приставки вън-, ср. эту же приставку в словах внушить, вни-ти «войти» и др.), изъять (с помощью приставки изъ-) и др.
Позднее первоначальное выяти – выимати (ср. выемка) по аналогии с родственными вняти – внимати, сняти – снимати (с приставкой сън-, ср. ту же приставку в существительном снедь, родственном словам еда, есть и пр.) получило от них, как и другие глаголы (ср. отнять, принять, занять, перенять, обнять и пр.), «вставочное» н и стало звучать вы-нять – вынимать. 3атем глагол вынять как форма совершенного вида подвергся уже аналогическому воздействию глаголов на– нуть типа стукнуть, двинуть, кинуть и т. д.
и приобрел в результате этого современное звучание и структуру – вынуть. Поэтому в нем наблюдается не только процесс переразложения основы, но и явление аппликации морфем. Сейчас в глаголе вынуть (по соотношению со словами вынимать, выемка; отнимать, снять и пр.) непроизводная основа выступает в однозвуковом виде– н-, которое одновременно является и формой выражения суффикса однократности действия (ср. вынь, вынем, выну и пр.).
Таким образом, если раньше это слово делилось на вы-н-я-ть (< выяти по аналогии с въняти, съняти с заменой – /– на – н-), то сейчас оно делится на морфемы уже следующим образом: вы-н-у-ть, т. е. приставка вы-, непроизводная основа – н– («чередующаяся» с – ним-, – ем-, ср. вынимать, выемка), суффикс однократного действия– н-, суффикс – у-, выступающий как классовый показатель, подобный – а-, – о-, – е– в словах звать, колоть, тереть, и инфинитивное – ть; корень – н– и суффикс – н– накладываются друг на друга, все остальные морфемы располагаются в «принятой» линейной последовательности, одна за другой.
Таким образом, слово вынуть и имеет корень (если понимать под ним непроизводную основу как ядро его лексического значения) и не имеет его (если понимать под корнем исходный «основный» материал слова). Такой своеобразный и, казалось бы, парадоксальный факт вполне понятен и исторически оправдан.
Анатомия слова принять
Анатомический разрез глагола принять показывает его «трехморфемный» характер.
Поскольку с глаголом принять соотносятся слова и формы принимать, прием, приять, изъять, отнять, приму и др., его современное морфемное членение выглядит следующим образом: при-ня-ть.
Глагол принять состоит из приставки при-, корня– ня– и инфинитивного – ть. Непроизводная основа – ня– является связанной, всегда выступающей в слове с той или иной приставкой: отнять, занять, перенять, разнять, снять и пр. Она может выступать в целом ряде своих разновидностей, объясняемых исторически, а именно в виде – я– (ср. приять), – им-(ср. приму), – ым– (ср. изымать), – ним– (ср. принимать), – ём-(ср. прием), – ня– (принять) и даже – н– (вынуть; см. об этом в заметке «Есть ли в слове вынуть корень?»). Заметим, что в личных формах (приму, примет и пр.) наблюдается явление наложения (аппликации) морфем, приставка при– и корень – им– частично накладываются друг на друга, что обязательно должно учитываться при разборе слова по составу: при-им-у и т. д.
Такое наложение морфем встречается и в словах вынуть, приду, архиерей, рассориться, бескозырка, лермонтовед и целом ряде других.
Поднятый вопрос о членении глагола принять позволяет остановиться на этом явлении подробнее.
Наложение морфем в слове может быть различным. В некоторых случаях оно возникает в слове с течением времени, в силу определенных звуковых изменений или изменений в морфологической структуре.
Таким, в частности, является наложение в слове приму (ср. в «Повести временных лет»: Приимаху брата в монастырь с радостью), где оно возникло, как и в глаголе приду, в результате стяжения в один звук двух и.
Таким же оно является, например, и в существительном бескозырка. В современном русском литературном языке это существительное соотносится со словами без козырька и входит в тот же словообразовательный ряд, что и существительное безрукавка, в соответствии с чем к в нем должно быть истолковано и как принадлежность непроизводной основы козырек – козырька, и как предметный суффикс– к-, тот же самый, который совершенно свободно выделяется в слове безрукавка.
Такое фонетическое наложение элемента основы на суффикс возникло здесь в результате процесса переразложения основы, пережитого словом после исчезновения из литературного языка образующего существительного козъсрь «козырек» и установления прямых словообразовательных связей с бывшим уменьшительно-ласкательным козырек.
В других случаях аппликация морфем в слове появляется в момент его образования. В момент словопроизводства морфемы при объединении их друг с другом в одно словесное целое нередко не располагаются рядом в линейной последовательности, а частично «находят» одна на другую.
Такую спайку значимых частей слова в процессе словообразования мы наблюдаем, например, в прилагательных розоватый, бежеватый, коричневатый, лиловатый, в которых– ов-, – ев– являются одновременно как принадлежностью производящей основы исходного прилагательного, так и принадлежностью суффикса неполноты качества – оват-, – еват-. Диффузия, проникновение одной морфемы в другую, в качестве одновременной процессу словопроизводства наблюдается также в прилагательном повсеместный, возникшем путем суффиксации словосочетания по всем местам (ср. потусторонний), в словах фашиствующий, омский, лермонтовед, пнуть и др.
С современной точки зрения оба этих вида наложения морфем совпадают. При разборе слова по составу их необходимо обязательно учитывать, так как иначе состав слова будет определяться неверно.
Заинька и паинька
Слова заинька и паинька членятся на три морфемы: на производную основу (зай– и пай-), уменьшительно-ласкательный суффикс– иньк– и окончание – а. Соответствующие непроизводные основы выделяются в этих словах по соотношению со словами зайка, заяц, заюшка и словом пай-мальчик.
Как непроизводная основа зай-, так и корень пай– являются связанными, известными сейчас лишь в соединении с другими словообразовательными морфемами (ср. свободные непроизводные основы типа лес-, дом-, край– и т. п.).
Слово пай (откуда – паинька) было заимствовано русскими из финского языка, в котором оно значит «хороший, милый». Слово заинька представляет собой суффиксальное производное от ныне утраченного зай «заяц», давшего также и заяц. Уменьшительно-ласкательной формой от заяц (суффикс в этом слове такой же, какой можно этимологически выделить в существительном месяц) является зайчик. Форма заинька стала осознаваться как уменьшительно-ласкательное образование к заяц лишь после выхода из языка слова зай. Последнее буквально значит «прыгун» (ср. родственное ли-товск. žáisti «прыгать»).
Суффикс– иньк– в словах заинька, паинька выступает как орфографическая разновидность суффикса – еньк– того же значения (ср. образования папенька, рученька, душенька и т. п.). Написание его с и, а не с е объясняется влиянием конечного звука j в предшествующей суффиксу основе (зай-, пай-). Ср. в известной степени аналогичное разбираемым словам междометие баиньки, образованное от бай (см. заметку «Баю-бай»).
Глагольные близнецы – одеть и надеть
Как правило, глаголы одеть и надеть употребляются в качестве слов, имеющих разные значения и – в соответствии с этим – различные словесные связи. Глагол одеть имеет значения «покрыть одеждой» и «снабдить одеждой» (одеть малыша, одеть родню) и сцепляется обычно с существительными, обозначающими человека. Глагол надеть обладает значениями «укрепить что-либо на чем-нибудь» и «целиком или частично покрыть одеждой кого-нибудь» (надеть браслет на руку, надеть плащ, надеть ботинки) и сочетается только с существительными, обозначающими неодушевленные предметы. В связи с этим разбираемые глаголы имеют при себе и различные антонимы: глаголом, противоположным по значению слову одеть, будет являться слово раздеть; антонимичным глаголу надеть будет выступать уже слово снять (ср.: раздеть малыша, родню; снять браслет с руки, плащ, ботинки и т. д.). Отмеченная смысловая разница в рассматриваемых однокорневых глаголах в первую очередь объясняется исходными пространственными значениями дифференцирующих их приставок о– и на-, соответственно указывающих на действие вокруг (ср. окутать) и на действие, направленное на поверхность (ср. накутать).
Указанное различие в семантике глаголов одеть и надеть характеризует нормативное употребление, сложившееся в русском литературном языке первой половины XIX в.
В настоящее время как в разговорной речи, так и в письменной глагол одеть нередко употребляется вместо (вернее – на месте!) глагола надеть. Некоторыми лингвистами (см. хотя бы: Правильность русской речи. М., 1965. С. 136) такое употребление характеризуется как «противоречащее традиционным литературным нормам», как грубое нарушение норм литературного словоупотребления.

Такой пуризм вряд ли, однако, оправдан, поскольку речевая практика уже в течение более трех столетий расходится с нормативными предписаниями, идущими, кстати, еще от «Справочного места русского языка» А. Греча (СПб., 1843) (подробно см. об этом в статье: ЦейтлинР. М. Об одной старой ошибке в словоупотреблении // Вопросы культуры речи. М., 1963. Вып. 4. С. 110–119). Ср.: Шуба одеванная («Олонецкие акты 1661–1662 гг.»); И одевъ одежды своя («Книга земледелательная 1705 г.»); Он чулочки одевает («Псковские песни XIX в.») и т. п. Глагол одеть вместо надеть не только употребляется современными писателями, но и встречается у классиков нашей литературы, ср.: Каждую пятницу Цыганок одевал короткий до колен полушубок и тяжелую шапку (Горький); Одевши рубаху, штаны, опорки и серый халатик, он самодовольно оглядывал себя (Чехов); Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу (Достоевский) и т. д.
Что такое бесталанный – «несчастный» или «бездарный»?
Вопрос, может ли слово несчастный употребляться в значении «бездарный», кажется странным. Ведь прилагательные несчастный и бездарный имеют совершенно различные значения.
И все же такой вопрос оказывается в известной степени закономерным. Правда, не по отношению к слову несчастный, а по отношению к его архаическому синониму бесталанный. В академическом «Словаре современного русского литературного языка» (М.; Л., 1950. Т. 1. С.435) прилагательное бесталанный толкуется как устаревшее слово, имеющее лишь значение «неудачливый, несчастный, обездоленный». Только с таким значением оно раньше и употреблялось: И казнили Степана Калашникова Смертью лютою, позорною; И головушка бесталанная Во крови на плаху покатилася (Лермонтов); Ох, в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет (Кольцов) и т. д. Однако сейчас это прилагательное довольно часто употребляют и со значением «не имеющий таланта, бездарный». Ср.: Мы против пошлости, безыдейности, бесталанности, в каком бы жанре искусства они ни давали о себе знать; Стихи были небесталанными (Из газет); Когда порою, без толку стараясь, Все дело неумелостью губя, идет на бой за правду бесталанность – Талантливость, мне стыдно за тебя (Евтушенко).
Как появилось такое значение у слова бесталанный? На первый взгляд может показаться, что бесталанный возникло из бесталантный фонетически. Но это не так; т между двумя н не выпадает (ср. галантный, пикантный, толерантный и т. д.). В действительности употребление прилагательного бесталанный в значении «бездарный, не имеющий таланта» возникло в результате ошибки, вследствие путаницы слов талан «счастье, удача, фортуна» (тюрк. талан «счастье, успех, добыча» – суффиксальное производное от тал – «грабить, отнимать») и талант «способность, дарование» (из французского языка) и замещения в слове бесталантный основы талант– основой талан-. В связи с этим возникает уже практический вопрос: правильно ли такое употребление слова бесталанный? Факты говорят, что нормой его считать нельзя: 1) оно противоречит живому еще этимологическому составу слова: бес-талан-н(ый); 2) в русском языке для выражения понятия «не имеющий таланта» есть хорошие синонимы бездарный и бесталантный.
Странность прилагательного молчаливый
А что, собственно говоря, странного в этом слове? Прилагательное как прилагательное, обозначает склонного к молчанию, соотносится с глаголом молчать. Однако есть все же в этом слове «особинка».
Она заключена в том, что суффикс– лив– присоединяется в нем к инфинитивной основе, включая классовый показатель глагола – а-, молч-а-лив(ый), тогда как по правилу он следует за образующей основой глагола без классового показателя (ср. болтливый, а не «болталивый», хвастливый, а не «хвасталивый» и т. д.).
Такое словообразовательное своеобразие этого прилагательного объясняется тем, что оно только кажется нам образованным с помощью суффикса– лив-, а на самом деле возникло как производное посредством суффикса – ив– (подобно словам спесивый, ленивый, лживый, льстивый, красивый и др.) от существительного молчаль «молчание», сейчас утраченного (ср. в древнерусском языке: Отъ млъчали роди слово).
Как членится на морфемы и как образовано прилагательное сердитый?
Эти разные вопросы в одинаковой степени интересны, хотя и не очень сложны. С точки зрения современного русского языка морфемный состав слова сердитый представляется простым и прозрачным, правда не без некоторых довольно любопытных деталей. Поскольку оно имеет значение «такой, который сердится» и прямо и непосредственно соотносится с глаголами сердиться и сердить, оно делится на непроизводную основу сердʼ-, суффикс – и– (ср. сердиться – сержусь), суффикс – т-, окончание – ый и воспринимается нами сейчас как производное от глагола сердиться (или сердить), если его объяснять как слово, имеющее значение «такой, который рассержен», «сердит».
Глагольный суффикс– и– (ср. хвалить, грузить, гневить и т. д.) и окончание – ый являются частыми и обычными и замечаний как будто не требуют. Некоторых, возможно, смутит в этом слове непроизводная основа сердʼ-, ее связанный характер (она известна только в соединении с каким-либо суффиксом). Однако связанные непроизводные основы в нашем языке – не редкость: птица – птаха, прибавить – убавить, крепкий – крепость и т. д. Важно помнить, что сердʼ-в словах сердитый, сердить и сердиться – это то же самое, что серд– в слове сердце в значении «гнев, злоба». Как, между прочим, и в паре сердце – предсердие (с суффиксами и – иј-). (Подробнее см. в заметке «Два сердца в одном сердце».)
Особое наше внимание должен привлечь в слове сердитый суффикс– т-. Как это ни странно, привычный и непримечательный суффикс – т– (хорошо известный уже ученику 6 класса) должен быть у нас на примете прежде всего. Ведь это суффикс страдательных причастий прошедшего времени. Получается, что в составе прилагательного мы выделили суффикс, свойственный причастию. А для этого надо иметь основания. Не сомневаюсь, некоторые из вас сочтут, что такие основания есть. Почему бы не считать прилагательное сердитый бывшим страдательным причастием от глагола сердить, подобным словам надутый, развернутый, тронутый, тертый, забитый и т. д.? Тогда все как будто встает на свои места: – тв сердитый – вполне законный суффикс «страдательности». Однако верно ли такое решение? Следует отметить, что оно относится уже не только к определению характера суффикса – тв нашем прилагательном, но и к установлению способа его образования (из причастия!).
Оказывается, такое решение неверно. И вот почему. В страдательных причастиях суффикс– т– присоединяется или прямо к корню (надутый, тертый, забитый и пр.), или к суффиксальному – н-у– (тронутый, развернутый, подтянутый и др.). Ни от каких иных по структуре глаголов страдательные причастия на – тый не образуются и не образовывались. Значит, суффикс – т– в слове сердитый хотя и равнозначен сейчас суффиксу – т– в прилагательных типа надутый, развернутый и т. д., но по происхождению иной. Он появился здесь в результате распадения на две морфемы – и– и – т– единого суффикса – ит– после того, как (еще в дописьменную эпоху) наше слово сердитый стало непосредственно соотноситься с глаголами сердиться и сердить, а не с тем словом, от которого было образовано. А произошло это потому, что производящее существительное было утрачено.
От какого же слова было образовано прилагательное сердитый? Как и глагол сердить (слово сердиться является его возвратной формой), слово сердитый было создано на основе существительного сьрдъ «гнев, злоба» < «сердце», но с помощью суффикса– ит– (ср. подобные по исходной структуре слова маститый, нарочитый, знаменитый и т. д.).
Существительное сьрдь «сердце», вытесненное из употребления своей уменьшительно-ласкательной формой сердце (ср. сълнь и солнце, колс и кольцо и т. д.), является общеиндоевропейским: ср. латыш. sirds, арм. sirt, греч. kardia, хеттск. kard, нем. Herz и т. д.
Анализ слова сердитый с точки зрения происхождения заставляет нас вернуться и к выделенному в нем суффиксу– и-. Как и – т-, он тоже здесь необычен и своеобразен. Ведь это, как видим, испытавший чудесное превращение кусочек первоначального прилагательного суффикса – ит-, ставший в нашем слове глагольным суффиксом – и-.
Поверка и проверка
Поверка и проверка не только слова, звучащие почти одинаково. Они представляют собой в то же время и синонимы. Ведь в сочетаниях вечерняя поверка в лагере и вечерняя проверка в лагере эти существительные значат одно и то же.
Частичное совпадение значений этих слов понятно и закономерно. Оно отражает синонимику глаголов поверять и проверять, имеющих помимо смысловых различий общее значение «обследовать с целью контроля, удостоверяться в правильности». Возникает вопрос: почему глаголы с разными приставками в одном из своих значений совпали? Ведь как будто по– обозначает совсем не то, что про– (ср. понести – пронести, побежать – пробежать, помаслить – промаслить и т. д.). В большинстве слов это так и есть. Однако в отдельных словах значения наших приставок могут быть очень близкими (ср.: Я побуду здесь всю весну и Я пробуду здесь всю весну и т. п.). Это наблюдается не в глаголах, обозначающих конкретное действие, связанное с движением в пространстве (в них приставки всегда имеют четкое, как правило, пространственное значение и выступают как эхо соответствующего предлога), а в глаголах абстрактного плана. Таковы и глаголы поверять – поверить и проверять – проверить, а также и их прямой и ближайший родственник сверять – сверить, давший существительное сверка.
С глаголом поверить «проверить» как исходным для слова поверка не следует смешивать омонимичные глаголы поверить со значением «доверить, вверить (что-либо)» и поверить как соотносительную форму совершенного вида к слову верить. От них будут иные производные, например, поверенный (от первого) и поверье (от второго).
Три слова с приставкой тре-
Среди приставок современного русского языка приставка тре– занимает особое, более чем скромное место. Это объясняется тем, что она сейчас не только непродуктивна, т. е. совершенно не образует новых слов, но даже и нерегулярна, т. е. встречается лишь в единичных, разрозненных словах. Поэтому некоторые из вас могут даже усомниться: а существует ли она вообще? Спешу ответить, что префикс тре– не выдумка, а вполне реальная морфема с очень четким и вполне определенным значением. Правда, «живет полной жизнью» она в качестве значимой части слова сейчас только в трех именах – в существительных треволнение и трезвон и в прилагательном треклятый (глаголу трезвонить приставка тре– досталась по наследству от слова трезвон).
Достаточно сопоставить эти слова с их «родителями», т. е. с теми, на базе которых они были образованы (волнение, звон, клятый), чтобы стали ясными и реальность приставки тре-как морфемы, и ее «превосходное», усилительное значение (высшей степени), похожее на семантику приставок пре-, наи-, раз-, ультра-, архи– в словах типа преогромный, наилучший, раскрасавица, ультрамодный, архиплут и т. д.
Заметим, что не всякое тре– будет такой приставкой. В словах типа трезубец, треножник, треух тре– представляет собой уже сочетание корня числительного тр– и соединительной гласной е.
Так что надо учитывать, что тре– тре– рознь. В своей нерегулярной исключительности приставка тре– не является исключением, как можно подумать. Есть и другие нерегулярные приставки (ср. ку– в кумекать, сюр– в сюрреализм).
Как членится и как образовано слово поколение
ВВ современном русском литературном языке существительное поколение стоит, по существу, особняком и связывается со словом колено лишь в значении «совокупность родственников одной степени родства; род, поколение в родословной» (ср.: Он же приходился ей братом в третьем колене. – И.Гончаров).
В качестве слова, синонимичного существительному сверстники, оно выступает сейчас совершенно изолированно. Поэтому в первом значении слово поколение еще может ощущаться как составное (по-колен-иј-е), во втором же – в настоящее время наиболее активном и частотном значении «сверстники» – оно выступает уже как непроизводное.
Образовано существительное поколение с помощью суффиксально-префиксального способа словообразования (приставки по– и суффикса – uj-) от слова колено < колъно в значении «род, поколение» (ср. др. – рус. колъньникъ «единоплеменник»). Последнее (значение «род, поколение» восходит к значению «сочленение, сустав», откуда также и «коленка») является производным с помощью суффикса– н– (ср. с тем же суффиксом полено, родственное полъти «гореть», пламя, палить) от той же основы, что и член (< *kelnъ).
Можно ли трогать, не трогая?
Ответы на этот каламбурный вопрос могут быть разными. И это будет зависеть от того, о чем мы говорим и соответственно о каких глаголах идет речь. Конечно, нельзя трогать (касаться), не трогая (не касаясь).
Но трогать (волноваться, вызывать сочувствие, сострадание), несомненно, можно и не трогая (не касаясь).
Вспомним хотя бы стилистическую игру слов писателя конца XVIII – начала XIX в. А. А. Шаховского в пьесе «Новый Стерн», в которой он высмеивает Карамзина и карамзинское словоупотребление. В этой пьесе в ответ на реплику сентиментального князя: «Добрая женщина, ты меня трогаешь!» – крестьянка отвечает: «Что ты, барин, перекрестись! Я до тебя и не дотронулась!»
Таким образом, все дело в том, какое трогать имеется в виду. Заметим, что трогать «касаться» и трогать «волновать, вызывать сочувствие, сострадание» представляют собой омонимы, одинаково звучащие слова, значения которых не находятся между собой в отношениях «прямое – переносное». Ведь значение «волновать, вызывать сочувствие, сострадание» как родственное значению «трогать» нами сейчас не осознается. Поэтому квалификация значения глагола трогать «волновать, вызывать сочувствие, сострадание» как переносного значения глагола трогать «касаться», которую мы находим в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка», является неверной. Кстати, не были родственными эти значения и раньше. Об этом, в частности, свидетельствует происхождение глагола трогать «волновать, вызывать сочувствие, сострадание»: это перевод франц. toucher.
Размышления о том, почему мы пишем месиво, но варево
Если иметь в виду только те словообразовательные связи и соответствия, которые наблюдаются в современном русском литературном языке, то орфография слов варево, жарево, курево (с е, а не и) кажется действительно неоправданной. Неоправданной в современном аспекте представляется также и непоследовательность в написании слов похожей модели, соотносительных с существительными: огниво < огонь, но зарево < заря.
Однако речь здесь должна идти не о разнобое в написании указанных слов. Ведь каждое из этих слов имеет сейчас одно правильное написание и по-разному писаться не может. А о разнобое мы говорим, имея в виду только такие случаи, когда одно и то же слово можно писать и так и этак.
В данном случае вопрос может возникать лишь о том, почему слова, выделяющие на первый взгляд один и тот же суффикс, пишутся то с е, то с и, почему наблюдается орфографический разнобой как будто единого словообразовательного типа.
Как уже упоминалось, разбираемые существительные по своей структуре одной модели не образуют: одни соотносительны с глаголами (месиво, курево, жарево, варево, ср. также: прядиво, крошево, жниво, топливо, печево, вязево), другие – с существительными (огниво, зарево, ср. также сочиво), однако это обстоятельство поставленного вопроса не снимает.
Причем, если абстрагироваться от уже привычных орфограмм, предположение о правильности написания в перечисленных словах на конце– иво не является безосновательным: под ударением наблюдается только и (ср.: жниво, огниво). Поэтому при выделении в перечисленных словах суффиксов – ив-, – ев-, – в– опираются не на реальное звучание содержащих определенные аффиксальные морфемы существительных, а на орфографию и историю языка. Именно фактами исторического словообразования русского языка различное написание (как с и, так и с е) соответствующих слов объясняется и оправдывается. Большую роль в закреплении разбираемого орфографического разнобоя в обозначении суффикса здесь сыграла и правописная традиция.
Дело в том, что на основе суффикса – в(о) в славянских языках еще в дописьменную эпоху сформировались как суффикс– ив(о), так и суффиксы – ов(о), – ев(о) (последний первоначально в качестве фонетического варианта суффикса – ов(о) после смягченных согласных основ на – j(о).
В отличие от суффикса– в(о), соотносительного с глагольными основами, эти вторичные суффиксы начали сцепляться с именными основами: огнь – огниво, логъ – логово, курь (ср. пол. kurz «пыль») – курево (ср.: Лето же тогда бысть сухо и курево дымное хождаше. «Софийский временник», 1533) и пр., а потом по аналогии стали переноситься даже в такие образования, которые были отглагольными производными с суффиксом – в(о). Последнее, возможно, происходило не без влияния отглагольных существительных на – ение (ср.: варево – вариво: укр. вариво, болг. вариво, др. – рус. вариво: Вариво безъ масла; кружево – др. – рус. круживо: Увиша и оксамитомъ со круживомъ, яко достоитъ царемъ; печево – печиво – см.: Даль В. Толковый словарь…; серб. – хорв. печиво и т. п.).
Указанные случаи мены орфографического и на е, свидетельствующие о фактах словообразовательной контаминации, представляют собой как будто еще один аргумент в пользу написания такого рода слов с и.
Несомненно, что в ряду орфографических вопросов, требующих своего разрешения, в будущем надо будет рассмотреть и вопрос о е – и в словах типа месиво, варево, зарево.
Про о в слове киномеханик и е в слове кинематография
Слова киномеханик, киножурнал, кинокамера, кинопленка, кинотеатр, кинофильм и т. д. представляют собой сложные существительные, в которых в качестве первой части сложения выступает основа слова кино. Все эти слова по своему составу и образованию выступают как соположения двух основ, связанных между собой без посредства соединительной гласной (ср. фотокамера, радиопостановка и пр.). Ведь слово кино не склоняется, окончания поэтому не имеет и в структурном отношении является чистой основой (о в кино – не окончание, как, например, в вино). Тем не менее на фоне сложных слов с соединительной морфемой о существительные типа киномеханик могут толковаться и как образования с соединительной гласной о, которая наложена на конечный гласный основы (ср. наложение и в приду, ов в лермонтовед и т. д.).
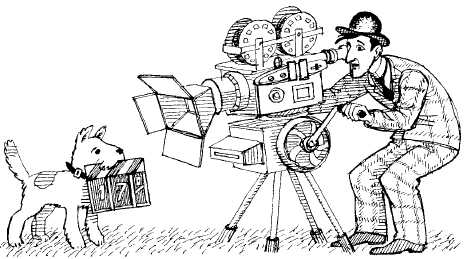
Слово кино, с использованием которого образованы существительные типа киномеханик, заимствовано русским языком из немецкого. В последнем оно (Kino) возникло в результате сокращения слова Kinematograph, заимствованного немцами из французского языка, где его источник – существительное cinématographe – является неологизмом братьев Люмьер на базе греческих слов kinema, род. п. kinēmatos «движение» и graphō «пишу». От полного названия кино как искусства – кинематограф и было образовано слово кинематография. Таким образом, по способу образования существительное кинематография – не сложное, а суффиксальное (суффикс – иј-). Сложным (и то больше в этимологическом аспекте) является слово кинематограф: кине-мат-о-граф; с исторической точки зрения е здесь суффикс: форма род. п. от kinēma-kinēmatos на морфемы исходно делилась так: kin-ē-m-at-os (ср. греч. kinymai «двигаться, приводить в движение»).
О родственных связях слова предварительный
В прилагательном предварительный легко и несомненно выделяются прежде всего окончание – ый (по соотношению с формами косвенных падежей), суффикс – тельн– (по соотношению с глаголом предварить) и суффикс совершенного вида – и– (по соотношению с глаголом предварять). С точки зрения современного русского языка основа предварʼ– должна быть охарактеризована как непроизводная, хотя ее бывшая производность чувствуется нами очень хорошо: основное значение слова предварительный «предшествующий чему-либо, бывающий перед чем-нибудь» соотносится со значением приставки пред– (ср. предшествовать, предупредить, предостеречь и предохранить). В этимологическом плане основа предварʼ– распадается на приставку пред – «перед» и корень – варʼ-.
В русском языке глагол предварить, от которого затем было образовано прилагательное предварительный, заимствован из старославянского языка, где он возник как приставочное производное от глагола варити «предупреждать, встречать, ждать».
Этот глагол (ср. с другим суффиксом – варовати) в древнерусских письменных памятниках встречается очень часто. В диалектах есть родственные ему слова и сейчас, например: глагол воровать «сохранять, защищать», существительное вар «защита; то, что охраняет; задний двор при избе, баз». Очевидно, того же корня и литературное варежки (буквально «охраняющие, защищающие»). Несомненно родство глагола варити «предупреждать, встречать, ждать» (и значит, прилагательного предварительный) с соответствующими словами германских языков (ср. нем. warnen «предостерегать», wahren «охранять, оберегать», warten «ждать», др. – в. – нем. wara «внимательность», англ. warn «предостерегать» и др.).
Почему слово подлинный пишется с двумя н
Начиная с В. Даля прилагательное подлинный объясняется как слово, связанное в своем происхождении с существительными подлинник, длинник «батог»: на допросах, допытываясь правды, били батогами. Правду, добытую таким образом, называли подлинной, хотя, конечно, таковой она была далеко не всегда.
Если эта этимология является верной (а это пока единственное существующее объяснение происхождения слова подлинный), то вначале прилагательное подлинный появилось во фразеологическом обороте подлинная правда и лишь потом стало употребляться свободно.
Таким образом, два н пишутся в этом слове потому же, почему они пишутся в слове длинный.
Два однокорневых синонима
Слова четкий и отчетливый связаны между собой прямыми словообразовательными и семантическими связями. По соотношению друг с другом в них обоих выделяется связанная непроизводная основа чет-, являющаяся тем же корнем, который – правда, с перегласовкой – наблюдается в словах читать, прочесть, чтец и т. д.
Первоначальное значение этих прилагательных – «удобный для чтения».
Этимологическую связь прилагательных четкий и отчетливый с глаголом прочесть (ср.: счет – счесть, шел – шествие и т. д.) можно использовать для объяснения того, почему в этих словах пишется ё.
Почему в слове скатерка нет буквы т
ВВ написании слова скатерка без т (ср.: скатертца, скатертный и т. д.) наблюдается следование фонетическому принципу: буква т не пишется в нем потому, что не произносится соответствующий звук. Поскольку в других словах непроизносимые согласные на письме обозначаются (ср.: повестка, костный, сердце, солнце и т. д.) и написание без т слова скатерка противоречит сейчас основному морфологическому принципу нашей орфографии, при ее упорядочении логичнее всего было бы писать разбираемое существительное по общему правилу (т. е. с буквой т).
С помощью какого суффикса было образовано слово мохнатый
Прилагательное мохнатый сейчас соотносится с существительным мох и членится на непроизводную основу мох– и нерегулярный суффикс– нат– (ср.: пернатые, др. – рус. дугнатые и др.).
Образовано оно было, однако, с помощью регулярного суффикса– ат– (ср. слова той же модели волосатый, косматый, лохматый и т. п.) от слова мохна «пучок волос, шерсти, перьев; кисть, клок, косма». Последнее представляет собой суффиксальное производное (суффикс – н– < ън-) от мох < мъхъ, аналогичное слову мохра «короткая нитка, волос, шерстинка, перо, каждая отдельная часть мохны» (Даль В. Толковый словарь…), производному от того же существительного мох, но с помощью суффикса – р– (< – ър-). Таким образом, мохнатая (ветка) оказывается сродни махровому (полотенцу).
Почему в слове лестница пишется буква т?
Можно ли объяснить ученикам, почему в слове лестница мы пишем букву т? Если привлечь факты древнерусского языка – можно, и очень легко. В древнерусском языке было слово лѣствица. Оно превратилось в лестницу под влиянием слов с суффиксом – ница типа сахарница, звонница, чернильница и т. д. Лѣствица же образовано с помощью суффикса – иц(а) от лѣства (ср. водица от вода, гололедица от гололедь) и т. д. Что касается слова лѣства (< лѣзтва), то оно образовано от глагола лѣзти «лезть» с помощью суффикса – тв(а), подобно словам бритва, молитва, жатва и пр. Значит, непроизносимое т в существительном лестница – это остаток суффикса – тв(а).
Таганрожский или таганрогский?
Относительное прилагательное от городского имени Таганрог в современной речевой практике употребляется в двух формах, одинаково правильных: таганрожский и таганрогский. Первая из этих форм является старой, вторая появилась сравнительно недавно. Более предпочтительной пока кажется первая, освященная не только длительностью употребления, но и большим «согласием» с издавна сложившейся системой чередования заднеязычных к, г, х и шипящих ч, ж, ш перед гласными переднего ряда.
Современный суффикс– ск– (-еск-) – ср. братский, дружеский и т. д. – в обоих вариантах восходит к старому – ьск– со звуком ь перед ск, который после падения редуцированных либо исчезал (-ск-), либо прояснялся в гласный полного образования (-еск-).
Поэтому модель с чередованием заднеязычных и шипящих является исходной и более законной. Ведь 1) до утраты редуцированных перед гласным переднего ряда ь в суффиксе– ьск-мог быть только шипящий (ср. рижьскыи, варяжьскыи и т. д.), а 2) перед вокализованным вариантом суффикса – ск-, каким является морфема – еск-, и сейчас возможны одни только основы с чередованием (ср. пастушеский, дружеский, пророческий и т. п.).
Форма таганрогский в качестве параллельного образования к слову таганрожский возникла значительно позже, когда в русском языке появилась возможность (и, как некоторые ученые даже утверждают, тенденция) ослабления строгости в реализации чередований.
В отдельных случаях новые формы без чередования «выжили» старые совершенно (например, петербургский, герцогский, казахский).
О словах космос, космонавт и космический
В названных словах при разборе по составу следует выделять, кроме окончаний (в первых двух существительных в именительном падеже оно нулевое), корень косм– и суффиксы – ос, – онавт и– ическ-. Корень косм-представляет собой непроизводную основу связанного характера. В чистом виде она в соединении с окончанием не встречается и употребляется всегда с тем или иным суффиксом. В этом отношении наш корень подобен непроизводным основам типа кош– (ср.: кошка, кошачий), – пт (ср.: птица, птенец, птаха), боч– (ср.: бочка, бочонок), скрип– (ср.: скрипка, скрипач), сад– (ср.: садист, садизм) и т. д.
Суффикс– ос, возникший в русском языке на базе греческого окончания, является нерегулярным суффиксом абстрактного значения и выделяется, кроме слова космос, лишь в существительном эпос (ср. эпический); в других словах он имеет иное значение (ср.: термос, альбинос и пр., в которых суффикс – ос выделяется по соотношению с термометр, альбинизм и т. д.).
Нерегулярным, выделяющимся в отдельных изолированных словах является и суффикс лица– онавт, возникший в русском языке в результате процесса переразложения, на основе греческих соединительного гласного о и основы – навт (< греч. nautēs «мореплаватель, моряк», от naus «корабль, судно»). Он встречается сейчас в словах астронавт, аэронавт, стратонавт, аргонавты (в его прямом номинативном значении – «легендарные греческие герои, отправившиеся под водительством Язона на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном»); ср. также шуточное плавонавт в телевизионной передаче о традиционном празднике физиков МГУ – дне Архимеда.
Суффикс– ическ– является регулярным, образующим четкую и определенную словообразовательную модель (ср.: утопический, феерический, сферический, фактический, хаотический и т. д.).
По своему происхождению в русском языке слова космос и космический являются заимствованными: первое из греческого (< греч. kosmos «мир, вселенная», kosmos «порядок, красота»), второе – из французского (< франц. kosmique «космический») языков. Что касается существительного космонавт, то оно возникло в русском языке и укрепилось в нем вскоре после запуска первого спутника Земли в 1957 г.
Можно ли считать корнем кус в слове искусство?
С этимологической точки зрения предлагаемое членение существительного искусство на ис-кус-ств-о правильно. Однако сейчас оно членится иначе, причем по-разному, в зависимости от различной семантики, которую это слово может иметь в конкретном употреблении. Искусство в значении «творческое отражение действительности в художественных образах» является сейчас словом с непроизводной основой и делится лишь на непроизводную основу искусств– и окончание– о. Искусство в значении «умение, мастерство» соотносится с прилагательным искусный «опытный, умелый, обладающий большим мастерством; мастерский, сделанный с большим умением» и членится на непроизводную основу искус-, суффикс – ств– и окончание – о.
По своему происхождению слово искусство, впервые отмечаемое в словарях с 1704 г., представляет собой суффиксальное образование от существительного искус «опыт, умение, мастерство», заимствованного из старославянского языка.
В последнем слово искусъ «опыт, испытание» – безаффиксное производное от искусити «испытывать», префиксального образования от кусити «испытывать», заимствованного, как полагают, из готского языка (ср. готск. kausjan «испытывать, пробовать»).
– И и – те в глаголах повелительного наклонения
Как известно, в современном русском языке существуют только две соотносительные между собой формы повелительного наклонения: 2-е л. ед. ч. и 2-е л. мн. ч. Таким образом, система форм глаголов в повелительном наклонении является двучленной (в отличие, например, от шестичленной парадигмы глаголов настоящего времени).
Противопоставляются друг другу лишь формы единственного числа, с одной стороны, и множественного – с другой (ср.: веди – ведите, неси – несите и т. д.). Это противопоставление получает свое формальное выражение, аналогичное тому, что наблюдается, например, в существительных стол – столы, кость – кости.
В существительных мы видим нулевое окончание в единственном числе и материально выраженное окончание– и(-ы) во множественном. В формах повелительного наклонения веди – ведите, неси – несите, пиши – пишите и т. д. мы также видим в единственном числе нулевое окончание, а во множественном – материально выраженное окончание – те.
С окончанием множественного числа– те нельзя смешивать суффикс – те, который служит для образования формы вежливого обращения. В предложениях Ребята, идите ко мне и Ребята, идемте ко мне (ср. Ребята, идем ко мне) – те разные: в первом случае это окончание множественного числа, во втором – суффикс формы вежливого обращения.
Что касается морфемы – и, стоящей в неси, пиши и т. д. перед нулевым окончанием, а в формах множественного числа несите, пишите перед окончанием– те, то она является суффиксом, с помощью которого мы от основы настоящего времени (нес-, пиш– и т. п.) образуем основу повелительного наклонения какого-либо конкретного глагола.
Таким образом, глаголы повелительного наклонения содержат – в зависимости от того, какого они числа – либо нулевое окончание (2-е л. ед. ч.), либо окончание – те (2-е л. мн. ч.). Без окончания глаголы в форме повелительного наклонения не существуют. Но в них, по понятным причинам, в то же время нет и окончания– и.
Кстати, надо иметь в виду, что в каждом глаголе повелительного наклонения обязательно есть и суффикс, и окончание, причем и та и другая морфема может быть не только материально выраженной, но и нулевой. Так, количество морфем в слове брось и в слове смотрите одинаково. В смотрите три морфемы: смотр– (корень), – и– (суффикс) и– те (окончание 2-го л. мн. ч.); столько же их и в брось: брось– ()1-()2, где брось– – непроизводная основа, ()1 – нулевой суффикс повелительного наклонения и ()2 – нулевое окончание 2-го л. ед. ч.
О двух л в слове аллея
Существительное аллея относится к числу тех слов, правописание которых обычно дается «в словарном порядке». Между тем о нем можно не только менторски сказать: «Запомните, здесь надо писать два л», но и рассказать почему. Особенно полезно и просто это будет сделать, если изучается французский язык. Дело в том, что написание аллея передает орфографию своего французского первоисточника – allée «аллея» (буквально «проход», дорога»), которое унаследовало два л от своего «родителя» – глагола aller «идти, проходить». Так что два л в аллея так же законны, как, скажем, о, а не а в слове проход (от проходить, ср. прорезь).
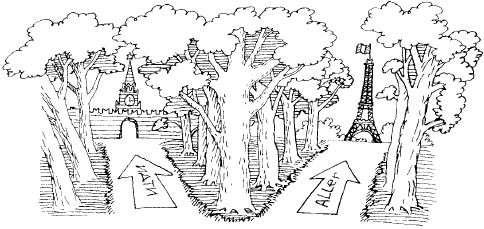
Вчерась и днесь
В ряд ли раньше эти два слова встречались рядом. Уж очень они разные по своей стилистической окраске. Не то что их синонимы: вчера и сегодня.
Слово вчерась просторечное, сниженное. Вспомните, как его использует А. П. Чехов в письме Ваньки Жукова: А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул.
Наречие днесь «сегодня, теперь» выступает как книжное и поэтическое. Вот как его параллельно с нейтральным стилистически словом сегодня употребляет в поэме «Война и мир» В. Маяковский: Сегодня ликую! Не разбрызгав, душу сумел, сумел донесть. Единственный человечий, средь воя, средь визга, голос подъемлю днесь.
И все-таки эти слова сближает не только обозначение смежных понятий вчерашнего и сегодняшнего дня. У них есть общий элемент – конечное– сь, восходящее к указательному местоимению сь «этот» (ср. полную форму этого местоимения – сей).
Наречие днесь возникло в результате слияния в одно слово словосочетания день сь «день этот», так же как его общеупотребительный синоним сегодня из сего (род. п. от сь «этот») дня. Наречие вчерась возникло по модели слов днесь, летось, ночесь.
Однако с точки зрения современного русского языка слова вчерась и днесь отличаются друг от друга в словообразовательном отношении не менее, чем стилистически. Слово днесь представляет собой сейчас непроизводную основу. В слове вчерась основа (ср. вчера) является производной и делится на вчер-а-сь.
Ради этого – сь – весь разговор. Во-первых, что это за морфема? По происхождению она корневая, но в настоящее время ее нельзя охарактеризовать иначе как суффикс. Во-вторых, каково значение этой морфемы? Оно оказывается у– сь довольно своеобразным. Суффикс – сь можно определить как стилистический, переводящий слово в разряд просторечных и сниженных. Лексическое значение производящего слова (вчера) остается прежним, меняется лишь его стилистическая окраска. Такой же характер имеют суффикс – у (в слове нету, ср. нет), приставки су– и за– (в словах супротив, завсегда, ср. против, всегда) и т. д.
Слаще или слаже?
М ожно не сомневаться, что большинство без каких-либо колебаний и раздумий категорически выскажется в пользу слаще. Действительно, обычной, так сказать, правильной формой сравнительной степени от прилагательного сладкий (о нем см. заметку «Сладкий и соленый») является слаще. Вспомните хотя бы пословицу Хрен редьки не слаще. Однако чем все-таки объяснить, что от слова сладкий сравнительная степень будет слаще? Так ли предпочтительна эта форма по сравнению с формой слаже? Ответить на этот вопрос можно, познакомившись с родословной обоих образований.
В соответствии с общим правилом сравнительная степень от прилагательных типа сладкий, высокий, близкий, широкий, узкий, частый, короткий и т. д. бытует (или, вернее, воспроизводится) без суффиксов– к– и – ок– и оформляется с помощью суффикса – е, причем перед ним конечный согласный непроизводной основы выступает в «измененном» виде: выше, ближе, шире, уже, чаще, короче и т. д. В последнем отражается давняя палатализация согласных перед j, поскольку когда-то – еще в общеславянском языке – при образовании сравнительной степени за корнем следовал суффикс – jьš-.
Поэтому в качестве закономерной сравнительной степени от сладкий выступает форма слаже с обычным чередованием дʼж. Однако эта форма ныне существует лишь в диалектах. Для литературного употребления сейчас единственно правильной признается форма слаще, с своеобразным и нерегулярным чередованием д – щ.
Л. А. Булаховский считал (см.: Курс русского литературного языка. Т. 2. Киев, 1953. С. 180), что форма слаще «восходит к слажче (контаминации слаже и сладче)», и приводил в качестве доказательств правильности своего объяснения следующие примеры: Да накаплють ти слажше меду словеса уст моих («Слово Даниила Заточника») и сладчая меду («Памятники смутного времени»). Однако это объяснение неубедительно и, очевидно, неправильно.
Дело в том, что слаще возводится исследователем к такой форме (слажче), которая нигде не зафиксирована и вряд ли была вообще (ср. отсутствие гажче > гаще, при литер. гаже, диал. гадче; отсутствие режче > реще, при литер. реже, диал. редче; отсутствие глажче > глаще, при литер. глаже, диал. гладче и пр.).
Кроме того, Л. А. Булаховский не учитывал приводимой им же формы слажще (< слажьше), которая резко отличается от предполагаемой слажче и представляет собой закономерное производное к сладъкъ в им. п. ед. ч. ср. р. Именно эта форма и послужила основой для современного слаще. Так, в частности, толкует ее М. Фасмер.
Вспомните склонение прилагательных сравнительной степени в древнерусском языке:

Следовательно, в этимологическом плане слаще (< слажьше) относится к слаже так же, как больше к боле.
Таким образом, обе формы слаже и слаще исторически представляют собой закономерную сравнительную степень от старославянизма сладъкыи, но исходно разного рода: форма слаже является исконно формой им. п. ед. ч. ср. р. (ср. чище, выше, боле и пр.), форма слаще < слажьше возникла на базе им. п. мн. ч. м. р. (ср. больше, горше, тоньше и т. п.).
Изменению формы слажьше > слаще, вероятно, способствовало также и наличие рядом с ней родственных слов типа слащавый (от сласть), ст. – слав. слащий «предающийся удовольствиям» (ср. диал. солощий, солоща «жадный, прожорливый»).
Что такое ч в слове стричь
Очень своеобразен морфемный состав глагола стричь. В форме стригу перед нами две морфемы: корень стриг– и окончание 1-го л. ед. ч. настоящего времени– у. В существительном стрижка их три, и они также четко и непосредственно ощущаются: корень стриж-, суффикс – к-, образующий имена действия (ср.: ковка, промывка, проходка и т. д.), и окончание – а.
А как выделить морфемы в форме стричь?
Глагол стричь вместе со словами печь, мочь, стеречь, беречь, течь и др. образует особый структурный тип. В инфинитивах этих глаголов еще в дописьменную эпоху в звуке чʼ были объединены в одно целое конечный согласный корня к или г и согласный [тʼ] инфинитивного ти (общеславянское стриг-ти > стрикти > стричи, а затем – стричь).
Таким образом, глагол стричь, как и везти, состоит из двух морфем: корня стриг– и инфинитивного – ть. Но инфинитивное– ть располагается не отдельно за корнем (как, например, – ти в везти), а накладываясь на него и сливаясь с последним его звуком в одно целое [чʼ].
Нужные сведения о прилагательном сведущий
Далеко не всякий сведущий человек досконально знает, как появилось слово сведущий и почему не полагается писать «сведующий». В то же время всем ясен его отглагольный характер. Разберемся: в чем же тут дело?
Слово сведущий близко прилагательному знающий и по значению (ср.: сведущий человек и знающий человек), и по происхождению: это бывшие причастия. Рядом с прилагательным знающий в нашей речи употребляется омонимическое ему и исходное для него причастие знающий (ср.: более знающий, самый знающий, очень знающий, где слово знающий – прилагательное, и, скажем, Ученик, знающий это правило, ошибаться не будет, где слово знающий – причастие).
«Отпричастное» происхождение прилагательного сведущий не столь очевидно. И это понятно. Ведь глагол, от которого слово сведущий было в качестве причастия образовано, в настоящее время в русском языке не существует. А образовано оно было от глагола съвк дк ти «знать», ср. в «Повести временных лет»: Ини же, не свѣдуще, рекоша, яко Кии есть перевозникъ былъ, т. е. «Иные же, не знающие, говорили, что Кий был перевозчиком».
Глагол этот, хотя и был приставочным (он возник на основе глагола вѣдѣти «знать» в результате прибавления приставки съ – «с»), тем не менее принадлежал к глаголам несовершенного вида, почему от него и могло быть образовано действительное причастие настоящего времени с суффиксом – у; —: в древнерусском языке приставки вовсе не обязательно переводили глаголы несовершенного вида в глаголы совершенного вида (ср.: например, объяснение названия города Полоцка в Лаврентьевской летописи: Рѣчьки ради яже втечеть в Двину именем Полота, т. е. «Из-за речки по имени Полота, которая впадает (втекает) в Двину»).
Ошибочное написание прилагательного сведущий в виде «сведующий», наблюдаемое иногда у учащихся, объясняется в первую очередь аналогическим влиянием слов типа следующий, но может возникнуть и в силу ошибочного сопоставления со словом ведающий. Последнее, кстати, является производным как раз от того глагола (ведать), который сейчас заменил старое вѣдѣти.
Заметим, что, кроме слова сведущий, от глагола съвѣдѣти «знать» были образованы еще два хорошо известных вам слова. Это вынесенное в заглавие заметки существительное сведения (ср. знания – от знать) и слово свидетель (см. с. 17).
Почему мы пишем городки-но городошник?
В опрос вполне закономерный, хотя и не всегда мы на это обращаем внимание. В самом деле, при образовании новых лексических единиц от слов, основа которых оканчивается на к, наблюдается регулярное и последовательное чередование к – ч, но нет вариации к – ш. Вспомните существительные на – ник, образованные от слов указанной структуры: балалайка – балалаечник, тройка – троечник, лавка – лавочник, лодка – лодочник, сказка – сказочник, взятка – взяточник, стрелка – стрелочник и т. д. И вдруг (вместо ожидаемого и законного городочник) – городки – городошник. Чем объясняется, как возникло такое странное чередование к с ш?
Если мы обратимся к русскому литературному языку XIX в., то увидим, что тогда это слово писалось еще «по общему правилу» с ч – городочник. Почему же его затем стали писать с ш? Может быть, это закрепление на письме произношения? (Ведь по старомосковским нормам сочетание чн произносилось как [шн].) Вряд ли. Не пишем же мы «лавошник», «стрелошник» и т. д.
Случаи закрепления произношения на письме в таких словах наблюдаются лишь тогда, когда соответствующее существительное этимологически отрывается от исходного (ср. двурушник < двуручник). Связь же слова городошник с производящим городки четкая и непосредственная.
Появление ш на месте ч в этом слове, вероятно, имеет иное – аналогическое – происхождение. Оно закрепилось в нем под влиянием слова того же семантического поля лотошник «игрок в лото» (от лотошный, ср. киношник, доминошник и т. п.).
Исключение ли прилагательное голевой?
ББез этого прилагательного сейчас не обходится ни один спортивный репортаж, особенно часто это всем понятное и привычное слово выступает в сочетании с существительными положение, ситуация и момент (голевое положение, голевая ситуация, голевой момент). Его морфологическая структура ясна и прозрачна (гол-ев-ой), но… необычна.
Вы не замечали этого? Тогда вспомните слова того же словообразовательного ряда, производящая основа у которых состоит из одного слога и оканчивается на твердое л. Все они имеют суффикс– ов-: половой, меловой, тыловой, смысловой, угловой и т. д. Выходит, что популярное спортивное прилагательное – своеобразный уникум. Может быть, оно вообще неверно образовано? Давайте в этом вопросе разберемся как следует. Если учитывать лишь современные связи и соотношения, то это слово действительно представляется нам исключением.
Однако словообразовательным «исключением» оно все же только кажется. В действительности же по своему происхождению оно самое рядовое и правильное. Все это станет понятным, как только мы обратимся к вопросу о его рождении. Тогда выяснится, что прилагательное голевой появилось как суффиксальное производное от слова гол не в его современной огласовке, а в виде голь.
Так раньше звучало это заимствованное из английского языка слово в нашей речи. Несколько примеров: Несмотря на хорошую защиту, павловские (футболисты) принуждены были три раза пропустить мяч в свой город, сами же сумели вбить еще только один голь (Русский спорт. 1909. № 19. С. 14); Через три минуты им был вбит первый голь (Русский спорт. 1909. № 15. С. 12); Каждый удар давал англичанам голь (там же); Обыкновенно довольствовались тем, что ставили в ворота одного игрока, который назывался гольки-пер (Дюперрон. Футбол и другие игры того же типа. СПб., 1909. С. 36) и т. д.
От этого ныне уже устаревшего голь наше голевой было образовано точно так же, как от киль, руль, щель, боль, тюль, шаль – прилагательные килевой, рулевой, щелевой, болевой, тюлевый, шалевый и т. п.
Правильно ли употребляется морфема – ся в форме равняйсь?
Нормативное употребление разновидностей суффикса возвратной формы – ся(-сь) определяется простым правилом: если суффиксу предшествует согласный звук, употребляется – ся, если гласный, то используется уже– сь (вернулся – вернулось, умывается – умывалась, мчатся – мчались и т. д.). Однако от этого правила наблюдаются и некоторые отклонения, с одной стороны, в разговорной, а с другой – в поэтической речи.
В поэзии нередко форму– ся можно наблюдать (что обусловлено требованиями ритма) и после гласного звука (ср. у Ю. Смирнова: Шли только потому, что нужно, злясь, что рассталися с теплом). Такое употребление – ся – одна из узаконенных стихотворной практикой поэтических вольностей.
В отдельных случаях, напротив, наблюдается «незаконное» – сь после согласного. Это отмечается в скороговорочной речи, не только допускающей, но и определяющей отдельные (иногда очень серьезные) сокращения. Именно такого (командного) происхождения– сь из первоначального – ся в рав-няйсь. Вспомните еще более краткую военную команду Товсь! < приготовсь < приготовься.
Как разбирать слово по составу
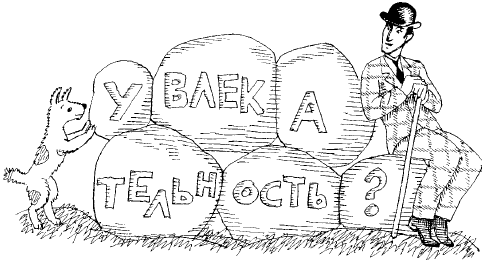
И з уже прочитанных вами заметок хорошо видно, что в мире слов нас встречают сложность и многоликость на первый взгляд, казалось бы, весьма простых и удручающе одинаковых морфем, и захватывающие дух и поражающие самое смелое воображение метаморфозы словесной «архитектуры», и почти сказочные биографии целого ряда самых обычных с виду лексических единиц, и нередко настоящий детективный поиск реального состава слова. Вместе с тем здесь, в этой словообразовательной «вселенной», царят математически строгие правила образования слов, распределения морфем и реализации чередований, которые свободно укладываются в прокрустово ложе точных и стройных формул и схем, типов и моделей строения слов, а также непреложные законы языка и точные, как дважды два четыре, формулировки научного анализа. Именно поэтому, оказываясь «внутри слова», мы познаем, из чего оно скроено, как сделано и членится, из каких морфем состоит, какое значение они в нем имеют, как располагаются и связаны между собой.
В средней школе членение слова на морфемы, т. е. составляющие его как определенное структурное целое значимые части, называется разбором слова по составу.
Разобрать слово по составу – значит установить, что является у данного слова основой (а если слово склоняется или спрягается, то нужно найти у него и окончание), а затем – какова по своему характеру основа – членимая или нечленимая. Если основа производная, то необходимо также определить, на какие значимые части она распадается. Практически разбор слова по составу не только позволяет понять, из чего и как слово построено, но также помогает правильно написать его, четче и точнее представить себе его значение и грамматические свойства, а иногда даже проникнуть в святая святых происхождения слова.
Однако, для того чтобы разбор слова по составу приводил к правильным выводам и решениям, необходимо, как уже упоминалось, проводить его, соблюдая правила и процедуру морфемного анализа.
В связи с этим прежде всего следует коснуться того, в какой последовательности надо членить слово на значимые части, каков порядок выделения в слове значимых частей, морфем.
Прежде чем разбирать слово по составу, необходимо определить (это самое первое и необходимое требование), с каким конкретно словом вы имеете дело, какое слово подвергается морфемному анализу, т. е. что оно значит и к какой части речи относится. Итак, в первую очередь надо установить, «кто есть кто».
Знание значения анализируемого слова является самым важным для правильного определения характера основы и значения служебных морфем (т. е. приставок, суффиксов, соединительных гласных о, е и окончаний).
Слово просто с точки зрения морфемного состава оправдывает свое название: оно действительно простое. Однако, чтобы правильно определить его морфемный состав, надо знать, с каким словом мы здесь имеем дело. Ведь одно слово просто – это краткое (именное) прилагательное, а другое – уже наречие. Так, в контексте Все было просто используется краткая форма прилагательного, в предложении же Писал он очень просто и ясно мы видим уже наречие. Разбор прилагательного просто надо будет начинать с выделения – по соотношению с формами прост, проста, просты – окончания, а затем уже переходить к определению характера (в данном случае нечленимой) основы.
В наречии просто морфемный анализ сразу же начинается с установления характера основы, так как наречие окончания не имеет (в этом случае основа членимая, здесь– о– – суффикс, а не окончание).
Другой пример иного рода. Представим себе, что нужно установить морфемный состав прилагательного розовый. Первый вопрос, который должен возникнуть у всякого, кто анализирует это слово: а какое, собственно говоря, прилагательное розовый является предметом нашего рассмотрения? Прилагательное розовый в цветовом значении (розовый закат, розовое платье) или же прилагательное розовый, имеющее значение «из роз» (розовое варенье, розовый куст)?
Окончание– ый выделяется одинаково свободно в обоих прилагательных. А вот характер основ у них разный, можно сказать – принципиально различный.
Относительное прилагательное розовый (розовый куст, розовое варенье), прямо и непосредственно соотносительное со словом роза, имеет основу, членимую на корень роз– и суффикс – ов-.
Что же касается качественного прилагательного цветовой семантики (розовый закат, розовое платье), то оно является уже словом с неделимой на значимые части основой. И понятно почему. Ведь розовый в данном случае не значит «цвета розы» (последняя может быть и желтой, и белой, и красной, и даже черной).
Таким образом, прежде всего надо установить, какое слово мы разбираем по составу и к какой части речи оно относится (а значит также, и является ли анализируемое слово изменяемым или оно принадлежит к словам, форм словоизменения не имеющим). Если перед нами изменяемое слово, имеющее парадигму склонения или спряжения (т. е. существительное, прилагательное, глагол, местоимение, числительное, причастие), то разбор его по составу начинается с установления в слове основы и окончания. Если морфемному анализу подвергается неизменяемое слово, которое форм словоизменения не имеет и в связи с этим состоит из одной так называемой чистой основы (т. е. наречие, деепричастие, служебные слова, междометия), то разбор слова по составу сразу же будет выступать как установление характера основы.
Как при разборе по составу изменяемых слов, так и при морфемном анализе неизменяемых слов они должны обязательно рассматриваться, во-первых, на фоне родственных им в настоящее время слов, а во-вторых, в сравнении с идентичными или аналогичными по своему строению словами. Это является основным, исходным, важнейшим правилом словообразовательного анализа вообще и разбора по составу в частности.
Как было уже сказано, членение изменяемого слова на морфемы «открывается» определением в нем основы и окончания. В подавляющем большинстве случаев определение в слове окончания (а затем и его конкретного значения) является делом довольно легким.
Для того чтобы вычленить в том или ином слове окончание, вполне достаточно «поместить» это слово рядом с его другими грамматическими формами, т. е. поставить его в свойственную ему парадигму склонения или спряжения.
Так, падежный ряд розовый, розового, розовому и т. д. с необходимостью требует выделения окончаний– ый, – ого, – ому и пр. Парадигма вода, воды, воде и т. д. заставляет нас вычленить после основы вод– окончания – а, – ы, – е и др.
Соотношения форм иду, идешь, идет и пр. определяют в них и основу настоящего времени ид-, и окончания– у, – ешь, – ет и т. д.
Однако даже при определении окончания, как свидетельствует школьная практика, наблюдаются в ряде случаев затруднения и ошибки.
Чаще всего ошибки в определении окончания (и соответственно основы) связаны с тем, что при разборе слова по составу не учитывают того обстоятельства, что звуки современного русского языка изображаются буквами по-разному, что прямых и обязательных, так сказать, зеркальных соответствий между звуком и буквой у нас нет.
Между тем, чтобы правильно провести границу между основой и окончанием, надо хорошо знать звуковое значение букв, не забывать, что отдельные буквы нашего алфавита обозначают то один, то два звука.
Так, для правильного выделения окончания в словах мечтаю, змея и т. п. (оно будет одновременно и верным определением основы) важно (собственно говоря – совершенно обязательно) учитывать, что буква ю после гласной (буквы а) обозначает два звука й(j) и у, а буква я после буквы е – звуки й(j) и а. Слова мечтаю, змея соответственно делятся на основу и окончание таким образом: мечтай-у, змей-а, и окончания в них, следовательно, точно такие же, как в словах типа иду, вода и т. д.
Чтобы безошибочно провести границу между основой и окончанием в словах свинья, соловьи, пью, надо помнить, что мягкий знак перед гласной буквой является сигналом того, что следующая далее гласная буква обозначает не только соответствующий гласный звук (в данном случае а и и), но также и согласный звук й(j).
Если мы не будем учитывать только что отмеченного обстоятельства, мы не сможем определить верно, где в слове пью основа, а где в нем окончание.
Во всех перечисленных здесь словах основа будет заканчиваться согласным звуком «йот», а далее будут идти окончания: (свин-й) – а, (солов-й) – и, (п-й) – у.
Заметим попутно, что членимый характер основ двух первых слов становится ясен при сравнении с родственными словами свиной, соловушка.
Одной из распространенных ошибок в определении основы и окончания является также забвение того, что все формы любого изменяемого слова являются формами с окончанием. Если слово склоняется или спрягается, то у него не может быть формы без окончания. При этом надо учитывать, что окончания могут быть не только материально выраженными, но и нулевыми.
Так, выделенная нами основа змей– в слове змея и форма род. п. мн. ч. змей неравноценны не только с точки зрения самостоятельности функционирования (ведь первая, т. е. основа змей-, известна лишь внутри слова, тогда как вторая образует целое слово, ср. много змей, змей не было и т. д.).
Эти слова разнятся между собой и в морфемном отношении. Их совпадение (змей– и змей) носит чисто внешний, звуковой характер, поскольку род. п. мн. ч. змей по морфемному составу является, как и всякая другая форма склоняемого слова, соединением основы и окончания. Она распадается на основу змей– и нулевое окончание: змей(), так же как на основу и окончания распадаются соотносительные падежные формы: змей(а), змей(у), змей(ами) и т. д.
Соотношение стол, стола, столу и т. д. – наглядное свидетельство двуморфемности формы им. п. ед. ч., состоящей из основы стол и нулевого окончания.
То же нулевое окончание, указывающее на мужской род и единственное число, находим мы в слове писал. Достаточно лишь сопоставить его с формами писала, писало, писали.
Наконец, затруднения при членении слова на основу и окончание могут быть обусловлены тем, что анализу подвергаются формы, имеющие нерегулярные и редкие окончания.
Не представляет, например, никаких трудностей выделение окончания в глаголах несу, везу, пишу и т. д., в местоимениях всякий, каждый, любой и пр., поскольку имеющиеся у них окончания (-у, – ий, – ый, – ой) известны нам во многих словах и совершенно четко ощущаются как окончания.
Совсем иное дело – окончания в словах типа ем или кто. Вопрос о том, где здесь окончание, ставит иногда спрашиваемого в тупик. Однако и здесь надо руководствоваться общим правилом определения окончания: чтобы отделить окончание от основы, нужно поставить данную форму в ряд других, ей соотносительных. И неважно, если в результате этого приходится выделять на первый взгляд очень странные окончания – «единоличники».
В слове ем по соотношению с формами ешь, ест (ср. несу, несешь, несет) выделяется корень е– и нерегулярное окончание– м, которое мы найдем еще лишь в словах дам и создам.
В слове кто по соотношению с формами кого, кому, о ком и т. д. (ср. такой, такого, такому, о таком и т. д.) выделяется корень к– и нерегулярное окончание– то, известное, кроме этого местоимения, лишь в слове что.
В числительном две по соотношению с числительным два и формами двух, двум, двумя приходится за корнем дв– выделить единственное в своем роде окончание– е, указывающее в им. п. на женский род.
Имея в виду определение границ между основой и окончанием, надо учитывать также и то обстоятельство, что в отдельных (правда, не очень многочисленных) случаях, для того чтобы верно определить окончание, недостаточно сравнить данную форму с другими формами того же слова. Приходится прибегать к сравнению с соответствующими формами других (в той или иной степени однотипных) слов.
Хорошим примером, демонстрирующим важность учета не только соотносительных форм, но и постановки анализируемого слова в ряд аналогичных ему по структуре, является прилагательное лисий и ему подобные.
Определить окончание в этом слове невозможно без рассмотрения его на фоне притяжательных прилагательных вообще. В нем выделяется в качестве окончания не– ий, как может вначале показаться, а нулевое окончание; что же касается морфемы – ий, то она является суффиксом, выступающим то как – ий, то как – й– (ср. лисий – лисья – лисьи и сестрин – сестрина – сестрины, но синий – синяя – синее и т. д.).
На членение лис-ий(), а не лис(ий) в определенной степени указывают уже формы ж. и ср. р., а также мн. ч. В этом ряду, например, форма лисья распадается на лис-й(а), с суффиксальной основой и окончанием– а. Наличие нулевого окончания в слове лисий подтверждается таким же и, кстати, еще более ясным соотношением сестр-ин() – сестр-ин(а).
Сравнение анализируемого слова с другими родственными и в известной степени однотипными словами необходимо иногда и для определения разницы, существующей между, казалось бы, одинаковыми окончаниями.
Так, в словосочетании молодой портной в обоих словах выделяется внешне одно и то же окончание– ой. Однако на самом деле морфема – ой в этих словах разная. В прилагательном молодой – это чистое окончание, указывающее только на синтаксические отношения этого слова к другим. В существительном портной – это не только окончание им. п. ед. ч., но и суффикс, указывающий (по отношению с суффиксом – их-в парном существительном портниха) на мужской пол обозначаемого лица.
Подобное окончание-суффикс – а наблюдается в имени Александра, где оно, помимо функции флексии им. п. ед. ч., выполняет также роль суффикса, указывающего на женский пол (ср. Александр).
Заметим, что этого уже нет в соотносительном интимном имени Саша, одинаково приложимом как к мужчине, так и к женщине. Поэтому – а в слове Саша является таким же чистым окончанием, как и в словах типа вода.
Но вот основа и окончание в слове определены. Что делать дальше? Следующим и еще более сложным и важным этапом в разборе слова по составу будет определение членимого или нечленимого характера основы с выделением – в составе членимой основы – корня, суффикса, приставки и соединительной гласной (последней в составе сложных слов).
Разбирая слово по составу и привлекая в связи с этим родственные ему в настоящее время образования, нельзя это делать произвольно, путем простого его сопоставления с какими попало однокоренными словами. Правильное членение слова на значимые части невозможно без последовательного выделения в нем значимых частей в соответствии с тем, как в его строении отражен словообразовательный процесс, т. е. без учета связей и соотношений, существующих между членимой и производящей основами, иначе говоря – между анализируемым словом и его «родителем» или ближайшим «родственником».
Это является одним из наиболее важных правил разбора слова по составу. Только этот принцип дает возможность избежать в морфемном членении слова ошибок, выделить в нем реально существующие в данный момент значимые части слова и установить их связи и взаимоотношения, а тем самым также и современную структуру слова.
Так, правильное определение морфемного состава в словах марочка, ленточка и жилочка, содержащих, по первому впечатлению, как будто одинаковый суффикс– очк-, возможно лишь тогда, когда мы опираемся на непосредственные связи и соотношения этих существительных с их производящими марка, лента, жилка (в свою очередь образованным от жила). Показания ближайшего родства свидетельствуют, что в слове марочка выделяется суффикс – к– (при чередовании в корне марк-, марок-, мароч-), в слове ленточка – суффикс – очк-, а в слове жилочка – два суффикса – к– (в виде – оч– и – к-; ср. жила – жилка – жилочка).
Верное членение внешне идентичных по своим приставкам глаголов обесценить и обеспокоить оказывается возможным только при условии сравнения их с производящими словами цена и беспокоить (обесценить – «лишить цены», обеспокоить – форма совершенного вида от беспокоить). В первом слове выделяется в соответствии с этим приставка обес-, во втором – сначала приставка о-, а затем и приставка бес– (ср. покой).
Правило обязательного учета связей и соотношений разбираемой и производящей основ требует отказаться от разбора слова по составу начиная с корня. Разбирая слово по составу, нельзя сразу «зреть в корень». Слово надо членить «с конца», в нем надо снимать один слой за другим в порядке, обратном словообразовательному процессу. Это не только позволяет выделять в слове значимые части и определять их действительное значение, но и различать похожие, но различные значимые части и структурные типы слов, т. е. является гарантией правильного вычленения значимых частей в слове. Это в то же время дает возможность определить взаимоотношения морфем в пределах слова, представить себе структурную формулу слова.
Принцип последовательного выделения морфем в слове с опорой на отношения ближайшего родства, когда эта процедура заканчивается, а не начинается выделением корня, должен быть определяющим. Ведь, как нельзя в матрешке сразу достать ту, последнюю и самую маленькую, которая далее не делится, не содержит в себе еще более крохотной, так же нельзя во всех случаях правильно уже «с первого захода» извлечь из многоморфемного слова корень.
Слово писательница обозначает писателя женского пола, писатель – человек, который пишет художественные произведения, писать – неопределенная форма, рядом с которой наблюдаются формы писал, пишу и т. д. (без – ть и – а-), употребляются родственные слова писец, писарь и др.
Так мы доходим до корня. Процесс словообразования, результатом которого явилось слово писательница, шел следующим образом: пис-(пиш-) писать (пишу, писал и т. д.) – писатель – писательница. При разборе слова по составу мы идем в обратном направлении: писательница – писатель – писать – писал – пишу.
С учетом последовательности присоединения морфем формулу структуры слова писательница можно представить в таком виде:
[(пис-а) – тель]-ниц(а).
Разбирая в соответствии с «принципом матрешки» слово увлекательность, мы (после выделения в нем нулевого окончания, ср.: род. п. ед. ч. увлекательности) соотносим его с образующим прилагательным увлекательный и выделяем суффикс– ость. Затем прилагательное увлекательный соотносим с производящим глаголом увлекать и вычленяем суффикс – тельн-, далее глагол увлекать соотносим с формой совершенного вида увлечь (увлеку, увлечет и т. д.) и выделяем суффикс (несовершенного вида) – а-, потом соотносим глагол увлечь с производящим бесприставочным глаголом влечь (влеку, влечешь и др.) и вычленяем приставку у-, а вместе с ней, наконец, и корень влек-.
В формуле порядок присоединения морфем в процессе словопроизводства (мы шли опять «с конца») здесь выражается таким образом:
{[(у-влек) – а]-тельн}ость().
Было бы неправильным считать, что метод установления соотносительности членимой и производящей основ является единственным при установлении структуры слова. Уже говорилось о необходимости также учитывать грамматические формы слова и одноструктурные слова.
В том случае, если разбираются слова, имеющие в своем составе связанные нечленимые основы, сопоставление родственных слов поможет обнаружить их общий корень, который известен в настоящее время лишь в связанном виде.
Так, при членении слова переобуваться прием установления соотносительности членимой и производящей основ, после того как мы дойдем до обуть (переобуваться – переобувать (переобуваю, переобувал) – переобуть – обуть), сменится приемом сопоставления соотносительных между собой родственных слов: рядом с обуть употребляется антонимическое разуть, что позволяет выделить в первом, кроме инфинитивного – ть (ср. обувь), приставку об– и корень – у-.
Структурная формула слова переобуваться в соответствии с этим будет иметь такой вид:
{[пере-(об-у)]-ва-ть}ся.
Во избежание недоразумения заметим, что изложенная процедура последовательного членения слова не обязательно должна быть во всех абсолютно случаях словесно выраженной или даже письменно зафиксированной, хотя несколько слов на установочном уроке таким образом разобрать обязательно надо. Эта процедура может быть проведена и «в уме». Здесь все зависит от конкретно поставленной методической задачи.
Следует иметь в виду, что все изложенные выше правила и приемы разбора слова по составу будут эффективны только тогда, когда мы будем помнить ту простую истину, что о членимой основе можно говорить лишь тогда и лишь до тех пор, пока есть соотнесенная с ней основа нечленимая. Осуществляя последнюю операцию в процедуре деления слова на морфемы, т. е. вычленяя в нем нечленимую основу, особенно важно не смешивать словообразовательный анализ с языковым чутьем, свойственным всякому носителю языка (и даже изучающему неродную для него языковую систему).
Основа не может быть членимой, если то, что мы хотим выделить в данном слове в качестве корня, не является корнем в каком-либо другом слове. Слово может быть охарактеризовано как слово с членимой основой только в том случае, если рядом есть хоть одно родственное слово с той же точно нечленимой основой.
Именно поэтому, например, в относительном прилагательном розовый основа будет членимой, а в качественном прилагательном розовый со значением цвета она уже будет выступать как нечленимая (см. выше). В слове голубика основа является членимой и членится на корень голуб– и суффикс – ик-, а в слове брусника она должна быть охарактеризована как нечленимая.
Именно в силу зависимого характера членимой основы от обязательного наличия соответствующей ей нечленимой основы в слове смородина нельзя выделить суффикс – ин-, а в слове громадина (ср. громада, громадный) можно, в слове бодрый мы не имеем никакого права сейчас выделять суффикс – р-, а в слове мокрый (ср. мокнуть) должны выделить и корень мок-, и суффикс– р-, и т. д.
Вместе с тем следует иметь в виду, что при членении слова на морфемы необходимо сопоставлять его с родственными ему словами, но вовсе не всегда обязательно сопоставлять со словами одноструктурными. Производных слов с изолированными, единичными, только в них выделяющимися и существующими корнями нет и быть не может, но есть производные слова, в которых выделяются аффиксы, живые и существующие сейчас только в их составе.
Примеры таких нерегулярных служебных морфем среди окончаний выше уже приводились. В качестве единичных, экзотических суффиксов и приставок можно назвать суффикс– ичок в слове новичок (ср. новенький; в слове старичок – по соотношению со словами старик и старый – выделяются два суффикса – суффикс – ик и суффикс – ок), суффикс – овизн-в слове дороговизна (ср. дорогой), суффикс – ёл в слове козёл (ср. коза), приставку ку– в слове кумекать (ср. смекать, смекалка), приставку ба– в слове бахвалиться (ср. хвалиться) и т. д.
Исторический характер морфемного состава слова заставляет при его разборе по составу особенно осторожно определять существующую в настоящее время у слова нечленимую основу. Современный корень (нечленимая основа) и этимологический корень в слове далеко не одно и то же. В задачи морфемного анализа входит лишь определение в слове того корня, который оно имеет сейчас с точки зрения современной языковой системы.
Разбор слова по составу устанавливает лишь то, что данное слово представляет собой в словообразовательном отношении в настоящее время. Ответ на то, как данное слово возникло в действительности, словообразовательный анализ дает только в том случае, если рассматриваемое слово и сейчас имеет ту же структуру, какую оно имело в момент своего рождения. Этим обусловливается еще одно правило разбора слова по составу: анализируя структуру слова, ни в коем случае нельзя факты прошлого и других языковых систем отождествлять или даже смешивать с тем, что существует в русском литературном языке сейчас.
Так, нельзя выделять в слове отец корень от– и суффикс– ец, известные в древнерусском языке, так как рядом употреблялось и прилагательное отьнии «отцовский»; неверно выделять в слове митинг корень мит– и суффикс – инг, хотя в английском языке они в этом существительном четко выделяются, так как там рядом с meeting «собрание» существует и meet «собираться», и т. д. Ср. слова борец (бороться, борьба), кроссинг (кросс, кроссмен), в которых суффиксы – ец и – инг выделяются и в современном русском языке. В заключение следует отметить еще одно очень важное обстоятельство. Для того чтобы правильно устанавливать морфемный состав слова, надо хорошо представлять себе специфические особенности русского слова. Особенно важно здесь учитывать разные способы соединения морфем внутри слова друг с другом.
В частности, членя слово на морфемы, следует иметь в виду, что значимые части слова могут располагаться в нем не только в порядке линейной последовательности, одна за другой, но и накладываясь (частично или полностью) одна на другую.
Поскольку соответствующие факты неоднократно уже разбирались, остановимся здесь лишь на двух глагольных примерах и разберем по составу слова приду и пнуть.
В слове приду прежде всего выделяется окончание– у (ср. придешь – придет и т. д.). Затем по соотношению с иду в нем следует выделить (ср. принесу – несу) приставку при-. Проведенное далее сравнение глагола иду с приставочным инфинитивом прийти устанавливает, с одной стороны, что – д– не является корнем, а представляет собой суффикс основы настоящего времени (этот суффикс содержится, например, и в глаголе еду, ср. ехать), а с другой стороны, оно свидетельствует о том, что корнем в иду и соответственно приду является – и-. В нашем приду это корневое – и– спряталось под приставкой при-. Таким образом, глагол приду делится на при-и-д-у, но приставка при– в нем наложилась частично на корень – и-. Между прочим, ранее, в древнерусском языке, этого не было и говорили и писали прииду, потом произошло стяжение гласных ии в и и на месте линейного расположения морфем возникла аппликация (наложение).
То же явление мы наблюдаем и в глаголе пнуть, в котором на корень пн– (ср. пинать) наложился суффикс– н– (ср. пну, пнешь, пнет и т. д.). Морфемный состав этого слова таков: корень пн-, суффикс однократности – н-, суффикс – у-, указывающий на класс глагола, и инфинитивное – ть.
Наконец, разбирая слово по составу, следует не упускать из виду и того очень важного обстоятельства, что морфемный анализ слова не ограничивается одним правильным его делением на значимые части, не сводится к одному (хотя бы и правильному) членению лексической единицы на морфемы. В его задачи обязательно входит также и установление значения выделенных морфем, определение конкретной роли и функции каждой из них в разбираемом слове (ср. например, суффикс– ш-, являющийся соответственно: суффиксом жены в слове генеральша, женского пола в слове лифтерша и действующего лица в слове маникюрша; разные приставки с– в слове слететь, где с– указывает на движение сверху вниз, и в слове сформировать, где она лишь образует глагол совершенного вида, и т. д.).
Подводя итоги всему изложенному выше, хотелось бы порекомендовать при разборе слова по составу всегда обращаться с ним внимательно, бережно и «вежливо», не спеша, шаг за шагом выделяя в нем значимые части. Ведь «смотреть в корень» при разборе слова по составу – значит не только и не столько уметь извлечь его корень. Это значит уметь вскрыть внутреннее строение слова, правильно определить и охарактеризовать все составляющие его значимые части, показать, из чего и как оно «скроено» в отличие от других слов.
Для этого не надо сразу же бросаться выделять корень. Надо установить прежде всего конкретное значение слова и его принадлежность к той или иной части речи, а затем уже начинать членить на морфемы, учитывая его ближайшие и, конечно, реально существующие сейчас родственные связи, а также все свойственные ему грамматические формы, привлекая в необходимых случаях для сравнения и проверки также подобные или аналогичные по структуре слова.
При этом членение слова на значимые части следует проводить с учетом последовательности словообразовательного процесса, результатом которого в современном плане выступает данное слово; разбирать его как матрешку, т. е. идя снаружи внутрь, заканчивая, а не начиная выделением корня. И главное – никогда не стоит спешить свое языковое чутье опрометчиво выдавать за научный разбор слова по составу. Здесь нужны только факты и факты.
Особенно осторожным следует быть на заключительном этапе разбора, т. е. при определении в слове нечленимой основы, иначе говоря – присущего ему в данный момент корня. Будет совершенно неправильным выделение чего-то в качестве непроизводной основы, если выделяемое нами известно в настоящее время только в данном слове и ни в каком другом не встречается. Членя на морфемы слова, основа которых на первый взгляд, по подсказке нашего языкового чутья, является явно членимой, за этим нужно следить неукоснительно. Раз современное значение слова не складывается из значений предполагаемых в нем морфем, не ладит с семантикой предполагаемого исходного, значит, оно является уже корневым словом, словом с нечленимой основой и членимым только кажется.
Для того чтобы что-то можно было выделить в слове в качестве корня, надо, чтобы это «что-то» было (с абсолютно таким же значением) хотя бы в одном родственном слове, причем в таком, родственность которого анализируемому несомненна и ясна, так сказать, лежит на поверхности и опирается на современные (а не бывшие ранее) словообразовательные и смысловые связи и соотношения данной (а не какой-либо другой) языковой системы.
В заключение несколько слов о значении морфемного анализа слова для научного изучения словообразовательной системы языка в целом. М о рф е мн ы й анализ это первая ступенька в познании структурных особенностей слова, это элементарное членение словесного целого на составляющие его морфемы. Морфемный анализ ограничен пределами данного слова. Словообразовательное место этого слова среди других слов определяет уже с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й анализ. Он выступает всегда как промежуточное, но ключевое звено, объединяя в себе морфемный анализ наличных слов и изучение реальных процессов образования новых, т. е. разбор слова по составу и словообразование. Что касается определения родословной, происхождения и генетических связей слов, фразеологических оборотов и морфем, то этим занимается уже анализ э т и м о л о г и ч е с к и й.
Решите сами
Упражнения на выделение окончания
Задание 1. Укажите, какие слова из данных ниже имеют основу и окончание, а какие состоят из одной основы. В словах с окончанием выделите его и определите, какие функции оно выполняет.
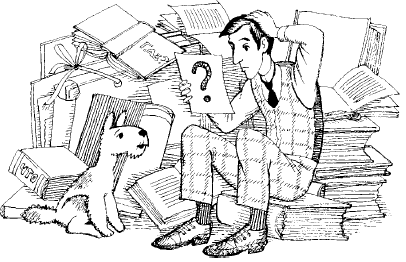
Домá, дом, домой, дóма, просто, зимой, вы, галочий, моюʼ, мóю, кораблю, колосья, свиней, двум, ешь.
Задание 2. Выделите в следующих далее словах окончания и определите, чем они отличаются друг от друга.
1) Ста, оба, города, дитя, вёсла, веслá, (острая) пила, пила (воду).
2) Чéрти, земли, сени, радости, несли.
Задание 3. Определите, отличаются ли по морфемному составу и, если отличаются, то чем, приводимые ниже слова.
1) Одно, танго, пальто.
2) Маша, Александра, Саша.
Задание 4. Определите (если оно есть) окончание в словах стол, сани, верно, ружье, линия, верхом, сел, три, лекций, перьев, брось, бросив, мы.
Задание 5. Выделите окончания в словах лисий, дам, ест, себя, колоколен, щей, щец.
Задание 6. Определите, чем разнятся окончания в словах вода – кума – плакса, портной – молодой – часовой.
Задание 7. Укажите окончание в словах пламя и пламень (ср. у Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой»).
Задание 8. Определите, отличаются ли, если отличаются, то чем, окончания в следующих парах слов: земля – соня, весной – весною, чая – чаю, сыны – сыновья, на дубу – на дубе, учители – учителя, костями – костьми.
Задание 9. Определите, какое окончание содержится в словах тот, сунь, нес (от сунуть и нести). Какие морфемы, кроме корня и окончания, в них выделяются?
Задание 10. Выделите окончания в словах триста, шестьсот, потусторонний, сумасшедший, повсеместный, пятиэтажка.
Ответы
Задание 1.
В существительном дома – по соотношению с домами, дому, домах, доме и т. д. – легко выделяется окончание – а им. п. мн. ч. В слове дом – по тем же основаниям – нулевое окончание им. п. ед. ч. (из древнерусского материально выраженного окончания – ъ).
В наречии домой окончания нет, чистая основа состоит из корня дом– и суффикса– ой (ср. (он уже) дома).
В дóма спрятано два слова разных частей речи – существительное дома (большого дома) с графическим окончанием – а (в произношении [ъ]) и наречие дóма, представляющее собой чистую основу без окончания и распадающееся на непроизводную основу и суффикс– а (в написании, звучит же здесь [ъ]).
Чтобы определить, есть ли и какое окончание в словах просто и зимой, надо установить, с какой частью речи мы имеем дело – с прилагательным, наречием или существительным. Прилагательное просто делится просто на непроизводную основу прост– и окончание– о (здесь и далее все морфемы с изменяющимися гласными даются уже только в графическом виде!). Наречие просто не менее просто делится на корень прост– и суффикс – о.
Аналогичное наблюдается с зимой: существительное зимой делится на корень зим– и окончание– ой, наречие зимой – на корень зим– и суффикс – ой (ср. домой).
В местоимении вы – по соотношению с вас, вам, вами, ваш и нас, нам, нами – выделяется корень в– и окончание – ы.
В прилагательном галочий – с учетом форм рода и косвенных падежей, а также аналогичных флексий в притяжательных прилагательных вообще (ср. сестрин, сестрина, сестрино и т. п.) – выделяется не окончание – ий, а нулевое окончание (в формах ж. и ср. р. – – а и – е) и непроизводная основа – с корнем галоч– и суффиксом – ий-, выступающим в других формах в виде (галоч-ј-его, галоч-ј-а и т. д.).
В глаголе мою выделяется окончание 1-го л. ед. ч. наст. вр. – у и непроизводная основа мой– (ср. мойка, мыть с чередованием ы – ой).
В местоимении мою выделяется окончание вин. п. ед. ч. – у (от моя) и основа мой-.
В существительном кораблю выделяется окончание– у и корень кораблʼ-.
В существительном колосья содержится окончание– а и основа колосʼj, членимая на корень колосʼ– и суффикс – j-
В слове свиней – по соотношению с свинья, свиньи, свиньями и т. д. (ср. кошка – кошек) – вычленяется нулевое окончание род. п. мн. ч. и основа свиней-, состоящая из корня
свин-здесь свиН-и суффикса – ей, варианта суффикса – j– (см. выше галочий).
В числительном двум выделяется окончание– ум (ср. два, двойной, двух и др.) и корень дв-.
В глаголе ешь, если это форма настоящего времени, выделяется (ср. ем, ест, едим и т. д.) корень – е и окончание 2-го л. ед. ч. – шь, а если это форма повелительного наклонения – корень е– и суффикс– шь с нулевым окончанием 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения.
Задание 2.
Во всех приведенных словах выделяется графическое окончание– а (в произношении – [а] под ударением и [ъ] в безударном положении). Однако везде эта флексия разная.
1) В числительном ста выделяется окончание – а [а] всех косвенных падежей ед. ч. в отличие от – о им. п. в сто. Формы множественного числа известны лишь в составе сложных числительных двести, триста, пятьсот и т. д.
В слове оба содержится окончание– а [ъ], указывающее 1) на именительный падеж (ср. обоих, обоим, обоими) и 2) на мужской род (ср. обе). Флексия – а в оба – по своей функции родопадежная.
В существительном города – два омографа: города и города. В первом выделяется окончание – а [ъ] род. п. ед. ч., во втором – окончание – а им. п. мн. ч.
В слове дитя находится окончание – ʼа им. п. ед. ч.
В слове вёсла – окончание – а [ъ] им. п. мн. ч., в слове весла – окончание – а род. п. ед. ч.
В омоформах пила (острая), пила (воду) вычленяется омонимическое окончание– а: в первом – им. п. ед. ч., во втором – ж. р. (ср. пил (воду) и т. д.).
2) В слове черти выделяется окончание– и им. п. мн. ч. В таких словах с конечным согласным звуком [т] оно является нерегулярным (ср. атеисты, баптисты, аббаты, архимандриты и т. д.).
В графеме земли – две формы с ударным окончанием – и род. п. ед. ч. и безударным окончанием им. п. мн. ч.
В строчке Я, царь земли, прирос к земли (Тютчев) рядом с современным окончанием род. п. ед. ч. наблюдается устаревшее окончание дат. п. ед. ч.
В слове сени (ср. сеней, сенях и др.) выделяется окончание – и им. п. мн. ч., не противопоставленное окончанию им. п. ед. ч., так как слово сени известно только в форме мн. ч. (оно является существительным pluralia tantum).
В омоформе радости – радости с окончанием им. п. мн. ч. (маленькие радости), радости с окончанием род. п. ед. ч. (никакой радости не испытывал), радости с окончанием дат. п. ед. ч. (к радости матери) и радости с окончанием предл. п. ед. ч. (о своей радости).
В слове несли выделяется числовое окончание– и, указывающее на мн. ч. прошедшего времени глагола.
Задание 3.
1) Морфемный состав существительных окно, танго, пальто (все среднего рода и предметной семантики) разный. В склоняемом существительном окно выделяется окончание– о и нечленимая основа, корень окн– (этимологически, правда, она производная: слово окно образовано посредством суффикса – ън– от око). Слово танго является несклоняемым, окончания не имеет и состоит поэтому из одной чистой основы.
Таким же в принципе является и слово пальто, однако в нем, хотя оно и не склоняется и не имеет окончания, при словообразовании– о ведет себя как окончание и отбрасывается: пальтецо, пальтишко.
2) В собственных именах Маша, Александра, Саша выделяется окончание– а [ъ]. Однако у всех этих слов оно разное по своему значению. В слове Маша окончание указывает лишь на им. п. ед. ч. (как в каша, простокваша, крыша и т. д.). В слове же Александра оно является не только флексией им. п. ед. ч., но и – по соотношению с нулевым окончанием (/) в Александр – суффиксом женского пола, иначе говоря, в именах Александра и Александр – а и () являются синкретической морфемой, одновременно выполняющей роль и суффикса, и окончания.
Что касается уменьшительно-ласкательного существительного Саша (производного с помощью суффикса – от частички имен Александр – Александра), то в нем вычленяется окончание– а [ъ] им. п. ед. ч. родоизменяемого существительного, иначе – слова общего рода.
Задание 4.
Слово стол делится на непроизводную основу стол– и нулевое окончание им. – вин. п. ед. ч., сани – на корень санʼ– и окончание им. п. ед. и мн. ч. (!) – и (ср.: единственные сани стояли у ворот, многочисленные сани гуськом двигались в гору).
Омоформа верно в зависимости от того, прилагательное это или наречие, членится соответственно на основу вер-н– и окончание– о или является чистой основой (вер-н) – о с суффиксом – о.
В слове ружье выделяется окончание – ё [о] и основа ружј-, в существительном линия – окончание а [ъ] и основа линиј-.
В омоформе верхом в наречии содержится чистая основа из корня верх– и суффикса – ом (ср. пешком с суффиксом – ком), в существительном непроизводная основа верх– и окончание тв. п. ед. ч. – ом.
В глаголе сел – по соотношению с села, сидели, сидение и т. д. – выделяется нулевое окончание м. р., которому предшествует суффикс прошедшего времени– л– и корень – се (из сед, ср. председатель, седло).
В числительном три (ср. трех, трем и т. д.) выделяется окончание– и. В существительных лекций, перьев соответственно вычленяются нулевое окончание () и окончание – ев (после основы перʼ-j-).
В глаголе брось выделяется нулевое окончание (ср. бросать), нулевым здесь (ср. бери) является и суффикс повелительного наклонения. Форма брось – трехморфемна: корень брось-, () суффикс, () окончание (см. подробней об этом выше).
В деепричастии бросив как слове неизменяемой части речи окончания нет, в чистой основе содержится корень бросʼ-и суффиксы– и-, – в.
В местоимении мы (ср. вы, вас, вам, нас, нам и т. д.) выделяется корень м– и окончание им. п. мн. ч. – ы.
Задание 5.
В слове лисий (ср. лисья, лисьего, сестрин, отцов и т. д.) нулевое окончание и производная основа (лисʼj-). Слово дам (ср. дашь, дать и пр.) выделяет нерегулярное, свойственое только глаголам окончание 1 – го л. ед. ч. – м.
Глагол ест – по соотношению с есть, ешь, едим, еда и т. д. – выделяет основу ес (чередование с/д подобно брести – бреду и т. д.) и окончание – т-. Окончание – т, а не – ет, – ит здесь исторически объясняется тем, что глагол есть является атематическим, где флексия непосредственно присоединялась к корню и тематического суффикса между корнем и окончанием не было.
В местоимении себя (ср. собой, себе и т. д.) – окончание – я [ʼа], перед которым находится непроизводная основа с перегласовкой е/о.
В существительном колоколен – нулевое окончание род. п. мн. ч., перед которым находится производная основа с суффиксом – ен-, ср. – ьн(я).
В слове щей – окончание – ей, в слове щец – нулевое. Слово щец – род. п. мн. ч. от ум. – ласк. щци, произведенного посредством суффикса (> – ец-, ср. дверцы) от щи.
Задание 6.
В словах вода – кума – плакса, кроме основы, выделяется графически одно и то же окончание– а. Но во всех этих существительных оно разное: в слове вода окончание – а ударное, в слове плакса – звучит уже как [ъ]. Что касается окончания – а в кума, то оно по значению такое же (ср. кум), как в Александра (см. выше), поскольку оно указывает не только на им. п. ед. ч., но и на женский пол обозначаемого лица.
В словах молодой – часовой – портной выделяется как будто одно и то же окончание– ой, но оно по своему значению очень разное. В прилагательных молодой (учитель), часовой (механизм) – ой является простым окончанием (ср. молодая жена, часовая стрелка).
В существительных же часовой, молодой, портной это окончание иное. В слове часовой перед нами – окончание им. п. ед. ч. существительного, и только. В словах молодой и портной – ой является синкретической словоформообразующей морфемой, указывающей (как окончание) на им. п. ед. ч. и одновременно (как суффикс) на мужской пол обозначаемого лица (ср. молодая, портниха).
Задание 7.
В параллельных пламень – пламя окончаниями соответственно являются (ср. пламени, пламенами и пр.) нулевое () и окончание – я, которым предшествует в первом случае суффиксальная основа с– ен, как в других формах, а в другом бес-суффиксная основа. Бессуффиксная основа и соответствующее окончание могут наблюдаться у этого слова в первой половине XIX в. и в других (косвенных) падежах: Из пламя и света рожденное слово (Лермонтов).
Задание 8.
В паре земля – соня графически одно и то же окончание отличается звучанием ([а] – в первом слове, [ъ] – во втором). В паре весной – весною вариантные окончания тв. п. одного и того же слова отличаются стилистически: второе известно преимущественно в книжной стихотворной речи и используется для версификационных целей.
В паре чая – чаю окончание– у используется в разговорной речи для выражения количественно-разделительного значения (ср. сбор чая, но чашка чаю).
В паре сыны – сыновья выделяются окончания– ы в сыны-и – а в сыновья. Первое характерно для высокого стиля.
Окончания – у и – е в на дубу и на дубе также отличаются стилистически: первое воспринимается как разговорное.
Окончания– ʼа и – и в учителя – учители, если второе употребляется, дифференцируют значения «преподаватель» и «человек большого авторитета, имеющий своих последователей, школу».
В формах костями – костьми выделяются вариантные окончания– ами и – ми. Они отличаются свободным и фразеологически связанным употреблением слова кость (ср.: Собака старательно занималась брошенными ей костями и Лечь костьми в бою).
Задание 9.
Определение окончания в слове тот возможно при сравнении этой формы с формами косвенных падежей, родовыми формами и существующим в русском языке флексийным инвентарем. Формы тот, то, та, того, тем как будто заставляют выделить в тот нерегулярное окончание– от-. Однако такого нет и, главное, никогда не было. В то же время местоимения, имеющие родовые формы, вроде весь, вся, все, сам, сама, само и т. п., ясно указывают на наличие в таких словах м. р. в им. п. ед. ч. нулевого окончания. Это позволяет его выделять и в слове тот.
Только основа здесь осложненная тот(). Но такие случаи встречаются нередко, ср.: пламени, матерями, телята и т. п. Кстати, по происхождению тот < тътъ является удвоением древнего «обычного» тъ.
Окончание в глаголе сунь будет такое же, как в брось (см. выше, ответ на задание 4). Только морфемный состав у него будет больше: корень су– (ср. совать), суффикс – н– (ср. воздвигнешь), нулевой суффикс повелительности и нулевое окончание ед. ч.
В слове нес – по соотношению с несла, несли – выделяется нулевое окончание, указывающее на ед. ч. м. р., и нулевой суффикс прошедшего времени. Таким образом, в словах несла, несли, нес состав складывается из трех морфем: нес-л(а), нес-л(и), нес-()().
Задание 10.
Во всех перечисленных словах, кроме числительных, имеется два разных окончания, из которых одно (настоящее, присущее этому слову) находится на конце слова, а другое (доставшееся данному слову по наследству от одного из производных слов) – внутри.
Это внутреннее окончание для целого слова не является его категориальной флексией, но при морфемном анализе оно выделяется.
В слове потусторонний – это – у и – ий: (по-т-у-сто-рон) – н(ий). Это прилагательное – суффиксальное производное от сочетания по ту сторону.
В слове сумасшедший – это– а и – ий: с-ум-а-с-шед-ш(ий). Это существительное является сращением словосочетания с ума сшедший.
В слове повсеместный – это – ем и – ый: по-вс-ем-мест-н(ый). Это прилагательное – суффиксальное производное от сочетания по всем местам (с аппликацией м окончания на м корня).
Существительное пятиэтажка содержит окончания– и и – а: (пят-и-этаж) – к(а). Оно образовано посредством суффикса – к(а) – ср.: трехлетка, осьминог и т. д. – на базе сочетания дом пяти этажей.
Особняком стоят числительные триста, шестьсот, в которых тоже два окончания, но они оба самостоятельные равноправные флексии в этих сложных словах, где склоняются обе части: тр-и-ст-а, шесть-() – сот(), ср.: тремстам, шестистам и пр.
Упражнения на определение морфемного состава основы
Задание 1. Определите, как – линейно, одна за другой, или апплицированно, накладываясь одна на другую, – располагаются морфемы в словах переоформить, розоватый, приеду, приду, встать, пнуть, отворить, летопись.
Задание 2. Назовите, сколько морфем в следующих далее парах слов, охарактеризуйте их.
Вынес и вынесли; белочка и баночка; комочек и замочек; разувериться и разбежаться; розовое (варенье) и розовое (платье).
Задание 3. Назовите, какие служебные морфемы выделяются в следующих словах.
Суперобложка, расчехвостить, регресс, сухофрукты, игротека, по-хорошему, волнистый, волнообразный, лентяй, озадачить, силком, пирожковая, обезболивание, обеспокоить, трезвон, треножник, прилуниться, космовидение.
Задание 4. Определите, какие суффиксы выделяются в перечисленных далее словах, какое значение они имеют.
1) Шиповник, виновник, церковник, тутовник, словник.
2) Бочка, звездочка, трубочка, юбочка, дочка, одиночка, заточка.
Задание 5. Назовите, какие приставки содержатся в словах слетать – сформировать – стесать; одурачить – окутать – одеть.
Задание 6. Определите, в каких словах, из данных ниже, выделяется непроизводная основа, а в каких – производная. Укажите, из каких морфем состоит производная основа.
Провести, врач, сотоварищ, наклейка, шило, бронхит, столетие, засуха, нельзя, эгоизм, диктант, поддакивать, удочка, созвездие, перекур, золото.
Задание 7. Определите корень в данных словах. Разуть, заснуть, начнут, разъехаться, ушла, переел, мной, ихний, никто, сожжение, безработный, навсегда.
Задание 8. Разбейте данные слова на морфемы и укажите последовательность их присоединения к корню с помощью словообразовательной формулы.
Очаровательность, перевыполнить, сладкоречивый, возгордиться, немотивированный, переподготовка, кровопролитие.
Задание 9. Определите, чем в структурном отношении отличаются данные слова.
1) Бодрый – мокрый, опешить – обожать, богатый – рогатый.
2) Жена – супруга, терка – порка – шторка – утка – пешка, теплушка – пастушка.
Задание 10. Выделите корень в словах перегнуть – перегибать, измятый – изомнешь, пришла – ушедший – уходил – пришел, присед – сидеть – усаживаться – сесть – сяду, беру – добрать – сборище.
Задание 11. Определите морфемный состав следующих слов.
Осточертеть, идемте, вековечный, соловей, славяноведение, паводок, бахвалиться, женитьба, грязеводолечебница, кофейник, трижды, разглагольствовать.
Задание 12. Определите, чем по своему морфемному составу различаются слова митинг, лидер, тренинг, брокер, фольклор в русском и английском языках.
Задание 13. Определите, в чем различие и сходство в морфемном составе родственных в русском и немецком языках следующих слов.
Ты – du, галстук – Halstuch, бутерброд – Butterbrot, космический – kosmisch, рюкзак – Rucksack, гость – Gast, горнист – Hornist, лежать – liegen.
Задание 14. Покажите, как делятся основы однокорневых приведенных ниже слов в русском и французском языках.
Музыкальный – musical, национальность – nationalité, футболист – footballeur, тротуар – trottoir, гербарий – herbier, героизм – héroïsme.
Задание 15. Определите, какой основой – производной или непроизводной – являются слова финиш, Finisch, finish, finish; котенок, Kätzchen, chaton, kitten в русском, немецком, французском и английском языках, чем они различаются в структурном плане.
Ответы
Задание 1.
В глаголе переоформить морфемы располагаются линейно и обособленно, не накладываясь друг на друга: пере[о-форм-и(ть)]. Словообразовательный процесс шел таким образом: форма – оформить – переоформить. Глагол оформить выступает как производное от существительного форма с помощью одновременного присоединения о – и(ть). Образование о – и(ть) представляет собой один из видов циркумфикса, единой биморфемы с дистантно расположенными частями, генетически представляющими собой приставку о-и суффикс – и(ть). С помощью циркумфикса (термин образован по аналогии с терминами суффикс, префикс, инфикс от лат. circus «круг») слова образуются «окружением» производящей основы, как рамкой, с обеих сторон (см. ниже по – ому в по-хорошему, па – ок в пасынок, при – и(ться) в прилуниться и т. д.).
В прилагательном розоватый (слегка розовый) суффикс неполноты проявления качества– оват– (ср. красноватый, беловатый, зеленоватый и т. д.) частично апплицировался на – ое– производящей основы розов(ый), кстати, уже непроизводной, несоотносительной со словом роза (ведь розы могут быть даже черными): розоватый (см. подробно об этом выше с. 232 и след.).
Слово приеду делится на при-[е-д(у)], морфемы в нем располагаются друг за другом (ехать – еду – приеду). А вот в близком ему тоже глаголе движения приду приставка прилегла на корень– и-. Формула этого слова может быть обозначена так: при-д(у) (ср. уйду, иду).
Суффикс – д– выделяется в этом слове как показатель основы настоящего времени (ср. пройти; см. ниже о глаголе разойтиться).
Глагол встать имеет несколько значений и в зависимости от семантики в нем мы находим то линейное, то апплицированное расположение морфем в слове. Слово встать в значении «подняться вверх» (ср. взлететь, вспорхнуть и т. д.) делится на три морфемы: приставку вс-, корень– ста– и инфинитивное – ть, две первые частично накладываются друг на друга: вста(ть).
Слово встать в значении «поместиться» (в этот угол этот шкаф не встанет) тоже делится на три морфемы, но иначе: в-ста(ть).
Апплицированно располагаются морфемы в глаголах пнуть и отворить. По соотношению с пинать, стукнуть в пнуть выделяются корень пн-, суффикс однократности– н-, суффикс инфинитива – у– и инфинитивное окончание – ть.
Часть корня (н) совместилась с суффиксом – н-. По соотношению с затворить, притворить в отворить мы должны с точки зрения современного языкового сознания выделить от-твор-и(ть) со слиянием конца приставки и начала корня.
Правда, в этимологическом плане здесь все не так; именно этот глагол послужил источником первоначально ошибочной трактовки его и ему родственных. Исходно он делился на приставку от-, корень – вор– и суффикс – и(ть) (ср. однокорневые диал. завóрина «засов», ворота* < vorta и др.).
Наконец, существительное летопись «погодовая запись». В нем морфемы идут одна за другой отдельно: лет-о-пись(). Корни лет– и писʼ– выделяются с учетом значения этого слова (погодовая запись) и супплетивности форм год – два года – пять лет, многолетие и т. д., где лето – «год», а не «лето».
Задание 2.
В формах вынес и вынесли по четыре морфемы: вы-несл(и), вы-нес-()-() (с нулевыми суффиксом прошедшего времени и окончанием мужского рода).
В словах баночка и белочка соответственно три и четыре морфемы: баноч-к(а) и (бел-оч) – к(а). Корень бел– связанного характера, существующий только в соединении с разными суффиксами, выделяется по соотношению с прилагательным беличий.
В слове комочек мы выделяем корень ком-, суффиксы– оч-(-ок-) и – ек(-к); в слове замочек – корень замоч– (замок) и суффикс – ек – связь с замкнуть, отомкнуть этим существительным уже потеряна. Глагол разбежаться делится на раз-[беж-а(ть)]-ся с циркумфиксом раз – ся (бег – бежать – разбежаться). Глагол разувериться делится на [раз-/у-вер-и(ть)/]-ся (вера – верить – уверить – разуверить – разувериться).
В прилагательном розовое (варенье) три морфемы: корень роз-, суффикс– ов– (ср. малиновое (варенье) и т. п.) и окончание – ое. В прилагательном розовое (платье) – две: непроизводная основа розов– и окончание – ое (см. выше задание 1).
Задание 3.
В слове суперобложка, кроме корня– лож-, выделяются приставки супер– и об-, суффикс – к– и окончание – а: супер-[(об-лож) – к(а)].
В глаголе отчехвостить содержатся приставки от– и че-, корень– хвост– и суффикс – и(ть). Этот глагол возник на базе сочетания (отхлестать) и в хвост, и в гриву (приставка че– < *ке, с чередованием е/о – ко– в колупать; отмечается в отчекрыжить, диал. челýска «шелуха», родственном лускать (семечки) и т. д.).
В существительном регресс выделяются две служебные морфемы: нулевое окончание им. п. ед. ч. и приставка ре– (ср. прогресс, реорганизация). Корень– гресс– является связанным, так как вместе с окончанием слова не образует и отмечается лишь в словах-антонимах прогресс и регресс.
В слове сухофрукты, образованном сложением с помощью соединительного о на базе сочетания сухие фрукты, выделяются, кроме корней, соединительная гласная (интерфикс) о и окончание– ы.
В слове игротека по соотношению с существительным игра вычленяется (кроме корня игр-) окончание– а(ъ) и суффикс – отек-, который содержится также в словах фильмотека, дискотека и др. Деление этого слова на игр-о-тек(а) неверно, так как звукосочетание тек в качестве корневой морфемы ни в каком другом слове русского языка не выделяется (слово teke «склад» известно лишь в древнегреческом языке).
В наречии по-хорошему выделяется корень хорош– и циркумфикс (см. выше) по – ому, ср.: по-доброму, по-старому и т. д.
В прилагательном волнистый, кроме непроизводной основы волн-, выделяется суффикс ист– и флексия– ый. Та же флексия выделяется в прилагательном волнообразный, где мы имеем корень волн-, интерфикс – о– и суффиксоид – образн-, равнозначный суффиксу – ист– в волнистый. В слове волнообразный выделяется уже не полнокровный корень конкретного значения образ– с суффиксом – н-, а суффиксоид, т. е. корень абстрактно-суффиксальной семантики (ср. крестообразный, шарообразный, желеобразный и т. д.).
В слове лентяй перед нулевым окончанием им. п. ед. ч. выделяется так называемый нерегулярный суффикс– тяй. Его сейчас нет ни в каком другом слове. Образовано же оно (о чем говорит уже этимологический анализ) с помощью суффикса – яй от слова лента «лентяй», в диалектах еще известного.
В глаголе озадачить выделяется циркумфикс о – и(ть), вобравший внутрь себя непроизводную основу– задач– (ср. объегорить и т. д.).
В наречии силком – по соотношению со словом сила – выделяется суффикс– ком, ср. пешком (о происхождении слова силком см. выше).
В существительном пирожковая, кроме корня пирож– (пирог), выделяются суффиксы– к(-ок-), – ов– и синкретическая морфема суффикс-окончание – ая, указывающая как на помещение (ср. шашлычная, рюмочная, пивная и т. д.), так и на им. п. ед. ч.
Существительное обезболивание выделяет циркумфикс обез-и-, корень боль-, суффиксы – ва-, – ниј– и окончание – е (боль – обезболить – обезболивать – обезболивание, ср. обескровить и др.).
Иным будет деление на морфемы обеспокоить: покой – беспокоить – обеспокоить: о[бес-покой-и(ть)].
В существительном трезвон «сильный звон» выделяется приставка тре-, корень– звон и нулевое окончание им. п. ед. ч.; ср. треволнение «сильное волнение».
Иным будет морфемное строение слова треножник, где тре– является не усилительной приставкой, а сочетанием корня тр– и соединительной гласной е: три ноги – тренога – треножник.
Глагол прилуниться содержит полиморфемный циркумфикс при-и(ть)ся и непроизводную основу лун(а); ср.: приводниться, примарситься. В слове космовидение, кроме двух корней – косм– (ср. космический) и виЗ– и интерфикса о, суффикс– ениј– и окончание – е.
Задание 4.
В первой цепочке слов у существительных – по соотношению с производящими словами – выделяются: предметный суффикс– овник в шиповник («растение с шипами»); суффикс лица – ник (церковь – церковник); предметный суффикс – ник, не меняющий значения исходного слова (тут – тутовое дерево – тутовник); предметный суффикс собирательного значения – ник (слово – словник, ср. словарь).
Во второй цепочке слов выделяются суффиксы: – к(а) (бочка – бочонок, со связанным корнем боч-); – очк(а) (звездочка – звезда); – к(а) (трубка (труба) – трубочка); – к– (юбочка – юбка); – к– (дочка – дочь); – к– (одиночка – одинокий); – к– (заточка – заточить). Но все эти суффиксы являются омонимичными. В словах дочка, юбочка, трубочка суффикс– к(а) – уменьшительно-ласкательный, как и суффикс – очк(а) в слове звездочка; в слове бочка – суффикс – к(а) – предметный; в слове заточка – суффикс – к(а) имен действия; в слове одиночка – предметный суффикс – к(а), образующий слова на базе сочетаний прилагательного и существительного (ср. одиночная камера – одиночка, одинокая женщина – одиночка, бетонная дорога – бетонка, фугасная бомба – фугаска и т. д.).
Задание 5.
Во всех трех глаголах первой цепочки выделяется приставка с-, но везде она разная. В глаголе слететь она имеет значение «вниз» (ср. бежать с горы, сбросить с крыши и т. д.); в слове сформировать она является приставкой, образующей глагол совершенного вида (ср. делать – сделать, вязать (свитер) – связать (свитер) и др.); в глаголе стесать приставка имеет семантику удаления (ср.: сорвать (ягоды), сдвинуть (в сторону) и пр.).
Во всех глаголах второй цепочки содержится приставка о-. Но так же, как и в глаголах на с-, она разная: в глаголе одурачить это приставка совершенного вида; в слове окутать она имеет значение «со всех сторон, кругом, вокруг» (ср. охватить, огородить и др.); в слове одеть она предшествует связанному корню– де-, существующему только в соединении с приставками о-, раз-, на-.
Задание 6.
В словах врач, шило, нельзя, золото основа является непроизводной, поскольку соотносительной непроизводной для них сейчас нет. Слова врать, шить, зеленый с этими словами сейчас уже не соотносятся, хотя этимологически они с ними связаны. Слово льзя, от которого было образовано нельзя, уже устарело.
В остальных словах основа является производной и делится так: про-вес(ти) (ср. вести, вел, приведение); со-[товар-ищ()] (ср. товарищ, товарка); (на-клей) – к(а) (наклеить, клей); бронхит() (ср. бронхи); за-сух(а) (ср. сушь, сухой); эго-изм() (ср. эгоист); дикт-ант() (ср. диктовать); (под-да-к) – ива(ть) (ср. поддакнуть, да).
Задание 7.
В слове разуть корень– у-, он выделяется в нем по соотношению с родственными обуть, обувь.
В глаголе заснуть – корень– сн-. Корневое н апплицировалось на суффикс – н– (ср. заснешь, уснем, сон, засыпать – заснуть, прыгать – прыгнуть).
В слове начнут (ср. начинают, прыгнут, начало, зачин, поведут и др., см. выше) выделяется приставка на-, корень – чн-, суффикс однократности – н-, который наложился на корневое н, и окончание – ут.
В глаголе разъехаться корнем является – е– (ср. ехать, едут, езда).
В слове ушла корень – ш– (-у-приставка, – л-суффикс,
– а – окончание ж. р.).
В глаголе переел – корень – е-(-ед-) (ср. ел, ем, едим, еда).
В местоимении мной корень мн– (ср. меня, мне и т. д.).
В просторечном слове ихний корень и-, за которым следует «внутреннее» окончание – х (ср.: от они – их, ими), суффикс– нʼ-, окончание – ий.
В местоимении никто (ср. никого, никому) корнем с точки зрения современного сознания является– к-, хотя исходно здесь два местоименных корня – к– и – т-, поскольку слово кто этимологически – сложение местоимений къ и то (см.: Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. М., 1994. С. 158).
В существительном сожжение (ср. сжигать, поджог, жгу, жженка и т. д.) корень– жж-.
В существительном безработный («человек без работы») корень– работ-.
В наречии навсегда корень – вс– (на-приставка, – егда —
суффикс, ср. никогда, иногда).
Задание 8.
Словообразовательные формулы выглядят так: {[0-(чар-ов-а)]-тельн}-ость(), недо-[вы-полн-и(ть)], (сладк) – о-(реч-ив)ый(), воз-[горд-и(ть)ся], не-[(мотив-иров-а) – нн(ый)],
[пере-(под-готов)]-к(а), кров-о-[(про-ли) – тиј(е)].
Задание 9.
1. Прилагательные бодрый – мокрый отличаются друг от друга характером основы: в бодрый она непроизводная, в мокрый она производная и состоит из корня мок– и суффикса– р-(ср. мокнуть, намокший).
В глаголе опешить производная основа состоит из корня и суффикса: опеш-и(ть); в глаголе обожать производная основа состоит из корня– бож– (Бог) и циркумфикса о-а(ть).
В слове богатый основа непроизводная, в слове рогатый состоит из корня рог– и суффикса – ат(мй).
В словах богатый, бодрый основа является непроизводной потому, что сейчас значение этих слов не выводится из семантики слов Бог, бдеть.
2. В паре синонимов жена – супруга морфемный состав, на первый взгляд абсолютно одинаковый: корень + окончание– а [а, ъ]. Но, помимо звучания, окончания в этих словах отличаются друг от друга и своей разнофункциональностью: в слове жена – а [а] – простая флексия им. п. ед. ч., в слове же супруга – а [а] является уже синкретической формословообразую-щей морфемой, указывающей и на им. п. ед. ч., и на женский пол (ср. у А. С. Пушкина: А что же делает супруга Одна в отсутствии супруга? где омоморфемы-а им. п. ед. ч. и – а род. п. ед. ч. от супруга – супруги и супруг – супруга совпадают и образуют каламбур).
В ряду терка – порка – шторка – утка – пешка – пастушка – теплушка во всех словах, кроме существительных пешка и теплушка, где в первом – основа непроизводная, а во втором – по соотношению со словом теплый выделяется суффикс– ушк(а), содержится омонимический суффикс – к(а): в слове терка – это суффикс предмета, в слове порка – это суффикс действия, в слове шторка – это уменьшительно-ласкательный суффикс, в слове утка – это предметный суффикс при связанном корне ут– (ср. утиный), а в слове пастушка – это суффикс женского пола.
Задание 10.
В словах перегнать – перегибать выделяется корень– г – гиб– (сгибать, гнет); в словах измятый – изомнешь – корень – мя– – мн– (мять, мнешь); в словах приходил, пришла, ушедший, пришел – ход– ш– – шед– – ше– (ходят, шедший); в словах присел – сидел – сесть – сяду – усаживаться – корень – сел – сид– сес– сяд– – саж-; в словах беру, добрать, сборище – корни бер– – бр– – бор-.
Задание 11.
В слове осточертеть, как образованном от фразеологизма надоесть как сто чертей и до сих пор с ним соотносительном, вычленяются морфемы о-(ст-о-черт) – е(ть).
В слове идемте содержатся корень и-, суффикс основы настоящего времени– д-, окончание – ем и пофлексийный суффикс вежливости – те.
В слове вековечный дважды выделяется один и тот же корень век-/веч-, соединительное – о-, суффикс – н– и окончание– ый (слово образовано от оборота на веки веков, и эта связь с ним у прилагательного сохраняется и сейчас).
В существительном соловей по соотношению с соловушка вычленяется корень солов-, суффикс– ей-/-]– (ср. соловьиха) и нулевое окончание им. п. ед. ч.
В существительном славяноведение выделяется корень слав– (ср. славист «специалист в области славяноведения»), суффикс – ян-, интерфикс – о– и суффиксоид– ведениј(е) (ср. человековедение, обществоведение, литературоведение и т. д.). Последний восходит к слову ведение, соотносительному с глаголом ведать «знать» (вед-ениј)е().
В слове паводок выделяется корень– вод– (ср. вода) и циркумфикс па – ок (ср. пасынок).
В глаголе бахвалиться вычленяется приставка ба-, корень– хвал-, суффикс – и(ть) и усилительное – ся (ср. стучать – стучаться): ба-[(хвал-и(ть) – ся)].
В слове женитьба выделяется корень жен-, суффикс основы инфинитива– и-, инфинитивное окончание – ть, суффикс действия – б– (ср. борьба, косьба и др.) и окончание – а. Морфемная особенность этого существительного в том, что суффикс действия следует за инфинитивным – ть, чего в других словах не наблюдается. Это объясняется тем, что в действительности слово женитьба образовано от существительного женитва «женитьба» (с абстрактным суффиксом – тв(а).
Слово грязеводолечебница содержит три корня – грязʼ-, – вод– и– леч– (ср. лечить), два интерфикса – е– и – о-, суффиксы – ебн– (ср. лечение, врачебный), – иц– (ср. больница) и окончание – а [ъ]: гряз-е-вод-о-[(леч-ебн-) – иц(а)].
В слове кофейник основа состоит из корня кофе– и суффикса– йник как аллоформы суффикса – ник (образовано оно, кстати, посредством – ник от старого кофей).
В слове трижды (ср. три, трех, дважды) выделяются корень тр-, «внутреннее» окончание – и– и суффикс– жды.
Глагол разглагольствовать (если помнить о слове глагол в значении «слово», ср. у А. С. Пушкина: Глаголом жги сердца людей) можно разделить на раз-глаголʼ-ств-ов-а-ть (ср. разглагольствую с суффиксом– ств-у– – чередование ов/у – и суффиксом основы настоящего времени j перед окончанием – у).
Задание 12.
В слове митинг основа непроизводная; в существительном meeting она – по соотношению с to meet «сходиться, собираться» – делится на корень теег– и суффикс– ing.
Слова тренинг, training и в русском, и в английском языках имеют производную основу, содержа в себе корень трен-, train – и суффикс– инг, – ing. Но в английском языке корень train– является свободным – to train «обучать, тренировать», в русском языке в англицизме тренинг (ср. тренер, тренировка) он (в виде трен-) является связанным.
То же наблюдается и в слове лидер (ср. лидировать); в англ. leader, тоже выделяя суффикс – er, имеет не связанный, как в русском лидер (лид-), а свободный корень lead– (Ко lead «вести, управлять, руководить»).
Новый в русском языке англицизм брокер содержит непроизводную основу, в английском broker «маклер, посредник» соотносится с broking «маклерство, посредничество» и выделяет связанный корень brok– и суффикс – er.
Такое же положение можно отметить и относительно существительного фольклор. Непроизводное в русском языке, в английском оно осознается как сложное, образованное на базе folk «люди, народ» и lore «знание, искусство».
Задание 13.
В обоих местоимениях du и ты корень состоит из одного звука – d и– т-, – u и – ы являются окончаниями (ср. dir, deine, тебе, тобой).
Слово галстук имеет непроизводную основу, а немецкий «прототип» Halstuch «шейный платок» имеет сложную основу, состоящую из двух слов Hals «шея, горло» и Tuch «платок». Но немецкое Halstuch по преимуществу обозначает шарф, косынку, а в значении «галстук» чаще употребляется синоним Krawatte.
Прилагательное космический, как и его немецкий синоним, трехморфемно: косм-, – ическ(ий) (ср. космос) (ср. Kosmos, kosmische «космическая»). Разница между ними в характере флексий: в русском перед нами – материально выраженное окончание– ий, в немецком – нулевое.
Слова гость – Gast, горнист – Hornist идентичны по морфемному составу: в первой паре корень и нулевое окончание, во второй один и тот же корень и суффикс, за которым следует одинаковое нулевое окончание.
Глагол лежать делится на леж-а(ть), немецкое liegen на lieg-en.
Существительные рюкзак и бутерброд в русском языке являются словами с непроизводной основой. В нем. Rucksack, Butterbrot осознаются как сложные (R?cken «спина», Sack «мешок»; Butter «масло», Brot «хлеб»).
Задание 14.
Основа прилагательных музыкальный, musical делится на музыкальн(ый), music-al(); существительных национальность, nationalité – на (национальн) – ость() (ср. нация), (nation-al)-ite, футболист, footballeur – на футбол-ист-(), footballeur (в англ. football членится на foot и ball).
Слово тротуар в русском языке является словом с непроизводной основой, франц. trottoir по соотношению с trotter «ходить, бежать» хотя и с трудом, но членится на корень trott– и суффикс – oir.
Слово гербарий в русском языке непроизводное. Основа франц. herbier – по соотношению с herbe «трава» делится на корень herb– и суффикс – ier. Слова героизм, heroism имеют в обоих языках производную основу, но по своему морфемному составу разнятся (ср. герой, heros).
Задание 15.
Во всех перечисленных языках у слова финиш и др. основа производная и делится на корень фин– и суффикс– иш, однако только во французском перед нами свободная непроизводная основа (ср. fin «конец»), в остальных она связанная (финальный, англ. final «конечный», нем. final «финальный»).
Слова котенок и ему синонимичные в английском, французском и немецком языках членятся в своей основе на один и тот же корень и суффиксы – chen, – on, – en.
__________________________
При проведении словообразовательного анализа следует: 1) соблюдать указанный в учебнике план словообразовательного разбора;
2) внимательно рассмотреть данное слово на фоне одно-структурных;
3) не упускать из виду значения и характер явлений, выделяемых в качестве базы деривации и ее конкретной разновидности;
4) особое внимание обращать на случаи, казалось бы, альтернативных решений;
5) в особенно трудных и сложных случаях обращаться к соответствующим словарям.
Эвристические задачи по деривации
Задание 1. Попытайтесь определить, как – в результате словообразования или посредством единого акта словопроизводства – возникли следующие далее слова. Если они образованы каким-либо способом словопроизводства, укажите, каким именно.
Здравомыслящий, зернохранилище, столпотворение, перегибать, зубоскал, заблагорассудится, сногсшибательный, по-братски, чуть-чуть, до упаду, тотчас, вековечный, зимой (не летом), столовая, цимлянское, скоростной, скоропортящийся, долгожданный, долгорукий, надомница.
Задание 2. Определите, в результате какого типа словопроизводства – прямого или обратного – появились слова дояр, доярка, вдохновение, вдохновить, пускать, фляжка.
При решении используйте «Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов» Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой (3-е изд. М.: Дрофа, 2000).
Задание 3. Поясните, как были образованы слова каша, винегрет, окрошка – в значении «путаница, мешанина»; страшно, жутко, ужасно – в значении «очень»; море, река, потоки (слез) – в значении «очень много».
Задание 4. Укажите, каким морфологическим способом словопроизводства образованы следующие слова.
Белочка, лампочка, понаговорить, запуск, разливать, СМИ, телешоу, плащ-палатка, садовод, половодье, треволнение, суглинок, досрочный, солнцезащитный, распад, подстаканник, шапка-ушанка, взрыв, спец, неуд, литературоведение, водопроводчик, головокружение, путь-дорога, аморально, распродажа, выпускница, тошнотворный, РАН, ваучеризация, забытый.
Задание 5. Определите, какие слова образованы с помощью циркумфикса, а какие – суффикса или приставки.
Нришкольный, непромокаемый, выдвиженец, обеспокоить, обессилеть, соразмерность, соискательница, по-человечески, срезаться, сработаться, выработка, выбросить, вжиться, повернуться, непроходимый, переоформить, прикарманить, прилечь, побережье.
Задание 6. Установите, к какой разновидности слов, образованных сложением, относятся следующие лексические единицы.
Снегопад, ГОСТ, СНГ, космовидение, диван-кровать, собес, зоосад, железнодорожный, ЧП, загс, вуз, руки-ноги, отец-мать, самбо, завуч, медсестра, водоснабжение, корпункт, сельскохозяйственный.
Задание 7. Определите, с помощью какого способа словопроизводства образованы данные слова.
Атомоход, головокружение, черноморец, редколесье, квартплата, лермонтовед, шагомер, орденоносец, кожимит, ТЭЦ, рация, игротека, космонавт, Каспий, блинная, волнообразный, обезболить, удаль, контра, боеголовка, обнадеживать, заинтересовать, многонациональный, зарубежье, НИИ, повзводно.
Задание 8. Определите, посредством суффикса или приставки образованы следующие слова.
Разбрасывать, рассердиться, аполитичный, пригород, приморье, вооружаться, безграмотный, неграмотный, поинтересоваться, погрузиться, безотказно.
Задание 9. Определите, на базе какого фразеологического оборота и как образованы данные ниже слова.
Заполярье, осадки, смотаться «убежать», неформал, демисезон, песок, электричка, осточертеть, взбелениться, перегибать, насобачиться.
Задание 10. Определите, по какой модели, как и на базе чего образованы приведенные ниже индивидуально-авторские неологизмы.
Я опьянен, я очарован. Короче – я огончарован (Пушкин); толкастика (Чехов); полуподлец, полуневежда (Пушкин); бездарь (Северянин); громокипящий (Тютчев); тарел (Вознесенский); русал (Нагибин); головотяп (Салтыков-Щедрин); нимф (Ильф и Петров); спаха (А.Белый).
Задание 11. Определите, каким способом словопроизводства созданы приведенные ниже неологизмы В. Маяковского.
Пошляпно, щен, бегня, бредь, калекши, косоного, провитязь, раздождиться, нянь, щекопузье, юбилеить, боксеровидный, вкресленный, гора-вулкан, жизнестроение, заграничник, зыч «сильный крик», легендарь «все легендарное» (со-бир.), ор «крик», плоскокрыший, работца, рай-страна, слово-пады, стихозы, стрезветь, фырком, экспрессионер.
Ответы
Задание 1.
Слова здравомыслящий, заблагорассудится, до упаду, тотчас, скоропортящийся, долгожданный, сегодня возникли в результате словообразования, путем постепенного слияния сочетания слов в одну лексическую единицу: здраво мыслящий > здравомыслящий, скоро портящийся > скоропортящийся, долго жданный > долгожданный, за благо рассудится > заблагорассудится, тот час «время» > тотчас, сего «этого» дня > сегодня, до упаду «падения» > до упаду (слово до упаду по традиции до сих пор пишется раздельно, хотя является уже – как дотла, например, – не предложно-падежной формой, а целостной лексической единицей). Остальные слова являются результатом словопроизводства.
Существительное зернохранилище образовано сложением полных основ хранилище зерна с помощью соединительного гласного о.
Слово столпотворение «суматоха, неразбериха» возникло с помощью лексико-семантического способа словопроизводства на базе оборота вавилонское столпотворение, путем эллипсиса прилагательного и конденсации значения всего оборота на существительном. Таким же способом образованы перегибать, столовая из перегибать палку, столовая комната.
Слово зубоскал образовано основосложением на базе скалить зубы с интерфиксом о (основы могут располагаться и в обратном порядке – скалозуб).
Прилагательное сногсшибательный, содержащее, кроме– ый, внутреннее нулевое окончание ног(), образовано посредством суффикса тельн– на базе словосочетания с ног сшибать (ср. потусторонний).
Наречие по-братски – циркумфиксное образование от братский (с помощью циркумфикса по – и).
Слово чуть-чуть – сложение, образовано удвоением производящего слова (ср. только-только, голубой-голубой).
Слово вековечный – сложносуффиксальное производное на базе фразеологизма на веки вечные.
Наречие зимой образовано лексико-семантическим способом на базе формы твор. п. ед. ч. существительного зима. Новое слово «покинуло» свою родную часть речи. Иногда этот способ называется морфолого-синтаксическим способом, в данном случае – адвербиализацией (так называемым переходом других частей речи в наречия).
Слово цимлянское образовано по модели шампанское.
Прилагательное скоростной – суффиксальное производное от скорость (ср. проходной и т. п.).
Слово долгорукий – результат основосложения с помощью интерфикса о и окончания– ий (ср. длинноногий, широкоплечий и др. и несколько иные образования – долговечный, длинноствольный с суффиксом – н-).
Существительное надомница – результат суффиксации (суффикс– ниц-) предложно-падежной формы на дому (работающая).
Задание 2.
Слова дояр, вдохновить, пускать, приземлить – образованы обратным словообразованием, называемым в лингвистике редеривацией, на базе слов доярка, вдохновение, пущать, приземлиться. Путем заполнения третьей клетки словообразовательного квадрата при решении словообразовательной пропорции: санитар – санитарка = дояр <– доярка, благословить – благословение = вдохновить (вместо вдохнуть, ср. дунуть – дуновение) <– вдохновение и т. д. Остальные слова образованы прямым словопроизводством: доярка – с помощью суффикса– арк– от доить; вдохновение – с – ение от вдохнуть (ср. прикоснуться – прикосновение, мигнуть – мгновение, столкнуться – столкновение и др.); фляжка – путем переоформления – по аналогии с книжка и пр. – заимствованного из польского языка фляшка < flaszka, что повлекло (в словообразовательном квадрате книга – книжка = [] — фляжка) образование путем редеривации фляга.
Задание 3.
Все указанные слова в своих переносных значениях образованы лексико-семантическим способом. Одинаковые вторичные значения у слов указанных троек возникли в силу наличия одинаковых семантических (значимых) долей в их исходных значениях, отражающих в известной мере одинаковые свойства обозначаемых реалий (ср.: кавардак < кавардак «жаркое, второе блюдо из разных компонентов», безумно любить, фонтан слез и т. д.).
Задание 4.
Слово белочка образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса– к(а) (от белка, где выделяется связанный корень по соотношению с беличий); лампочка – посредством суффикса – очк(а) (от лампа); понаговорить – посредством приставки по– от наговорить; запуск – безаффиксным способом от запускать; разливать – посредством суффикса – ва(ть) от разлить; СМИ – сложением сокращенных основ звукоинициального типа на базе средства массовой информации (ср. вуз, МХАТ и т. п.); телешоу – сложением сокращенной (телевизионное) и полной основы; плащ-палатка – словосложением (ср. кафе-мороженое, диван-кровать и т. п.); садовод – сложением с использованием суффиксоида – вод() (ср. цветовод, пчеловод и др.); половодье – сложносуффик-сальным способом словопроизводства на базе полая вода; треволнение – посредством приставки тре– (ср. трезвон); суглинок – циркумфиксом су – ок(); досрочный – суффиксом – н– на базе до срока; солнцезащитный – сложносуффиксальным способом: сложением с помощью интерфикса е основ солнц– и защит– и суффикса – н(ый); распад – безаффиксным способом словообразования (см. выше запуск); подстаканник – суффиксом – ник() на базе под стаканом; шапка-ушанка – словосложением (см. выше плащ-палатка); взрыв – как распад (см. выше); спец, неуд – аббревиацией слов специалист, неудовлетворительно; литературоведение – с помощью суффиксоида – ведение (ср. обществоведение, человековедение и др.); водопроводчик – суффиксом – чик(); головокружение – сложением полных основ голов-, круж– с одновременной суффиксацией; путь-дорога – сложением слов-синонимов; аморально – суффиксом – о; распродажа – приставкой рас-; выпускница – слитной синкретической суф-фиксально-флексийной морфемой – а с чередованием к – ц от выпускник; тошнотворный – суффиксоидом – творный (ср. животворный, стихотворный и пр.), РАН – сложением сокращенных основ звукоинициального характера (Российская академия наук); ваучеризация – суффиксом – изация(я); забытый – суффиксом – т– от забыть.
Задание 5.
С помощью циркумфикса образованы слова обессилеть, по-человечески, вжиться, прикарманить, побережье, сработаться.
Слова пришкольный, непромокаемый, выдвиженец, соразмерность, соискательница, выработка, срезаться, повернуться, непроходимый образованы суффиксальным способом.
Слова непромокаемый, непроходимый образованы посредством суффиксов– ем-, – им– от сочетаний не промокать, не проходить. Глаголы срезаться, повернуться образованы по-флексийным суффиксом – ся.
Слова обеспокоить, выбросить, переоформить, прилечь образованы с помощью приставки.
Задание 6.
Слово снегопад – результат сложения полных основ (ср. листопад, водопад); ГОСТ – сложносокращенное слово слогового типа го(сударственный) ст(андарт); СНГ – сложение сокращенных основ инициально-буквенного характера; космовидение – основосложение с соединительным о (ср. космический, телевидение, телик); диван-кровать – словосложение; собес – сложносокращенное слово звуко-слогового характера (социальное обеспечение); зоосад – сложение сокращенной и полной основы; железнодорожный – сложносуф-фиксальное образование на базе железная дорога; ЧП – чрезвычайное происшествие (образовано, как СНГ), загс, вуз – звуковые сложносокращенные слова – запись актов гражданского состояния, высшее учебное заведение); руки-ноги «конечности», отец-мать «родители» – словосложения «унитарного» значения; самбо, завуч – слогозвуковые сложносокращенные слова (самооборона без оружия, заведующий учебной частью); медсестра, корпункт образованы так же, как зоосад (см. выше), водоснабжение – основосложение с соединительным гласным о; сельскохозяйственный образовано так же, как железнодорожный (см. выше).
Задание 7.
Слово атомоход образовано сложением полных основ (ср. дымоход, пароход и т. д.), так же образованы головокружение, шагомер; черноморец, редколесье, многонациональный образованы сложносуффиксальным способом; квартплата – сложением полной и сокращенной основ; лермонтовед – с помощью суффиксоида– вед с наложением на первую основу интерфикса о и звука в суффиксоида – вед (ср. пушкиновед); орденоносец – с помощью суффиксоида – носец (ср. письмоносец); кожимит – сложносокращенное слово слогового характера (имитация кожи), ТЭЦ и НИИ – сложносокращенные слова звукового характера; рация – аббревиатура от радиостанция (с выемкой середины слова); Каспий, контра – аббревиация финального типа (Каспийское море, контрреволюция); игротека – суффиксом – отек(а), (ср. фильмотека, фонотека и пр.); космонавт – по модели стратонавт, аргонавт; блинная – суффиксальным способом так же, как закусочная; волнообразный – суффиксоидом – образный (ср. шарообразный); обезболить, повзводно – циркумфиксами обез — и(ть), по – о (ср. обесцветить, поэтажно); удаль – безаффиксным способом от удалой (ср. гниль); боеголовка – основосложением бой-е-головк(а); обнадеживать – суффиксом – ва(ть); заинтересовать – приставкой за-, зарубежье – суффиксацией (суффикс – j-) предложно-падежного сочетания за рубежом.
Задание 8.
Слова разбрасывать, рассердиться, приморье, вооружаться, погрузиться, безотказно образованы с помощью суффиксов– ыва(ть), – ся, – j- (на базе при море), – ся, – ся и – о (ср. безотказный).
Слова аполитичный, пригород, безграмотный, неграмотный, поинтересоваться образованы префиксальным способом словопроизводства (приставки а-, при-, без-, не-, по-).
Задание 9.
Слово заполярье образовано на базе оборота за полярным кругом с помощью суффиксации (суффикс – j-); осадки, песок, перегибать – на базе оборотов атмосферные осадки, сахарный песок, перегибать палку лексико-семантическим способом словопроизводства; смотаться, электричка – на базе устойчивых словосочетаний смотать удочки, электрический поезд с помощью суффиксов– ся и – к(а); неформал, демисезон – на базе неформальное объединение, демисезонное пальто – путем аббревиации; осточертеть, взбелениться, насобачиться – на базе фразеологизмов надоесть как сто чертей, белены объелся, собаку съел с помощью циркумфиксов о – е(ть), вз – и(ть)ся, на – и(ть)ся.
Задание 10.
Слово огончарован образовано Пушкиным на базе собственного имени Наталья Гончарова суффиксально-префиксальным способом, по модели со словом очарован; чеховское тол-кастика образовано по аналогии с гимнастика; пушкинское полуподлец, полуневежда – образование посредством префиксоида полу– (ср. полумесяц, полуостров, полуобнаженный); северянинское бездарь – безаффиксное производное от бездарный; тютчевское громокипящий – сложение полных основ; слова тарел, русал, нимф – редериваты (т. е. обратные образования) от тарелка, русалка, нимфа; слово головотяп – сложение полных основ; слово спаха – суффиксальное производное с суффиксом– х(а) (ср. замараха).
Задание 11.
Приведенные неологизмы В. Маяковского образованы в полном соответствии с действующими в русском языке правилами словопроизводства: пошляпно – с помощью циркумфикса по – о (см. выше, ср. повзводно); щен, нянь – с помощью редеривации от щенок, няня (ср. нимф, см. выше); бег-ня – посредством суффикса – н(я) (ср. стряпня), бредь – безаффиксным способом словообразования (ср. есенинское стыдь); калекши – посредством суффикса – ш– (с известным нарушением литературной нормы, поскольку слово калека является существительным общего рода (ср. генерал – генеральша, лифтер – лифтерша); косоного – посредством суффикса – о от косоногий; провитязь – с помощью приставки про-; раздождиться – посредством циркумфикса раз – и(ть)ся от дождь (ср. разведриться); щекопузье – сложением полных основ с одновременной суффиксацией (суффикс – j-); юбилеить – посредством суффикса – и(ть); боксеровидный – с помощью суффиксоида – видный (ср. яйцевидный); вкреслен-ный – с помощью суффикса – енн(ый) от циркумфиксного вкреслить, производного от кресло; гора-вулкан – путем словосложения близких по значению слов (ср. грусть-тоска); жизнестроение – путем сложения полных основ (ср. паровозостроение); заграничник – с помощью суффикса – ик(); зыч, ор, легендарь – безаффиксным способом от зычный, орать, легендарное; плоскокрыший – сложением полных основ с суффиксом-флексией – ий (ср. длиннорукий); работца – посредством суффикса – ц– (ср. дверца); рай-страна – путем словосложения типа жар-птица, бой-баба; словопады – сложением полных основ (ср. водопады, снегопады); стихозы – путем суффиксации (суффикс – оз-), (ср. стервозы); отрезветь – с помощью приставки с-; фырком – посредством суффикса – ом (по модели бегом, верхом); экспрессионер – с помощью суффикса – онер() (ср. коллекционер).
Слово и художественный текст
Художественное произведение и язык

Каждый художественный текст представляет собой ту или иную информацию, которая всегда преследует определенные практические цели. Искусства для искусства не существует. Даже тогда, когда сочиняют для себя. Сообщая что-либо, писатель одновременно так или иначе воздействует на читателя. Сила этого воздействия прежде всего и по преимуществу зависит от степени художественности произведения, его изобразительно-выразительной фактуры. Оно может нас волновать, брать, что называется, за душу – и оставлять равнодушным, не трогать, нравиться или не нравиться, быть по духу своим и близким или чужим и далеким. И все это лишь при условии, если мы его понимаем. Иначе говоря, наше восприятие художественного текста целиком и полностью зависит от степени его понимания. А правильно понять художественный текст возможно только в том случае, когда мы понимаем язык, которым он написан (ведь язык – это «первоэлемент литературы»!), когда нам известны те языковые «дроби», из которых слагаются целые образные единицы художественного языка.
«В чем же вопрос?» – можете сказать вы. Ведь мы говорим о русской литературе, т. е. о художественных произведениях, написанных на русском языке. А это наш родной язык, который мы знаем с детства, усвоили еще, так сказать, с молоком матери. Все это так и в то же время… не так. Почему? Да потому, что художественное произведение написано на особом – художественном (или, как говорят лингвисты, поэтическом) языке, который не равняется нашему обиходному языку. Последний выполняет только функции общения. Поэтический же язык прозаических и стихотворных произведений выполняет не только функции общения, но и эстетические. А это значит, что художественный текст – в отличие от простого речевого целого в устной или письменной форме – всегда является неповторимой образной системой, в которой переплавляются и изобразительно-выразительные средства русского литературного языка, и их традиционные переосмысления и трансформации в художественной речи, и индивидуально-авторские новшества.
Что касается художественных произведений прошлого, то их, кроме всего уже отмеченного, отделяет от нас определенный временной интервал, за который и русский литературный язык в целом, и язык художественной литературы во многом изменились, стали иными и по составу, и, так сказать, качественно. Поэтому при чтении русской классики XIX в. мы можем натолкнуться на еще большее количество чуждых и неизвестных нам языковых фактов, чем при чтении современных произведений. Видеть и осознавать в классических произведениях языковые архаизмы времени, отделять их от стилистически мотивированных, употребляющихся в эстетических целях, еще труднее и сложнее, но совершенно необходимо. Поэтому-то и надо читать художественное произведение неспешно и внимательно, лингвистически вооруженным глазом.
В противном случае между писателем и читателем могут установиться такие отношения, которые наблюдаются между персонажами комедии А. А. Шаховского «Новый Стерн» и басни К. Пруткова «Помещик и садовник». В первой в ответ на восторженную фразу сентиментального князя: «Добрая женщина, ты меня трогаешь» – крестьянка отвечает: «Что ты, барин! Я до тебя и не дотронулась!» Во второй в ответ на вопрос помещика о том, как растет его «некое растение, какого, кажется, в Европе даже нет» («Что? Хорошо ль растенье прозябает?»), садовник сообщает, что оно замерзло («Изрядно, – тот в ответ, – прозябло уж совсем»). Стилистическая игра А. А. Шаховского, опирающегося на омонимические отношения между трогать – «волновать, вызывать сострадание» и трогать – «касаться» и К. Пруткова, строящаяся на омонимии устаревших ныне глаголов прозябать – «расти, произрастать» и прозябать – «зябнуть, мерзнуть», очень ярко показывает, какое «взаимопонимание» может возникнуть между говорящими, коль скоро им что-то в языке собеседника неизвестно.
Такие же казусы могут быть и нередко наблюдаются при чтении литературы постоянно, особенно при таком, которое остроумно называется «чтением по диагонали». Наличие в художественном тексте неизвестного языкового «остатка», существование в нем различного рода «шумов и помех» и определяют необходимость его лингвистического комментирования, объяснения «темных» мест и трудных строчек, непонятного и незамеченного (такое тоже бывает).
Лингвистическое комментирование художественного текста, разъяснение и толкование нам непонятного и нами не замеченного обезопасит от искаженного и неполного его понимания, даст возможность проникнуть в святая святых произведения, позволит хорошенько разглядеть, как оно «сделано».
Лингвистический анализ наглядно показывает, насколько далеко так называемое «глобальное понимание» художественного произведения от его истинного осознания, насколько важным и необходимым является пристальное внимание ко всякого рода языковым «мелочам», для того чтобы увидеть художественный текст в его первозданном виде, чтобы услышать живой голос писателя.
Имеющиеся в художественном тексте языковые шумы и помехи мешают слышать и видеть, адекватно понимать текст как информацию и образную структуру.
О всех сложностях и проблемах, которые возникают при чтении русской художественной литературы, в одной главе рассказать, естественно, нельзя. В предлагаемых мини-очерках, посвященных лингвистическому комментированию неясных мест, «трудных» строк и отрывков, встречающихся в том или ином тексте, я познакомлю вас только с наиболее существенным, интересным и занимательным. Эта глава, следовательно, будет своеобразным по своей новеллистической форме введением в языковые тайны художественного текста, коль скоро он оказывается «под лингвистическим микроскопом». В небольших заметках вы познакомитесь со многими запутанными и неясными местами русской художественной классики, узнаете некоторые сведения по истории русского литературного языка XVIII–XX вв. и современному языку, имеющие важное значение для поставленных в книге вопросов. В частности, в ней на конкретных примерах повествуется о самых различных трудностях, которые возникают при чтении художественного текста в связи с тремя лингвистическими «китами»: 1) исторической изменчивостью русского литературного языка и языка художественной литературы, 2) нормативностью литературного языка и «поэтическими вольностями» и 3) синтезом в художественном тексте авторского новаторства и сложившихся в литературе традиций.
Языковые «шумы и помехи»
ВВ литературе, по существу, нет такого художественного текста, в котором не было бы фактов, требующих лингвистического комментария. Любое, даже самое простое и бесхитростное по языку, произведение содержит в себе нечто нам непонятное. Мелкие «подводные камешки» языковой материи художественного произведения попадаются даже тогда, когда оно написано совсем недавно, нашими современниками, и о наших заботах и радостях. Чем это объясняется, уже говорилось выше. К сказанному нужно еще добавить следующее.
Каждый из нас знает русский язык лишь постольку-по-скольку. Наш словарный запас, знание фонетики и грамматики, наша речевая культура и чутье разные и во многом зависят от языковой образованности. Естественно, то, что мы знаем, является – по отношению к русскому языку в целом – каплей в море. В художественном тексте нас могут поджидать неизвестные нам слова, словосочетания, формы и конструкции. В нем могут быть языковые факты, употребленные так, как это в обиходе не принято. Художественный текст может содержать в себе и такие факты языка, которые мы – с нашей современной и обыденной языковой «колокольни» – принимаем совсем за другие. Всего не перечислишь.
А значит, без толкования и разъяснения при чтении текста нам не обойтись. Лингвистический комментарий оберегает нас здесь от возможных ошибок и может приучить читать художественное произведение «с пристрастием» и неспешно. Ведь лучше меньше прочитать, да лучше, не исключая даже тех случаев, когда перед нами современное произведение, написанное современным языком. Взять хотя бы, к примеру, стихотворные произведения лучшего, по моему мнению, поэта ХХ в. – А. Т. Твардовского. Помните слова «от автора» в конце его замечательной поэмы «Василий Теркин»? Вот они:
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
– Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке…
Действительно, его стихи и поэмы написаны на русском-прерусском языке. Чистый родник живой речи течет и шумит в них свободно и непринужденно. И все же вряд ли вам (о причинах уже говорилось) в них «все понятно». Даже в той же поэме. Укажу, чтобы не быть голословным, несколько примеров. Читаем главу «Поединок»:
И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.
………………………………….
Драка – драка, не игрушка!
Хоть огнем горит лицо,
Но и немец красной юшкой
Разукрашен, как яйцо.
Все вам тут понятно? Большинству – вряд ли, так как в отрывке имеются диалектные слова узкой сферы употребления. Во-первых, неясно, куда немец ударяет Теркина, во-вторых, хотя и понятно, что у немца лицо в крови, непонятно, что значит юшка. Надо обратиться к словарям. Тогда мы узнаем, что слово санки значит «челюсть, скулы», а слово юшка – «жижа» (также и «уха»).
Пойдем далее. Глава «Два солдата»:
А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.
– Вот не режет, точишь, точишь,
Не берет, ну что ты хочешь!.. —
Теркин встал:
– А может, дед,
У нее развода нет?
……………………..
Поищи-ка, дед, разводку.
Мы ей сделаем развод.
Что здесь останавливает ваше внимание? Знаете ли вы, что обозначают слова развод и разводка? Они являются профессионализмами. Помните, как располагаются у хорошей пилы зубья? Как говорит В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка», «в разбежку, через один туда и сюда». Развод и есть попеременное наклонное положение зубьев пилы по отношению к ее плоскости. А делают его с помощью специального инструмента – разводки (ср. слова отвертка, прищепка, терка, краска, подпорка и т. п.).

Иллюстрация художника О. Г. Верейского к поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 1943–1946 гг.
Все? Нет, есть и еще один примечательный, хотя и менее заметный факт. Где стоит ударение в слове кривит? У Твардовского в соответствующей строчке, о чем свидетельствуют правила стихотворного размера, в глаголе кривит ударение падает на первое и. А в соответствии с законами орфоэпии ударение здесь должно быть на втором – криви т. Чем же можно объяснить это отступление А. Т. Твардовского от современных литературных норм? Только одним – влиянием просторечия или диалектной речи. Возникает сразу и еще один вопрос: насколько допустима такая «поэтическая вольность»? Не грубая ли это орфоэпическая ошибка? Данные истории русской системы ударения говорят, что форма кривит извинительная. Такое ударение вполне соответствует тенденциям развития нашего ударения в последнее время, в частности переносу его в глаголе с окончания на основу. Мы говорим, например, тащит, катится, тогда как у Пушкина наблюдается тащит, кати тся:
Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит;
Он потопленное тело
В воду за ноги тащит…
<…>
Из-за туч луна катится
Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим…
(«Утопленник»)
Но вернемся к «Василию Теркину». Остановимся на трех четверостишиях из глав «Теркин – Теркин», «О награде», «О потере»:
Прибаутки, поговорки
Не такие ловит слух…
– Где-то наш Василий Теркин? —
Это слышит Теркин вдруг.
И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.
Говорит боец:
– Досадно,
Столько вдруг свалилось бед:
Потерял семью. Ну, ладно.
Нет, так на тебе – кисет!
Во всех приведенных четверостишиях Твардовский среди других слов употребляет и слово вдруг. Обратили ли вы на него внимание? Нет? Это вполне объяснимо и понятно. Ведь наречие вдруг является самым что ни на есть нашим словом, очень частотным, обиходным и кажется простым и неинтересным. Его актуальное значение – «неожиданно, внезапно». Именно оно ярко и четко выступает в первом отрывке: «Это слышит Теркин вдруг» (= «внезапно, неожиданно»). Но обратимся ко второму четверостишию. Что здесь? На этот вопрос «отвечал бы я не вдруг» , а подумав. Ведь в приведенной строчке слово вдруг определенно имеет другое значение, сейчас для него уже устаревшее и периферийное. И не заметили вы это потому, что читали не задумываясь, покоряясь ритмике и музыке стиха. Если же вы остановите на слове свой лингвистический взгляд, то увидите, что здесь наречие вдруг имеет значение «сразу». А вот о значении слова вдруг в третьем отрывке определенно сказать нельзя: окружающий контекст позволяет квалифицировать его и как «внезапно, неожиданно», и как «сразу». Такие альтернативные решения приходится иногда допускать. Как будто все? Не спешите. Как вы произносили слово вдруг, читая первое четверостишие? Если [вдрук], то вы тем самым разрушали версификационную структуру отрывка, так как наше вдруг рифмуется со словом слух. Значит, надо – чтобы рифмовка была в целости и сохранности – произносить [вдрух]. Но такое произношение г как [х] на конце слова в литературном языке не принято; это нарушение орфоэпических норм: в литературном языке звук г на конце слова «оглушается» только в [к].
Я очень люблю Твардовского, но истина мне дороже: поэт здесь погрешил против законов литературной речи. Впрочем, такие погрешности встречаются не у него одного, а у него довольно редко.
Он позволил себе такую поэтическую вольность, которая выходит за рамки языковых приличий: г как [х], а не [к] на конце слова у него никак не мотивирован, а в художественном тексте все внелитературное, в том числе и диалектизмы (произношение г как [х] на конце слова отражает фонетику южновеликорусского наречия), должно быть стилистически оправданным.
Кстати, известен ли вам глагол проницать? Впрочем, я задал риторический вопрос. Конечно, вы его не знаете. И это совершенно естественно, поскольку его нет и в современном русском литературном языке. Другое дело – глагол проникать и прилагательное проницательный – «наблюдательный, быстро понимающий». А вот у Твардовского глагол проницать встречается: «И держись: наставник строг – Проницает с первых строк…»
Чем является в стихотворной речи поэта проницает? Может быть, это его неологизм? У А. Твардовского ведь созданные им слова редко, но встречаются (см. хотя бы индивидуально-авторские новообразования А. Твардовского в «Стране Муравии»: «Муравия! Муравия! Хорошая страна!..», ср.: «Была Муравская страна, И нету таковой. Пропала, заросла она Травою-муравой»; суетория: «Конец предвидится ай нет Всей этой суетории» – суетория (сложносокращенное слово из существительного суета и конца слова история).
Обращение к 17-томному «Словарю современного русского литературного языка» показывает, что это не так. Перед нами одно из многочисленных по своей стилистике очень острых употреблений архаической лексики: в XIX в. старославянское по своему происхождению слово проницать (ср.: нарекать – нарицать, воскликнуть – восклицать) в литературе свободно еще употреблялось (ср. в «Идиоте» Ф. М. Достоевского: «Ну, вот вам, одному только вам, объявлю истину, потому что вы проницаете человека»).
Значит, в данном случае мы имеем дело с «законным» использованием поэтом ныне уже устаревшего глагола в художественно-выразительных целях, конкретно – для создания полускрытой и потому еще более экспрессивной и злой иронии.
Как видим, не надо сбрасывать со счетов, что даже самый современный нам поэт для определенных стилистических нужд использует элементы «поэтического вчера», в том числе также и устаревшие слова и обороты, находящиеся ныне на самой что ни на есть языковой «камчатке».
Еще с большим количеством языковых «шумов и помех», естественно, современный читатель встречается в художественных произведениях прошлого. Прекрасная иллюстрация этого – комедия «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Как известно, в историю русской художественной литературы А. С. Грибоедов вошел как автор одного произведения, однако такого глубокого по содержанию и блистательного по языку, что оно по справедливости оказалось «томов премногих тяжелей» и по своему общественному значению, и по своей художественной форме. Один день в доме Фамусова для создателя «Горя от ума» стал заслуженным писательским бессмертием. Строительным материалом для «Горя от ума» Грибоедову (это диктовалось принятым писателем реалистическим изображением действительности и жанром произведения) послужил обиходный русский язык его эпохи. Естественно, этот материал не был однородным и включал в себя – наряду с московским просторечием как языковой основой комедии – также и определенные факты письменного языка, правда почти исключительно лишь постольку, поскольку они стали неотъемлемой принадлежностью устной речи соответствующих героев (например, Чацкий «говорит, как пишет»). Отложились в комедии, ввиду того что она была написана стихами, конечно, и отдельные ходячие слова и формы поэтического языка первой половины XIX в.

Суперобложка к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Художник И. В. Кузьмин. 1951 г.
Таким образом, язык «Горя от ума» выступает в качестве естественного и ограниченного сплава наиболее жизнеспособных фактов устной и письменной речи той самой эпохи, когда стал складываться современный русский литературный язык.
В языке «Горя от ума» немало от языкового прошлого. И все же многочисленные и разнообразные архаизмы времени, немногие расхожие аксессуары стихотворного языка первой четверти XIX в. как бы бесследно тонут и растворяются в живой и непринужденной, острой и экспрессивной, до удивительности афористической речевой атмосфере комедии. Язык ее настолько переполнен «родными», активно и часто употребляемыми нами и сегодня словами и выражениями (нет мочи; валит народ; так рано поднялась; тот пристает, другой, без толку; умна была; свежо предание; где нас нет; рассудку вопреки; забавно; боюсь смертельно; метит в генералы; куда как мил!; давно прошло; рука с рукой; Чуть свет… и я у ваших ног; Вот новости!; не человек, змея; спешу к вам, голову сломя; Ну выкинул ты шутку!; он все свое, да расскажи подробно; надеждами я мало избалован; друг другу надоели; а наше солнышко?; на что вы мне?; на все готов; не странен кто ж?; смолчит и голову повесит; с ума свела; шутить и век шутить; вот загляденье!; а люди могут обмануться; там нету никого; горе горевать и т. д.), что мы – особенно не при чтении пьесы, а на слух – безоговорочно принимаем его за современный. С «птичьего полета» – восторженного или невнимательного слушателя и читателя – так оно, пожалуй, и есть. Но неверно, схватывая целое, упускать из виду частности. Русский язык стремительно развивается. И забывать этого нельзя. Естество и плоть чудесной пьесы А. С. Грибоедова во всей ее мудрой глубине и изумительной красоте раскроется нам только в том случае, если мы будем читать «Горе от ума» с умом, не торопясь, с искренним желанием действительно понять, «что к чему». Как говорила Ли-занька, здесь «нужен глаз да глаз». Иначе можно будет спокойно проглядеть и не увидеть даже такую бьющую в глаза реплику графини-внучки, как «я видела из глаз», представляющую собой один из самых ярких и наглядных примеров «смешенья языков: французского с нижегородским» (ведь видеть из глаз – это очень «свободная» калька франц. voir tout par les yeux – буквально и точно «видеть все своими глазами»).
Отступления от современного русского языкового стандарта, встречающиеся в «Горе от ума», являются разными и по своей трудности, и по лингвистическому характеру, но они отмечаются и в лексике, и в грамматике, и в фонетике. Наиболынее количество фактов, порождающих различные неясные и «темные» места, конечно, относится к лексике.
Приведем несколько наиболее ярких примеров.
Вот Фамусов, наставляя Чацкого «на путь истины», вспоминает давний (еще «времен очаковских и покоренья Крыма») случай с его покойным дядей:
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд…
Раскланяйся – тупеем не кивнут.
Вельможа в случае – тем паче;
Не как другой, и пил и ел иначе…
………………………………………..
На куртаге ему случилось обступиться,
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб…
Рассказ Фамусова будет целиком и полностью понятен только в том случае, если мы знаем, что в те поры значит «в то время», вáжны – «внушительные, гордые», в сорок пуд – «в сорок пудов», тупей – «взбитый хохол на голове» (тупеем не кивнут – «не кивнут даже головой», ср. у Н. Лескова «Тупейный художник», т. е. парикмахер), вельможа в случае – «фаворит», тем паче – «тем более», куртаг – «прием в царском дворце», обступиться – «оступиться».
Звучит страстный монолог Чацкого «А судьи кто?», обличающий «отечества отцов», «которых мы должны принять за образцы». Многие из вас знают его наизусть почти полностью:
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Сколько в нем становится ясным только при чтении внимательном, чтении с участием и пристрастием!
Устаревшие грамматические факты (творительный падеж причины грабительством = «благодаря грабительству», старая форма деепричастия соорудя = «соорудив», усеченная форма прилагательного богаты = «богатые») пониманию в принципе, не мешают. Но при этом обязательно надо знать две смысловые особенности слов грабительство и клиенты-иностранцы. Иначе сказанное Чацким мы услышим в искаженном виде.
Во-первых, слово грабительство здесь имеет значение «незаконное насильственное присвоение чужого имущества» (а не «ограбление!») (см.: Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. 1. С. 535). Ведь те, о которых говорит Чацкий, были не разбойниками с большой дороги. Во-вторых, слово клиенты-иностранцы как сложносоставное в качестве первого компонента имеет существительное клиенты не в современном значении «постоянный посетитель, покупатель, заказчик», а в значении «находящийся под чьим-либо покровительством и защитой» (см. указ. словарь – М., 1957. Т. 2. С. 326).
Существует точка зрения, что речь здесь идет о французах-эмигрантах, бежавших от революции и мечтавших о воскрешении старых феодальных порядков. Однако такое предположение просто нелепо. В великолепных дворцах пригревших их русских бар воскрешать феодальные порядки не надо было: они в них процветали и без этого. Считать, что где обозначает Францию, – значит не читать текста или с ним совершенно не считаться.
Заметим, что отрицательная частица не в сочетании с местоимением и наречием придает выражению утвердительное значение. Клиенты-иностранцы повсюду воскрешали прошедшего житья подлейшие черты, но вовсе не старые феодальные порядки, а разгульную паразитическую жизнь («обеды, ужины и танцы») дворян времен Екатерины II.
Читаем монолог Чацкого дальше:
Не тот ли вы, к кому меня еще с пелен
Для замыслов каких-то непонятных
Дитей возили на поклон?
Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окруженный слуг…
Здесь (строчка Дитей возили на поклон более или менее понятна сразу: «ребенком возили поздравлять»), очень темной выступает строка: Тот Нестор негодяев знатных. В одном из изданий Грибоедова о ней написано следующее: «Нестор – имя полководца, упомянутого в «Илиаде» Гомера;
в нарицательном смысле – вообще предводитель, главарь». Этот вольный перевод разбираемой строчки нуждается в определенных дополнении и коррекции.
Правильно слово Нестор толкуется в «Мифологическом словаре» (сост. М. Н. Ботвинник и др. 4-е изд., испр. и перераб. М., 1985. С. 95). Собственное имя воспетого Гомером пилосского царя, одного из аргонавтов и знаменитого участника войны против Трои, дожившего до глубокой старости, в литературной традиции употреблялось или как наименование умудренного годами человека, опытного советчика, или как синоним слов старец, старейший. Скорее всего, в последнем значении слово Нестор Грибоедовым здесь и употребляется (Тот Нестор негодяев знатных = «Тот старейший из знатных негодяев»).
А вот еще один интересный для нашего лингвистического глаза отрывок из монолога Чацкого:
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы по одиночке!!!
Здесь в трех коротеньких строчках мы опять встречаем несколько языковых помех, правда разной степени. Амуры и Зефиры – крепостные, исполняющие в балете соответствующие роли (ср. у А. С.Пушкина в «Евгении Онегине»: «Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят…»). А промотавшийся помещик-театрал не согласил к отсрочке, т. е. не убедил согласиться на отсрочку платежей… должников (!). Не в современном значении, т. е. тех, кто должен, а иных – тех, кто дал ему деньги в долг, иначе говоря – заимодавцев, ростовщиков. Существительное должник имеет здесь значение, прямо противоположное нашему. Такое значение в XIX в. имели и некоторые другие слова, ср. наверное – «наверняка», честить – «оказывать честь» и т. д. Заметим, что в первой половине XIX в. слово должник употреблялось как в старом, так и в современном значении. Так, у Пушкина мы находим: «Должники мне не платят, и дай Бог, чтобы они вовсе не были банкроты» (Словарь языка Пушкина. Т. 1. С. 677).
Листаем бессмертную комедию дальше. На вечер к Фамусову приезжает семья Тугоуховских. Раздаются голоса княжон:
3– я к н я ж н а. Какой эшарп cousin мне подарил!
4– я к н я же н а. Ах, да, барежевый!
Даже нашим модницам эти реплики непонятны. Ясно только, что говорят о нарядах. Но что и о чем именно? Чтобы это понять, надо знать, что слово эшарп значит «шарф», а слово барежевый – «из барежа» (особой тонкой и прозрачной ткани).
Вот Скалозуб возвращается с живым и здоровым («рука ушиблена слегка») Молчалиным, после падения последнего с лошади и обморока Софьи, в дом и говорит ей:
Ну! я не знал, что будет из того
Вам ирритация.
Что он ей говорит, мы понимаем только тогда, когда узнаем значение ныне прочно забытого архаизма ирритация – «волненье».
Обратимся к отдельным предложениям.
Фамусов. 1) «Все умудрились не по летам»; 2) «Берем же побродяг, и в дом и по билетам»; 3) «Покойник был почтенный камергер, С ключом, и сыну сумел оставить»; 4) «В работу вас, на поселенье вас»;
Р епетило в. 5) «В опеку взят указом!»; 6) «Прочее все гиль»; 7) «С его женой и с ним пускался в реверси».
Эти выражения становятся понятными лишь тогда, когда мы учитываем реальный смысл образующих их слов.
На современный язык приведенные фразы можно перевести примерно так:
1) «Все стали не по годам умными»; 2) «Берем бродяг в качестве учителей и гувернерами, и как приходящих учителей (приходящим учителям платили «по билетам», т. е. по запискам, удостоверяющим посещение)»; 3) «Покойник был заслуживающим самого большого уважения камергером при царском дворе (с ключом – с золотым ключом на мундире как знаком камергерского звания) и сумел сделать камергером также и сына»; 4) «На каторгу вас, на поселенье»; 5) «Мое имение по царскому указу взято под государственный надзор»; 6) «Все прочее чепуха, вздор (ср. разгильдяй того же корня)»; 7) «С его женой и с ним играл в карты» (реверси – карточная игра).
Примеры, подобные разобранным, можно без труда продолжить. Но, думается, достаточно и приведенных.
Полный реестр архаизмов – предмет специальной работы лингвистического комментария «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Как видим, между языком комедии А. С. Грибоедова и современным – «дистанция огромного размера». И на 99 % это объясняется временем: языковым фактам (увы!) не наблюдать часов не дано. Они прежде всего и рождают «ножницы» в общении автора и нас, современных читателей.
Уже наше обращение к Твардовскому и Грибоедову наглядно показало, что для восприятия и понимания не так прост, как он кажется с первого взгляда, даже хрестоматийный, хорошо знакомый художественный текст. На нашем читательском пути к писателю, его литературному произведению, его мыслям и чувствам встает большое количество разнообразных преград и препятствий, языковых шумов и помех. И оказывается, не только в русской классике XIX–XX вв., но и в литературе последних десятилетий немало трудных для понимания строк, темных и запутанных мест, мешающих нашему живому и непосредственному общению то с одним, то с другим писателем. Такие языковые особенности художественной литературы неотвратимо ведут к необходимости ее комментирования. Предваряющее лингвистическое комментирование, художественного текста обезопасит читателя от возможных здесь ошибок, неверной и неточной интерпретации сказанного писателем. Но такого лингвистического комментирования всех художественных произведений нет и в принципе быть не может: ведь последние появляются непрестанно. Как же быть? Выход один, и он подсказан всем тем, что сообщалось ранее.
Художественное произведение, чтобы его по-настоящему знать, надо читать не спеша, внимательно, с чувством, с толком и расстановкой. Замедленное чтение позволит вам понять и воспринять текст более полно и правильно.
Конечно, такое чтение текста обязательно должно сопровождаться его разовым прочтением беглыми глазами рядового и неумудренного читателя. Оно даст возможность схватить текст как таковой в его первозданной эстетической целостности. Такое разовое чтение может быть и до и после замедленного чтения.
Двойное аналитическое и синтетическое прочтение художественного текста, вполне понятно, потребует у вас значительно больше времени, но оно окупится сторицей. Пусть в связи с этим вы прочтете меньше, но прочтете лучше и узнаете больше. Двойное чтение позволит и сохранить непосредственное впечатление от какого-либо художественного текста как явления словесного искусства, и более адекватно понять его идейное содержание, и уяснить, как оно сделано в качестве определенной образной системы.
Слова и словесные сообщества – в замедленном чтении
Что было у Плюшкина

Вряд ли найдется среди вас хоть один, кто бы не помнил посещение Чичиковым Плюшкина. Это место в «Мертвых душах» удивительно выразительно и живописно. Оно написано так, что сразу же соглашаешься с Н. В.Гоголем: «Нет слова, которое было бы так замашисто и бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Однако далеко не все слова в этой шестой главе первого тома принадлежат сейчас к русскому лексическому ядру, хорошо нам знакомому и известному. Многие из них давно переместились на словарную периферию и носителями современного русского языка поэтому забыты. По большей части это либо слова, имеющие сейчас иные значения (в языкознании они называются лексико-семантическими архаизмами), либо устаревшие слова, отражающие ушедший в прошлое быт. Все они, как и иные архаические факты языка, серьезно мешают нам понимать замашистое и меткое гоголевское слово, а с ним и то, чем доверительно делится писатель. Взять хотя бы отрывок, живописно повествующий, что на самом деле было у выглядевшего словно нищий Степана Плюшкина. Ведь это был очень богатый помещик. Но обратимся к тексту.

Чичиков и Плюшкин. Иллюстрация художника А. Лаптева к поэме П. В. Гоголя «Мертвые души». 1953 г.
У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не потреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуныʼ, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало.
Мы хорошо видим, что у Плюшкина всего было много: и крепостных, и имущества, и продуктов («во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него»), но вот, что именно у него имелось, мы представляем себе весьма смутно, и картина его богатства, нарисованная Гоголем, подернута довольно густым «языковым туманом».
Загадочно выглядят даже такие слова, как овощь, кладь, шитое, точеное, побратимы, мочки, бураки, гибель, не говоря уже о существительных сушилы, губина, пересеки, лагуны, мыкольники, коробья, дрязг и фразеологическом обороте щепной двор.
Но обратимся к перечисленным словам. Первая группа слов относится к лексико-семантическим архаизмам. Они присутствуют и в нашей речи, но называют сейчас не совсем то или совсем не то, что именовал ими Гоголь.
Правда, подлинно коварным здесь является лишь слово… овощь.
Все остальные выступают в таких «словесных компаниях», что (пусть не зная, что они означают) мы сразу же понимаем их омонимичность одинаково звучащим словам нашего словаря. В силу этого при медленном чтении их инородность осознается нами так же, как и инородность слов второй группы (сушилы и т. д.).
В чем же языковое «коварство» слова овощь? Это не его морфологическая странность для нас как существительного женского рода (сейчас оно принадлежит к словам мужского рода и в единственном числе почти не употребляется).
Коварно это слово своим более широким, чем в настоящее время, значением. Оно называет (если, конечно, запятая в отрывке «…и всякой овощью, или губиной» поставлена писателем!) не только огородные плоды и зелень, но и лесные грибы и ягоды. В таком амплуа выступает тогда и диалектное слово губина (указанное значение зарегистрировано соответствующими словарями).
Каким большим лингвистическим весом тут обладает, как видим, маленькая запятая!
Стоит только ее убрать, и все меняется. Союз или из пояснительного союза становится разделительным, слово губина из уточнения превращается в однородный существительному овощь член предложения, и соответственно слово овощь уже, равно как и существительное губина, будет выступать перед нами с другим значением. Названная пара перестанет быть синонимической, и составлявшие ее слова по языковым нормам будут уже использоваться как лексические единицы, обозначающие «близкие», но разные предметы одного тематического класса: слово овощь – «огородные плоды и зелень» (как и сейчас в литературной речи), а слово губина – «грибы» (как и сейчас в некоторых русских диалектах). Ведь объединять синонимы разделительным союзом или – явная и грубая смысловая и стилистическая ошибка.
Но последуем далее за перечисленными словами. Вот здесь их истинное смысловое «лицо». Оказывается, что кладь – не «поклажа, груз», а «скирд»; шитое – не шитое (платье, костюм), а «деревянные изделия из сбитых (!) частей»; точеное – не точеное (лезвие, лицо и т. д.), а «деревянные изделия, выделанные на токарном станке»; побратимы – не названные братья или близкие (как братья!) друзья, а «большие деревянные сосуды вроде чугунка», что слово мочки никакого отношения к ушам не имеет и обозначает «нитки или пряжа», слово бураки – вовсе не название свеклы (ведь у Гоголя они «из плетеной берестки»), а «корзиночки, туески», существительное гибель – уже и не существительное, а неопределенно-количественное слово со значением «много» (ср. жуть комаров, бездна вещей, тьма народу, пропасть воды и т. д.).
Как видим, много различий в значении, казалось бы, самых привычных для нас слов гоголевского художественного текста.
Нисколько не меньше мешают понимать нам сказанное Гоголем и такие устаревшие слова, которых в современной лексической системе русского литературного языка нет вовсе. Неясность этих слов видна сразу, но от того не легче: все равно надо лезть в толковые словари (или в 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка», или в «Толковый словарь…» В. И. Даля), чтобы узнать, «что это за «лингвистические новости». Словари дают нам на наш вопрос ответ совершенно определенный. Слово сушилы (в старой форме именительный падеж множественного числа с окончанием – ы вместо – а, ср. у Пушкина: домы, селы, ветрилы) является не чем иным, как обозначением всем знакомых и привычных сеновала, чердака.
Прилагательное сыромятные (овчины) указывает, что овчины – из недубленой кожи. Слово пересеки значит «кадка из распиленной напополам бочки». Слово лагуны называет стоячие кадки с раздвижной крышкой. Существительное мыкольники – это название небольших открытых коробочек. Жбаны (с рыльцами и без рылец) – это «кувшины с ножками и без них», берестка – «берестяная кора», а коробья – «сундуки», щепной двор – «место, где продаются изделия, изготовленные из древесины» (ср. монетный двор, печатный двор, гостиный двор, постоялый двор и т. д.).
Что же касается слова дрязг (оно сразу же, конечно, и не случайно напоминает слово дрязги – «мелкие ссоры»), то оно в этом отрывке имеет значение «мелочь», а не более частотное – «хлам, мусор».
Наше путешествие по трудным местам приведенного выше отрывка «Мертвых душ» подошло к концу. Не осталось ли у вас впечатления, что мы все время продирались сквозь словесную чащу?
Загадочный AgN03
У всех вас (это несомненно) прочно сохранился в памяти драматический разговор Базарова с его отцом после возвращения Евгения Васильевича от уездного врача, у которого он анатомировал умершего крестьянина. Вот он:
Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?
– Есть; на что тебе?
– Нужно… ранку прижечь.
– Кому?
– Себе.
– Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?
– Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь – откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
– Ну?
– Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке.
Сразу же возникает вопрос: что просил Базаров у отца, что тот ему дал?
Впрочем, приведем еще два предложения из их диалога:
– Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?
– Это бы раньше надо сделать; а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.
Итак, Василий Иванович дал сыну, чтобы им прижечь ранку, адский камень.
Что же это за лекарственный препарат?
Ответить на данный вопрос можно только тогда, когда вы обратитесь к «Большому толковому словарю русского языка» (БТС: СПб., 1998) или к кому-нибудь из благородного цеха медиков. Такое обстоятельство связано с тем, что медицинская терминология, как и всякая другая, относится к словарной периферии литературного языка и хорошо известна только специалистам. Тем более что здесь мы сталкиваемся с архаическим термином, рядом с которым ныне употребляется синоним более частотный. Адский камень – название азотнокислого серебра, т. е. ляписа.
Наверняка вам хочется узнать, почему нитрат серебра (ляпис) называется адским камнем. Скорее всего за свой черный цвет, вызывавший ассоциации с тьмой кромешной. Вообще-то, устойчивое словосочетание адский камень является фразеологической калькой латинского выражения lapis infer-nalis (lapis, – idis – «камень», infernum – «ад», – alis = – ский). Обратили внимание на латинское слово? Да-да! В качестве отдельного слова как заимствование из латинского языка оно в образе ляпис чаще всего сейчас и называет азотнокислое серебро. А в качестве составной части все еще «светится» в прилагательном лапидарный – буквально «высеченный на камне» (а значит, и краткий!).
Как видим, прилагательное адский в обороте адский камень – совсем иное, нежели в сочетаниях адская (= «очень тяжелая») работа, адская (= «очень сильная») жара, адская (= «ужасная») дорога, адский (= «коварный») замысел и т. д.
Водомет и водомёт
Одно слово водомет нам всем хорошо знакомо, хотя мы его не находим даже на страницах первого тома академического четырехтомного «Словаря русского языка», вышедшего в 1981 г.
Оно постоянно употребляется нами, когда речь идет о тушении пожаров, а также иногда встречается на газетной полосе в сообщениях о демонстрациях трудящихся, студентов в защиту своих прав и свобод, коль скоро в корреспонденции говорится о странах «свободного» мира. В качестве примера приведем заметку 80-х гг. «Из водометов по демонстрации»:
Тогда к демонстрантам подъехали темно-зеленые машины с водометами… Таким образом, водометы, считавшиеся ранее вспомогательными средствами полиции, превратились в поражающее оружие с широким сектором действия. Этот случай заставит многих задуматься над вопросом, чего стоят разглагольствования о правах человека, в том числе о праве на демонстрации в ФРГ, под дулами усовершенствованных мощных водометов западно-германской полиции.
(«Известия», 6 июля 1984 г.)
Существительное водомет обозначает здесь приспособление для разгона демонстрантов струей воды. Это слово появилось как неточная словообразовательная калька немецкого Wasserwerfer (Wasser – «вода», werf(en) – «мет(ать)», – er – суффикс действующего предмета) с оглядкой на уже существовавшие в русском языке названия различных видов автоматического орудия с опорной основой – мет (ср. пулемет, миномет, огнемет и др.). Как свидетельствует «Большой немецко-русский словарь», составленный под руководством О. И. Москальской (М., 1969. Т. 2. С. 576), оно в конце 50-х гг. было уже известно.
Но перейдем к другому водомету. Раскроем сборник стихов А. А. Фета и обратимся к «Фантазии»:
Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мещут
И алмазной пылью водометы.
Здесь нас поджидает совсем иной водомет. Слово водомет в приводимом отрывке выступает в качестве устаревшего названия… фонтана. Правда, значение «фонтан» у нашего существительного четко в пределах процитированного четверостишия не вырисовывается; необходимо, чтобы не ошибиться, взять текст в целом.
Поэт в своей художественной фантазии сознательно прибегает к гиперболе. Фонтаны у него мечут жемчужной пеной и алмазной пылью аж… до луны. И изображаемая картина от этого становится еще более выразительной и зримой.
Вспомните аналогичные строки в «Руслане и Людмиле» А. С.Пушкина:
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
в «Демоне» М. Ю. Лермонтова:
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Слово водомет, вместо нейтрального синонима фонтан, Фет использует как одно из средств создания поэтичности. Оно хорошо согласуется со всем своим языковым окружением, включая старославянскую форму мещут (вместо русской мечут), используемую в поэзии XIX в. как поэтическая вольность, для рифмовки (ср. у Пушкина в поэме «Анджело»: «Анджело бледнеет и трепещет и взоры дикие на Изабелу мещет»).
Заметим, что наше слово отмечается и у Пушкина, но его отношение к существительному водомет другое – ироническое и отрицательное. В письме к брату из Одессы 13 июня 1824 г. Пушкин пишет: «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он Бахчисарайский фонтан из уважения к святыне Академического словаря и неблазно составленному слову водомет? Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы вообще и посылаю ему лобзание яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик».
На слово водомет он смотрел как на ненужного русского дублера привычного для него итальянизма фонтан, подобного неологизмам известного литературного деятеля адмирала А. С. Шишкова тихогромы – «фортепиано», мокроступы – «галоши» и т. д.
Добавим здесь к слову, что Пушкин в данном случае ошибался: слово водомет, как и, между прочим, слово фонтан, в словарях отмечалось уже в 1780–1782 гг.
Попутно два слова о двух словах из приведенных примеров Фета и Пушкина; без краткого комментария поэтов можно понять неправильно. Так, ошибочно будет восприятие слова чудный у Фета и Пушкина как современного: в его стихотворении оно значит не «очень хороший, замечательный, великолепный», а «достойный удивления, необычайный», т. е. имеет значение, которое как одно из значений свойственно сейчас прилагательному чудесный. Будет просто непонятно соответствующее место письма Пушкина, если мы не будем знать, что ныне исчезнувшее из обихода слово неблазно значит «правильно».
Оба слова на паритетных началах в пределах одного стихотворения мы находим у Ф. И. Тютчева в «Фонтане», где они располагаются в разных строфах и выполняют различные роли (слово фонтан употребляется в прямом, а слово водомет в переносном смысле). Распределение этих синонимов в поэтическом тексте и их различное употребление оказывается не только стилистически оправданным, но удивительно красочным и выразительным:
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
В этом стихотворении, кроме отмеченной пары, наше внимание привлекает еще несколько слов. Кратко прокомментируем их. Глаголы ниспасть – «упасть», свергает – «сбрасывает вниз», стремит – «увлекает» и мятет – «беспокоит», деепричастие преломляя – «переламывая», существительное длань – «рука» (исходно – «ладонь»), прилагательное заветная (здесь «обусловленная») использованы поэтом как лексический материал высокого слога для придания сообщаемому оттенка патетичности и взволнованности. Яркая поэтическая фраза
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден —
в научном отношении, между прочим, безукоризненна, так как выше определенной («заветной», по выражению Тютчева) высоты фонтан подняться не может, каким бы мощным ни был напор воды.
Сопоставляя бьющий фонтан с полетом «смертной мысли», т. е. мысли человека, Тютчев хотел подчеркнуть ограниченность, по его мнению, познавательных возможностей людей, их зависимость от какой-то неведомой, но все решающей силы. Даже стремление к знаниям для него – «закон непостижимый».
В поле нашего зрения слово экран
В нашем современном языковом сознании слово экран тесно привязано к кино– и телеискусству. Это существительное употребляется, как правило (не будем касаться его технического значения – «устройство для отражения, поглощения или преобразования различного вида энергии), для обозначения либо киноискусства (ср. голубой экран – «телевидение»), либо полотна, на котором показываются фильмы или диапозитивы.
Но так было не всегда. Слово экран появилось значительно раньше кино и указанных технических приспособлений. И вот этому яркий пример из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского. Читаем:
Она была внове, и уже принято было приглашать ее на изысканные вечера, в пышнейшем костюме, причесанную как на выставку, и сажать как прелестную картину для того, чтобы скрасить вечер точно так же, как иные добывают для своих вечеров у знакомых, на один раз, картину, вазу, статую и экран.
В приведенном контексте слово экран несет ныне уже устаревшее, архаическое значение – «ширма, передвижной щит от жара или света». Именно с таким значением это слово и вошло впервые в русский язык в конце XVIII в. из французского языка, в котором ecran является переработкой нем. Schranke – «решетка, ограда».
С современными значениями слово экран было нами заимствовано из того же французского языка уже в XX в.
О прилагательном пресловутый
В настоящее время это прилагательное имеет несомненную и яркую отрицательную окраску. Оно обозначает сейчас «имеющий сомнительную известность, вызывающий различные толки, нашумевший». Ранее же оно было «положительным словом» и выступало как синоним прилагательных знаменитый, известный. Такую смысловую метаморфозу (не такую уж редкую) необходимо всегда иметь в виду в тех случаях, когда перед нами – художественное произведение прошлого. Пусть поэтому вас не удивляет сочетание пресловутый Дунай у Ф. И. Тютчева в стихотворении «Там, где горы, убегая…»:
Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи…
В этом сочетании никакого пренебрежения или иронии к знаменитой реке нет. Пресловутого Дуная значит «знаменитого Дуная».
Изменение положительных слов в отрицательные иллюстрирует также и родственное нашему слову по корню ославить – «опозорить, распространить о ком-либо дурную славу» (от слава). Вспомните также глагол честить (сейчас «ругать»), имевший значение «прославлять, воздавать почести, оказывать кому-либо уважение». Возникновение у слов прямо противоположного значения – одна из закономерностей изменения значений слов и фразеологизмов (ср. скатертью дорога – исходно пожелание хорошего пути, т. е. гладкого, как скатерть < дъскатерть – «стол с гладкой (вытертой) крышкой»).
О слове риза у Пушкина и особенно у Лермонтова
Сейчас ризу можно увидеть лишь в церкви или музеях. Ведь для нас риза – это только «верхняя одежда священника, надеваемая им для богослужения». Поэтому о слове риза не стоило бы и говорить, если бы не некоторые обстоятельства его бытования в поэтическом языке XIX в. Интересны особенности его употребления в стихах Пушкина и Лермонтова, которые используют это существительное хотя и в близких, но все же разных значениях, ныне, однако, прочно и всеми забытых. Воскрешать их в нашей памяти совершенно необходимо, коль скоро нам хочется действительно понять, как говорил В. Брюсов, «потаенный смысл слов» в сложной и многоцветной стихотворной речи.
Со словом риза у Пушкина мы встречаемся в стихотворении «Арион», написанном 16 июля 1827 г. (несомненно, в связи с годовщиной казни руководителей декабристов 13 июля 1 826 г.). Себя поэт иносказательно изобразил в нем в облике героя древнегреческого мифа Ариона, спасенного от гибели дельфином, очарованным его чудесным пением. В заключительной части стихотворения Пушкин подтверждает свою верность свободолюбивым идеалам:
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Смысловую нагрузку (причем идеологической значимости) в этом четверостишии несут лишь первые две строчки. Остальные две строчки, образующие присоединительную конструкцию с и, воспринимаются как чисто версификационный «довесок», с информативной точки зрения избыточный и необходимый лишь для соблюдения строфического порядка. Именно здесь и появляется перед нами слово риза. Оно явно не современной семантики. Чтобы сделать этот вывод, достаточно вспомнить, что у Ариона, мифического певца языческой Древней Греции, одежды христианского священника (да к тому же для совершения богослужения) просто не могло быть: это было бы явным анахронизмом. Каково же значение существительного риза в этом контексте? Такое же, какое оно когда-то имело, – «одежда». Пушкин употребил здесь это слово в том архаическом значении, которым оно в начале XIX в. еще обладало (ср. народную загадку о кочанной капусте: Антипка низок, на нем сто ризок) и которое ему было свойственно, вероятно, с самого своего рождения (ср. др. – рус. ризы кожаны, сънискахъ тъкмо ризоу строуньноу, в ризу ко-рабленическую облекся и т. д.; серб. – хорв. риза «одежда»; болг. риза «рубаха» и т. д.). Заметим, что по своему происхождению слово риза скорее всего является производным от той же основы, что и резать, подобно тому как существительное рубъ (откуда – рубаха, рубище) – от рубить. Таким образом, риза влажная у Пушкина значит «мокрая одежда».
Не ризой оказывается риза и у Лермонтова в стихотворении «На севере диком стоит одиноко…», очень вольном, но от этого не менее чудесном переводе гейневской миниатюры «Ein Fichtenbaum steht einsam»:
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она…
Неточно понимают слово риза в этом контексте не только многие рядовые читатели, но и Л. В. Щерба. По поводу двух строк разбираемого стихотворения он пишет: снег сыпучий «…лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами И дремлет, качаясь и усугубленному сверкающей, очевидно, на солнце, ризой (выделено нами. – Н. Ш.), в которую превратилось Decke. Лермонтова не смущает ни ветер, который предполагается его же вставкой качаясь и от которого снег должен был бы облететь, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, – ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала…» (см.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 100–101). Оставим в стороне красивые, но, мягко выражаясь, малодоказательные и ничего не говорящие слова Л. В. Щербы о том, что сыпучий снег «может содействовать впечатлению волшебной сказки», что это впечатление «усугубляется ризой», что поэту требуется лишь образ, который бы уничтожил трагедию немецкого оригинала. Зададим, не смущаясь, лишь один вопрос: где Л. В. Щерба в стихотворении увидел солнце (а отсюда – и сверкающую ризу) и услышал ветер, «от которого снег должен был бы облетать»? У Лермонтова их нет, они домыслены ученым. О том, почему следует предполагать «мороз и солнце», ничего не сообщается.
О наличии ветра в открывающейся нашему взору картине, по мнению Л. В. Щербы, говорит «вставка слова качаясь», а также «место действия» (на голой вершине «предположить ветер более чем естественно»). Однако поэт описывал совсем другую картину.

Иллюстрация художника И. И. Шишкина к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Сосна». 1891 г.
Это станет ясным, как только мы перестанем фантазировать, приписывая словам риза и сыпучий те значения, которых они в стихотворении не имеют.
При легком ветерке (он не раскачивает сосну, а лишь покачивает ее) идет (сыплется) сильный (сыпучий) снег, отчего сосна стоит вся в снегу, покрытая им, «как ризой», т. е. как покрывалом.
Последнее значение («покрывало, саван») у существительного риза отмечается в самых ранних древнерусских памятниках. Ср. в «Остромировом евангелии»: Обиста е (тело) ризами съ ароматы, где слово риза передает др. – греч. othonion «полотно, покрывало».
Таким образом, нашему взору (вспомните известную картину И. И. Шишкина) представляется совершенно реальная картина (одинокая, вся в снегу), а не «красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала», как полагает Л. В. Щерба. Трагедию влюбленных (в немецком оригинале) уничтожают (в переводе Лермонтова) не строки И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она, передающие гейневские слова Ihn schläfert, mit weisser Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee, а замена нем. Fichtenbaum «сосна» мужского рода женским родом рус. сосна, о чем верно, кстати, пишет выше – вслед за А. А. Потебней и К. Б. Бархиным – и сам Л. В. Щерба в указанной работе. Впрочем, если говорить о сути, вряд ли одиночество, изображенное русским поэтом, менее трагично, нежели судьба влюбленных (которым суждено «жить розно и в разлуке умереть») у Гейне.
Очень субъективно также утверждение Л. В. Щербы, что лермонтовский текст написан «в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение» и выступает как намеренная «замена трагического тона оригинала красивой романтикой».
А сейчас вернемся к ризе. Отмеченное выше значение «покрывало, покров» у существительного риза встречается у поэтов – предшественников М. Ю. Лермонтова – нередко даже в пределах фразеологических оборотов перифрастического характера: Уже простерлася над понтом риза ночи (Херасков); Подземной бури завыванье Под страшной ризой темноты (Полежаев) и т. д. С такой же семантикой находим мы слово риза и у поэтов более поздних периодов, коль скоро в их индивидуально-авторском слоге нашли отражение элементы стихотворной речи первой половины XIX в.
Поэт и гражданин
Стихотворение «Гражданин» является самым страстным и лирическим среди поэтических произведений К.Ф. Рылеева, имеющих революционно-дидактический характер, и одним из наиболее ярких и выразительных произведений гражданской патетики в русской поэзии вообще. Высокая гражданственность содержания получила здесь удивительно адекватную художественную форму.
Особое внимание невольно обращаешь на лексику и фразеологию стихотворения. Она представляет собой тонкий сплав элегического и одического материала, состоящий из так называемых традиционно-поэтических слов, имеющих оттенок либо возвышенности и патетичности, либо взволнованности и лиричности.
Язык стихотворения удивляет своей современностью, поразительной чистотой от устаревших и неизвестных слов и оборотов. В стихотворении полностью отсутствуют типичные для высокой поэзии того времени мифологические образы. В нем нет ни одного слова или выражения, которого не знала бы книжная лексика современного русского литературного языка. Даже неупотребительные сейчас неполногласные прилагательные младой и хладный хорошо знакомы современному читателю через родственные слова (ср. младенец, и стар и млад, хладнокровие, прохладный и пр.). В целом ясны в нем с семантической точки зрения все слова. И все же некоторые из них имеют смысловую особенность, которую совершенно обязательно надо учитывать для правильного понимания текста.
Особенно важно, если мы хотим увидеть стихотворение «Гражданин» в его истинном «содержательном» свете, понять политически маркированные «вольнолюбивые» слова, лексические единицы, какими являются в этом произведении Рылеева существительные гражданин, свобода, отчизна, народ, Брут и Риего. И здесь в первую очередь следует остановиться на слове гражданин, так как оно отражает главную тему стихотворения.
Старославянское по своему происхождению слово гражданин здесь не имеет ни современного значения «подданный того или иного государства», ни архаического значения «горожанин» (это значение является этимологически исходным), а обозначает (появившись впервые как семантическая калька революционного французского citoyen у Радищева) патриота, превыше всего ставящего интересы родины и народа, борца «за угнетенную свободу человека» и справедливый социальный строй.
Тема гражданина (и соответственный образ) была постоянной у Рылеева и ранее. Так, в думе «Волынский» Рылеев призывает:
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина.
В думе «Державин» «высокий удел певца» Рылеевым, в частности, усматривается в том, что
К неправде он кипит враждой,
Ярмо граждан его тревожит;
Как вольный славянин душой
Он раболепствовать не может.
В стихотворении «Вере Николаевне Столыпиной» поэт заявляет:
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой.
Стихотворение «Я не хочу любви твоей…» заканчивается следующим четверостишием:
Любовь никак нейдет на ум.
Увы, моя отчизна страждет;
Душа в волненье тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.
От стихотворных заветов Рылеева быть прежде всего гражданином – прямой путь к некрасовскому антитезному афоризму Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан, характерному для эпохи революционного народничества. Выразительный оборот Некрасова появился на свет под несомненным влиянием рылеевского словоупотребления.
Противопоставляя гражданина живущей для себя молодежи «переродившихся славян», Рылеев горячо борется и за гражданское искусство, поэзию больших политических и воспитывающих тем.
Отсюда противопоставление поэта, воспевающего любовь, праздность и негу, служение музам и т. д., поэту-гражданину:
Прими ж плоды трудов моих…
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства,
Зато найдешь живые чувства —
Я не поэт, а гражданин.
(«Войнаровский»)
Личные имена Брут и Риего, заключающие финальное четверостишие, в качестве определенных поэтических образов дополняют и конкретизируют тему гражданина как борца за свободу. В образ Брута, древнеримского республиканца, сначала друга Цезаря, а затем, когда тот стал императором, одного из активных участников заговора против него (ср. выражение И ты, Брут!), декабристы вкладывали одно из заветнейших положений своей идеологической системы – о праве на восстание против тирана.
Риего, вождь испанской революции 1820 г., казненный после ее подавления, был для Рылеева современным (и потому особенно наглядным) примером истинного сына отечества, подлинного гражданина, не пожалевшего для счастья народа собственной жизни.
В образах Брута и Риего в концентрированном виде представлены и идея восстания против самовластья, и идея жертвенности во имя свободы отчизны, готовности, если надо, на верную смерть (идея, особенно сильно разработанная Рылеевым в поэме «Наливайко»). Образ Риего встречается у Рылеева только в «Гражданине». Образ Брута мы находим в нескольких произведениях, и в частности в сатире «К временщику» (Тиран, вострепещи! родиться может он, Иль Кассий, или Брут, иль, враг царей, Катон!), в оде «Гражданское мужество» (Лишь Рим, вселенной властелин. Сей край свободы и законов, Возмог произвести один И Брутов дух, и дух Катонов, Но нам ли унывать душой… ) и в поэме «Войнаровский» (Чтить Брута с детства я привык: Защитник Рима благородный, Душою истинно свободный, Делами истинно велик). Последнее понятно, так как в политической поэзии того времени образ Брута был уже ходячим. Неоднократно встречается он, например, в гражданской лирике А. С. Пушкина.
«За звук один…»
Читая и перечитывая М. Ю. Лермонтова, не перестаешь удивляться «благородной силе и святой прелести» его удивительно «живых», «простых и гордых слов», рожденных «из пламя и света» его вдохновенной души. И сейчас, спустя более полутора столетий после трагической смерти великого писателя земли русской, его чудесная поэзия и проза являются родными и кровными для нас своим пронзительным художественным совершенством, своей жизненной правдой и нравственной чистотой, своей высокой гражданственностью и глубоким лиризмом.
И что самое примечательное, что привлекает особенно, – это настежь открытое сердце поэта. Его мысли и чувства открыты читателю и в нашу эпоху, несмотря на неумолимый бег времени, огромные социальные перемены и изменения в литературе как словесном искусстве. Такое поразительное на первый взгляд обстоятельство объясняется не столько тем, что Лермонтов в своих произведениях освещает принципиально важные всевременные и общечеловеческие вопросы, сколько тем, что его сочинения оказываются написанными, по существу, на современном русском литературном языке, «до странности» чистом от архаических и малоупотребительных (диалектизмов, жаргонизмов) фактов. «Как жемчуг нижутся слова», соразмерно и мерно льются святые звуки под пером Лермонтова, и подавляющее большинство слов хорошо нам известно, близко и понятно. Все это делает гениальные создания писателя до сих пор на редкость современными (и не только по прозрачному и ясному языку, но и по характеру идейного и эстетического их воздействия).
И все же было бы неверным считать, что в художественной речи Лермонтова нет никаких сторонних нашему языковому сознанию фактов и явлений. Они все-таки есть. Это связано и с довольно значительной временной дистанцией, отделяющей нас от писателя, и с теми особенностями, которыми богаты язык художественной литературы в целом и поэтика Лермонтова в частности. Именно поэтому, читая и перечитывая бессмертные произведения навсегда молодого Лермонтова, надо всегда прочитывать их внимательно и придирчиво.
Разберем пример, который нам предлагает заглавие данной новеллы. Речь пойдет о строке «За звук один волшебной речи…» из стихотворения «Как небеса, твой взор блистает…». Только остановившись и подумав, мы увидим и услышим, что кроется здесь за словом звук. Сейчас это слово имеет два актуальных общеупотребительных значения – «то, что мы слышим, т. е. слуховое ощущение колебательного движения чего-либо в окружающей среде» и «элементарная фонетическая единица языка». В разбираемом отрывке (речь всегда образуется из соответственно связанных друг с другом слов, а не звуков!) говорится о слове. Поэтому соответствующая строчка значит «за одно слово волшебной речи». Такое «словесное», а не «звуковое» значение у слова звук в поэзии первой половины XIX в. встречается очень часто (ср. у А. С. Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»). Такое значение этого слова наблюдается постоянно и у Лермонтова: «Замолкли звуки чудных песен»; «Тогда признательную руку в ответ на ваш приветный взор навстречу радостному звуку он в упоении простер» и т. д.
Слова он весил осторожно
Звук лермонтовской лиры всегда был прозрачно чистым, простым и афористически острым. Лермонтов как бы предвосхитил развитие русского литературного языка: так немного – по сравнению с другими поэтами первой половины XIX в. – у него архаического и неясного. «Странное» и постороннее встречается в его произведениях довольно редко, даже если их читаешь придирчивым глазом лингвиста. К языку и художественной форме он относился чрезвычайно обязательно и слова выбирал осторожно. И тем не менее, конечно, в его поэзии чужое нашей современной речи встречается, и в лингвистическом комментировании оно нуждается не менее, чем произведения других поэтов прошлого – время неумолимо идет вперед. Возьмем хотя бы справедливую по отношению к нему строчку названия заметки. Разве она не останавливает вас словом весил= Ведь мы бы сейчас сказали: взвешивал, обдумывал, выбирал. Наше весить значит «иметь какой-либо вес» и является непереходным глаголом. А у Лермонтова оно принадлежит уже к числу глаголов переходных и имеет иное, более абстрактное значение (семантику). Лермонтовское весил иное и семантически, и грамматически. И его как лексико-грамматической единицы в настоящее время просто нет, почему оно и не отмечено даже в академическом «Словаре русского языка» (под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981. Т. 1).
Добавим в конце заметки, что строчки «Слова он весил осторожно И опрометчив был в делах» из «Монго» являются частью самохарактеристики Лермонтова (по поэме – Маёшки), считавшего себя опрометчивым.
Правильно ли без запятых?
Первое известное нам стихотворение четырнадцатилетнего (!) М. Ю. Лермонтова «Осень» (1828) начинается следующим четверостишием:
Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
В нем все понятно, но не режет ли вам глаза третья строчка? Не привлекает ли к себе при вторичном прочтении слово поникши? Наверное, привлекает и удивляет. Кажется, что здесь то ли не хватает запятых перед и после слова, то ли буквы е в его конце. Может быть, это деепричастие совершенного вида (такое, как замерзши, принесши, испекши и т. д.)? В таком случае, почему тут нет запятых? Опечатка? Или Лермонтов не знал, что деепричастие в подобного рода случаях всегда на письме выделяется запятыми?
Ни то, ни другое. Просто здесь поникши – не деепричастие, а прилагательное (из причастия), выступающее как определение к существительному ели. Но тогда, вы спросите, по какой причине отсутствует «заключительное» привычное е полных прилагательных (зеленые, высокие, стройные и т. д.)? По самой простой. Перед нами здесь не полное прилагательное (но и не краткое: краткое прилагательное выступает всегда в качестве сказуемого, см. в том же стихотворении: «Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит»), а так называемое усеченное. Усеченные прилагательные поэтами XVIII – первой половины XIX в. употреблялись очень активно и часто как одна из поэтических вольностей, «усекающих» лишний слог. Использовались такие прилагательные с чисто версификационными целями в пределах предложения на правах определений, а не сказуемых. Это самая яркая дифференциальная черта усеченных прилагательных, хотя от кратких прилагательных их отличало иногда также и ударение, всегда совпадающее с ударением «родительского» полного прилагательного.
Исчезли они как регулярная поэтическая вольность только после преодоления Пушкиным и Лермонтовым традиций стихотворной речи XVIII в. С 40-х гг. XIX в. в русской поэтической практике они уже встречаются только изредка.
У раннего Лермонтова их так же много, как и у раннего Пушкина. Вот несколько примеров: «Но долго, долго ум хранит Первоначальны впечатленья» («Поэт»), «Русы волосы кудрями Упадают средь ланит» («Портреты»), «Жизнь любит и юность румяную» (там же), «И пыхнет огнь на девственны ланиты» («Письмо»), «Я презрю песнопенья громки» («Наполеон») и т. д.
Не напрасно о слове напрасно
В современном русском литературном языке слово напрасно имеет значение «бесполезно» и входит в синонимический ряд бесполезно, зря, бестолку, всуе, попусту. Оно часто встречается в нашей речи, но кажется малоинтересным лингвистически. Однако пишу о нем я не напрасно. Слово это лишний раз свидетельствует о том, какое значение для познания существующей языковой системы имеет изучение ее истории. И ярким примером может служить употребление Лермонтовым слова напрасно в автобиографической поэме «Сашка». Помните отрывок об университете, списанный как бы с натуры:
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый…
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно…
Какое значение имеет здесь напрасно? Явно не наше. Притекшие (т. е. «пришедшие») студенты в аудитории. Переговариваются. Входит профессор, кланяется чинно. А как входит? Напрасно, т. е. «неожиданно, вдруг». Да-да! Слово напрасно обозначает здесь «неожиданно, вдруг, внезапно». Так и употреблялось раньше это слово не только Лермонтовым, но и другими поэтами и писателями (хотя у Пушкина известно только в современном значении).
Более того, для нашего слова это значение является первоначальным от самого его рождения как лексической единицы.
В древнерусском языке значение «вдруг, неожиданно» у него было просто единственным: Черноризець… въ един день здравъ сыи (= «существующий». – Н. Ш.), напрасно умре; Напрячь стрелу самострельную, юже испусти напрасно, ею же уязви в сердце его гневливое и т. д.
А унаследовано оно было таким еще из общеславянского языка. Вот так встали у Лермонтова рядом новое, с Петровской эпохи, немецкое профессор и старинное, праславянское напрасно.
Возможное заблуждение
Грамматика меняется медленно, и устарелых фактов, скажем, морфологии в языке Лермонтова почти нет. Но не думайте все же, что в нем все, как у нас. В стихотворении «Заблуждение Купидона», написанном еще в Московском университетском пансионе (1828), одна грамматическая форма может ввести вас в заблуждение. Истинного ее значения вы можете просто не заметить, особенно при беглом чтении, когда по-настоящему в смысл не вникаешь.
Вот заключительные горько-констатирующие строки, в которых она содержится:
Так в наказаниях всегда почти бывает:
Которые смирней, на тех падет вина.
Прочтите их внимательно. Все ли здесь «наше»? Где архаическая форма? Вы говорите: падет? Да, вы правы: перед нами мнимая форма будущего времени. В действительности мы имеем дело здесь с формой настоящего времени, только устаревшей, заброшенной нами на далекую периферию языка. О том, что падет – настоящее время от пасть, а не будущее (хотя актуальная и регулярная форма настоящего времени падает нас путает), совершенно очевидно говорит и «всевременной» характер афоризма, и наречие всегда, и настоящее время бывает.
Возможно, что падет попала к Лермонтову в стихи как элемент традиционно-поэтической лексики (вместе с соответствующим грамматическим значением). Такое слово встречается, например, как форма настоящего времени неоднократно и в стихах Пушкина:
Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства
Молчит закон – народ молчит,
Падет (= «падает». – Н. Ш.)
преступная секира…
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.
(«Вольность»)
Раздался девы жалкий стон,
Падет (= «падает». – Н. Ш.) без чувств —
и дивный сон
Объял несчастную крылами.
(«Руслан и Людмила»)
О белых ночах
В поэме «Сказка для детей» М. Ю. Лермонтова, которую Белинский, Гоголь и Огарев считали лучшим стихотворным произведением поэта, большую часть составляет следующий за авторским введением повествовательный монолог основного героя – нового Демона. В своей исповеди-рассказе он, в частности, говорит:
Тому назад еще немного лет
Я пролетал над сонною столицей.
Кидала ночь свой странный полусвет,
Румяный запад с новою денницей
На севере сливались, как привет
Свидания с молением разлуки;
Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Неясно раздавались – и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча, с волной их уносила в море.
Внимательное чтение этой строфы дает нам исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в заглавии заметки. Пять конечных строк, не имеющих в своем составе ничего неизвестного и особого, сообщают нам только о том, что дело было, как говорится, не зимой: «Нева, журча, бежала к Финскому заливу». Точное (до месяца) время показывают предыдущие четыре строчки. Но для этого надо их читать не спеша и (если это вам неизвестно) узнать в словарях, какое значение имеет слово денница. Указанное существительное, о чем свидетельствуют все толковые словари, значит «утренняя заря» и является традиционно-поэтическим архаизмом (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Блеснет заутра луч денницы, И заиграет яркий день…»). Слово денница встречается у Лермонтова уже в его первой поэме «Черкесы»:
Денница, тихо поднимаясь,
Златит холмы и тихий бор;
И юный луч, со тьмой сражаясь,
Вдруг показался из-за гор.
Теперь все ясно, если вы будете вникать в лермонтовский текст. Румяный запад – «солнечный закат», новая денница – «восход», и они сливаются вместе, рядом, как свиданье и разлука. Так это же очень искусное и выразительное описание белой ночи, когда вокруг не обычная темнота, а «странный полусвет»! Мы подходим к развязке. Герой пролетал над столицей, которой был тогда Петербург. Теперь надо вспомнить лишь, когда в этом городе бывают белые ночи. Если на свою память полностью не полагаться, можно заглянуть в Большой энциклопедический словарь. Там сказано: «В С. – Петербурге (ок. 60° с. ш.) белые ночи продолжаются с 11 июня по 2 июля». Как видим, все было летом, по тогдашнему календарю, в третьей декаде июня или первой декаде июля.

Лермонтовская зарисовка белой ночи перекликается с еще более пространным пушкинским описанием белых ночей в поэме «Медный всадник»:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид…
…………………………………………….
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Оба описания одинаково выразительны и лиричны. И все-таки какие они удивительно разные! С одной стороны, нарочито строгие и «прозаические» строки Пушкина. С другой стороны, расцвеченные слова Лермонтова, с чудесным и «странным» сравнением.
Телескоп, виды и павильон
Слова, значения которых сейчас не очень ясны, а иногда и вовсе неизвестны, могут быть самыми разными, однако все они относятся к лексической периферии. Все они не являются частотными, и потому или полузабытые «на полочке нашей памяти» лежат где-нибудь в самом закутке, или неизвестны совершенно, слова со стороны, чужие нашему языковому сознанию. Они могут быть и архаизмами, которые ныне сменили другие, более «молодые» и подходящие, и историзмами, которые ушли в пассивный фонд потому, что исчезли называемые ими предметы и явления, и территориально или социально ограниченными в своем функционировании средой или сферой общения единицами (диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами). Приведем и кратко объясним далее некоторые из них.
Читаем первые страницы второй части романа «Героя нашего времени» Лермонтова – «Княжна Мери». Запись Печорина от 11 мая: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус».
В этом предложении надо смотреть в лингвистический микроскоп, чтобы не просмотреть «не наши слова». Хорошо виден разве только Эльборус с иной устаревшей огласовкой, чем в настоящее время, но тот же самый Эльбрус. Далее останавливает взор слово телескоп. Ясно, что речь идет здесь не о приборе для наблюдения небесных светил, а о самой обычной подзорной трубе. Увидеть, что слово виды в приведенной фразе имеет несовременное значение, можно, только уже в него как следует всмотревшись. Виды (множественное число) здесь «картины природы, пейзаж». Такое значение иллюстрируется современными толковыми словарями только из произведений XIX в.
Вглядевшись, можно заметить, наконец, что со старым значением «беседка» угнездилось в этой фразе и существительное павильон.
Как видим, в одном предложении нас поджидают четыре архаизма разной степени устарелости.
Хлеб с маслом
Речь далее пойдет о тех определениях, которые эти слова имеют в устах Печорина в романе «Княгиня Лиговская» Лермонтова. Вот интересующий нас отрывок:
Терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек…
Что это за чухонское масло и решетный хлеб? Перед нами два историзма, отражающие русский быт XIX в. Чухонское масло значит буквально «финское». Чухонцами (ср. в «Медном всаднике» А. С. Пушкина: «Приют убогого (= «бедного») чухонца) в Петербурге называли «пригородных финов» (ДальВ. И. Толковый словарь…). Чухонским маслом (в отличие от русского, т. е. топленого) называли обычное масло из сливок, сливочное масло, вроде того, которое мы сейчас называем крестьянским или любительским. Кстати, Чухонским иногда называли Чудское озеро, и не случайно, поскольку прилагательное чухонское является производным от чухно – «чухонец», экспрессивного образования на – хно (ср. образования типа Юхно < Юрий, Яхно < Яков, Михно < Михаил и т. д.) от чудь, названия североприбалтийских финских племен (ср. «Мера намерила, Чудь начудила» у Маяковского). Ну а что же решетный хлеб?
Этот сорт хлеба непосредственно связан с решетом, поскольку его пекли из просеянной через решето муки. Слово решетный образовано от существительного решето, точь-в-точь как ситный – от сито, обозначающего то же решето, но только с более частой сеткой. Просеянная через решето мука всегда является более крупной, и, естественно, хлеб из нее более грубый, нежели из ситной муки, значительно более мелкой и нежной.
О пирамидальном тополе
Все, кто читал лермонтовского «Демона», никогда не забудут чудесное описание поэтом Грузии. Оно занимает всю четвертую строфу первой главы. Не будем приводить ее полностью. Процитируем лишь отрывок:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени…
Прекрасные стихи, простые и ясные «святые звуки». И все-таки при замедленном их чтении внимательным читательским оком мы «наталкиваемся» в одном месте этого отрывка на словесную неясность, из-за которой текст в определенной мере теряет свою информационную простоту. Нет, это (хотя оно и немного озадачивает) не устарелые ударения в словах камней или венчанные, постановку которых – вопреки современным литературным нормам – предписывает нам принятый Лермонтовым в поэме размер. И конечно, не архаическое управление и значение глагола петь – «воспевать» (поют красавиц). Оно знакомо нам «из Маяковского» (ср.: «Пою мое отечество, республику мою!»). И тем более – не несколько неожиданная и свободная сочетаемость прилагательного безответный (безответные красавицы, а не безответная любовь, как мы сейчас бы сказали). Более того, этой словесной неясностью не являются даже лексические архаизмы кущи и сени, являющиеся у Лермонтова данью элегическому словарю первой четверти XIX в. Ведь контекст – правда, не совсем точно – позволяет нам все-таки понять сочетания кущи роз и чинар развесистые сени, пусть слова кущи и сени для современного носителя русского языка и могут связываться в их сознании со словами кусты и тень. В данном произведении существительные кущи и сени проявляют, как традиционно-поэтические слова, значения «заросли» и «лиственный покров деревьев, листва». Ну а заросли образуют кусты, листва же, естественно, дает тень! Так что же особенно вносит неясность в простоту приведенного отрывка из «Демона», создает преграду к его полному, исчерпывающему восприятию?
Таким «подводным камнем» в стихотворной стихии Лермонтова здесь оказывается четвертая строчка – столпообразные раины. Что же значит это начальное звенышко в большой цепочке перечислений, живописующих долины Грузии? Сложное прилагательное столпообразные доходчиво: оно образовано с помощью словообразующего элемента– образный (по модели шарообразный, змееобразный, дугообразный, волнообразный и т. п.) от столп и значит «похожие на столп». Какие же реалии (а из «прилагательности» столпообразные и его формы множественного числа видно, что далее идет существительное) называет слово раины? Вот тут нам даже самое придирчивое чтение текста ни капельки не поможет. Неясна сама категориальная сущность обозначаемых предметов: создания ли это человека или какие-либо явления природы? Все темно во облацех! Может быть, это как раз тот случай, когда, по словам поэта, «Есть речи значенье темно иль ничтожно, но им без волненья Внимать невозможно». Оставим на минутку «Демона» и возьмем в руки либо словарь В. И. Даля, либо 17-томный академический «Словарь современного русского языка», так свободно и часто (к нашему счастью!) включающий в себя несовременные слова.
В них мы найдем прозаический ответ, что необычайно странная столпообразная раина всего-навсего ботанический термин, который обозначает «пирамидальный тополь».
Встречается это слово в поэзии первой половины XIX в. и у Н.М. Языкова:
Вот и Ломбардия! Веселые долины,
Румяный виноград, каштаны и раины.
В заключение несколько слов об этом темном слове вообще. Оно является темным и в разбираемом тексте (по своему лексическому значению), и вне его (правда, уже по своему происхождению). Надежного объяснения происхождения этого существительного еще нет, и раскрыть его родословную предстоит. Если иметь в виду, что слово рай имело значение «сад», а сад обозначало также и «растение, дерево» (ср. диалектное рай-дерево – «алтайская, душистая осокорь, пахучий тополь»), то можно пока остановиться на предположении, что существительное раина – суффиксальное производное от рай (= «дерево») с помощью суффикса– ин(а) по модели осина, бузина, маслина и т. д.
Сапоги его скрыпели
Давайте вспомним дневниковую запись Печорина от 5 июня в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Она начинается с описания Грушницкого, когда он, после производства в офицеры, впервые появляется в офицерской форме:
За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол…
В этом язвительном описании неизвестных современному читателю слов как будто нет. И тем не менее вряд ли вы полностью представляете изображаемую Лермонтовым картину вырядившегося Грушницкого. И дело здесь не только в том, что для правильного понимания необходимо хорошо знать значения слов и словосочетаний эполеты, крылышки амура и двойной лорнет. Нужно иметь в виду также и то, что непонятное может «прятаться» в самых понятных, обычных и обыденных словах.
Однако обо все по порядку.
Значение слова эполеты, наверное, вам известно. Эполеты – это погоны с парадным шитьем, но погоны офицерские, поэтому слово эполеты ранее часто употреблялось как указание на принадлежность к офицерству:
Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры… – Толкуйте, толкуйте, доктор! вы не помешаете мне радоваться; он не знает, – прибавил Грушницкий не на ухо: – сколько надежд придали мне эти эполеты…
О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводные звездочки.
Сравните подобное употребление у Пушкина:
Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостна – отроду эполеты не казались мне столь завидными.
Чтобы воочию увидеть эти «неимоверной величины» эполеты у Грушницкого, надо также вспомнить крылышки амура, т. е. живописные и скульптурные изображения древнегреческого ифологического бога любви Амура в виде голого кудрявого мальчика с крылышками за спиной.
Теперь обратим внимание еще на одну деталь в портрете Грушницкого. На бронзовой цепочке щеголя висел двойной лорнет. Точное значение этого словосочетания и соответствующее зрительное представление вам дадут словарь В. И. Даля, «Словарь языка Пушкина» и контекст, взятые вместе. Лорнет – «складные очки в оправе». В принципе он может быть, как указывает В. И. Даль, и с ручкой, и на цепочке. У Грушницкого – на бронзовой цепочке. «Словарь языка Пушкина» утверждает, что у Онегина был двойной лорнет с ручкой (Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложи незнакомых дам…). Судить о том, каким двойным лорнетом пользовался Онегин, мы не можем: контекст не дает для этого никаких, даже косвенных, показаний. Цепочка могла быть и у него!
А теперь – о том, что в словесном отношении не содержит в себе ничего несовременного, что совершенно понятно и в то же время не позволяет нам до конца и адекватно понять сообщаемое, коль скоро мы не знаем того, что заключено в так называемых «фоновых» долях значения слов, отражающих культурно-исторические факты. У Лермонтова в разбираемом отрывке подобное наблюдается в предложении Сапоги его скрыпели. Оно является не простой констатацией факта скрипения. В противном случае эта фраза была бы лишней. Она имеет второй – очень информативный – план, являясь органической частью описания празднично-франтоватого костюма Грушницкого. Ведь в ней Лермонтов сообщает нам, что у его героя были также (вместе с двойным лорнетом, цепочкой, эполетами) и сапоги со скрипом, т. е. особые щегольские сапоги, по-особому сшитые сапожником, которые обычно надевались по праздникам. Вот что сообщает об этом в своем «Толковом словаре…» В. И.Даль: «Скрып, в сапогах, по заказу давальцев (т. е. заказчиков. – Н. Ш.), лоскутки кожи, вымоченные в уксусе, пересыпанные серой и вложенные меж стельки и подошвы» – и приводит далее характерную пословицу Сапожки со скрыпом, а каша без масла.
Как видим, предложение Сапоги его скрыпели – важный штрих в лермонтовском рисунке безвкусно одетого, расфранченного Грушницкого.
О двух словах драгунского капитана
Этот случайно подслушанный Печориным разговор, имевший роковое значение для Грушницкого, помнят, несомненно, все, кто читал «Героя нашего времени». Вот его начало:
Драгунский капитан… ударил по столу кулаком, требуя внимания.
– Господа! – сказал он, – это ни на что не похоже; Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.
Что же в этом отрывке останавливает нас в стремлении понять его полностью и до конца? Какие слова здесь могут помешать доверительному разговору великого русского писателя с современным читателем?
Во-первых, в приведенном отрывке есть лексико-семантический архаизм – существительное свет. Правда, оно – несмотря на свою устарелость – большинству хорошо знакомо по классической литературе; свет – это «светское общество». На память сразу же приходит неоднократное употребление слова в этом значении А. С.Пушкиным в «Евгении Онегине». Два примера:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Ясно, что здесь Пушкин говорит о появлении Онегина в светском обществе. То же светское общество ы види и в других строчках:
Нет: рано чувства в не остыли;
Ему наскучил света шум…
Какой же архаизм еще стоит между нами и процитированным текстом? Таким выступает слово слетки. В принципе оно для нас – архаизм собственно лексический, так как существующее сейчас слово слетка (множественное число – слетки) подавляющему большинству людей не известно. И это понятно: оно находится на далекой словарной периферии и является «своим» только для охотников и орнитологов (т. е. ученых, занимающихся изучение птиц). У них слово слетка обозначает молодую птицу, только начинающую вылетать из родительского гнезда.
В наше контексте данное птичье имя означает молодого человека. Для слова слетка это переносное значение ныне устарелое, архаическое. Следовательно, предложение «Эти петербургские слетки всегда зазнаются…» почти равно предложению «Эти петербургские молодые люди всегда зазнаются».

Рисунок М. Ю. Лермонтова к роману «Герой нашего времени»
«Почти» потому, что слетка – не нейтральное обозначение молодого человека, а пренебрежительное, эмоционально окрашенное. По своему происхождению оно аналогично другим «животным» наименованиям человека с той или иной отрицательной в эмоциональном плане оценкой, таким, как клуша, попугай, сорока, цыпленок, щенок, сосунок, змееныш и т. п.
Как пренебрежительное обозначение молодого человека существительное слетка близко по значению словам типа молокосос, сосунок, щенок, мальчишка (ср. у А.П.Чехова в рассказе «Месть»: «Молокосос… – думал он, сердито ломая мелок. – Мальчишка…»).
Неясный ропот
В современном русском литературном языке существительное ропот неотделимо от глагола роптать. Ведь слово ропот действительно имеет значение «негромкая и невнятная речь недовольства», «речевое выражение отрицательного отношения к чему– или кому-либо». Такое же значение наблюдаем мы у этого слова и в древнерусском языке.
Но вот мы вновь раскрываем роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова:
Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.
И (если мы не скользим по тексту, а действительно его читаем) натыкаемся на ропот… похвал! Что это такое? Те, кто слушал пение княжны Мери (кроме Печорина), когда она кончила, стали ее хвалить. Значит? Значит, у слова ропот в лермонтовском употреблении здесь иное значение. Его можно определить как «шум, гул; слова, говор». Вокруг Мери раздались (искренние или неискренние – неважно) слова похвалы. Аналогичное значение имеет это слово у Лермонтова и в дальнейшем изложении: «Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости».
Как объяснить такое непривычное для нас использование слова ропот Лермонтовым? Ошибка это? Или его индивидуально-авторский неологизм? Как показывают данные древнерусского языка, ни то, ни другое. Писатель использовал здесь слово ропот в том значении, которое было известно издавна. Правда, он все же свое личное «я» здесь высказал: оно выразилось в расширении им сочетаемостных границ существительного ропот. Поэт смело поставил рядом со словом ропот отвлеченное существительное в родительном падеже (похвал, недоверчивости), тогда как обычно за этим словом следует (точно в том же падеже) существительное конкретное. Последнее встречается и у Лермонтова. Так, например, слово ропот в значении «неясный гул, шум» мы встречаем в «Тамани»: «Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напоминал мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу»; «Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны».
Синонимическое слову ропот существительное роптанье как производное от глагола роптать ожидает нас и в поэме «Демон»:
… И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило…
О двух строчках из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта»
«Лермонтовская строчка Угас, как светоч, дивный гений хорошо всем знакома. Вот ее непосредственное словесное окружение из замечательного стихотворения, написанного поэтом на смерть А. С.Пушкина:
Что ж? веселитесь… он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Перед нами четверостишие, заканчивающее первую часть горького и гневного поэтического некролога, произнесенного М. Ю. Лермонтовым во весь голос поэта и гражданина и на всю читательскую Россию того времени.
В этой части наша строчка выделяется тем, что она содержит единственное образное сравнение данного произведения – как светоч. Обращали ли вы внимание на выразительность, поэтический характер и лиричность этого сравнения? Ведь в строчке, его заключающей, в слове светоч просвечивает его прежняя семантика, близкая к этимологически исходному значению, а вовсе не та, которую оно имеет сейчас.
В настоящее время существительное светоч значит «носитель» и в своем употреблении является фразеологически связанным. Как определенная лексическая единица со значением «носитель» оно реализуется лишь с родительным падежом немногих абстрактных существительных положительной семантики (мир, прогресс, свобода, правда и т. д.): светоч мира, светоч правды и пр. В лермонтовском сравнении тоже есть светоч, но это, как говорят, Федот, да не тот. В нем этому слову свойственно старое, ныне уже архаическое значение «свеча, лучина, факел» – «все то, что, горя, освещает». Благодаря этому в строчке Угас, как светоч, дивный гений глагол угас, имеющий в качестве факта традиционно-поэтической лексики переносное значение «умер» (ср. у Пушкина в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…»: И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас (= «умер») Наполеон), как бы получает также и свое исходное, прямое значение «потух, перестал гореть». Возникшее в результате сравнения (как светоч) двойное содержание глагола угас позволяет Лермонтову снять со строчки налет поэтической условности и дать зрительно очень яркую и выразительную картину, воскрешающую в памяти образы народных песен (ср.: Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я…; Словно свечка восковая угасает жизнь моя и т. д.). Правда, по всей вероятности, разбираемая нами строчка не восходит непосредственно к фольклору, а представляет собой творческую трансформу элегического словоупотребления предшественников. Вспомните, например, отрывок из поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина:
И гасну я, как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин.
Подобного характера и соответствующие строчки из его элегии «Я видел смерть…» (1816):
Уж гаснет пламень мой,
Схожу я в хладную могилу.
Заметим, что и в следующей строчке стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» глагол имеет аналогичную семантику (увял = «умер»), так же совмещенную с прямой и исходной (увял = «засох»): увял торжественный венок.
Подобное оживление метафорической сущности слова увял, причем развернутое в целый образ, на котором строится все стихотворение, находим у Пушкина, ср. заключительные строчки «Цветка» (1828):
И жив ли тот, и та жива ли?
И ныне где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
Строчки Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок образуют единое целое и в смысловом, и в образном отношении, выступая в виде конструкций с синонимическими глаголами (угас, увял), в которых одновременно – благодаря сравнению как светоч и метонимии торжественный венок – выступают и их исходные, прямые значения. Заключая первую скорбную часть стихотворения, они осознаются как последний и наиболее выразительный аккорд, подытоживающий тот синонимический ряд обозначений смерти поэта, на котором, собственно говоря, вся эта часть стихотворения и строится (погиб… пал… убит…).

Беловой автограф «Смерти Поэта» (без заключительных строк). С пометой В. Ф. Одоевского
В заключение следует сказать, что обе разобранные строчки из стихотворения «Смерть Поэта» (как и многое другое, что в нем содержится), несомненно, являются очень своеобразным и самобытным «переплавом» пушкинских строк (ср.: И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой) о Ленском (гл. VI):
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..
Слова цвет прекрасный увял транспонируются в увял торжественный венок, а сочетание потух огонь на алтаре дает жизнь строчке Угас, как светоч, дивный гений.
Наконец, несколько слов о слове светоч в словообразовательно-этимологическом аспекте. Это существительное в своем прямом значении («то, что, горя, освещает; факел, свеча, лучина») возникло, как и слово свеча, в качестве суффиксального производного от слова свет. Правда, первоначально в нем выделялся не суффикс– оч-, как сейчас, а суффикс – ыч-.
Как видим, лингвистический анализ слова светоч и его соседей позволяет правильнее и глубже понять образную структуру и художественные особенности начальной части «Смерти Поэта». Рассмотрение под лингвистическим микроскопом существительных суд и правда и их производных (судия и праведная), а также окружающих их слов имеет еще большее значение, так как помогает уже понять истинное содержание последней части стихотворения и установить ее подлинный текст. А это ведь пока толкуется лермонтоведами по-разному. И в тексте стихотворения то мы встречаемся с трехкратным употреблением слова суд, то рядом с ним в третий раз появляется уже слово судия. Но об этом читайте уже в следующей заметке.
Грозный суд или грозный судия?
В различных изданиях сочинений Лермонтова одна из строк заключительной части «Смерти Поэта» дается по-разному. То мы читаем: Есть грозный судия: он ждет (см., например: Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 1. С. 20), то находим: Есть грозный суд: он ждет (см. хотя бы: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964.
Т. 1. С. 23). Эти разночтения существуют, конечно, прежде всего потому, что автограф последней части стихотворения не сохранился и текст печатается по спискам и воспоминаниям. А списки и воспоминания могут быть разные: и по достоверности, и по качеству.
Однако думается, что указанные разночтения объясняются также и другими причинами: самим контекстом позднейшего дополнения к первоначальному варианту стихотворения и его различным чтением (а значит, и толкованием).
Особенно четко и наглядно это можно наблюдать в комментарии разбираемого стихотворения М. Ю. Лермонтова И. Л. Андрониковым. Им принимается чтение соответствующего отрывка с сочетанием грозный суд:
Но есть и Божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный суд: он ждет.
По его мнению, сочетание грозный суд, известное в списках, меняет смысл заключительных строк: грозный судия после Божьего суда ассоциировался с судией небесным. Получалось, что палачей свободы должен покарать Бог, что их ждет загробная кара. Грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Такой смысл подтверждает текст стихотворения П. Гвоздева, написавшего свой ответ на лермонтовское стихотворение 22 февраля 1837 г.: Не ты ль сказал: «есть грозный суд!» И этот суд есть суд потомства (см.: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М., 1964. Т. 1. С. 563). Приводимые доказательства в защиту сочетания грозный суд (а не грозный судия), как видим, носят внетекстовой характер и целиком опираются не на внимательное чтение заключительных шестнадцати строк «Смерти Поэта» и учет характерных для Лермонтова поэтических формул и употреблений, а на сторонние для произведения факты (вроде списков и риторического вопроса в стихотворении П. Гвоздева) и их предвзятое и субъективное истолкование, а поэтому доказательными аргументами на самом деле не являются. Перечитаем только что приведенную цитату из рассуждений И. Л. Андроникова. Весь их смысл сводится к тому, что в том случае, если мы примем чтение грозный судия, а не грозный суд, то получится (?!), что палачей Свободы, Гения и Славы должен покарать Бог, а этого (упаси Боже!) Лермонтов никак сказать не мог. Почему? Да потому, что грозный суд, о котором говорит Лермонтов, – это суд истории. Не верите? Так посмотрите стихотворение юнкера П. Гвоздева: оно точно цитирует соответствующее место и не менее точно передает его смысл. Правда, некоторые литературоведы считают гвоздевскую интерпретацию стихотворения поэта вольной и неверной, поскольку она была «не на высоте лермонтовской идеи», отодвигала «в неопределенность то, что у Лермонтова происходит (или произойдет!) на наших глазах, – вот сейчас свершится или уже совершается. Лермонтов не случайно избежал слова потомство – оно затягивало и растягивало отмщение» (Архипов Вл. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М., 1965. С. 297–298). Но это неважно. Надо, чтобы получился тот смысл, который хочется видеть.
Кстати, совершенно непонятно, почему И. Л. Андроников считает, что Божий суд (Но есть и Божий суд!) является обязательно символом только загробной кары. Вл. Архипов (другое дело – насколько основательно) смотрит на это совершенно иначе: «Здесь, вне сомнения, образ Божества выступает лишь как облачение идеи революции… Это мы встретим и у Радищева, и у поэтов-декабристов, а равно и у Некрасова. Сознание своего права на восстание еще нуждается в высшей санкции, в санкции Божества». Последнее появляется у Лермонтова «как неотъемлемый элемент народной психологии, народных представлений. Это – менее всего религиозный Бог, карающий непослушных рабов, требующий смирения и подчинения высшим. Это – Бог восставших. Бог поднимающихся рабов, ищущих справедливого возмездия за все свои страдания и муки…».
Неясно также и то, почему (придавая почти решающее значение в данном вопросе стихотворению П. Гвоздева) И. Л. Андроников не учитывает очень важные для нас объяснения, которые давал С. А. Раевский на судебном допросе, когда появилось дело о «непозволительных стихах». К больному Лермонтову пришел его родственник камер-юнкер Н. А. Столыпин. Разговор зашел о смерти Пушкина. Столыпин всячески защищал Дантеса. Лермонтов горячился и негодовал. «Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщил, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от внешних законов, что Дантес и Геккерен, будучи знатными иностранцами, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, то есть Божий суд». Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор» (цит. по кн.: Розанов И. Н. Лермонтов – мастер стиха. М., 1942. С.102).
Но достаточно литературоведческих цитаций, вернемся к лермонтовскому «железному стиху», «облитому горечью и злостью». Прочтем еще раз внимательно заключительные строки «Смерти Поэта» и заглянем в произведения Лермонтова более раннего времени, в их лексический и образный фонд. Тогда мы увидим, что текстологическое решение И. Л. Андроникова принять нельзя: оно противоречит и логике текста, и логике лермонтовской поэтики.
Начнем с второстепенного, но тем не менее обращающего на себя внимание факта. Строчка в виде Есть грозный суд: он ждет явно и недвусмысленно выпадает из метрической системы. Силлаботонический ряд Есть грозный суд: он ждет диссонирует со всеми остальными, поскольку он оказывается короче на два слога даже тех, которые неразрывно связаны с ним и по смыслу, и версификационно. Что же касается чтения Есть грозный судия: он ждет, то оно не только органически «симфонирует» первой строчке (А вы, надменные потомки) и непосредственно следующей (Он не доступен звону злата), но и полностью метрически повторяется в последних рифмующихся строчках стихотворения (Оно вам не поможет вновь – Поэта праведную кровь!). Но главное – строчка мысли и дела он знает наперед: наперед все может знать только Бог (ср.: Бог ему судья).
В гостях у архаической лексики поэмы «Руслан и Людмила»
А теперь, «друзья Людмилы и Руслана», обратимся к тексту замечательной пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», открывшей читательской общественности великого русского поэта. Эту поэму читают уже в раннем детстве, «проходят» на первом этапе школьной жизни. И язык ее представляется многим очень простым и ясным. В целом так оно и есть. Однако если глубоко окунуться в языковую стихию поэмы, то сразу видно, что «там чудеса» и на многих страницах постоянно встречаются «следы невиданных или неведомых» слов. Несколько примеров. Вот мы читаем наставление старца Руслану: «Вперед! Мечом и грудью смелой Свой путь на полночь пробивай». В приведенном предложении нам встречается лексико-семантический архаизм на полночь – «на север». Вспомните пушкинские строчки из «Воспоминаний в Царском Селе»: «Не се ль Элизиум полнощные Прекрасный царскосельский сад», т. е. «Не это ли северный рай – прекрасный царскосельский сад». Читайте поэму «Руслан и Людмила» дальше: там то же прилагательное входит в сопутствующую перифразу, уточняющую как приложение врага Руслана Черномора:
Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных (= «северных». – Н. Ш.)
обладатель гор.
То же по значению слово полнощный встречается нам в поэме и позднее: «Уж утро хладное сияло На темени полнощных гор».
Следуем дальше. Перед нами авторские слова:
Довольно… благо, мне не надо
Описывать волшебный дом:
Уже давно Шахерезада
Меня предупредила в том.
Здесь мы сталкиваемся с архаизмом предупредила, вместо которого мы бы использовали в настоящее время глаголы «упредила» или «опередила».
А вот как будто известное (довольно часто, во всяком случае, виденное) слово супостат:
В кровавых битвах супостата
Себе я равного не зрел;
Счастлив, когда бы не имел
Соперником меньшого брата!
В этом отрывке оно имеет значение «противник» и стилистически совершенно нейтрально. А ведь в современном языке оно является просторечным и бранным словом и очень экспрессивно.
Читаем описание А. С. Пушкиным пребывания Ратмира в замке «на скалах»:
Я вижу терем отдаленный,
Где витязь томный, воспаленный
Вкушает одинокий сон;
Его чело, его ланиты
Мгновенным пламенем горят;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манят;
Он страстно, медленно вздыхает,
Он видит их (прекрасных дев. – Н. Ш.) —
и в пылком сне
Покровы к сердцу прижимает.
Здесь есть несколько лексических архаизмов, но они вам более или менее знакомы, коль скоро вы хоть изредка читаете стихи: эти слова мелькают как дань поэтическому прошлому и в произведениях современных поэтов. К ним относятся чело – «лоб», ланиты – «щеки», уста – «губы», лобзанье – «поцелуй», покровы – «одежда». Понятна и характерна для Пушкина перифраза вкушает одинокий сон – «спит один».
Галстук и галстух
Читаем повесть «Невский проспект» и вместе с Н. В. Гоголем совершаем экскурсию по Невскому проспекту, «всемогущему Невскому проспекту», этой «всеобщей коммуникации Петербурга». Самые разнообразные и удивительные картины рисует нам писатель. На третьей странице наше внимание невольно останавливают две фразы, в которых дается описание внешности и одежды различных прохожих. Уж очень странны – с точки зрения нашей смысловой системы – встречающиеся здесь сочетания слов с существительным галстук. Вот они: «В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, – никто этого не заметит»; «Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь…»
Действительно, как могут высунуться из галстука воротнички? В самом деле, как можно («с необыкновенным и изумительным искусством»!) пропустить под галстук бакенбарды? Ведь галстук завязывается и лежит под воротником рубахи! Может быть, это какая-то словесная нелепица у Гоголя?
Ничего подобного. Все у него правильно. А вводит нас в заблуждение… современный ленточный галстук, который сейчас носим мы. Фактически галстук, о котором пишет здесь Гоголь, весьма отдаленно напоминает наш и галстуком в нашем представлении не является.
Ленточные галстуки современного типа появляются только в 60-е гг. XIX в. Во времена Гоголя, как и вообще в первой половине XIX в., галстук представлял собой шейный платок, своеобразную деталь костюма в виде косынки или шарфа вокруг шеи.
В 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» в качестве иллюстрации употребления слова галстук в современном значении приводится пример из романа И. А.Гончарова «Обломов»: «Обломов всегда ходил дома без галстуха и без жилета, потому что любил простор и приволье» (часть I, глава 1). Пример приводится неверно, так как первая часть романа писалась в 1846–1849 гг. Наше слово называет у И. А. Гончарова так же, как и в романе «Обрыв» («Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстухом…»), галстук «платкового» типа и имеет тем самым старое значение – «шейный платок». О шейном платке говорится, естественно, в романах М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» («Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это, должно быть, копия с Рембрандта или Мюрилла») и И. С.Тургенева «Отцы и дети» («…В это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют (костюм. – Н. Ш.), модный низенький галстух и лаковые полусапожки»). Ведь эти романы создавались соответственно в 1836–1838 гг. и в 1860–1861 гг. Между прочим, в таком же значении слово галстук приводится и в «Толковом словаре…» В. И.Даля.
Вы, наверное, обратили уже внимание, что в приведенных примерах из романов Гончарова, Лермонтова и Тургенева – в отличие от Гоголя – наше слово пишется (а значит, и произносится) с х – галстух. Наряду с галстук, эту форму как параллельную указывает и В. И.Даль. Обе формы встречаются и у Пушкина, и у всех названных писателей. Ныне уже устаревшая форма галстух для рассматриваемого слова является первоначальной и, более того, этимологически абсолютно правильной, поскольку данное существительное было заимствовано (в XVIII в.) из немецкого языка. Оно точно передает немецкое Halstuch не только в фонетическом отношении, но и в смысловом (Halstuch является сложением слов Hals – «шея» и Tuch – «платок»).
Современное слово галстук с к на конце появилось (как и фартук < нем. Vortuch – «передник»; vor – «перед», Tuch – «платок») в результате контаминации различных вариантов этого заимствования (ср. употреблявшуюся в конце XVIII в. форму галздук голландского происхождения).
Приведем еще один очень интересный пример из романа «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, где Гедеоновский выступает перед нами сразу в… двух галстуках: «Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках – одном черном сверху, другом белом снизу».
В XIX в. наряду со словом галстук в том же старом значении «шейный платок» широко употребляется также и фразеологический оборот шейный платок, который является такой же калькой (т. е. точным переводом по частям слова) соответствующего немецкого слова, как фразеологизмы типа детский сад (< Kindergarten – Kinder – «дети», Garten – «сад») и т. п.
Так, у И. С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» читаем: «Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом».
В повести К. М. Станюковича «Севастопольский мальчик» мы встречаем пример употребления выражения шейный платок – «галстук косыночного или «шарфного» типа» еще более интересный: как и у Гоголя, в этом предложении говорится о галстуке и выступающих из-под него (!) воротничках: «Он (Нахимов. – Н. Ш.) был в потертом сюртуке с адмиральскими эполетами, с большим белым георгиевским крестом на шее. Из-под черного шейного платка белели «лиселя», как называли черноморские моряки воротнички сорочки, которые выставляли, несмотря на строгую форму николаевского времени, запрещавшую показывать воротнички».
Что такое пальто?
М ы начинаем читать «Обрыв» И. А. Гончарова. Писатель неторопливо рассказывает нам о своих героях – Борисе Павловиче Райском и Иване Ивановиче Аянове. Остановимся на пятом абзаце: «Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване. Иван Иванович был, напротив, во фраке». Не правда ли, первое предложение, если задуматься, довольно странное? С одной стороны, не совсем понятно поведение светского Райского, сидящего в комнате в пальто «с ногами на диване». С другой стороны, при медленном чтении обращает на себя внимание сочетание домашнее пальто. Ведь для нас пальто – «верхняя одежда для улицы». Еще более настораживает первая «персонажная» фраза в романе, произнесенная Аяновым («Не пора ли одеваться: четверть пятого!») и следующее далее авторское предложение: «Райский стал одеваться». Ведь Райский как будто предстает перед нами одетым: в пальто уже. Правда, пальто – домашнее. В чем же здесь, наконец, дело?

Дело все в том, что домашнее пальто – вовсе не пальто. Во времена Гончарова «французское весьма неудобное для нас», как говорил в «Толковом словаре…» В. И.Даль, слово пальто могло называть и мужскую домашнюю одежду типа халата. Поэтому-то Райский, не нарушая нормы приличия, и мог сидеть в домашнем пальто (т. е. в халате) с ногами на диване!
И ему, конечно, идя в гости, надо было одеваться. Как видим, в существительном пальто выступает перед нами «коварный» знакомец – слово, постоянно употребляемое и нами, но имеющее здесь устаревшее, неактуальное сейчас значение.
Совсем о другом пальто говорит (в гостях у Пахотиных) Аянов Николаю Васильевичу: «Вы напрасно рискуете. Я в теплом пальто озяб». Речь уже идет о том пальто, которое как верхняя одежда есть у каждого из нас. И слово пальто тут имеет наше, современное, привычное всем значение.
Заметим, что у Гончарова слово пальто (и в старом, и в нынешнем смысле) относится, как и у нас, по правилам русской грамматики к существительным среднего рода. У некоторых писателей в XIX в. оно встречается и в иной форме, передавая мужской род слова paletot, заимствованного нашим языком из французского языка: «На мне был теплый пальто и теплые калоши» (Герцен А. И. Былое и думы).
Этот исходный мужской род у слова пальто не сохранился: оно подверглось аналогичному воздействию исконных существительных на – о типа стекло, окно и т. д.
Еще об одном названии одежды
«Читая рассказ «Попрыгунья» А. П. Чехова, мы не испытываем, по существу, никаких языковых затруднений: таким по-чеховски ясным, простым и современным языком он написан. И все же и в нем попадаются единичные случаи, могущие поставить нас в тупик. Пусть (если мы читаем серьезно и замедленно) ненадолго. Вот одно из таких мест:
Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую.
Что же, кроме шляпы, в своем возбужденном состоянии не сняла – вопреки обычаю – Ольга Ивановна? Вероятно, пальто. Но какое? Не прибегая к словарям, вспомним предшествующие события. Пятый раздел рассказа начинается так:
Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге ходил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится.
И далее:
Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешенье, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть.
Из этого логично сделать предположение, что, уезжая с художниками на Волгу, «попрыгунья» захватила с собой дождевик, т. е. непромокаемое пальто. Значит, ватерпруф обозначает «непромокаемое пальто», или «плащ». Наше предположение сразу же превратится в уверенность, если мы занимаемся английским языком, так как water по-английски значит «вода», а proof – «выдерживающий испытание». Англ. water-proof буквально – «выдерживающий испытание водой».
Впроче, наша догадка (и без знания английского языка) ведет нас по этому пути, если мы припомним известные нам слова с ватер-, в которых ватер нам хорошо известно как синоним слова вода (ср. ватерлиния, ватерполо). Таким образом, Ольга Ивановна и в гостиной, и в столовой не сняла «непромокаемого пальто».
С этим же словом мы встречаемся, читая роман «Воскресенье» Л. Н. Толстого:
– Я уже давно приехала, – сказала она. – Мы с Аграфеной Петровной. – Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и ватерпруфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему. – Везде искали тебя.
Аграфена Петровна в ватерпруфе и шляпе тоже была в помещении, но это уже была вокзальная столовая, через которую вместе со всеми она шла на перрон.
Заметим попутно, что наше прилагательное водонепроницаемое, несомненно, является неточной калькой английского прилагательного: по форме последнее совпадает с соответствующим существительным.
Разобранный пример – яркое доказательство большой пользы замедленного чтения художественного текста. Кстати, слово ватерпруф вы не найдете ни в одно издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, нет его, и в академическом 4-томном «Словаре русского языка». Из толковых словарей вы его обнаружите только в большом 17-томном словаре АН СССР. И это понятно: слово ватерпруф давно стало архаизмом и ему на смену пришли другие: дождевик и плащ. По этим причинам слово попало в «Школьный словарь устаревших слов» Р.П. Рогожниковой, Т. С. Карской (М., 1996).
Разные написания в кавычках
С чем только в языковом плане мы не сталкиваемся, читая роман «Отцы и дети» И. С. Тургенева! И все это несмотря на очень современный и чистый, «великий и могучий русский язык» данного произведения. Здесь и историзмы, т. е. названия исчезнувших ныне предметов и явлений, и устаревшие наименования вещей, существующих и сейчас (лексические архаизмы), и слова с совершенно иными, нежели те, которые они имеют в настоящее время, значениями (лексико-семантические архаизмы), и факты не нашей грамматики.
Приведем несколько примеров.
«Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, – промолвил Николай Петрович, – теперь и обедать можно на воздухе» (маркиза – «навес»); «– Господа, господа, пожалуйста, без личностей! – воскликнул Николай Петрович и приподнялся» (личность – «оскорбление»); «На ней было легкое барежевое платье» (барежевое – «из барежа, редкой прозрачной ткани сетчатого рисунка»); «Я ждал от тебя совсем другой дирекции» (дирекция – «действие»); «У него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике» (глазетовый – «из парчи», кокошник – «головной убор в виде расшитого полукруглого щитка»); «Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело…» (лев – «человек, пользующийся в светском обществе большим успехом»); (в) постеле; стора (вместо штора); чучелы и т. д.
Но не об этом пойдет речь далее. Остановимся на двух подаваемых нам Тургеневым в кавычках написаниях. Вот они: «На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор»; «На бумажных их (банок. – Н. Ш.) крышках сама
Феничка написала крупными буквами «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье».
В процитированном первом предложении кавычки есть и при авторском слове выкрутасы, но к разбираемым здесь фактам оно никакого отношения не имеет: оно написано автором и написано по-нашему, если так можно сказать, абсолютно правильно. Правда, и оно останавливает внимание, но не написанием его самого, а сопровождающими его кавычками. Действительно, надо знать, что они значат. Изучение языка художественных произведений И. С. Тургенева дает нам на это совершенно исчерпывающий ответ. Как и в других случаях (ср.: «Он никогда ничего не «сочинял» (= «врал». – Н. Ш.); «Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы» (= «имения». – Н. Ш.); «Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия», «Дворовые мальчишки бегали за «дохтуром» (= «доктором». – Н. Ш.), как собачонки»; «От него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами» и т. д.). Тургенев широко использует, как и курсив, кавычки как графическое средство указания «сторонности» того или иного слова общелитературному языку и употреблению, просторечного, диалектного, профессионального, устаревшего или индивидуально-авторского характера слова. Здесь Тургенев кавычками отметил диалектное (южновеликорусское) происхождение слова выкрутасы в значении «завитушки, затейливые узоры». Что касается двух других случаев использования писателем кавычек в приведенных цитатах из тургеневских «Отцов и детей», то в них кавычки употребляются для передачи не авторского, свойственного какому-либо персонажу (тут – деду Аркадия и Феничке) написания общелитературного слова (слов Петр Кирсанов и крыжовник), которое не совпадает с принятым в современной орфографии. С точки зрения последней оба написания представляются нам одинаково неправильными. Но мы очень ошибемся, если оба написания отнесем к неправильным. Написание Феничкой слова крыжовник в виде «кружовник» является, действительно, неверным, не соответствующим нормам русского правописания (и современного, и времен Тургенева). Это объясняется тем, что оно передает (между прочим, совершенно правильно) диалектное произношение ею слова крыжовник. Таким написанием, точно отражающим диалектную огласовку слова крыжовник, Тургенев хотел только подчеркнуть необразованность не шибко грамотной Федосьи Николаевны, дочки владелицы постоялого двора.
Написанное дедом Аркадия Петром Кирсановым по своей информативности сложнее. С одной стороны, оно выполняет те же функции, что и написание кружовник, коль скоро речь идет об изображении на письме фамилии (Кирсаноф). Ведь дед Аркадия был, как характеризует его писатель, «полуграмотным, грубым, но не злым русским человеком». С другой стороны, оно (через форму Пиотр) указывает нам на то время, когда Петр Кирсанов учился писать. Ведь это написание передает одну из графических особенностей русского письма второй половины XVIII в., когда произношение на месте звука о (после мягких согласных перед твердыми под ударением) изображалось не буквой F, а сочетанием букв ио (io).
Как видим, при чтении художественного произведения приходится обращать внимание не только на слова, грамматические формы и фонетику, но и на факты, казалось бы, сторонние толкованию текста – кавычки.
Какую Рахметов тянул лямку
В современном русском литературном языке слова тянуть и лямку не являются автономными и образуют единое фразеологическое целое. Выражение тянуть лямку сейчас значит «заниматься тяжелой, малоинтересной для человека и не соответствующей его способностям работой».
Но этим ли занимался Рахметов в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», когда «на половине семнадцатого года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собою». Кстати, не здесь ли у Чернышевского впервые был употреблен так современно и привычно звучащий в нашем языке оборот работать над собой? Контекст, в котором мы его находим, приводит нас к выводу, что речь идет о вполне конкретном труде. Чтобы быть физически сильным, Рахметов «стал очень усердно заниматься гимнастикой;
на несколько часов в день становился чернорабочим… раз даже прошел бурлаком всю Волгу». И далее: «Он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему».
Таким образом, у Чернышевского здесь не фразеологизм, а два совершенно самостоятельных слова со своими вполне конкретными значениями. Бурлаки, ведя с берега вверх по течению баржу или судно, тянули их с помощью лямки – толстой веревки или бечевы (ср. у Некрасова: «Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется – То бурлаки идут бечевой»).
Приведенный текст из «Что делать?» дает нам возможность заглянуть в историю фразеологизма тянуть лямку как одного из многочисленных оборотов, пришедших в русский язык из профессиональной речи (ср. музыкальное играть первую скрипку, столярное топорная работа, железнодорожное ставить в тупик и т. д.).
Во что и зачем стучал сторож
Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать.
Так начинается вторая часть рассказа А. П. Чехова «Невеста», одного из самых чудесных его рассказов, проникнутого призывом к деятельной жизни и настоящей человеческой радости, твердой верой в светлое будущее, ожидающее людей («О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!»).
Обратим внимание на второе предложение приведенного отрывка, как будто ничего неясного и темного не содержащего. Какую информацию доводит до нашего сведения писатель? Все слова по отдельности в нем понятны и входят в число самых частых и употребительных. И все же – при внимательном чтении – оно вызывает вопросы: зачем и чем стучал… сторож, призванный, как известно, что-либо стеречь, охранять, караулить. Такое же недоумение могут посеять и следующие далее в рассказе «Невеста» упоминания о стороже: «Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой»; «И Саша не спал внизу, – слышно было, как он кашлял… «Тик-ток… – стучал сторож где-то далеко. – Тик-ток… тик-ток».
Приведенные фразы – яркие примеры того, что для понимания сказанного далеко не всегда можно ограничиться знанием только слов как таковых, нужны также и те знания о действительности, которые стоят за словами как носителями и источниками национальной и культурно-исторической информации, которые накопились в языке как лексическое и фразеологическое отражение истории, культуры и быта русского народа.
Но обратимся к тексту. Он совершенно определенно говорит, что речь идет о ночном времени и, значит, о ночном стороже (когда он стучал, было два часа, когда взошло солнце, он уже не стучит).
Ночные сторожа были раньше разные: либо караульщики, либо обходные, что подтверждает словарь В. И.Даля. Караульщики были сторожами «безотходными», т. е. находившимися постоянно там, где они что-либо сторожили. Обходные сторожа, как свидетельствует определение, были такими, которые обходили тот «объект» (село, определенную часть города), который они охраняли. Эти-то обходные ночные сторожа и стучали. Стучали обычно особым деревянным молотком в металлическую (железную или чугунную) доску.
Примеры такого употребления встречаем у различных писателей: «Все спали в Нижнем Новгороде; …только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукой в чугунные доски, прерывали молчание ночи» (Загоскин М.Н. Юрий Милославский); «Сторожа стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок наместо чугунной доски» (Гоголь Н. В. Мертвые души); «В то время сторож полуночный, Один вокруг стены крутой, свершая тихо путь урочный (= «предназначенный, отведенный». – Н. Ш.), Бродил с чугунною доской, И возле кельи девы юной Он шаг свой мерный укротил И руку над доской чугунной, Смутясь душой, остановил» (Лермонтов М.Ю. Демон).
Зачем же сторожа стучали? Ответ на этот вопрос мы находим в «Воспоминаниях» И. В. Бабушкина: «Сторожа стучали изредка в колотушку, давая знать о месте своего присутствия…» «Подведомственное» обходному ночному сторожу место, которое он охранял и, значит, околачивал, имело ранее название околоток. Первоначальным значением слова околоток было «участок, охраняемый (околачиваемый) каким-либо сторожем», затем в царской России оно получило значение «район города, подлежащий ведению околоточного надзирателя». Сейчас слово околоток и его производное (околоточный) стали уже историзмами, поскольку понятия, ими обозначаемые, ушли в историю.
XXXV строфа первой главы «Евгения Онегина»
Как уже говорилось, читая даже хорошо знакомые нам по школьной программе художественные произведения, мы должны учитывать, что в них всегда есть «подводные рифы», как языковые, так и специфические, что выражается в слове как названии тех или иных предметов и явлений объективной действительности, жизни и быта народа, нам почему-либо незнакомого.
В качестве примера можно привести XXXV строфу первой главы романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин», где к явным языковым шумам и помехам (в виде устаревших слов биржа, охтинка, васисдас, хлебник) прибавляется информативная скрытность самого текста с точки зрения его «плана содержания»:
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтинка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
Если даже мы знаем, что слово биржа здесь употребляется А. С.Пушкиным в архаическом значении «уличная стоянка извозчиков», что хлебник – это «пекарь и продавец хлеба», что охтинка – «жительница Охты, т. е. Охтинской слободы Петербурга», а слово васисдас представляет собой искаженное французское слово vasistas – «маленькое окошко», этимологически связанное с немецким Was ist das? «Что это такое?» и значит «форточка», мы все же не в состоянии с исчерпывающей полнотой представить сообщаемое поэтом.
Последнее можно осуществить только с учетом того фона у ряда образующих разбираемый текст слов, который отражает определенные культурно-исторические факты.
Надо видеть, что кроется под сочетание «А Петербург неугомонный Уж барабаном пробужден». Здесь Пушкин говорит о барабанной дроби утренней побудки в казар ах расположенных в различных концах города гвардейских полков. Звук барабана будил ото сна трудовое население столицы. О то, что именно трудовой народ, а не представителей господствующего класса, говорят и предыдущие строчки «Что ж ой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он» , и слово неугомонный (Петербург) – «шумный» (от таких, как Онегин). Следует также иметь в виду, что охтинка, спешащая с кувшином, – не просто обитательница Охты, а молочница (Охта была заселена финнами, снабжавшими жителей столицы молочными продуктами).
Необходимо учитывать также, что «хлебник, немец аккуратный» как пекарь и продавец хлеба открывал форточку в своей лавке не для того, чтобы ее проветривать, а чтобы подавать покупателю хлеб.
Внимательное чтение этой строфы дает возможность сделать еще один важный вывод: описываемое зимнее утро было безветренным и морозным: снег хрустит, а трубный дым «столбом восходит голубым».
В заключение хочу обратить ваше внимание на устаревшую форму слова постель – в постелю (вместо в постель). Это не ошибка поэта. В первой половине XIX в. в русском языке было существительное постеля, которое склонялось, естественно, как слова земля, неделя, воля и т. д.
О значении двух слов на эпи-
В современном русском языке имеется не очень большая, но очень употребительная группа иностранных слов, начинающихся на эпи-. В большинстве существительных звукосочетание эпи– у нас уже не отделяется от корня, хотя по своему происхождению это не что иное, как приставка греческого происхождения (в древнегреческом языке эпи– равно нашим приставкам на-, над-, сверх-, после-).
Разбор слова по составу позволяет четко выделять приставку эпи– лишь в словах эпигенез (ср. генезис, генетический), эпилог (ср. пролог), эпифауна (ср. фауна), эпицентр (ср. центр), эпицикл (ср. цикл). В других словах она стала уже «частицей бытия» корня, например: в эпигон, эпистолярный (стиль), эпитафия, эпитет. И среди них эпиграмма и эпиграф, хорошо вам известные как литературоведческие термины.
Первое слово значит «коротенькое сатирическое произведение», второе – «небольшой текст, которым автор предваряет свое произведение или его какую-либо часть для раскрытия их основного содержания».
Со словами эпиграмма и эпиграф мы встречаемся в самом начале романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин». Они соседствуют друг с другом, находясь соответственно в пятой и шестой строфах первой главы. Однако было бы ошибкой считать их терминами в современном значении.
Но обратимся к пушкинскому тексту. Существительное эпиграмма заканчивает пятую строфу:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант.
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
Неожиданные эпиграммы Онегина, заставлявшие светских дам улыбаться, ничего общего с поэтическими произведениями не имеют. Ведь Онегин, по словам Пушкина, не был любителем поэзии и стихов не писал (вспомните: «…высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить»). Что же значит в этом отрывке слово эпиграмма? Здесь перед нами один из многочисленных галлицизмов Пушкина (т. е. слов, заимствованных из французского языка), и обозначает он остроту (ср. франц. epigramme – «колкость, острота»). Вспомните, кстати, синонимическое словосочетание (сыпать) острые слова в XXXVII строфе первой же главы, которое, несомненно, выступает как свободная передача французского оборота dir des points – «отпускать остроты».
В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина приходится отметить такую же неожиданность смысла слова эпиграф:
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.
Заметим, что от современного литературоведческого термина слово эпиграф отличается в «Евгении Онегине» также старым ударением на корне, которое наблюдается в родственном ему и только что разобранном существительном эпиграмма.
Пушкин говорит здесь не об эпиграфах как о литературоведческом термине, а об античных надписях на могилах, памятниках или зданиях. Чтение их было одной из составных частей первоначального курса древних языков. Если перевести слово эпиграф с древнегреческого буквально, то оно значит «надпись». Такое значение, доставшееся ему по наследству от древнегреческого (ср.: epi – «над, сверху», graphe – «надпись, запись»), оно имеет и во французском языке. В древнегреческом языке, кстати, слова, которые мы разбираем, во многих своих значениях (в силу однородности своего морфемного состава, т. е. состава слова) выступают как синонимы.
Между прочим, во второй и седьмой главах романа «Евгений Онегин» вместо слова эпиграф в его старом значении выступает существительное надпись:
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Как видим, в процессе своего употребления бывшие в языке-источнике (т. е. древнегреческом языке) родственные слова эпиграмма и эпиграф в русском языке разошлись по значению, но затем тематически сблизились, став литературоведческими терминами.
А. С. Пушкину они известны и в этом смысловом амплуа.
В приведенных отрывках из первой главы «Евгения Онегина» просят толкование не только разобранные два слова с эпи-. Иную, нежели сейчас, семантику имеют в тексте Пушкина еще три слова. Это педант, грех и анекдот.
Слово педант употребляется поэтом в значении «человек, который выставляет напоказ свою ученость, самоуверенно, с апломбом судит о чем угодно», слово грех – в значении «ошибка» (ср. погрешность), слово анекдот – в значении «небольшой занимательный рассказ» (ср. в «Пиковой даме»: «Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение»).
Пучок зари
В XXXV строфе второй главы своего стихотворного романа, описывая старших Лариных, Пушкин пишет:
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три…
Пучок зари… Не правда ли, с точки зрения современного языкового сознания довольно странное словосочетание? Ведь сейчас мы в своем языковом обиходе привыкли к сочетанию слов пучок моркови (укропа, лука, кинзы, редиски, петрушки). В этих очень частотных словосочетаниях опорное слово пучок выступает, собственно говоря, в значении «связка». Кстати, это значение нашего слова в Словаре С. И. Ожегова не отмечается. В нем фиксируется лишь его вторичное, специальное значение («пучок лучей» и пучок «вид прически»).
Примечательно к тому же, что научный термин пучок (лучей, линий, прожилок и т. д.) всегда требует за собой в качестве дополнения существительного во множественном числе (парикмахерский профессионализм употребляется автономно).
В пушкинском же тексте слово пучок употреблено аналогично современному в значении «связка» (лука, укропа, редиски и пр. – с родительным части при вещественном существительном единственного числа). Только очень уж далеким кажется нам знакомое слово заря от обозначения растения как совокупности. Вспомните хотя бы чудесное описание Пушкиным белых ночей в Петербурге и привычные и понятные строки:
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
И все-таки слово заря оказывается здесь того же порядка, что и существительные лук, укроп, крапива и т. д., т. е. название растения. В ботанике его называют двояко: то любисток, то зоря или заря. Это полевая трава рода lubisticum (отсюда и первое ее название), относящегося к семейству зонтичных. Она не только широко употреблялась в медицине как хорошее лекарственное средство (Соболевский Г. Санкт-Петербургская флора. СПб., 1801. Т. 1. С. 217–219), но использовалась в один из самых почитаемых праздников (в Троицын день) в обряде замаливания грехов.
Так что в приведенных пушкинских строках говорится о конце мая – начале июня, когда во время праздничного молебна родители сестер Лариных «плакали на цветы», замаливая свои грехи (см.: Толстой Н. И. Плакать на цветы//Русская речь. 1976. № 4; Лотман Ю. М. Роман А. С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 204–205).
Что касается зари или зори (написание а вторично и является отражением на письме аканья), то, по мнению М. Фасмера, этот северновеликорусский фитоним представляет собой «темное» слово (Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. 2. С. 81). Думается, что этимологически астрономическое заря, зорька и травное имя связаны между собой прямо и непосредственно как исходное и его производное посредством лексико-семантического способа словообразования. В таком случае растение было названо так по времени цветения в белые ночи и своему бледно-беловатому цвету.
Скобки в XLVII строфе главы четвертой
В пунктуационном плане эти скобки самые что ни на есть заурядные. В полном соответствии с правилами они выделяют из последовательного повествования вставное предложение с характерной для Пушкина присоединительной конструкцией:
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
И не о них пойдет речь. Вглядимся попристальнее в то, что поэт нам мимоходом сообщает в этих скобках, и тогда станет ясно, что настоящее содержание этой пушкинской вставки может оказаться за скобками нашего сознания, если мы не вырвемся из плена современного русского языка и не будем внимательно читать текст. В самом деле, разве не является странным в первой строчке процитированного отрывка слово враки? Ведь существительное враки сейчас значит «вздор, ложь» и, кстати, что не отмечено С. И. Ожеговым, употребляется преимущественно в синтаксически обусловленном значении (ср. слова загляденье, осел, лапочка – по отношению к человеку и т. д.).
Неужели Пушкин любил ложь или чушь друзей? Конечно, нет. В разбираемом контексте слово враки значит «разговоры». Оно было образовано от глагола врать «говорить» (ср. в «Капитанской дочке»: «Полно врать пустяки») с помощью суффикса – к(а) так же, как драка – от драться. (Позднее наше слово потеряло форму единственного числа и стало pluralia tantum.) Таким образом, строчка Люблю я дружеские враки значит «Люблю я дружеские разговоры, люблю поговорить с друзьями».
А далее поэт сообщает время, когда он любил поговорить за бокалом вина с друзьями. Это «пора меж волка и собаки». Что же это за время суток? Косвенно проливает на это свет предшествующая скобкам строка «Вечерняя находит мгла…». Но о точном значении выражения пора меж волка и собаки мы узнаем только тогда, когда обращаемся к французскому языку и его перифрастической (такой нередкой у Пушкина: «Мне галлицизмы будут милы, Как ранней юности грехи, Как Богдановича стихи») фразеологии. Меж волка и собаки является неточной калькой – с перестановкой компонентов – французского выражения entre chien et loup, обозначающего сумерки. Точную кальку меж собаки и волка Пушкин переоформил в версификационных целях, для соблюдения размера.
Следует сказать также два слова об архаических формах слов собака и волк. После предлога меж они стоят в родительном падеже, а не в творительном. Сейчас эту временную по семантике перифразу, если бы она сохранилась в современном русском языке, мы произносили бы и писали как между собакой и волком.
Заметим, что «хронологические» перифразы французского происхождения встречаются у Пушкина в «Евгении Онегине» нередко: «Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года» (утро года – весна); «Весны моей златые дни» (дни весны – молодость) и др.
В заключение ответим на недоуменный вопрос поэта «А почему, не вижу я…», касающийся происхождения этого фразеологического сращения в языке-источнике. По мнению А.Г. Назаряна, оборот entre chien et loup буквально значит «время суток, когда нельзя отличить собаку от волка» (Почему так говорят по-французски. М., 1968. С.162).
Решите сами
Чем торгует Лондон щепетильный!

Семантические архаизмы приводятся далее в «родном» словесном окружении (из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина). Попробуйте самостоятельно прочитать приводимые отрывки, найти слова с устаревшей семантикой и установить то значение, которое они имеют в пушкинском контексте, а затем сверьте свои ответы с моим кратким комментарием.
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей (гл. 1, VI);
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных! (гл. 1, XII);
В райке нетерпеливо плещут (гл. 1, XX);
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам… —
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет (гл. 1, XXIII);
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом… (гл. 1, XXVII);
Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты? (гл. 1, XXXI);
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал… (гл. 1, LII);
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад… (гл. 2, I);
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои… (гл. 2, II);
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино…» (гл. 2, V);
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей… (гл. 2, XVIII);
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда… (гл. 2, XXXIX);
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали (гл. 3, VI);
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда (гл. 3, XVII);
Пошла, но только повернула
В аллею, пря о перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени… (гл. 3, XLI);
И впрямь, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви… (гл. 4, XXXIV);
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй… (гл. 4, XXXVIII, XXXIX);
Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень… (гл. 4, XLIV);
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь… (гл. 5, II);
Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать (гл. 5, XXIV);
Меж ветхих песен аль анаха
Был напечатан сей куплет… (гл. 5, XXVII);
Вдруг двери настежь. Ленский входит,
И с ни Онегин. «Ах, Творец! —
Кричит хозяйка: – наконец!» (гл. 5, XXIX);
«Зачем вечор так рано скрылись?» —
Был первый Оленькин вопрос (гл. 6, XIV);
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды… (гл. 7, XXXIII);
Ее привозят и в Собранье… (гл. 7, LI);
И постепенно в усыпленье
И чувств и ду впадает он,
А перед ни воображенье
Свой пестрый мечет фараон (гл. 8, XXXVII);
Зачем у вас я на примете?..
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всем и был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь? (гл. 8, XLIV);
Кто б ни был ты, о ой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться ныне как приятель.
Прости… (гл. 8, XLIX).
Ну, как ваши успехи? Думается, что вы разобрались и данное задание (если не полностью, то в своей основной части) выполнено. Ведь в таких случаях важно прежде всего знать, что среди «своих» слов есть «чужаки», и читать текст внимательно.
Укажем теперь имеющиеся в приведенных отрывках семантические архаизмы (в той последовательности, в какой они в них появляются) и переведем затем их на современный язык. Устаревшие значения здесь имеют слова анекдот, записная, плескать, щепетильный, плошка, в пустыне, по почте, сени, покои, обои, фармазон, инвалид, призраки, затем что, череда, взоры, блажен, любовник, белянка, прямой, торжествуя, мечтанье, куплет, Творец, зачем, своды, Собранье, фараон, соблазнительная и прости. В соответствующих местах «Евгения Онегина» перечисленные слова имеют следующее значение: анекдот – «короткий рассказ о замечательном или забавном историческом случае», записная (кокетка) – «настоящая, истинная, опытная», плескать – «аплодировать» (ср. совре енное рукоплескать), щепетильный – «галантерейный», плошка – «плоский сосуд с фитилем для освещения», в пустыне – «в жизни», по почте – «на почтовых лошадях», сени – «тенистое пространство», покои – «комнаты», обои – «ткань для обивки комнат» (в данно случае – штоф) (раньше обои (поче у они так и названы) не наклеивались, а прибивались особыми обойными гвоздями), фармазон – «франкмасон», «вольнодумец, безбожник», инвалид – «заслуженный воин, негодный уже (по нездоровью или старости) к военной службе», призраки – «мечты», затем что – «потому что» (союз затем что был одним из самых излюбленных причинных союзов поэтической речи. В «Евгении Онегине» он встречается неоднократно, тогда как, например, союз так как Пушкин в художественных произведениях не употребляет совершенно. Исключение составляет использование им этого слова в гл. 2, стр. V), череда – «пора, время», взоры – «глаза», блажен – «счастлив», любовник – «возлюбленный, влюбленный», белянка – «красавица», прямой – «настоящий», торжествуя – «празднуя», мечтанье – «виденье», куплет – «небольшая песня», Творец – «Боже», зачем – «почему», своды – «туннели», Собранье – «дворянское собрание», фараон – «карточная игра», соблазнительная (честь) – «(честь) соблазнителя», прости – «прощай».
А вдруг не то вдруг?
«Читая Пушкина, мы должны, как об этом уже говорилось, постоянно помнить, что многие слова у него выступают в таком семантическом амплуа, которое им сейчас уже несвойственно.
К перечисленным в предыдущей главке можно отнести также и слово вдруг, которое в ряде контекстов обозначает у поэта «сразу, одновременно, вместе». Однако это вовсе не значит, что у Пушкина не встречается и наше вдруг «внезапно, неожиданно». Оно тоже может у него быть. И определить, какое перед нами вдруг (а оно имеет и третье значение – «тотчас, немедленно»), можно, только внимательно и беспристрастно читая соответствующий отрывок. Таким образом, вопрос: «А вдруг не то вдруг?» – не является праздным и должен учитываться.
К чему приводит забвение его, покажем сейчас на конкретном примере.
В предисловии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в «Народной библиотеке» (М.: Худож. лит., 1966. С. 8–9) у П. Антокольского неверное толкование слова вдруг выступает даже в роли одного из аргументов его концепции о трагической сложности в работе Пушкина над романом и окончательности текста последнего. Но дадим слово П. Антокольскому: «Перед нами трагедия самого Пушкина: горестно осознанная им необходимость кончить роман по-иному, чем он был задуман. Отсюда естественный вопрос: является ли находящийся уже более ста лет перед русскими читателями текст окончательно завершенным созданием Пушкина? Или он был компромиссом для автора? На этот счет не может быть никаких сомнений. Сколько бы страданий ни стоило Пушкину сожжение десятой главы и уничтожение восьмой, все равно решение проститься с героем и романом, которое с такой силой звучит в последних строфах и с такой силой закреплено в памяти и в сознании поколений русских читателей, – это решение Пушкина было твердым и безоглядно смелым! Недаром поэт приравнивает его к прощанию с жизнью, к ранней гибели:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Вдруг – в словаре Пушкина это значит быстро, без проволочек, безжалостно отдавая себе отчет в безвозвратности расставания. В этом – весь Пушкин».
Лингвистический анализ и замедленное чтение пушкинского произведения выявляют, что П. Антокольский здесь выдает за существующее желаемое. Слово вдруг в приводимом отрывке не имеет семантики «быстро, без проволочек, безжалостно отдавая себе отчет в безвозвратности расставания». Как оно не обладает и никогда не обладало такой семантикой и в современном обиходном языке. Значение «скоро, не думавши», отмечаемое наряду с другими у слова вдруг уже в словаре Геснера 1767 г., совершенно исключает момент раздумья, без которого отдавать себе отчет в чем-либо просто немыслимо.
Расширенное рассмотрение отрывка, помещение его в больший контекст совершенно определенно говорит нам (тут надо иметь в виду также и излюбленные Пушкиным стилистические приемы всяких неожиданных поворотов), что слово вдруг употребляется в заключительной строфе «Евгения Онегина» в самом обычном и родном для нас значении «внезапно, неожиданно».
Об этом говорит не только его непосредственное словесное окружение (в котором «роман» жизни и внезапно ушедшие из нее обдуманно и прихотливо сравниваются со стихотворным романом и Евгением Онегиным), но – может быть, в еще большей мере – и XLVIII строфа, с ее причудливым и внезапным сюжетным «сгибом», следующим за признанием-отказом Татьяны:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор внезапный звон раздался,
И муж Татьяны показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго… навсегда.
Нет сомнений и в том, что Пушкин кончил роман так, как он хотел, а не так, как ему диктовала «горестно осознанная необходимость», кончил в том же ключе, в каком все время его писал: не быстро (более семи лет!), не спеша, легко и свободно, но с изумляющими своей неожиданностью поворотами.
Вообще в «Евгении Онегине» слово вдруг чаще всего выступает в современном значении:
Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад… (гл. 1);
Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Она дрожала и бледнела (гл. 5);
Вдруг меж дерев шалаш убогой… (гл. 5);
Вдруг изменилось все кругом… (гл. 8) и т. д.
Но встречается в романе и иное вдруг, равное словам немедленно, сразу. Вот примеры из пятой главы:
Мое! – сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг…
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули – больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
Между прочим, это слово вдруг в какой-то степени причастно и близко выражению будь друг. Не верите? И тем не менее доля правды в только что сказанном есть: фразеологизм будь друг возник в результате аббревиации, т. е. сокращения, более полной и рифмованной формы: Будь друг, да не вдруг (т. е. Будь другом, да не сразу). Такая поговорка отмечается еще в «Толковом словаре…» В. Даля.
Мечты и мечты
Мечты бывают разными… Но не о них пойдет сейчас речь. Как филологи обратим внимание на слова. Ведь бывают разными и слова мечты, мечты. Причем иногда у одного и того же писателя и в одном и том же произведении. И это следует обязательно учитывать, если мы хотим видеть авторский текст в его истинном свете. Например, текст романа А. С.Пушкина «Евгений Онегин».
Существительное мечта (естественно, в самых различных своих падежных формах) мелькает в «Евгении Онегине» довольно часто. Оно предстает перед нами уже в посвящении:
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты…
С ним мы сталкиваемся во второй главе при описании Ленского:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.
Его трижды произносит в своей исповеди-отповеди Татьяне Онегин в главе четвертой:
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей…
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты…
Неоднократно слово мечта встречается нам и в иных местах романа (см., например, X строфу главы третьей и строфу XLV главы шестой, III строфу главы седьмой, XXXVI, XLI и XLV строфы главы восьмой и др.).
И все это привычное и обычное слово мечта, столь же наше, сколь и Пушкина.
Но есть в романе «Евгений Онегин» и другие мечты. Слово мечта может являться и является на в двух контекстах с такими значениями, которые ему в настоящее время уже несвойственны.
В одно случае слово мечта выступает у Пушкина как «эрзац» существительного сновидение, как обозначение того, что снится:
Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он:
Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон (гл. 8).
В другом случае слово мечта у Пушкина (уже в форме множественного числа) оказывается еще более интересным, поскольку его собственное значение – «видение» неразрывно слито со значение стоящего рядом и определяющего его прилагательного черные:
А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты (гл. 6).
Причем слито настолько тесно, что отдельно восприниматься и не должно. Почему? Да потому, что оно является «осколком» семантики породившего эти слова фразеологизма видеть все в черном свете.
Впрочем, увидеть это можно только при замедленном чтении, хотя и без какого-либо специального лингвистического анализа. На первый же взгляд слово мечты здесь может показаться простым и обычным, а слово черные – очень своеобразным, хорошим и свежим эпитетом.
Внимательное и неспешное чтение предшествующей строфы показывает, однако, что в соответствующем месте Пушкин усыплял вовсе не мечты.
Вспомним, что предшествует разбираемому контексту:
Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель:
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк.
Но от друзей спаси нас, Боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я (гл. 4).
В строфе, как видим, немало скепсиса и пессимизма, поэт высказывает (с его точки зрения, очевидно, не без причины: ему постоянно приходилось встречать в личине друзей врагов) даже сомнение в существовании настоящих друзей: «Уж эти мне друзья, друзья! Об них недаром вспомнил я». Однако тут же оговаривается: «А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты» (т. е. «Я не хочу напрасно видеть все в черном свете», буквально – «я заставляю уснуть, отгоняю от себя пустые черные виденья, напрасные мрачные мысли»).
Как же возникло такое оригинальное словосочетание, как черные мечты? Оно появилось у А. С. Пушкина в результате творческого переоформления фразеологической кальки видеть все в черном свете (< франц. voir en noir), но с использованием, с одной стороны, вместо слова виденья (однокорневого с глаголом видеть) его архаического синонима мечты «виденья, призраки», а с другой стороны, диалектно-просторечного знания слова мечты «мысли».
Печальная здесь значит «достойная сожаления», прямое – «настоящее».
О взорах и взглядах
ВВ современном русском литературном языке слово взор является лишь синонимом слова взгляд. Однако в XIX в. оно могло употребляться и иначе – как синоним существительного глаз. Читая, например, Пушкина, следует иметь в виду, что если в предложении Взоры наши встретились («Капитанская дочка») слово взор равнозначно слову взгляд, то в контекстах:
…перед ней
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени…
(«Евгений Онегин», гл. 3);
Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он…
(«Евгений Онегин», гл. 5)
и т. д. – оно выступает уже как обозначение органа зрения. В этом значении существительное взор этимологически, по своей внутренней форме – «то, с помощью чего взирают, т. е. глядят».

Иллюстрация художника И. В. Кузьмина к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1933 г.
Такой же образ был положен в основу и некоторых других названий глаза. Такими, в частности, являются слова гляделки (от глядеть: Он подошел… он жмет ей руку… Смотрят Его гляделки в ясные глаза… (Блок), вежды (старославянское заимствование, представляющее собой производное от вѣдѣти «видеть»: Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда… (Пушкин), зрачок – уменьшительное от зрак (от зьркти «смотреть, видеть»).
Про годину, годовщину и год, а заодно – про лето и весну
Однажды один из читателей журнала «Русский язык в школе» попросил объяснить значение слова година в отрывке из стихотворения А. С.Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
Что здесь значит слово година: «год» или же, как в украинском языке, «час»?
Хотя внешне этот вопрос выглядит весьма заурядно и никакой лингвистической изюминки как будто не содержит, но по существу вопрос очень интересный.
В современном русском литературном языке слово година употребляется лишь как обозначение времени, в течение которого происходят какие-либо значительные события с оттенком торжественности, приподнятости. Определение каждая, сопровождающее у А. С.Пушкина слово година, сразу же говорит о том, что употребляется это слово здесь не в современном значении, а в каком-то другом.
До первой половины XIX в. из древнерусского письменного языка дожили следующие значения существительного година: 1) время, 2) час, 3) год. Правда, два последних значения встречаются в русском литературном языке пушкинской эпохи очень редко.
В каком же из этих трех значений А. С.Пушкин использует слово година в данном четверостишии? Градационный характер однородных членов его первой строчки (День каждый, каждую годину), а также предшествующий (ср. брожу ли, вхожу ль, сижу ль, гляжу ль, ласкаю ль, говорящие о постоянстве, неотступности, ежечасности думы поэта) и следующий далее текст («меж их» поэт старается угадать время своей будущей смерти!) заставляет думать, что слово година имеет здесь, скорее всего, значение «час».
Заметим (на это важное обстоятельство в «Словаре языка Пушкина» почему-то не обращается никакого внимания!), что существительное годовщина явно имеет в разбираемом отрывке не современное значение. Оно означает здесь «время». Об этом неопровержимо свидетельствует как сочетание меж их (оно исключает здесь значение «год»), так и определение грядущая (!). Ведь для нас годовщина всегда связана с тем, что уже прошло (ср. современное значение слова годовщина в пушкинских строках: Чем чаще празднует лицей Свою святую годовщину…).
Таким образом, все четверостишие на современный языковой стандарт можно «перевести» так: «Каждый день, каждый час я привык проводить в думах, стараясь угадать среди них время, срок своей будущей смерти».
Кстати, двумя строфами выше у А. С. Пушкина не в современном значении употребляется и слово час:
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
Существительное час здесь значит не «60 минут», а является синонимом слова время.
Наличие у слов час и година одинаковых значений («время», «час») не случайно, так как оба слова этимологически связаны с глаголами, обозначающими ожидание: первое – с глаголом чаять «ждать, ожидать» (ср. народные чаяния, паче чаяния «сверх ожидания»), второе – с глаголами годить и ждать (< жьдати).
Как видим, в пределах одного и того же стихотворения А. С.Пушкина слова година и час употребляются одно на месте другого: година в значении «час», час в значении «время». Не правда ли, любопытно, что архаическая семантика может врываться в наше современное понимание художественного произведения? Попутно укажем, что трактовка слова година в значении «час» как украинизма или полонизма (ср. укр. година, пол. godzina) исключается в разбираемом контексте как биографией А. С. Пушкина, так и его стилистическими принципами.
А теперь о слове год. Наш великий поэт пользуется им в данном стихотворении, так же как и мы, для обозначения 365 (а в високосном году – 366) дней. Вспомните соответствующую строчку: Я говорю: промчатся годы. Чехи и югославы могут понять ее неправильно, как «Я говорю: пройдут праздники», так как в их языках слово год значит «праздник, хорошее время». Именно последнее значение («хорошее время») и было в праславянском языке исходным для слова год, о чем свидетельствуют как его производные типа годный, гожий, так и его родственники в других индоевропейских языках, ср. нем. gut «хороший», алб. ngeh «свободное время» (а значит, и «хорошее время», «праздник», вспомните, что существительное праздник образовано от праздный < праздьныи «свободный, пустой») и т. д.
Следовательно, слово год в русском языке пережило следующие узловые смысловые «реформы»: «хорошее время» – «время» – «время в 365 (или 366) дней». В последнем значении оно почти вытеснило из употребления старое название года – существительное лето. Сейчас это слово, как известно, называет лишь одну из четырех частей года.
В исходном значении оно существует только как форма множественного числа к слову год (ср. семь лет и т. д.). Первоначальный смысл ясно чувствуется и в некоторых производных (ср. летопись «запись событий по годам», летошний «прошлогодний», летось «в прошлом году», летосчисление).
Как видим, за свою долгую жизнь слово лето из года «превратилось» в его четвертую часть. Почти такую же судьбу пришлось в свое время испытать и общеславянскому слову яро, сохранившемуся у нас лишь в составе производных образований типа яровые и ярка «овца этой весны». Как свидетельствуют данные родственных индоевропейских языков на определенном хронологическом уровне оно тоже значило «год» (ср. авест. yär «год», нем. Jahr «год»). Только из названия года оно у славян превратилось в название весны.
В каком месяце Пушкин изображает деревню в стихотворении «Деревня»
Стихотворение А. С. Пушкина «Деревня» (1819) является одним из самых удачных примеров, на которых можно показать жизненную необходимость замедленного чтения художественных произведений, коль скоро мы действительно хотим понять, что и как сообщает писатель, о чем повествует, какими языковыми средствами пользуется. Здесь много различного рода архаизмов, немало поэтических перифраз, требующих особых комментариев и оговорок. Однако мы на этом всем останавливаться не будем, предоставим возможность это сделать читателю. Коснемся лишь одной (второй) части того «вольного» (антикрепостнического) стихотворения поэта, в котором он описывает деревенский пейзаж. Оно в общем почти свободно от устарелых языковых фактов. Во всяком случае, пониманию живописной картины деревни они вряд ли мешают (сей – этот, рыбарь – рыбак, полосаты – полосатые, крылаты – крылатые – два последних слова представляют собой усеченные (не краткие!) прилагательные, выступающие в роли определений). И вот уже на этом нетрудном для восприятия отрывке можно убедиться, что читать стихи надо внимательно. Стоит только поставить перед собой, например, такую задачу: определить как можно точнее, в какое время года Пушкин изображает деревню. Из двенадцати строк отрывка помогут это решить (а их надо найти!) прежде всего два сочетания существительных с прилагательными – душистыми скирдами и овины дымные. И особенно – последнее. Надо знать лишь значения этих слов. Строчка Сей луг, уставленный душистыми скирдами говорит, что время сенокоса уже прошло, сено скошено, высушено и собрано в скирды, т. е. в большие, плотно уложенные кучи. Так как сенокос бывает в июне – июле, то можно уже заключить, что описывается лето, а не весна («темный сад с его прохладой и цветами» может быть и весной!). Сообщение поэта о том, что он вдали видит также овины дымные еще более уточняет изображаемое им время. Ведь овины – это хозяйственные строения для искусственной сушки снопов, т. е. скошенного и собранного хлеба перед молотьбой. В них хлеб в снопах сушится с помощью огня, разводимого или прямо в яме, или в курной печи. Дымными, т. е. действующими, овины бывают после жатвы и перед молотьбой, т. е. не раньше августа. Вот это-то время в деревне и описал в «подвижных картинах» А. С. Пушкин в своей «Деревне».
Попутно обратим внимание на первое словосочетание с иной точки зрения – зрительной. Ведь большие, плотно уложенные кучи сена можно назвать и стогами (рифма, кстати, сохранится). Как же видит поэт луг после сенокоса? Чтобы ответить правильно на этот вопрос, надо знать, чем отличаются скирды от стогов. Стога – по форме круглые, скирды же всегда продолговатые.
Так знание значений слов не приблизительно и в целом (как это часто бывает), а очень точно и определенно позволяет представить себе поэтический уголок Пушкина, описываемый им в стихотворении «Деревня», августовскую деревню, полную «довольства и труда» и в то же время несчастную под ярмом крепостничества.
Небось и наверное в поэме Н. А. Некрасова
Заглавие этой заметки состоит из соединенных союзом и синонимических вводных слов небось и наверное. Последние употребляются сейчас в качестве лексических единиц, выражающих разную степень предположения, и передают большую или меньшую степень уверенности в достоверности того, о чем говорится в основной части предложения. Таким образом, в современном русском литературном языке они играют ту же роль, что и слова вероятно, очевидно, по-видимому и им подобные. Но было бы неверным считать обозначенное семантическое «амплуа» у небось и наверное извечным и единственным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к художественной литературе XIX в. Далеко за примерами ходить не надо. Обратимся к главе I («Поп») первой части поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вспомните первые слова Луки, обращенные к попу:
Уж день клонился к вечеру,
Идут путем-дорогою,
Навстречу едет поп.
Крестьяне сняли шапочки,
Низенько поклонилися,
Повыстроились в ряд
И мерину саврасому
Загородили путь.
Священник поднял голову,
Глядел, глазами спрашивал:
Чего они хотят?
– Небось! Мы не грабители! —
Сказал попу Лука.
Ведь слово небось у Луки совсем не то, к которому мы привыкли в своем речевом обиходе.
Фраза вероятно (очевидно, по-видимому и т. д.) мы не грабители в описываемой поэтом ситуации бессмысленна и невозможна. Лука употребляет здесь слово небось в его, так сказать, первобытном, исконном значении – «Не бойся!».
«Не бойся! Мы не грабители!» – вот что сказал Лука попу, когда крестьяне загородили ему дорогу. Значение «Не бойся!» у слова небось в разбираемом месте «Кому на Руси жить хорошо» позволяет воочию увидеть его происхождение. С этимологической точки зрения слово небось – через промежуточное звено небойсь! (ср. готовьсь!) – восходит, действительно, к словосочетанию Не бойся!
Задержимся еще некоторое время на слове небось. Но для этого нужно прочитать следующую сразу же за разобранным предложением авторскую характеристику Луки. Она дается в скобках:
– Небось! Мы не грабители!
– Сказал попу Лука.
(Лука – мужик присадистый,
С широкой бородищею,
Упрям, речист и глуп.
Лука похож на мельницу:
Одним не птица мельница,
Что, как ни машет крыльями,
Небось не полетит.)
В последней из приведенных строк перед нами опять слово небось. И опять (вы это чувствуете?) по значению совсем не то, которое свойственно современному языку. И более того: оно ему прямо противоположно! Ведь если сейчас небось значит «вероятно, возможно, наверное», то в некрасовском контексте оно имеет значение «наверняка». Слово вероятной возможности здесь предстает перед нами как слово категорического утверждения. Если касаться «субординации» выявленных у слова небось значений (устаревших «Не бойся!» и «наверняка» и современного «наверное»), то придется сказать, что последнее является самым молодым и возникло из значения «наверняка» (!) так же, как значение «наверняка» – из значения «Не бойся!».
Возникновение у слова энантиосемии, т. е. прямо противоположных значений, – явление хотя и любопытное, но довольно частое и закономерное (ср. честить «оказывать честь» и честить «ругать», просмотреть «проглядеть от начала до конца» и просмотреть «не увидеть», задуть домну «зажечь» и задуть свечу «погасить» и т. д.).
И одним из ярких примеров этого является второй герой нашей заметки – вводное слово наверное как общеупотребительный межстилевой синоним просторечного небось.
Оно пережило ту же судьбу и было синонимом последнего также и в значении «наверняка». Что это так, свидетельствует текст той же главы «Кому на Руси жить хорошо». Обратимся к монологу попа о поповском богатстве:
Во время недалекое
Империя Российская
Дворянскими усадьбами
Была полным-полна.
И жили там помещики,
Владельцы именитые,
Каких теперь уж нет!..
Прихода не чуждалися:
У нас они венчалися,
У нас крестили детушек,
К нам приходили каяться,
Мы отпевали их.
А если и случалося,
Что жил помещик в городе,
Так умирать наверное
В деревню приезжал.
Здесь Так умирать наверное в деревню приезжал переводится на современный язык не иначе как «Так умирать наверняка приезжал в деревню».
Заметим, что это утвердительное значение у ныне предположительного наверное является не менее обоснованным и закономерным, нежели у небось. Ведь слово наверное в конечном счете идет из фразеологического оборота картежного арго идти на верную взятку, затем идти на верную (т. е. идти наверняка). Сочетание слов на верную слилось в слово наверную, а последнее – подвергшись аналогическому воздействию выражения верное дело – превратилось в наверное.
Решите сами
Трудные строки «Кому на Руси жить хорошо»

В приводимых ниже строках поэмы содержатся слова и обороты, которые в настоящее время уже устарели, стали редко употребляемыми. Определить значение, с которым они используются в соответствующем контексте, можно, если читать текст не спеша, в нужных случаях снимая с книжной полки один из толковых словарей современного русского языка (лучше всего, конечно, вам поможет 17-томный академический словарь).
1. В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временно обязанных…
2. Тут башмачки козловые
Дед внучке торговал…
3. Была тут также лавочка
С картинками и книгами,
Офени запасалися
Своим товаром в ней…
4. Хожалому, квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз…
5. Там рать-орда крестьянская
По кочам, по зажоринам
Ползком ползет с плетюхами, —
Трещит крестьянский пуп…
6. И все мне, братец, чудится,
Что режу пеунов
(Мы тоже пеунятники,
Случалось в год откармливать
До тысячи зобов)…
7. Дрожу, гляжу на лекаря:
Рукавчики засучены,
Грудь фартуком завешана,
В одной руке – широкий нож,
В другой ручник – и кровь на нем,
А на носу очки!..
8. Пришла зима бессменная,
Поля, луга зеленые
Попрятались под снег.
На бело снежно саване
Ни талой нет талиночки —
Нет у солдатки– матери
Во всем миру дружка!..
9. Горазд орать, балясничать,
Гнилой товар показывать
С хазового конца…
10. «Ой, батюшки, есть хочется!» —
Сказал мужик; из пещура
Достал краюху – ест…
11. «Я деньги принесу!»
– А где найдешь? В уме ли ты?
Верст тридцать пять до мельницы,
А через час присутствию
Конец, любезный мой!
12 Наклали шляпу полную
Целковников, лобанчиков,
Прожженой, битой, трепаной
Крестьянской ассигнации.
13 Не пьет, не ест: те кончилось,
Что в деннике с веревкою
Застал его отец.
14 Усы седые, длинные,
Ухватки молодецкие,
Венгерка с бранденбурами,
Широкие штаны.
15 Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками,
На каждом флаг играл…
16 Бывало, нас по осени
До полусотни съедется
В отъезжие поля…
17. Онучи распороли мы
И барину лобанчиков
Полшапки поднесли…
18. «Не правда ли, Матренушка,
На очеп я похож?»
19 Да распрямиться дедушка
Не мог: ему уж стукнуло,
По сказкам, сто годов.
Укажем имеющиеся в приведенных текстовых «кусочках» устаревшие сейчас или диалектные слова и, если так можно выразиться, переведем их на современный язык. Такими словами у Некрасова являются слова: столбовая (дороженька), временно обязанные, козловые (башмачки), офени, хожалый, квартальный, кочи, зажорины, плетюх, пеуны, пеунятники, зоб, ручник, талиночка, мир, балясничать, хазовый (конец), пещур, присутствие, целковик, лобанчик, ассигнация, денник, венгерка с бранденбурами, китайские (беседки), отъезжие (поля), онучи, очеп, по сказкам.
Перечисленные слова из «Кому на Руси жить хорошо» Н. А.Некрасова в соответствующих местах этого художественного текста имеют следующее значение: столбовая дорога – «большая проезжая дорога с верстовыми столбами (верста – чуть больше километра)», временно обязанные – «освобожденные крепостные, обязанные в то же время либо платить за землю оброк, либо отбывать определенные повинности», козловые (башмачки) – «сделанные из кожи козла», офеня – «коробейник, мелкий торговец, торговавший вразнос, бродя из деревни в деревню», хожалый – «рассыльный при полиции или полицейский низкого чина», квартальный – «полицейский надзиратель над кварталом», кочи – «кочки», зажорина – «рытвина с водой, талая вода под снегом, покрываю-щим рытвину», плетюх – «большая сплетенная из прутьев корзина», пеуны – «петухи», пеунятники – «петушатники», зоб – «штука» (счетное слово типа существительного голова, ср.: сто голов молодняка), ручник – «полотенце», талиночка – «проталинка», мир – «сельская община», балясничать – «болтать», хазовый конец – «лицевая сторона ткани», пещур – «корзинка из лыка», присутствие – «учреждение», целковик – «рубль (серебряный)», лобанчик – «золотая монета» (разного достоинства), ассигнации – «бумажные денежные знаки» (разного достоинства), денник – «хлев», венгерка с бранденбурами – «куртка с нашитыми поперечными шнурами» (по образцу формы венгерских гусар), китайские беседки – «беседки в китайском стиле», отъезжие поля – «отдаленные, куда надо ехать», онучи – «портянки», очеп – «шест у колодца, который служит как рычаг для подъема воды, журавль», по сказкам – «по ревизским сказкам, данным переписи лиц, которые подлежат обложению податью».

Иллюстрация художника Д. А. Шмаринова к поэме Н. А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1953 г.
Как видим, большинство слов, вызывающих у нас хлопоты и раздумья, являются историзмами, связанными с крестьянским бытом России XIX в. Значительно меньше в приведенных отрывках (да и во всей поэме) архаических синонимов, вытесненных позже другими словами.
Два слова из «Железной дороги»
Вы, конечно, помните строчки в начале замечательного стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»:
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные тихие дни…
Нет безобразъя в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю…
Прозрачны и просты слова, без каких-либо красивых сравнений и метафор, но зато какие удивительно трогательные и бодрые. Однако все ли до капельки понятно нам в этих шести строках? Всмотритесь в них, и ваше внимание привлечет прежде всего слово кочи. И понятно: сейчас его в литературном языке нет. Вместо него в нем употребляется производное кочки. Впрочем, и во времена Некрасова существительного кочи в литературной речи не было. В стихах поэта это один из многочисленных диалектизмов родного говора. В отличие от практики И. С.Тургенева диалектизмы употребляются у Некрасова по-толстовски, без толкований и оговорок, и поэтому иногда серьезно влияют на понимание текста (см. заметку «Трудные строки «Кому на Руси жить хорошо»»).
Но это не все. В приведенных строчках есть еще одно слово, языковая «особинка» которого невооруженным глазом не видна, особенно если стихотворение читается залпом. Таким словом является существительное безобразъе как антоним слову красота. В настоящее время значение «некрасивость, уродство» не принадлежит уже – в отличие от значения производного от него прилагательного безобразный – к актуальным, оно ушло на периферию нашего языкового сознания. Частотно и подлинно современно оно сейчас лишь в значениях «возмутительное явление, отвратительный поступок» или, если слово безобразие выступает в роли сказуемого, «возмутительно, отвратительно».
Хрипуны Грибоедова и Чехова
Слово хрипун в современном повседневном употреблении не вызывает у нас ни любопытства, ни вопросов. Это существительное представляет собой рядовое образование на – ун, значение которого целиком и полностью складывается из его корня и следующего за ним суффикса. В этом отношении оно однотипно словам болтун, ворчун, крикун, свистун, сопун, хвастун, шаркун и т. п.
Хрипун – человек с хриплым, сдавленным, сиплым голосом, человек, который, говоря, хрипит. Но, как говорится, хрипун хрипуну рознь. Обращаясь к художественным текстам прошлого, мы рискуем встретиться и с таким словом хрипун, которое может поставить нас в тупик. Оно не является совершенно чужим нашему существительному хрипун. В определенной мере оно выступает как родственное ему. И тем не менее ввести нас в грех (в старом значении этого слова – «в ошибку», ср. погрешность) вполне способно. Дело в том, что семантика старого слова хрипун как лексической единицы XIX в. в определенной социальной сфере была значительно уже и конкретней, хотя и строилась на сумме значений составляющих его морфем. Там оно тоже обозначало хрипуна, но не хрипуна вообще, а совершенно определенного.
При чтении художественных произведений об этом надо помнить, иначе отрывки с этим словом будут восприняты неверно.
Обратимся к соответствующим контекстам.
У Грибоедова в комедии «Горе от ума» слово хрипун попадается нам в меткой и язвительной характеристике Чацким Скалозуба: Хрипун, удавленник, фагот, Созвездие маневров и мазурки. Первая строчка этой оценки Скалозуба как личности состоит из трех однородных членов синонимического ряда, характеризующих его, на первый взгляд, лишь по свойственной ему манере говорить (хрипун, удавленник, фагот – человек с хриплым, сдавленным, сипло-басовитым, как у фагота, голосом). Но в действительности здесь перед нами и морально-этическая характеристика Скалозуба как офицера-фанфарона, духовно убогого хвастуна и щеголя. Чтобы это почувствовать, надо знать, что в данном случае Грибоедов употребил слово хрипун не в общенародном – известном и сейчас – значении, а в устаревшем арготическом значении, бытовавшем в XIX в. в среде военных.
Это особое значение слова хрипун «офицер-фанфарон», несомненно, появилось под влиянием корневого хрип, в речи военных получившего семантику «хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хриплостью голоса». Свидетельство об этом поэта П. Вяземского приводится Г. О. Винокуром уже в статье «Горе от ума» как памятник русской художественной речи» (уч. зап. МГУ. Труды кафедры русского языка. 1948. Вып. 128. Кн. 1).
Таким образом, в устах Чацкого хрипун, удавленник, фагот по отношению к Скалозубу значило «офицер-фанфарон, высокомерный хвастун и щеголь с манерой говорить нарочито сиплым, хриплым, басовитым голосом».
Ту же семантику оно имеет и у Чехова в рассказе «Ионыч». Вспомните «жалостные» слова Старцева Екатерине Ивановне во время их встречи после четырехлетней разлуки, когда «ему вдруг стало грустно и жаль прошлого» «и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь…»:
– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?
Здесь тоже слово хрипун, что и у Грибоедова, и называет им Старцев тех же скалозубов, только конца XIX в.
Каков он – глагол кушать?
ВВ работах по культуре речи стало привычкой относиться к этому слову в целом отрицательно, как к просторечному, будто бы придающему речи манерность и слащавость. Однако даже в них глагол кушать «разрешается» свободно и без каких-либо ограничений употреблять при приглашении к столу и при обращении к детям (см., например: Краткий словарь трудностей русского языка. М., 1968. С.127). Поэтому форма кушайте является не только современной и актуальной, но и при вежливом обращении более предпочтительной и, значит, более правильной, нежели глагол ешьте. Более того, кажется очень субъективным и произвольным наклеиваемый иногда ярлык неправильности даже по отношению к личным формам этого глагола (см. там же).
Право же, никакой манерности и тем более слащавости формы кушаю, кушаешь, кушает и т. д. сами по себе не имеют. В их недоброжелательной оценке со стороны говорящих (а не только справочников по практической стилистике русского языка) в свое время сказалось отношение народа к господам (ведь господа не ели, а кушали!). Но с тех пор, как и во многих других словах, в глаголе кушать постоянно происходит процесс стилистической нейтрализации, стирающий в нем этот особый «неприязненный» обертон.
Современная речевая практика, в том числе и практика печати, свидетельствует, что слово кушать постепенно становится самым обыкновенным и привычным синонимом слова есть. И частые отступления от так называемых нормативных рекомендаций – яркое тому свидетельство. В предложении Ни павильона для одежды, ни киоска, где можно выпить воды, скушать бутерброд по существу так же нет ничего неправильного, как и в следующих строках из поэмы «Руслан и Людмила» А. С.Пушкина:
«Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?..
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать.
Какая погода?
Нет, это не метеорологический вопрос, ответ на который мы ежедневно слышим в сводке бюро погоды. Наш вопрос относится не к самой погоде, а к слову, которым она называется, и имеет, таким образом, чисто лингвистический характер. Кроме того, он будет относиться также и к самому вопросу Какая погода?
Как вы думаете, всегда ли возможен вопрос Какая погода? Вы уже в вопросе чувствуете отрицательный ответ? В таком случае вы правы.
Возможность вопроса Какая погода? зависит от значения существительного. Это вопросительное предложение имеет право на существование лишь постольку, поскольку слово погода обозначает просто состояние земной атмосферы и связанных с ней природных явлений и является нейтральным, безоценочным названием погоды. Тем самым вопрос Какая погода? предполагает словосочетания хорошая погода и плохая погода.
Но это наблюдается не всегда даже в поэтическом языке. И объясняется такой факт тем, что и в стихи «забредают» иногда семантические диалектизмы и архаизмы, слова, имеющие диалектное или устарелое – иное, нежели в литературном языке, – значение. Сравните приводимые ниже строчки из Пушкина и Прокофьева:
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей…
Что весной на родине? Погода.
Волны неумолчно в берег бьют…
Здесь (и в одном и в другом контексте) перед нами предстает иная с точки зрения современного русского языка диалектная «погода». Причем по существу – с прямо противоположными значениями. У Пушкина слово погода значит «хорошая погода, вёдро» (в переносном смысле – «удобное время»), у Прокофьева оно, напротив, употребляется в значении «плохая погода, ненастье, дождь, снег».
Как следует оценивать данное словоупотребление? Как не соответствующее литературным нормам и ошибочное? Ведь и у Пушкина, и у Прокофьева слово погода употребляется без какого-либо стилистического задания, хотя является диалектизмом. На первый взгляд как будто так, и порицания заслуживают оба поэта. Но подождите осуждать за неудачное употребление слова погода Пушкина. Нет, не потому, что он Пушкин. Совсем по другой причине.
У Прокофьева существительное погода «ненастье, дождь, снег» – явная ошибка и в известной степени лишь отзвук его родного диалекта.
У Пушкина же слово погода «удобное время; хорошая погода, вёдро» – не диалектизм (в таком значении диалектным оно стало позднее), а архаизм времени, ставший таким для нас, а для него бывший еще актуальным словом литературного языка. Поэтому-то пушкинское употребление этого слова в смысле «удобное время; хорошая погода, вёдро» является таким же правильным, как и встречающееся в том же «Евгении Онегине» слово погода в современном значении:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе… (гл. 5).
Кстати, архаическое сейчас погода «хорошая погода, вёдро» является первичным в общенародном языке. Этим, в частности, объясняется существование в нем таких слов, как непогода, погожий (денек), распогодилось «разведрилось» и др. Аналогичное семантическое развитие (от хорошего к нейтральному) наблюдается у слова путь, ср.: путный и беспутный, путём «хорошо» (ничего не сделает) и непутёвый и т. д.
Замечу, что сочетание Пушкина жду погоды (ср. фразеологизм ждать у моря погоды) этимологически тавтологично, так как ждать (от жьдати < гьдати) и погода (от погодити, в свою очередь образованного от годити «ждать», ср.: год, первоначально значившее «благоприятное, удобное время») являются словами одного и того же корня.
Семантика слова вечор
Н е правда ли, более чем странным и даже диким будет предложение Приходи вчера. Оно может звучать даже как оскорбление. Еще бы: приглашать прийти в то время, которое уже прошло. Вы скажете, что так не говорят, что это нелепо и нелогично. И будете в общем правы. И все-таки, представьте себе, что-то подобное под музыку Дунаевского в течение довольно долгого времени пели. Я имею в виду песню из кинофильма «Волга-Волга» на слова Волженина. Вот эти строчки:
Приходи вечор, любимый,
Приголубь и обогрей,
Пел на зорьке за рекою,
За рекою соловей.
Вы не обращали на них внимания? А напрасно. Ведь первая строчка приведенного четверостишия буквально значит «приходи, любимый, вчера вечером». Поэт здесь неверно с точки зрения существующих в литературном языке норм приписал слову вечор такое значение, которого у него в русском литературном языке никогда не было и которое ему не свойственно и сейчас. Наречие вечор он наградил значением «вечером». Неправильность употребления слова вечор Волжениным становится ясной, как только мы вспоминаем Пушкина:
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно…
(«Зимнее утро»);
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава Богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет.
(«Евгений Онегин», гл. 3);
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
(«Евгений Онегин», гл. 6);
«Зачем вечор так рано скрылись?» —
Был первый Оленькин вопрос.
(«Евгений Онегин», гл. 6).
Во всех этих контекстах слово вечор значит «вчера вечером». Но это лишь одна сторона медали. Дело в том, что сложное двухкомпонентное значение, как показывает история русского языка, могло у наречия вечор распадаться и распадалось, становясь простым. Так возникло у слова вечор «одно-компонентное» значение «вчера». Его отмечает уже В. Даль: «Вечор… вчера вечером, по полудни; ино значит вообще вчера» (Толковый словарь живого великорусского языка). Оно было принято и в литературном языке. Однако сжатие двух-компонентного значения «вчера вечером» у слова вечор могло осуществляться и происходило также и другим путем. Слово вечор начинало выполнять роль второго компонента своей семантики и получало значение «вечером». Правда, это семантическое преобразование у нашего наречия протекало лишь в диалектах и ими ограничилось, но так все-таки было. Академическим «Словарем русских народных говоров» (Л., 1969. Вып. 4) значение «вечером» у слова вечор отмечается для целого ряда русских диалектов (нижегородских, симбирских, владимирских, московских, новгородских, курских, тульских и др.).
И вот этот факт заставляет несколько иначе оценивать промах Волженина, если хотите, отнестись к его ошибке в словоупотреблении более снисходительно. В его фразе приходи вечор, любимый следует видеть в первую очередь родимые пятна диалектной речи (от этого, конечно, языковая погрешность не перестает быть погрешностью), а возможно – прямое и не совсем удачное заимствование из народной песни:
Да взойди, взойди ты, солнце красное!
Да приди, приди, заудалой молодчик, вечор до меня!
(Словарь русских народных говоров)
Таким образом, волженинское предложение Приходи вечор, любимый в значении «приходи, любимый, вчера вечером» нелепо лишь в русском литературном языке. С точки зрения носителей целого ряда русских диалектов оно является вполне нормальным и содержит «безобманное» приглашение любимому приходить вечером на свидание.
Разобранный нами случай показывает, как важно осмотрительно и осторожно подходить к нормативным оценкам того или иного словоупотребления (особенно у поэтов и писателей), учитывая факты и литературной речи, и народных говоров. Имея в виду строчку Волженина, можно сказать, что значение «вечером» для слова вечор им не изобретено (оно есть в диалектах), но употреблено им наречие вечор все же неверно. В художественном произведении – и особенно в поэзии – всякий диалектизм должен быть мотивирован определенными художественно-изобразительными, эстетическими, целями. А как раз этого здесь у поэта и не наблюдается.
В заключение вернемся к начальным словам заметки, к предложению Приходи вчера. Парадоксально, но это тем не менее так. В фольклоре с таким оксюморонным, алогично-каламбурным предложением мы можем встретиться запросто. Оно, кстати, отмечается В. Далем в качестве «кусочка» заговора от лихорадки: «Дома нет, приходи вчера». Здесь оно правильно и вполне на месте. Действительно, пусть болезни приходят вчера.
Не только ветрило
У Ф. И. Тютчева есть чудесное лирическое стихотворение «Восток белел…», прозрачное и трепетное двенадцатистишие, с композиционной и смысловой точки зрения организованное анафорой (т. е. единоначатием, повторением начальных частей отрезков речи) и градацией (т. е. нарастанием эмоционально-смысловой значимости: Восток белел… Восток алел… Восток вспылал…). В качестве анафоры выступает рефренное слово восток («часть горизонта, где восходит солнце»), а в качестве второй – глаголы белел, алел и вспылал как все большие степени рассвета. Начинается стихотворение так:
Восток белел. Ладья катилась,
Ветрило весело звучало, —
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало…
В сборнике «Ф. Тютчев. Стихотворения» (М., 1976) в примечаниях к этой поэтической миниатюре объясняется только слово ветрило: «Ветрило (устар.) – парус». Действительно, это существительное как устаревшее слово, как архаизм требует объяснения на современном русском языке, хотя оно, несомненно, многим сразу напоминает стихотворение Пушкина «Погасло дневное светило…» («Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной угрюмый океан…») и является одним из слов традиционно-поэтической лексики. Между прочим, в русском языке слово ветрило не исконное и является заимствованием из старославянского языка (в памятнике древнерусской литературы – сборнике Святослава 1076 г. – встречаем: Красота воину оружие и кораблю ветрила). Иное дело слово ветрило – «ветер» в «Слове о полку Игореве» (О ветре! ветрило! Чему господине насильно вееши? что значит «О ветер, ветрило зачем господин, сильно дуешь?») с усилительным, а не орудийным суффиксом – {и)ло (таким же как сеичас суффикс – ила в словах громила, зудила и т. п.).

В стихотворении Тютчева «Восток белел…» объяснению в качестве ходовых в первой половине XIX в. традиционно-поэтических слов подлежат и другие слова и словосочетания. Это, во-первых, существительные ладья – «лодка», чело – «лицо, лоб», уста — «губы», взоры – «глаза», выя – «шея» и ланиты. – «щеки». Во-вторых, это чудесная перифраза в конце стихотворения капли огневые – «слезы», соотносительная с общенародным выражением «горячие слезы», но значительно более яркая и выразительная.
Однако это не все. Вернемся к строчке: «Во взорах небо ликовало…» Мы теперь знаем, что во взорах значит «в глазах» (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: С досады взоры опустив, Надулся он). И все-таки это не дает полного понимания строчки. Напротив, вызывает недоумение, как это в глазах может ликовать небо. Все встает на свои места только тогда, когда мы узнаем, что слово небо имело раньше переносное значение «блаженство, наслаждение, радость, что-то неземное» (ср. у Жуковского в «Плаче Людмилы»: Небеса вкушала я! т. е. «Я наслаждалась!»).
Сыны Лвзонии и сыны Дронтгейма
А теперь совершим с вами небольшое путешествие по одному из «Отрывков путешествия Онегина». Обратимся к описанию выхода театральной публики из Одесского оперного театра после оперы «упоительного» Россини:
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
В этом кусочке последней строфы «Евгения Онегина» (за ней у поэта следует лишь предложение Итак, тогда в
Одессе…) мы встречаемся не только со старой грамматической формой зала (вместо современного зал), устаревшим значением слова разъезд – «разъезжающиеся люди», архаическим произношением рифмующегося с существительным разъезд слова звезд со звуком [ʼэ] (на месте современного звёзд), но и… с сынами Авзонии счастливой. Мне кажется, что для большинства из вас эта встреча будет непонятной.
Что значит словосочетание сыны Авзонии! Его значение (между прочим, самое прозаическое) можно раскрыть очень просто. Но при двух условиях. Во-первых, надо иметь в виду, что перед нами перифрастическое обозначение лица по его национальной принадлежности. Во-вторых, надо знать, что такое Авзония. Тогда все становится на свои места. Как только мы узнаем, что слово Авзония – это старое название Италии (производное с помощью суффикса – ия от имени Авзона, который, по преданию, был первым царем Италии, сыном Одиссея и Цирцеи или Калипсо, ср. Колумбия – от Колумб, Боливия – от Боливар и т. д.), то красивое, но непонятное сочетание слов сыны Авзонии «сокращается» в самое привычное слово итальянцы. Эта перифраза встречается у Пушкина и в стихотворении «Кто знает край, где небо блещет…»:
Людмила северной красой,
Всё вместе – томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет…
А теперь обратимся к словосочетанию сыны Дронтгейма. Оно, вероятно, кажется вам не менее темным и неясным, нежели сыны Авзонии. Скажу сразу, что это не свободное сочетание, обозначающее сыновей какого-то человека по фамилии Дронтгейм. Мы вновь встретились (уже в стихотворении К. Н. Батюшкова «Тень Гаральда смелого») с перифразой, аналогичной разобранной выше. Вот содержащее ее четверостишие:
О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Сейчас мы ее разберем. Но сначала два замечания по тексту, связанные с грамматикой и фонетикой. В нем, во-первых, мы встречаемся с архаической формой други вместо друзья, а во-вторых, с устаревшим произношением е как [ʼэ], а не [ʼо] в слове провел (ведь оно рифмуется со словом стрел – родительный падеж множественного числа от стрела).
Итак, перифраза сыны Дронтгейма. В ней есть еще «не наша» огласовка топонима, т. е. географического названия, Тронхейм (название древней столицы Норвегии и современного города и окружающей их северной части Норвегии). А означает она «тронхеймцы».
Заметим, что цитируемое стихотворение Батюшкова с рефренной строфической концовкой А дева русская Гаральда презирает представляет собой вольное переложение старинной норвежской песни, приписываемой скальду и одновременно королю Норвегии Гаральду III, за которым была замужем дочь великого киевского князя Ярослава Мудрого Елизавета.
Перифразы со значением лица (не только по его национальной принадлежности, но по его занятию или свойствам) в русской поэзии были очень распространенными и частотными. Ср. сын Феба – «поэт», сын Марса – «воин», творец Макбета – «Шекспир», певец Корсара – «Байрон» и т. д.
Перечитывая «Зимнее утро»
Стихотворение «Зимнее утро» А. С. Пушкина давным-давно стало хрестоматийным и, конечно, очень хорошо вам известно. Его изучают в школе как одно из самых ярких стихотворений, посвященных зиме. В нем, по выражению А.Т.Твардовского, «все, кажется, на русском языке», все как будто бы и понятно и ясно. Однако как это на деле обманчиво! Сколько в действительности в этом произведении языковых трудностей и отступлений, которые мы вначале даже и не замечаем. А это, естественно, ведет к приблизительному, неточному пониманию и его отдельных деталей, и, значит, произведения в целом.
Но обратимся к тексту, такому знакомому и близкому, многим известному наизусть.
Начнем с первой строфы:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
В этой строфе при замедленном чтении наш взгляд должен прежде всего остановиться на четвертой – шестой строчках открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись! В них содержатся не только два «темных» слова, хотя их неясность может быть не замечена, но и два устаревших ныне архаических факта. Во-первых, разве не удивляет вас словосочетание открой… взоры! Сейчас ведь только можно бросать взоры, устремить взоры, потупить взоры и т. д. Здесь же это существительное имеет старое значение – «глаза». Заметим, что поскольку слово взоры образовано от взирать – «смотреть», то оно по своей внутренней форме аналогично диалектному гляделка (от глядеть). Отмеченное значение слова взор встречается в художественной речи первой половины XIX в. постоянно. И не только в стихах! В романе Загоскина «Аскольдова могила» мы читаем: Неподвижные взоры Рогнеды горели каким-то диким огнем… В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина герой появляется перед Татьяной, блистая взорами (…прямо перед ней, Блистая взорами, Евгений Стоит подобно грозной тени). И т. д.
Идем далее. В следующей строчке нас поджидает собственное имя, написанное с большой буквы, Аврора, по своему значению являющееся нарицательным существительным со значением «утренняя заря» (по имени богини утренней зари в древнеримской мифологии). В такой роли слово Аврора Пушкиным используется неоднократно (ср. в «Евгении Онегине»:
Ольга к ней, Авроры северней алей И легче ласточки влетает). Попутно отметим в этих же строчках стихотворения два устаревших грамматических явления. Такими являются, во-первых, усеченная форма прилагательного сомкнуты (вместо сомкнутые, т. е. «закрытые») и, во-вторых, словосочетание навстречу Авроры (вместо навстречу Авроре), где после предлога навстречу следует не дательный падеж существительного (ком у?), а родительный (к о г о?).
Но читаем стихотворение дальше. Если вы знаете, что вечор – это не просто вчера или вечером (Вечор, ты помнишь, вьюга злилась), а «вчера вечером», то задержитесь немножко на следующей строчке: На мутном небе мгла носилась. Не кажется она вам несколько несуразной? Ведь в обычном актуально-частотном употреблении слово мгла значит сейчас «тьма, мрак»! Да, это слово здесь использовано поэтом в значении «густой снег, скрывающий в тумане как своеобразная завеса все окружающее» (ср. диал. мгла, мга в значении «изморось, метель»). Такую же «туманную», а не «темную» роль выполняет это существительное и в стихотворении Пушкина «Буря мглою небо кроет…».
Думаю, что это еще не все, о чем нужно сказать. В четвертой строфе поэт говорит: Приятно думать у лежанки. Абсолютно понятно ли вам это предложение? Если да, то, не сомневаюсь, далеко не всем. И голос поэта мешает нам слышать здесь слово лежанка. И понятно почему. Даже по деревням сейчас в новых домах нет уже этого предмета обихода – невысокого, на уровне современной кровати выступа у русской печи, на котором, греясь, отдыхали или спали (ср. в одном из пушкинских писем: «Покамест я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни»).
В этой же строфе подозрительно и странно звучит запречь на месте современного нормативного запрячь. Такая форма, несомненно, появилась тут у Пушкина на месте также известной ему формы запрячь как факт «поэтической вольности», позволяющей дать точную рифму (слово печь потянуло за собой вариант запречь).
Ну, вот. Теперь замедленное чтение «Зимнего утра» подошло к концу.
Наглая смерть
«Степь» А. П. Чехова. Едет Егорушка учиться в город. Тянутся по степи подводы, сопровождаемые возчиками (или, как их называет автор, – подводчиками). Возникают самые различные разговоры. Среди иногда бессвязных фраз одного из таких подводчиков – Пантелея Холодова, обращенных к Егорушке, невольно останавливает наше особое внимание его утверждение, что «нет пуще лиха, как наглая смерть». Оно обращает на себя наши взоры прежде всего какой-то несуразностью словосочетания наглая смерть, хотя требуют известного объяснения и слова пуще – «сильнее, более» и лихо – «зло, несчастье».
Правильно ли отмеченное словосочетание? Ведь прилагательное наглый – «грубый, бесцеремонный» обычно сцепляется с существительными, обозначающими человека и его свойства и действия: наглое поведение, наглый поступок, наглый взгляд, наглый обман и т. д.
Говорит ли герой здесь о грубой и бесцеремонной смерти? Какая смерть в данном случае подразумевается? Разве смерть может быть ласковой и деликатной?
Правильное понимание фразы нет пуще лиха, как наглая смерть дает знание нелитературного архаичного и диалектного значения слова наглый – «внезапный, неожиданный». Такое значение до сих пор еще свойственно ему в некоторых славянских языках (ср. пол. nagly – «внезапный, неожиданный», nagla smierc – «скоропостижная смерть», чеш. nahly – «внезапный, неожиданный» и т. д.). В «Степи» А.П.Чехов использует не наше значение слова наглый, поэтому разбираемое предложение надо понимать на современном русском литературном языке так: «Нет больше несчастья, нежели скоропостижная смерть». Если иметь в виду изображаемую писателем картину, то это прилагательное по его стилистической окрашенности в прямой речи персонажа может быть охарактеризовано как один из довольно многочисленных в «Степи» украинизмов (ср. укр. наглий – «неожиданный, внезапный»).
Светоч, да не тот
В современном русском литературном языке слово светоч имеет значение «носитель». По своему употреблению оно фразеологически связано и, говоря конкретно, употребляется не автономно, а всегда в соединении с родительным падежом абстрактных существительных, имеющих положительное значение. К таким относятся, в частности, мир, прогресс, свобода, правда, истина и т. д. (ср.: светоч мира, светоч правды и т. п.).
Встречается слово светоч и в русской классике XIX в., но это уже, как говорится, Федот, да не тот. Я подробно писал об этом в новелле «О двух строчках из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта»», однако разбирал там лишь использование его Лермонтовым в строчке «угас, как светоч, дивный гений» из замечательного стихотворения, написанного на смерть А. С.Пушкина. В нем Лермонтов употребляет это слово в сравнении как светоч, поясняя глагол угас (в переносном значении обозначающий «умер»). Последнее позволяет нам даже без помощи словарей «просветить» старое значение слова светоч. Ведь угасать может только то, что горит. Следовательно, светоч – это буквально «все то, что, горя, освещает» (свеча, лучина, факел и т. д.). Скорее все-го, в лермонтовском контексте сравнение как светоч – творческая переработка элегических обозначений смерти (ср. у Ф. Глинки: Как бились вы на смерть Над Эльбой на плотине, Где Фигнер-партизан, как молния, угас и т. д.). Существительное светоч выступает здесь с наиболее распространенным значением – «свеча» и как бы перекликается со своим однокорневым синонимом свеча в народно-поэтическом языке.

Но обратимся к примерам использования слова светоч другими поэтами. Вот перед нами стихотворение А. А.Фета. Оно так и называется «Светоч». Здесь слово светоч, совершенно несомненно, значит «факел». Это очень ярко видно из самого текста:
Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы;
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.
Когда же вдруг из тучи мглистой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.
Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной,
Но, обежав меня лукаво,
Они смыкались за спиной.
Пестреет мгла, блуждают очи,
Кровавый призрак в них глядит,
И тем ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит.
Здесь лирический герой «сделал» светоч – «факел» из зажженного смолистого сука сосны (ср. строчки – Горел мой факел величаво… и Чем ярче светоч мой горит).
Отмечу попутно в приведенном стихотворении чуждые языковые особинки. Они являются важными для правильного понимания произведения. Это архаическое значение слова ловец (здесь оно обозначает «охотник», ср. поговорку на ловца и зверь бежит), устаревшее слово змей (в значении «змея», нам сейчас оно является родным лишь как обозначение сказочного крылатого чудовища и сооружения из бумаги или ткани, которые на нитке запускают в воздух) и архаическое значение слова лукаво – «извиваясь, с поворотами». Очень характерной для поэтического языка прошлого выступает цветистая перифраза Я направлял по нем стопы, равнозначная очень прозаическому и краткому «Я шел».
Но пойдем дальше. Обратимся к известному полемическому стихотворению Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо, —
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!
Здесь мы тоже встречаемся со словом светоч в том же конкретном значении – «факел». Более того, даже в чем-то сходном со стихотворением «Светоч» Фета контексте, поскольку и у Фета, и у Некрасова – при описании как будто конкретной и обычной ночи – дается символическая картина жизненного пути человека. Особенно ясно и ярко это видно в стихотворении Некрасова, где наблюдается противопоставление слова ночь перифрастическому обозначению наступления дня.
Вот такие, дорогие мои, пироги и щи
Существительные пироги и щи в настоящее время являются самыми простыми, обычными словами, не вызывающими к себе никакого особого интереса. Нам прекрасно известно их значение, их разное множественное число: ведь слово щи имеет сейчас только множественное число, а слово пироги – и множественное, и единственное. Что же заставляет остановить наше внимание на этих названиях печеного изделия из теста с начинкой и одного из видов первого блюда? Сейчас скажу. Это фактически очень своеобразное употребление их в словосочетаниях в пушкинском и гоголевском текстах, а конкретно – в романе «Евгений Онегин» и поэме «Мертвые души». Но о каждом – по порядку. Вспомните первую главу «Евгения Онегина», когда герой с Кавериным обедает у Талона:
Пред ним roast-beef окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Не правда ли, очень выразительная картина стола? Но все ли вам здесь понятно? Скажу за вас – далеко не все. Если иностранная транслитерация современного ростбиф – «кусок жареной говядины», здесь «с кровью» – окровавленный, как тем более ананас, вас еще не смущают, то остальная еда Евгения Онегина видится, несомненно, «в густом тумане».
Многим из вас известны трюфеля только как шоколадные конфеты. Здесь же речь идет… о растущих под землей съедобных грибах, имеющих округлую форму. Они были в ту пору деликатесным блюдом, «цветом» французской кухни.
Понимая, что речь идет о сыре, вы, наверное, не представляете себе, что это за вид и почему он «живой» (Меж сыром, лимбургским живым). А это очень мягкий, сильно пахнущий сыр, имеющий на поверхности особые микроорганизмы слизи («живой»), по вкусу и выделке подобный современному дорогобужскому сыру. Ввозился он из Лимбурга, северной провинции Бельгии.
Ну а теперь перейдем к словосочетанию Страсбурга пирог нетленный. Здесь слово пирог называет совсем не пирог. Страсбурга пирог (или страсбургский пирог, ср. из «Братьев Карамазовых» Достоевского: «– Да слушай: чтоб сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать») – это паштет из печенки, который привозили аж из Страсбурга. Как? Да в консервированном виде. На это и указывает прилагательное нетленный, т. е. «непортящийся». Замечу, что консервы в это время были еще в большую новинку. Ведь впервые они появились во времена наполеоновских походов.
Но хватит о страсбургских пирогах. Обратимся к следующему слову – существительному щи. И конкретно к словосочетанию бутылка кислых щей. Не правда ли, странное и даже логически дикое соединение слов, коль скоро речь идет о современном языковом сознании и употреблении. Кислые щи для нас – «щи из квашеной капусты». Их в бутылку не наливают, их в ней и не варят, и не хранят. Для всего этого существует другая посуда, прежде всего тарелки и кастрюли. Поэтому словосочетания тарелка кислых щей и кастрюля кислых щей – самые привычные и обычные для нас словесные блоки. А вот сочетание слов бутылка кислых щей… кажется, такое, что можно придумать разве нарочно. Другое дело сочетания слов бутылка фанты, бутылка свежего кефира и т. п. Их мы и слышим, и произносим постоянно. И все-таки словосочетание бутылка кислых щей мною не придумано. Оно реально существует… в поэме «Мертвые души» Н. В.Гоголя. Его мы встречаем при описании первого же вечера пребывания Чичикова в городе NN. Вот предложение из первой главы поэмы, где оно предстает перед нами: «День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства». Прошу не считать здесь, что это словесная опечатка или Гоголь попросту ошибся и вместо слова тарелка употребил слово бутылка. Здесь все на месте. Только кислые щи здесь – не наши кислые щи. Что именно «употребил» Чичиков после порции холодной телятины, позволяет нам сразу решить замечательный собиратель слов русского языка – Владимир Иванович Даль. Стоит заглянуть в его «Толковый словарь живого великорусского языка» в словарную статью, посвященную объяснению существительного щи, как мгновенно исчезнет для нас мнимая странность и алогичность разбираемого словосочетания. Вот что мы здесь читаем: «Кислые щи, род шипучего квасу». Как видим, перед сном великий гастроном Чичиков телятину запил квасом.
Фразы с перифразой
В стихотворной речи особенно (хотя не чужды они и прозе) нам нередко приходится встречаться с самыми разными описательно-метафорическими и перифрастическими сочетаниями. Они выступают в поэзии и как дань литературной традиции, и как продукт индивидуально-авторских словесных преобразований. Перифразы, которые не являются прямым и однословным названием предмета речи, а содержат также и его описательно-метафорическую характеристику, в стихотворных произведениях оказываются одной из наиболее ярких их особенностей.
Перифразы могут употребляться по-разному и быть самыми различными. Это относится и к их удачности и выразительности, и к тому, что можно назвать языковой трудностью.
Иногда перифразы похожи на яркое и красочное сопровождение скромного словного названия. Тогда они являются в виде приложения, выступая как образное обозначение чего-либо, что рядом названо также и словом. Вот несколько примеров из произведений А. С.Пушкина.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
(«Вольность»)
Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
(«Евгений Онегин»)
Подруга думы праздной,
Чернильница моя…
(«К моей чернильнице»)
Меж тем в лазурных небесах
Плывет луна, царица нощи.
(«Руслан и Людмила»)
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду…
(«Евгений Онегин»)
Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града (= «площади города». – Н. Ш.)
Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья…
(«Воспоминание»)
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест.
(«Осень»)
Такие перифразы (если они не содержат неизвестных компонентов) вполне понятны и «схватываются» совершенно свободно.
Однако значительно чаще перифразы употребляются сами по себе, абсолютно самостоятельно, в качестве единственного в данном контексте обозначения тех или иных предметов, лиц, явлений, действий, состояний и т. д. В таких случаях (при поверхностно-быстром чтении) их легко или не заметить, или не понять сообщаемого вообще. Естественно, что в этом случае их приходится комментировать.
Приведем несколько иллюстраций таких перифраз, одновременно сопровождая их переводом на «язык смиренной прозы».
Давайте обратимся прежде всего к «Евгению Онегину» А. С.Пушкина. Остановимся на нескольких перифразах из этого хорошо знакомого (и такого неведомого) произведения.
Читаем конец четвертой главы в лирическом отступлении поэта – перед нами во всей своей красе перифрастическая характеристика местоимения мы:
Меж тем, как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин…
Раскрывающая неясное мы перифраза враги Гимена переводится словами «убежденные холостяки» (Гимен или Гименей – мифологический бог брака у греков и римлян, ср. немного выше в устах Онегина: «Судите ж вы, какие розы Нам приготовил Гименей», Гименей – «брак»). Через несколько страниц (в XLIV строфе шестой главы) мы встречаемся с расхожим в то время поэтическим определением молодости:
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
С этой перифразой перекликается всем известное по арии Ленского метафорическое определение молодости в той же главе: «Куда, куда вы удалились Весны моей златые дни?» Заметим, что данная перифраза является излюбленной в поэзии первой половины XIX в. и восходит к французскому источнику. Впервые ее мы находим в переводе Милоновым элегии Мильвуа (ср. у А. Шенье: «О jour de mon printemps»).
В третьей главе имеется даже такая перифраза, которую объясняет в своих примечаниях сам Пушкин:
Певец Пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной…
Его 22-е примечание гласит: «Е. А. Баратынский». Здесь поэт счел необходимым даже растолковать свое индивидуально-авторское выражение, не надеясь на современного читателя: вдруг не вспомнит знаменитую его поэму «Пиры» и смешает ее (несмотря на большую букву П) с нарицательным существительным пиры. Описательное обозначение человека с помощью написанного им произведения наблюдается очень часто и является актуальным и сейчас. Вспомните хотя бы вторую строфу первой главы с перифразой Друзья Людмилы, и Руслана! (= «Мои друзья!»).
Дочитываем снова (в который раз!) роман. Вот вторая половина двадцать восьмой строфы восьмой главы:
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!
Здесь целый цветник перифраз. И он ей сердце волновал – «И она его любила», во мраке ночи – «ночью», пока Морфей не прилетит – «пока не уснет», К луне подъемлет томны очи – «смотрит томно на луну», Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь – «Мечтая когда-нибудь выйти за него замуж, прожить с ним всю жизнь».
Заглянем теперь в стихи А. С.Пушкина.
В стихотворении «Алексееву» вместо простого молодость мы читаем: Пришел веселой жизни праздник.
«Воспоминания в Царском Селе» (1814) содержит перифразу чада (= «дети») Беллоны (богини войны), равнозначную слову воины:
И тени бледные погибших чад Беллоны,
В воздушных съединясь полках,
В могилу мрачную нисходят непрестанно…
В этом же стихотворении нас ждет и более кроссвордный случай:
Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон…
Сыном и счастья и Беллоны поэт называет здесь Наполеона.
О римлянах в стихотворении «Лицинию» Пушкин говорит перифразой Ромулов народ (Ромул, по преданию, один из основателей Рима, ср.: «Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей» = «Но все истории прошлого он помнил»):
О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
Смерть шутливо в стихотворении «Кривцову» поэтом именуется новосельем гроба:
Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем…
В стихотворении «N. N.» (В. В. Энгельгардту) не менее шутливо и удачно автор вместо выздоровел использует перифразу ускользнул от Эскулапа (Эскулап – «врач»):
Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый – но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
Решите сами
Переведите на современный язык

Вы уже познакомились с одной из характерных черт русской поэзии первой половины XIX в.: довольно большим количеством перифраз самого различного характера. Вместо прямого названия какого-либо предмета
или явления поэт зачастую прибегает к его описанию. Это выражается в том, что там, где мы могли бы обойтись словом, в стихотворном произведении возникают целые словесные сообщества, содержащие обязательно какой-то яркий и примечательный признак обозначаемой реалии. Вот несколько перифраз из произведений А. С.Пушкина. Выделите и переведите их на современный язык сначала сами. Затем узнаете, насколько успешно вы это сделали, из ответов.
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу.
(«Руслан и Людмила»)
Она почила вечным сном.
(Там же)
«Мой друг, – ответствовал рыбак, —
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
(Там же)
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
(Там же)
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
(«Деревня»)
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя.
(«Погасло дневное светило…»)
Я предаюсь своим мечтам…
(«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»)
Мы все сойдем под вечны своды.
(Там же)
Мой путь уныл.
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
(«Элегия»)
Пока не прилетит Морфей.
(«Евгений Онегин»)
Когда ленивый мрак
Покроет томны очи.
(«Городок»)
Иль думы долгие в душе моей питаю.
(«Осень»)
Улыбкою ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.
(«Евгений Онегин»)
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной.
(Там же)
Усталый, с лирою я прекращаю спор.
(«Зима. Что делать нам в деревне?..»)
Подведем итоги и посмотрим ответы. В приведенных отрывках содержатся следующие перифразы:
Северный Орфей – «Жуковский», вослед (тебе) лечу – «(тебе) подражаю», почила вечным сном – «умерла», душе наскучил бранной славы Пустой и гибельный призрак – «мне надоело воевать», (далече) от брегов Невы – «(далеко) от Петербурга», (Кавказа) гордые главы – «горы (Кавказа)», пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья – «деревня», где льется дней моих невидимый поток – «где я живу», на лоне счастья и забвенья – «счастливый и забытый», (моей) весны златыя – «(моей) молодости», (я) предаюсь своим мечтам – «(я) мечтаю», сойдем под вечны своды – «умрем», грядущего волнуемое море – «будущая жизнь», (пока) не прилетит Морфей – «(пока) не уснет», Когда ленивый мрак Покроет томны очи – «когда уснет», Иль думы долгие в душе моей питаю – «или долго думаю», (встречает) утро года – «(встречает) весну», (усталый), с лирою я прекращаю спор – «(усталый), я перестаю писать».
Об одном довольно странном окончании
Внимательно читая стихотворную классику первой половины XIX в. (и тем более поэзию ХVIII в.), вы иногда встречаетесь с такой формой прилагательных, которая в современном склонении, как говорится, не значится. Даже если вы правильно поймете падежный смысл этой формы, слова, имеющие ее, могут все же озадачить, поставить в тупик видимым несоответствием форм прилагательного и определяемого им существительного. Это явление объясняется тем, что здесь мы сталкиваемся с ныне уже устаревшим окончанием прилагательных женского рода. Но обратимся к примерам:
Нигде я ничего не внемлю (= «слышу». – Н. Ш.),
Кромеревущия волны…
(Г. Р. Державин. Водопад)
В прекрасный майский день,
В час (= «время». – Н. Ш.) ясныя погоды…
(Г Р Державин. Прогулка в Сарском Селе)
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое светлое небо к себе?..
(В. А. Жуковский. Море)
Ах! Когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды (= «беды». – Н. Ш.)
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды.
(И. И. Дмитриев. Песня)
О сладость тайныя мечты!
Там, там, за синей далью,
Твой ангел, дева красоты
Одна с своей печалью.
(В А Жуковский Певец во стане русских воинов)
Спущусь на берега пологие Двины
С твоей гитарой сладкогласной:
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь… и нимфы…
сойдут услышать голос мой.
(К. Н. Батюшков. Послание графу Вильегорскому)
Вчера еще стенал (= «стонал». – Н. Ш.) над
онемевшим садом
Ветр скучной осени, и влажные пары
Стояли над челом угрюмыя горы…
(Там же)
Не изменю тебе воспоминаньем тайным,
Весны роскошныя смиренная сестра (= «зима». – Н. Ш..),
О сердца моего любимая пора!
(П. А. Вяземский. Первый снег)
О, Лила! вянут розы Минутныя любви…
(А С Пушкин Фавн и пастушка)
Где ток уединенный
Сребристыя волны…
(А С Пушкин К Делии)
Во всех отмеченных прилагательных женского рода (а он легко устанавливается по соответствующему роду определяемых существительных) мы наблюдаем неизвестное уже нам окончание – ыя (-ия). Это странное окончание – ыя (-ия) является окончанием родительного падежа единственного числа в церковнославянском языке. Оно синонимично единственному сейчас у прилагательных женского рода окончанию– ой (-ей).
Сочетания ревущая волны, ясныя погоды, земныя неволи, полуночныя звезды, тайныя мечты, волшебныя струны, уг-рюмыя горы, весны роскошныя, минутныя любви, сребристыя волны, милыя мечты равны, таким образом, современным сочетаниям: ревущей волны, ясной погоды, земной неволи, полуночной звезды, тайной мечты, волшебной струны, угрюмой горы, весны роскошной, минутной любви, серебристой волны, милой мечты.
Формы на – ыя (-ия) по своему происхождению являются церковнославянскими и всегда встречаются только в книжной речи. В устной речи употребляются только исконно русские формы на – ой (-ей), которые возникли из более старых ок (ок). Уже в начале XIX в. окончание – ыя (-ия) даже в письменной речи было архаическим. Спрашивается: почему же оно, несмотря на это, поэтами все-таки изредка употребляется?
Однозначного ответа на поставленный вопрос дать нельзя. И вот почему. Дело в том, что это окончание может использоваться поэтами по разным причинам.
Чаще всего форма на – ыя (-ия) используется ими в качестве одной из поэтических вольностей. Ведь– ыя (-ия) вместо – ой (-ей) давало в распоряжение стихотворцев лишний слог, что в версификационном отношении было совсем не лишним, позволяло сделать строчку как определенную метрическую структуру.
В таких случаях эти формы родительного падежа единственного числа прилагательных женского рода используются поэтами потому, что они… разрешались, допускались как возможные варианты обиходных и привычных на – ой (-ей). Так же как, например, произношение F как [ʼэ], а не [ʼо].
Однако формы на– ыя (-ия) могут использоваться и по другим причинам. Иногда они выступают в художественном тексте как одно из стилеобразующих средств языка. У настоящих художников слова устаревшие морфологические явления при этом находятся в полном согласии с другими (прежде всего, конечно, с лексическими и фразеологическими) явлениями языка. Такими стилистически мотивированными формами с окончанием – ыя (-ия) являются, например, у зрелого Пушкина прилагательные мудрыя (= «мудрой») и зеленыя (= «зеленой»).
В стихотворении «Пророк» Пушкин использует форму мудрыя:
… И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой
для создания «высокого слога», торжественно-патетического характера ораторской речи.
В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», напротив, поэт использует соответствующую форму для создания народно-языкового колорита:
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все ж тебя милей».
Как видим, окончание – ыя (-ия) как двуликий Янус: оно выступало у поэтов то в качестве простой, ничего не значащей, но выгодной поэтической вольности, то как одно из морфологических средств языка, играющее важную художественную роль.
Во второй половине XIX в. это окончание практически сходит со сцены. Тем более неожиданным и удивительным представляется нам его употребление в прозе. Как может ни показаться странным, оно вдруг предстает перед нашими глазами на страницах… «Отцов и детей» И. С. Тургенева для речевой характеристики персонажа: «Оно же и довело его до острова святыя Елены».
О словосочетании о третьем годе
В настоящее время предложный падеж существительного в сочетании с предлогом о (об, обо) имеет только изъяснительное значение, сигнализируя либо о предметных (прочитать о словосочетании, подумать как следует о слове, потолковать об устаревших фактах грамматики и т. д.), либо о предметно-определительных отношениях (заметки о языке писателя, воспоминания о прошлом годе и др.). В соответствии с правилами современной русской грамматики построены и две предложно-падежные формы, образующие заглавие новеллы, которую вы читаете. Но речь в ней пойдет не о словосочетании о третьем годе в его нынешнем нормативном значении (ср.: Он долго писал о третьем годе своей работы над книгой). Это комментировать не надо, все ясно как день. Тогда (можете спросить вы) в чем же дело?
Давайте не спешить. Обратимся к стихотворению… Б. Пастернака «Так начинают…»:
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.
Прочитайте эти строчки медленно, и вы поймете, что здесь конструкция «предлог о + предложный падеж» играет совсем другую роль и выражает временные отношения. Поэт пишет, что слова у детей появляются на третий год их жизни.
Словосочетание о третьем годе, таким образом, переводится как «на третьем году (жизни)». О том, что речь идет о детях, недвусмысленно говорит устаревшее мамка – «нянька, кормилица», ср.: «До пяти лет он был на руках кормилицы и мамок» (ДобролюбовН.А. Первые годы царствования Петра Великого); «Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно» (ЧеховА.П. Студент).
Как видим, Б. Пастернак употребляет здесь несвойственную нашему языку грамматическую форму, омонимичную той, которая имеется в литературном стандарте. Что это за явление? Может быть, это случайное и невольное нарушение существующих грамматических правил? Или это пастернаковский неологизм грамматического характера? Ведь у поэта лексические и сочетаемостные новшества встречаются нередко.
Оказывается, ни то, ни другое. В рассматриваемом четверостишии мы встречаемся, напротив, с архаическим фактом грамматики: старым и древним предлогом о (об, обо) временного значения. Пастернак употребил его сознательно, вероятно, как явление, в 20-х гг. в просторечии еще известное, сообразно с литературной традицией, допускавшей подобные отклонения от литературной нормы.
В приводимом отрывке устаревшее просторечное словосочетание о третьем годе гармонирует с архаическим просторечным словом мамка, и, возможно, именно им было вызвано здесь к жизни.
Вернемся в XIX в. За примерами аналогичного характера далеко ходить не надо. Так, в посвящении к поэме «Руслан и Людмила» Пушкин пишет:
Там лес и дол (= «долина») видений полны;
Там о заре (= «на рассвете») прихлынут волны
На брег песчаный и пустой.
Знал ли Пушкин орфографию
Начинаем читать XV строфу первой главы «Евгения Онегина» и останавливаемся в недоумении:
Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
В постеле. Так и напечатано с е на конце слова вместо ожидаемого по правилам орфографии и. Что это? Опечатка?
Как показывают все существующие авторитетные издания А. С. Пушкина, – нет, не опечатка. Написание в постеле точно передает подлинный пушкинский текст.
Тогда что же это такое? Может быть, поэт здесь воплотил свое шутливое кредо: «Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не терплю» – и нарочно «изобразил» е на месте правильного и? Или он не знал правил правописания? Ни то, ни другое.
Все у Пушкина здесь правильно. И буква е стоит на месте единственно возможной по правописным канонам буквы е. В чем же тогда загвоздка? Все объясняется очень просто. В пушкинское время это слово относилось не к третьему, а к первому склонению существительных женского рода и звучало (а значит, и писалось) постеля, склоняясь точно так же, как слова земля (в земле), пустыня (в пустыне) и т. п.
Конечно, в целом грамматика русского литературного языка со времен Пушкина особых изменений не пережила, но свои черточки все же имеет. В частности, это касается и иного оформления ныне существующего существительного (и с точки зрения склонения, и в плане рода, и по отношению к роду и склонению одновременно, и с точки зрения основы и, следовательно, окончания).
Виждь и другие
Эта устаревшая грамматическая форма всем, вероятно, известна по заключительному четверостишию стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
В нем она стоит в одном ряду с формами повелительного наклонения восстань, внемли, исполнись, жги. Все перечисленные глаголы принадлежат к нашей грамматике, внимания на себя не обращают и замечаний не вызывают (ср.: брось, разбери, зажгись и т. д.). Другое дело слово виждь. Оно значит – «посмотри, погляди». Эта и ранее редкая форма сейчас совершенно вышла из употребления, и глагол видеть является «дефектным» – не имеет своей собственной повелительной формы (вроде «виждь» или «вижь»), а использует в нужных случаях соответствующую форму синонимов посмотреть, поглядеть.
Архаическая форма виждь у Пушкина в этом контексте является вполне оправданной, полностью согласуется со своим словесным и лексико-фонетическим, грамматическим окружением и служит – вместе с ними – для создания торжественно-патетического, ораторского стиля. В самом деле, вспомните слова внял – «понял, услышал», перстами – «пальцами», зеницы – «глаза», отверзлись – «открылись», горний – «в вышине», уста – «губы», ход – «движение», десница — «правая рука», внемли – «слушай», глаголы водвинул – «вдвинул», восстань и т. д.
Обратите также внимание на еще две устаревшие грамматические формы – родительный падеж единственного числа на – ыя (-ия) – ой («И жало мудрыя змеи») и родительный падеж множественного числа с нулевым окончанием (вместо – ов) – «И гад (= «гадов») морских подводный ход» (буквально «и плаванье земноводных животных»).
Форма виждь перешла к А. С. Пушкину по наследству от его предшественников. Так, в «Прогулке в Сарском Селе» Г. Р. Державина мы читаем:
Я тут сказал, – Пленира!
Тобой пленен мой дух.
Ты дар всего мне мира,
Взгляни, взгляни вокруг,
И виждь – красы природы
Как бы стеклись к нам вдруг…
Форма виждь оживает с теми же стилистическими целями в поэме «Октоих» С. А. Есенина, правда в переоформленном, ненормативном виде – с конечным и по образцу форм типа гляди, прозри. Связь с соответствующей пушкинской строкой несомненна:
Восстань, прозри и вижди!
Неосказуем рок.
Кто все живит и зиждет (= «строит». – Н. Ш.) – Т
от знает час (= «время». – Н. Ш.) и срок!
«Высокое» виждь в переводах, естественно, должно передаваться такими же торжественными словами. Поэтому нас совершенно не может, например, устроить перевод этого слова в «Пророке» Пушкина на болгарский язык словом виждам – «видеть». В последнем глагол виждам такой же стилистически нейтральный, как в русском языке смотреть, глядеть.
В заключение о слове, одинаково начинающем четверостишие Пушкина и четверостишие Есенина, – о глаголе восстань. Оно требует обязательного разъяснения. Ведь восстать сейчас значит «поднять восстание» или «выступить против чего-либо» (ОжеговС.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка).
В пушкинском же тексте, равно как и есенинском, оно является простой вокализованной формой, т. е. с добавочным незакономерным гласным (с о, ср. водвинуть Пушкина, вослед Есенина и т. д.), самого обычного глагола движения встать – «подняться».
Навстречу Печорина
Первое впечатление от заглавия заметки – удивление. То ли предлог напечатали слитно с предложно-падежной формой существительного встреча, то ли наборщики неверно набрали а вместо «правильного» окончания– у. Но как обманчивы бывают наши современные грамматические знания о русском языке, когда дело касается его даже сравнительно недавнего прошлого!
Но обратимся к соответствующей новелле («Максим Максимыч») романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать» (лошадей. – Н. Ш.).
Мы видим, что перед нами предлог, но за ним следует существительное в родительном, а не дательном падеже. Вот еще один факт «не нашей грамматики», который хотя и не мешает нам понимать художественный текст, но все же затрудняет своей необычностью его непосредственное восприятие.
С таким же навстречу встречаемся мы и у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине»:
Не тут-то было: как и прежде,
Навстречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде.
Раньше предлог навстречу, как видим, требовал после себя родительного падежа. И это понятно, поскольку по своему происхождению он представляет собой слияние предлога на и существительного встреча, требовавшего за собой родительного падежа.
И у Лермонтова, и у Пушкина навстречу U род. п. – простые архаизмы времени, т. е. формы самые обычные и верные. А вот случай, который приводится 17-томным академическим «Словарем современного русского литературного языка» из популярной в 30-х гг. XX в. песни Корнилова и Шостаковича, возвращает нас к началу заметки:
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня.
Если здесь не опечатка, то мы уже должны говорить о поэтической ошибке или, по крайней мере, небрежности: поэт форму дня использует в чисто версификационных целях, как поэтическую вольность (чтобы срифмовать его со словом звеня). Между тем, как неоднократно уже говорилось, сейчас архаизмы в образцовом поэтическом тексте могут употребляться только с определенными стилистическими задачами.
Время Пушкина, Лермонтова, Тютчева, которые могли – в силу действующих правил поэтических вольностей – употреблять, например, для рифмовки уже в их время архаические формы ея вместо ее («На крик испуганный ея ребят дворовая семья Сбежалась» – А. Пушкин; «Примите же из рук ея то, что и вашим прежде было. Что старочинская семья такой ценой себе купила» – Ф. Тютчев), окончание – и вместо – е предложного падежа («Блажен, кто верит небу и пророкам, – Он долголетен будет на земли» – М. Лермонтов), окончание – ы вместо современного – а («Край этот мне казался дик: Малы, рассеяны в нем селы, Но сладок у лесной Карелы Ее бесписьменный язык» – Ф. Глинка) и т. д., прошло.
Пойдёт – не пойдёт
ВВ этой и следующих заметках пойдет речь о парадоксальном на первый взгляд явлении, когда мы, читая стихотворную классику XIX в., оказываемся вынужденными… нарушать нормы современного литературного произношения.
В самом деле, по существующим сейчас орфоэпическим правилам исконный звук е в положении после мягких согласных под ударением перед твердыми произносится ныне только как [ʼо]: живёт, зовёт, несёт, полёт, зелёный, мёд, слёз, закалённый и т. д. (вспомним, что значком [ʼ] обозначается мягкость предшествующего согласного звука). Собственно говоря, в приведенных словах и формах (по своему возрасту – не старше XV в.) в настоящее время живет уже звук [о], а не [э], т. е. буква Q. К графическому знаку ё для недвусмысленного выражения такого о обращаются очень редко: либо в учебных целях, либо для дифференциации, различения разных по смыслу звучаний (ср. все и всё).
В нашей речевой практике поэтому все указанные выше и подобные им слова и формы неукоснительно произносятся с [ʼо]. Такое обстоятельство приводит к тому, что окончание – ет в глаголах 3-го лица единственного числа существует только… на бумаге. В устной речи это орфографическое– ет всегда выступает как [ʼот].
И все-таки это наблюдается не всегда. Такое правило относится лишь к современной разговорной речи. В ее пределах из него нет никаких исключений. В ней действительно всегда перед нами окончание [ʼот].
А вот при воспроизведении стихотворений прошлого нам иногда придется современные нормы нарушать. И здесь правильное пойдёт уже не пойдет. Предъявленные нам поэтом версификационные условия заставят нас говорить «неправильно», не так, как, казалось бы, мы должны это делать, заботясь о чистоте и правильности нашего языка. В противном случае стихи потеряют свою основную черту, отличающую их от прозы, – рифмовку. А без рифмы, этой неразлучной подруги всякого поэта, строки произведения просто рассыплются, как карточный домик. Вот первый пример из басни И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Вспомните, как она начинается:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Конечное нет первой строчки вынуждает нас читать слово пойдет не с [ʼо], а с [ʼэ]. Иначе стихотворение перестанет быть стихотворением. Таким образом, оказывается, есть случаи, когда – чтобы не разрушать стих как нечто фонетически организованное – мы должны нарушать наши нормы произношения.
Приведем еще несколько иллюстраций, когда в аналогичных случаях поэтическая орфоэпия приходит в противоречие с законами современной литературной фонетической системы:
Все погибло: друга нет.
Тихо в терем свой идет.
(В. А. Жуковский. Светлана)
Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает
(К. Н. Батюшков. Привидение) Три примера из произведений А. С. Пушкина уже не на глагольные формы 3-го лица единственного числа:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
(«Не дай мне Бог сойти с ума…»)
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
(«Анчар»)
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
(«Я вас любил…»)
Во всех приведенных случаях, читая стихи, приходится произносить не идёт, даёт, взойдёт, грёз, потёк, безнадёжно (со звуком [ʼо]), а нейдет, идет, дает, взойдет, грез, потек, безнадежно (с [ʼэ]), переступая правила современной орфоэпии.
Возникает законный вопрос: что представляют собой разобранные факты у поэтов XIX в.? Может быть, они срифмовали так соответствующие слова потому, что так произносили их носители русского литературного языка той эпохи? Такое предположение было бы неверным. В процессе живого общения давным-давно все образованные люди даже начала XIX в. говорили так, как было положено по законам русской разговорной речи.
Так что поэты здесь не следовали произносительному обиходу и тоже его нарушали. Однако это не было следствием их языкового небрежения или пробелов в художественном мастерстве. И квалифицировать у них соответствующие факты как фонетические ошибки нельзя. В рифмовке типа пойдет – нет они следовали за сложившейся традицией использования того, что называется поэтическими вольностями. О них писал уже основатель русского силлаботонического стиха, известный ученый и поэт В. К. Тредиаковский в первом издании его книги «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735), которая открыла новую эру силлаботонического стиха, основанную на системе ударений русского языка. Русский поэт и теоретик стиха, автор «Словаря древней и новой поэзии» (1821) Н.Ф. Остолопов определяет поэтическую вольность таким образом: «Вольность пиитическая, licentia, есть терпимая неправильность, погрешность против языка, которую делают иногда поэты для рифмы либо для меры в стихосложении». Именно данью старой традиции стихосложения и объясняются употребленные в чисто версификационных целях случаи типа пойдет вместо пойдёт и у Крылова, и у других более поздних поэтов.
Реже эта поэтическая вольность фонетического характера (есть поэтические вольности и иного рода) наблюдается даже после Лермонтова, стихи последних лет которого являются в этом отношении поразительно чистыми. Так, Ф. И.Тютчев в стихотворении «Два голоса» рифмует слово прилежно и безнадежна, в стихотворении «Не раз ты слышала признанье…» – слова умиленно и колено, в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах…» – слова протест и звезд и т. д.
Надо отметить, что поэтические вольности допустимы лишь до определенных пределов. Их небольшой набор является закрытым для новообразований, и они всегда используются поэтом сознательно. Невольные отступления от произношения литературного стандарта (и не только у современных поэтов) – уже не поэтические вольности, а ошибки. Но об этом вы прочитаете в новелле «Что позволено Ломоносову, не позволено Есенину».
Ты пищу в нем себе варишь
В этой фразе из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» нет ничего нелепого по значению. Мысль поэта очень проста и читателю вполне понятна. Ведь предшествует ей такая прозаическая строка: «печной горшок тебе дороже». И все же есть в ней нечто, что не соответствует нашим языковым привычкам и поэтому требует комментирования. Таким фактом является слово варишь, вернее – характерное для него в данном стихотворном тексте ударение на окончании – варишь. Что это такое? Одна из пушкинских вольностей (или ошибка), которые нередко наблюдаются и у наших современных поэтов, или устаревшее ударение? Сейчас же мы говорим – варишь.
Обращение к системе русского литературного языка XIX в. показывает, что перед нами акцентологический архаизм. В пушкинское время говорили еще варишь. Как показывают соответствующие лингвистические исследования, процесс перетяжки ударения в глаголах с окончания на основу тогда еще только начинался. И сейчас, кстати, он еще продолжается. Этим объясняются, в частности, варианты типа звонишь – звонишь и различная их нормативная оценка в настоящее время.

Как беспристрастно и наглядно говорит история, тенденция переноса ударения на основу в словах усиливается и захватывает все большее число глаголов. Для нас сейчас правильно только варишь. Это лишний раз свидетельствует о «правах», наряду с формой звонишь и звонишь, на которую некоторые лингвисты «со своей речевой колокольни» накладывают запрет.
В XIX в. наконечное ударение встречается нередко и свойственно целому ряду подобных глаголов. Ритмика стиха об этом буквально кричит.
Приведем несколько примеров из произведений различных поэтов. Так, у Г. Р. Державина в стихотворении «Фелица» читаем:
Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы сладкогласной,
Где ветерок едва дышит…
В последнем слове сейчас ударение падает на корень: дыш(ит).
Ф. И. Тютчев в стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» с наконечным ударением (на месте современного ударения на основе) рифмует глагол приклеил с существительным сила:
Вы зрите (= «видите») лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?
Устаревшее ударение на окончании наблюдается в глаголе манит в стихотворении А.Блока «В густой траве пропадешь с головой…»:
Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой – зовет и манит…
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» —
И опять за травой колокольчик звенит…
Ц или С?
Все вы прекрасно помните, как восхитило Г. Р. Державина выпускное стихотворение лицеиста Пушкина «Воспоминания в Царском Селе». Воспоминание об этом событии отложилось у А. С.Пушкина в «Евгении Онегине»: «Старик Державин нас заметил И, в гроб сходя, благословил».
Откройте, однако, томик Державина, и вы увидите в нем стихотворение «Прогулка в Сарском Селе». Вероятно, это то, от чего А. С.Пушкин отталкивался, создавая свою знаменитую оду. Но не будем влезать в историю его стихотворной учебы.
Обратимся (вы на это наверняка уже обратили внимание) на начальные звуки и буквы прославленной местности (ныне город Пушкин). Почему у одного поэта ц (Царское Село), а у другого с (Сарское Село)? Чем это объясняется? Нет ли здесь чего-то, что мы не знаем? Ведь не мог же Державин ошибаться? В своем произведении он привел более старую и более «правильную» форму относительного прилагательного, образованного от сочетания Сарское Село. Именно так оно называлось до народно-этимологического переосмысления в Царское село в связи с тем, что в нем находилась летняя царская резиденция. Сарское Село произошло из Саарское Село и представляет собой перевод по частям эстонского saaprekula (saapre – «островное», kula – «село, деревня»). Первоначальное поселение находилось на острове озера.
Решите сами
В гостях у Пушкина

Из прочитанного ранее вы теперь хорошо знаете, насколько иногда простой, на первый взгляд, художественный текст оказывается на проверку непростым, какие – самые разнообразные – языковые препятствия, особенности и лингвистические загадки он нередко в себе заключает.
Хочу предложить вам попытаться решить самостоятельно несколько «задачек на лингвистическое комментирование», сделать самим то, что делалось прежде мною.
Если вдруг у вас что-нибудь не получится и языковая загадка останется для вас все же загадкой, обращайтесь за помощью к толковым словарям русского языка (прежде всего к 4-томному академическому «Словарю русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984), затем проверьте правильность по моим ответам, которые даются следом. Но не заглядывайте в них до того, как хорошенько подумаете и попробуете разобраться сами.
Итак, в который раз мы в гостях у Пушкина. Что обозначают выделенные мною курсивом в приводимых отрывках формы, слова или обороты? Как они соотносятся с современными? Определите их лингвистический характер, используя соответствующие термины.
1. Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой…
(«Руслан и Людмила»)
2. В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал…
(Там же)
3. Другой – Фарлаф, крикун надменный,
В пирах никем не побежденный…
(Там же)
4. Бояре, задремав от меду,
С поклоном убрались домой.
(Там же)
5. Уже скрываются вдали;
И всадников не видно боле…
(Там же)
6. Ночлега меж дерев искал…
(Там же)
7. Он на долину выезжает
И видит: замок на скалах
Зубчаты стены возвышает…
(Там же)
8. Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило.
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
(«Погасло дневное светило…»)
9. Я вас бежал, отечески края…
(Там же)
10. Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень…
(«Воспоминание»)
11. Еще дуют холодные ветры
И наносят утренни морозы.
(«Еще дуют холодные ветры…»)
12. Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
(«Подъезжая под Ижоры…»)
13. Если ж нет… по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.
(Там же)
14. День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
(«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»)
15. Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
(«Осень»)
16. Люблю я пышное природы увяданье…
И мглой волнистою покрыты небеса…
(Там же)
17. Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась…
(«Туча»)
18. В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.
(«Анчар»)
19. Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
(Там же)
20. Дробясь о мрачные скалыʼ,
Шумят и пенятся валы…
(«Обвал»)
21 И Терек злой под ним бежал
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
(Там же)
22. Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
(«Осень»)
23. И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
(«Туча»)
Давайте теперь проверим себя и посмотрим, правильно ли выполнено задание. Вот краткие ответы. Надеюсь, что многие из них вам были нужны только, чтобы убедиться, что на вопросы вы ответили верно.
1. О заре – «на рассвете», предложный падеж с устаревшим временным значением. Брег – «берег» (ср. в «Евгении Онегине»: «Родился на брегах Невы» и «На берегу пустынных волн стоял он, дум высоких полн» в «Медном всаднике»).
2. Гридница – «особое помещение в княжеском доме для приема гостей или пребывания воинов». Историзм.
3. Побежденный – произношение со звуком [е], а не [ʼо] (вместо побеждённый) обусловлено необходимостью рифмовки с прилагательным надменный и является одной из поэтических вольностей.
4. От меду (вместо от меда). Родительный падеж на – у в начале XIX в. в склонении вещественных существительных был литературной нормой. Сейчас воспринимается уже как просторечная форма.
5. Боле – «больше», старая форма сравнительной степени к прилагательному болий – «большой».
6. Дерев – «деревьев», старая форма родительного падежа от дерево, очень распространенная в поэзии XIX в.
7. На скалах (вместо «на скалах»), устаревшее ударение на окончании в поэтическом языке XVIII–XIX вв., которое было характерно для многих существительных женского рода на – а. Одна из поэтических вольностей в области ударения. В устной речи в это время безраздельно господствовало современное ударение на корне.
Зубчаты – «зубчатые». Данное прилагательное является усеченны прилагательным, а не кратким. Последнее в русском языке всегда выступает в качестве сказуемого как его именная часть. Здесь же оно выполняет роль определения. Усеченные прилагательные в русской поэзии первой четверти XIX в. – одна из самых частых вольностей, служивших размеру.
8. Погасло дневное светило – «солнце», перифраза. Ветрило – «парус».
9. Отечески – «отеческие», усеченное прилагательное.
10. Смертный – «человек», для смертного – «для людей», архаизм.
Стогна – «площади», град – «город», старославянские по происхождению слова, характерные для поэтической речи XVIII–XIX вв.
Полупрозрачная наляжет ночи тень – «наступит ночь», перифраза.
11. Утренни – «утренние», усеченное прилагательное (см. выше).
12. Воспомнил – «вспомнил», вокализованная форма церковнославянского происхождения, употребляемая Пушкиным как одна из поэтических вольностей фонетического характера, взоры – «глаза».
13. Прежню – «прежнему», усеченное прилагательное (см. выше).
14. Година – «час», грядущая – «будущая», годовщина – «время».
15. Обув железом острым ноги – «одев коньки», индивидуально-авторская перифраза А. С.Пушкина.
16. Покрыты – «покрытые», усеченное прилагательное (см. выше).
17. Сокройся – «скройся» (см. выше: воспомнил).
18. Раскаленный – с [ʼэ], а не с [ʼо] того же характера и по той же причине, что и побежденный (см. выше).
19. Потек – «пошел» – с [ʼэ], а не с [ʼо] (потёк) ввиду рифмовки с человек.
20. Скалъь (см. выше о предложно-падежном сочетании на скалах).
21. Ледяный – «ледяной», с суффиксальным ударением, как дневное (сейчас – дневное).
22. Хлад – «холод», старославянское неполногласие, используемое как поэтическая вольность, дающая выигрыш в один слог.
23. Древес – «деревьев». Старая форма основы с суффиксом – ес– во множественном числе, подобная словам небес, чудес. В XVIII–XIX вв. является частой грамматической приметой поэтического языка. Употреблена здесь для рифмовки со словом небес.
Мирные глаголы
А теперь перенесемся в XX в. Среди замечательных русских поэтов XX в. С. Есенин занимает свое особое и очень почетное место. Настоящий сын русского народа, он стал подлинным народным художником слова, «всем существом поэта» искренне и страстно любившим и воспевавшим свою великую Родину, ее людей, природу, радости и заботы, «все, что душу облекает в плоть».
Его чудесная лирика привлекала и привлекает читателей не только какой-то удивительно сердечной трепетностью и теплотой, беззащитной душевной широтой и открытостью, но и своим специфически есенинским – душистым и многоцветным – «песенным словом». А как справедливо говорил сам поэт: «миру нужно песенное, нежностью пропитанное слово».
Было бы, однако, глубоко ошибочным думать, что неповторимые стихи Есенина – поскольку они «все на русском языке» (А. Твардовский) – одинаково близки и понятны нам (даже в «плане выражения», не говоря уже об идейном содержании).

Поэтическая речь С. Есенина как особое эстетическое явление представляет собой совершенно уникальный сплав самых разнородных языковых средств. «Сумасшедшее сердце поэта», который для людей всегда был «рад и счастлив душу вынуть», слило в ней в одно единое художественное целое «кипение и шорох» самых различных «словесных рек». Говор родной рязанской деревни и образная система русского устного народного творчества у С. Есенина мирно соседствуют с языком и стилистикой русской поэтической классики (включая традиционно-поэтическую лексику и фразеологию). В таком феномене его стихотворного творчества сказались как крестьянское происхождение и семейное воспитание, так и соответствующие литературная школа, влияние и пристрастия.
Именно поэтому в художественной резьбе и вязи есенинской поэзии читатель нашего бурного времени встретит немало чуждого и чужого, неясного, трудного для правильного понимания и адекватного восприятия как в самом языке – строительном материале речевого произведения, так и в образной системе. «Мирные глаголы» стихотворений и поэм С. Есенина зачастую оказываются уже воинственно непонятными, антикоммуникативными, что заставляет пристально разглядывать их через лингвистическое увеличительное стекло, осторожно взвешивать на весах своей читательской памяти, а в ряде случаев и просто прибегать к помощи соответствующих комментариев.
В связи с этим стихи С. Есенина, как, естественно, и всякие другие, требуют к себе бережного отношения, внимательного и размеренного чтения, иначе многое в нашем читательском сознании останется «за кадром», будет размыто, неясно и даже неправильно понято. И хотя поэт в определенном плане был прав, когда писал о том, что «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», истинное лицо многих слов, строчек, отрывков и целых стихотворных произведений мы видим в их настоящем свете только тогда, когда «сталкиваемся» с ними «лицом к лицу».
Один пример – заглавное словосочетание мирные глаголы. У С. Есенина оно встречается в отрывке из неоконченной поэмы «Гуляй-поле»:
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Нам ясно, что речь здесь идет не о глаголах вроде не жалею, не зову, не плачу, а о существительном глагол в его старом значении – «слово», отложившемся в глаголе разглагольствовать. Это нам сразу же подсказывают хорошо знакомые строчки А. С.Пушкина «Глаголом жги сердца людей» и «Когда божественный глагол До слуха четкого коснется». И не случайно. Ведь в последней краткой автобиографии «О себе» в октябре 1925 г. С. Есенин писал: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину».
Элементы традиционно-поэтического словаря, характерные для произведения Пушкина, его образы наблюдаются у Есенина очень часто. В процитированных строчках таким фактом, в частности, является традиционно-поэтическое долы, рифмующееся с глаголы (ср. у Пушкина: «В безмолвной тишине почили дол и рощи, Звенит промерзлый дол» и т. д.). Слово глагол в устарелом значении «слово» встречается у С. Есенина неоднократно. Так, например, в паре с тем же существительным дол оно звучит и в стихотворении «Душа грустит о небесах…»:
Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.
Приведенный только что пример, кстати, ближе к пушкинским. И не только в грамматическом плане, но и в смысловом. Ведь слово глагол, такое частое в русской поэтической классике, употребляется в значении «слово» – «речь» и поэтому только в единственном числе (ср. у Г. Р.Державина: «Муза! таинственный глагол Оставь и возгреми трубою…»).
Что касается отрывка из неоконченной поэмы «Гуляй-поле» С. Есенина, то в данном произведении поэт – и это надо обязательно видеть и учитывать – как бы возвращает слову глагол и его первозданный смысл («одно отдельно взятое слово»), и его соответствующие грамматические свойства употребляться во множественном числе. В результате со слова стирается оттенок торжественно-патетической поэтичности, и оно из божественного и таинственного глагола превращается под пером С. Есенина в простое человеческое слово, мирно живущее с самыми обыкновенными словами ямы, копыта, с одной стороны, и сердцу милый край, душа сжимается от боли – с другой. И определяющее его прилагательное мирные лишний раз это подчеркивает.
От березового молока до плакучей лещуги
Как самобытный поэт со своим ярким неповторимым художественным почерком С. Есенин полностью владел «тайнами соединения слов» (А. Грин). Именно этим приемом прежде всего создавалась его особая стилистическая манера письма, хотя он и не чуждался вовсе словообразовательных неологизмов (достаточно вспомнить хотя бы его излюбленные безаффиксные существительные женского рода типа березь, водь, хмарь, сырь, звень, цветь, омуть и т. д.). Но было бы ошибочным все встречающиеся в его стихах необычайные словосочетания ставить на одну доску.
Многие из них действительно являются стилистически заданными «изобретениями» поэта, созданными как образные кусочки художественного целого на базе уже существовавшего в традиционно-поэтической и фольклорной речи материала.
Именно они создают есенинское песенное слово во всех его формах и проявлениях, так похожее и так отличное от стихотворного почерка других. Приведем несколько примеров: Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне («Не жалею, не зову, не плачу…»), В сердце ландыши вспыхнувших сил («Я по первому снегу бреду…»), Топи да болота, синий плат небес («Топи да болота…»), По пруду лебедем красным плавает тихий закат

(«Вот оно, глупое счастье…»), Младенцем завернула заря луну в подол («О муза, друг мой гибкий…»), Догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча («Я последний поэт деревни…»), Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится («Душа грустит о небесах…»), Русь моя, деревянная Русь («Хулиган»), Заметался пожар голубой («Заметался пожар голубой…»), Отговорила роща золотая березовым, веселым языком («Отговорила роща золотая…») и т. д.
С. Есенин прекрасно знал стихотворную классику и многие свои произведения создавал, опираясь и отталкиваясь от соответствующих мыслей, образов, слов старой доброй поэзии. Особенно много в его стихах мы находим отголосков творений Пушкина (ср. хотя бы стихотворения «Русь советская», «Отговорила роща золотая…», «Стансы», «О муза, друг мой гибкий…» и т. д.).
В этой заметке хотелось бы обратить внимание на то, что рядом с есенинскими авторскими новообразованиями (они приводились) могут быть и наблюдаются такие словосочетания, которые – при всей для нас их необычности – являются для русского языка первой четверти XX в. самыми что ни на есть привычными и простыми. И путать их с есенинской поэтической новью никоим образом нельзя.
Приведем пример: …Туда, где льется по равнинам березовое молоко. Здесь мы встречаем необычное сочетание слова березовое со словом молоко (мы знаем березовые дрова, в крайнем случае – березовую кашу – «порку»), но такого словесного ансамбля не знали. Это типичный для С. Есенина образ стоящих на равнинах березовых рощ, сравнение их с цветом молока.
Вот перед нами стихотворение «В лунном кружеве украдкой…»:
Разыгралась тройка-вьюга,
Брызжет пот, холодный, терпкий,
И плакучая лещуга
Лезет к ветру на закорки.
Здесь мы наблюдаем совсем иное. Никакой экспрессивной нагрузки выделенное словосочетание не несет и вообще непонятно, пока не узнаем, что такое лещуга (прилагательное плакучая нам известно – «с длинными свисающими вниз ветвями растения, чаще всего деревья»). О том, что значит лещуга, а следовательно, и о значении словосочетания плакучая лещу-га можно узнать, только заглянув в «Словарь русских народных говоров» под ред. Ф. П. Филина и Ф. П. Сорокалетова (Л., 1981. С. 38). Там сказано, что лещуга обозначает в разных рязанских говорах чаще всего нерасчлененное название всяких травянистых (аир тростниковый, манник водный и др.) растений по берегам водоемов (лещуга – это «трава широкая, в два пальца»).
Что позволено Ломоносову, не позволено Есенину
Заглавие этой заметки не надо понимать буквально. Это вовсе не противопоставление нашего великого Ломоносова замечательному и любимому нами поэту Есенину. К стихотворному тексту обоих надо подходить одинаково объективно, с учетом исторической изменчивости и нормативности художественной речи.
Конечно, что говорить, лирика Есенина нам несравненно ближе, чем оды Ломоносова. Но законы языка не позволено нарушать даже великим и любимым. А в разное время и в различных языковых ситуациях формально одни и те же языковые факты оказываются совершенно иными: то вполне возможными, то совершенно недопустимыми. Поэтому то, что извинительно для Ломоносова, вызывает наш протест у Есенина. И не потому, что мы подходим к ним с разными мерками, а потому, что «с фактами не спорят».
Приведем пример, касающийся поэтической орфоэпии. И у Ломоносова, и у Есенина можно наблюдать одну и ту же рифмовку, когда слово с конечным звуком [х] рифмуется со словом, которое «оканчивается» на звук [к].
В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря глазах,
И с трепетом Нептун чудился (= «удивлялся»),
Взирая (= «смотря») на Российский флаг.
(М. Ломоносов)
С пустых лощин дугою тощей
Сырой туман, курчаво сбившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.
(С. Есенин)
В обоих четверостишиях в соответствии с точной рифмой (а оба поэта следовали ей) звук [г] в абсолютном конце слова произносится как [х]: глазах – флаг, мох – ног.
И у Ломоносова, и у Есенина звук г на конце слова звучит не в лад с правилами современного русского литературного произношения (на месте конечного г законным и правильным является звук [к]).
Но что не вызывает никаких возражений и упреков с нашей стороны у Ломоносова, то представляет собой нарушение орфоэпических норм и соответственно фонетическую ошибку у Есенина. Поистине оказывается, «что позволено Ломоносову, не позволено Есенину». Почему? Да потому, что для середины XVIII в. произношение звука г как [х] в высоком слоге, которым написана «Ода на день восшествия на всероссийский престол… Елисаветы Петровны, 1747 года», было нормой (ср. [γ] в словах голос, голова, гордо в современных южно-русских говорах). Отсюда и рифмовка г – х: [γ] закономерно «переходил» в конце слова в [х].
Здесь Ломоносов (ведь он был с севера!) в угоду высокому слогу «наступал на горло» своему родному северновелико-русскому произношению, по правилам которого, как и сейчас в литературном языке, г на конце слова произносилось как [к].
Рифмовка г – х для Ломоносова была, таким образом, обычным и необходимым соблюдением тогдашних «правил поэтической игры».
С совершенно другим явлением встречаемся мы у Есенина. В его поэзии рифмовка г – х является простым, прямо-таки «зеркальным» отражением рязанского диалектного произношения. В рифменной связке мох – ног перед нами не мотивированный художественными задачами фонетический южновеликорусский диалектизм. Есенин совершает здесь явную ошибку, которую он делал постоянно. Так, он рифмует слова враг – облаках, страх – очаг, дух – друг, грех – снег, других – миг, орех – снег, порог – вздох, дух – круг, смех – снег и т. д.
Случаи правильной орфоэпической пары у Есенина единичны и представляют собой исключение; такой, в частности, является рифмовка брег – век, взятая, вероятно, им из версификационного арсенала русской классики XIX в., где она встречается очень часто.
Как свидетельствуют другие подобные факты (терпкий – закорки, грусть – Русь) и др., где терпкий звучит с [ʼо], грусть – без т), разобранная орфоэпическая ошибка в стихотворной практике Есенина – «родимое пятно» родного диалекта, бессознательное отступление от литературной нормы, не выполняющее никаких эстетических задач.
Такая поэтическая вольность – слишком вольная!
И все же давайте простим ее в «поющем слове» знаменитого лирика. Во-первых, потому, что фонетические диалектизмы – самые устойчивые и встречаются даже у людей, прекрасно владеющих русским языком (вспомним хотя бы, что М. Горький окал до конца своей жизни). Во-вторых, потому, что такую ошибку сплошь и рядом делают многие поэты и сейчас. В-третьих, она не мешает нам и понимать, и чувствовать красоту есенинского стиха.
Шушун
С этим не совсем понятным словом мы шапочно знакомы, конечно, по трогательному стихотворению С. Есенина «Письмо матери»:
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

На первый взгляд слово шушун (а обозначает оно, кстати, старинную верхнюю женскую одежду типа телогрейки, кофты) является у Есенина таким же диалектизмом, как наречие шибко – «очень».
Но это не так. Слово это было давно широко известно в русской поэзии и ей не чуждо. Оно встречается уже, например, у Пушкина («Я ждал тебя; в вечерней тишине Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидела в шушуне, В больших очках и с резвою гремушкой»), шутливо описывающего свою музу.
Не гнушался этим словом и такой изысканный стилист XX в., как Б. Пастернак. Так, в его небольшой поэме или большом стихотворении «Вакханалии», написанном в 1957 г., о существительное шушун мы «спотыкаемся» сразу же в его втором четверостишии (старух шушуны).
Поэт и пиит
В произведениях С. Есенина – в зависимости от их темы и жанра – мы находим причудливое слияние фактов живой разговорной речи (не исключая большую струю диалектизмов) с явлениями традиционно-поэтического языка пушкинской эпохи, в частности даже прямое использование образов и строительного материала самого Пушкина.
Например, Пушкин явственно слышится у С. Есенина в стихотворении «Издатель славный. В этой книге…», где им используется пушкинская строка из «Медного всадника» (ср.: «Коммуной вздыбленную Русь» (Есенин) и «Россию поднял на дыбы» (Пушкин).
Заметим, что подобное обращение к русской классике встречается и у В. Маяковского, ср.: «Но как испепеляюще слов этих жжение» (Маяковский) и «Глаголом жги сердца людей» (Пушкин), «В наших жилах кровь, а не водица» (Маяковский) и «Понять меня, я знаю, вам легко, ведь в ваших жилах – кровь, не молоко» (Лермонтов) и т. д.
Это обстоятельство следует отметить особо, поскольку оно свидетельствует о прекрасном литературном образовании поэта. А ведь долго бытовало мнение о том, что стихи С. Есенина не имели прямой, непосредственной связи с литературой.
Между тем в произведениях поэта немало и элегических, и одических слов русской поэзии первой четверти XIX в., и поэтических вольностей. В его стихах являются нередкими слова и обороты типа: певец – «поэт», Пегас, куща, сень – «тень», час – «время», муза, длани – «ладони», багрец, лик – «лицо», уста – «губы», о други игрищ и забав, лазурь, врата – «ворота», бег светил, час прощальный, персты – «пальцы», пригвождены, ко древу, вежды, нежить, брега – «берега», дщерь, златиться, узреть – «увидеть», бразды – «борозды», дол – долина, нощь («Нощь и поле, и крик петухов…»), ладья – «лодка», сонм прободающие – «пронзающие», твердь, упование, страж – «сторож», нетленные, очи, кровля, сие, худые телеса, выя – «шея» (слова шея и выя употребляются поэтом рядом в стихотворении «Мир таинственный, мир мой древний…») и т. д.
В его произведениях мы встречаемся и с различными версификационно обусловленными поэтическими вольностями, дающими выигрыш в размере или рифмовке.
В качестве таких можно указать полногласные и неполногласные формы, например: берег – брег, середина – среда, ворог – враг, голос – глас (ср.: «На золотой повети гнездится вешний гром», и чуть далее «На нивы златые пролей волоса» в «Октиохе», «Протянусь до незримого города…», и чуть ниже «Обещаю вам град Инонию» в «Инонии» и т. д.), вокализованную форму глагола возлететь («Суждено мне изначально возлететь в ночную тьму…» в стихотворении «Там, где вечно дремлет тайна…»), формы крыл, плечьми, облак, произношение е в звездный и звездами, нощь вместо ночь и т. д.
Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.
(«Там, где вечно дремлет тайна…»)
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив нощь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
(«Инония»)
К таким же фактам поэтических вольностей XX в. относится употребление С. Есениным и пары поэт и пиит.
Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.
(«Разбуди меня завтра рано…»)
В «Руси советской» мы встречаем, с одной стороны, форму пиит:
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
А с другой стороны, форму поэт:
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Никакой добавочной стилистической окраски, «шутливости или иронии», которая – по 4-томному «Словарю русского языка» (под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1984) – свойственна слову пиит, рифмующемуся в приведенном отрывке со словом знаменит, в тексте из «Руси советской» нет. Слово пиит здесь чисто версификационно. Вполне возможно, что его появление в «произведении» навеяно пушкинским словоупотреблением «И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит» из его исповеди-завещания «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Ведь и С. Есенин говорит, если выражаться словами В. Маяковского, о «месте поэта в рабочем строю»:
…быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Корогод
Есть у С. Есенина чудесное стихотворение «Гой ты, Русь моя родная…», написанное им еще в 191 4 г. с характерной и постоянной для него мыслью: «Не надо рая, дайте родину мою». В этой жанрово-психологической миниатюре просто нельзя пройти мимо слова корогод:
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Без его правильного понимания читатель не может себе представить конкретной картины, нарисованной поэтом. Оно властно требует комментария, поскольку мы не очень понимаем, где гудит «веселый пляс».
В книге С. Есенина «Стихи и поэмы» школьной библиотеки (М., 1974. С. 13) составитель в сноске толкует существительное корогод следующим образом: «Корогод – искаженное от хоровод». Да, действительно, это слово надо объяснить современному читателю, но точнее.
Скажем обо всем по порядку. Корогод толкуется как искаженное от хоровод. Не кажутся ли в таком случае вам более чем странными цитируемые есенинские слова: на лугах гудит веселый пляс за… пением и плясками (!). Ведь хоровод – название древней славянской игры, участники которой идут по кругу с пением и плясками (ср.: Хорошо в лугу широком кругом В хороводе пламенном пройти – А.Блок. «Май жестокий с белыми ночами…»).
Итак, не вдаваясь здесь в трудные вопросы происхождения слова корогод (нам оно вовсе не представляется искажением существительного хоровод), сделаем только следующий из логики слов вывод: предложно-падежная форма за корогодом у поэта имеет здесь совсем другое значение, нежели «за хороводом».
И это значение, несомненно, пространственное, такое же, каким оно является у предложно-падежного сочетания на лугах. Где же гудит веселый пляс? На лугах, за корогодом, т. е. за порядком – «за домами, образующими улицу» (см.: Даль В. Толковый словарь…, где отмечается и значение «порядок» у слова корогод и объясняется слово порядок как «ряд домов, составляющих одну из противоположных сторон улицы деревни или села»).

Гравюра художника С.Харламова к стихотворению С. Есенина. 1994 г.
Теперь все в порядке. Наши затруднения связаны с использованием здесь этого слова.
О странной строчке из поэмы С. Есенина «Анна Снегина»
Если иметь в виду наше современное языковое сознание и актуальное для нашего времени словоупотребление, то течь может жидкость (вода, кровь, сок и т. п. течет), время (время текло быстро, жизнь текла размеренно и т. п.) и предмет, который прохудился (крыша, лодка, ведро и пр. течет). Таким образом, современными значениями глагола течь являются значения «течь, литься» (о жидкости), «идти, проходить» (о времени) и «протекать, пропускать жидкость» (о прохудившемся предмете).
Но приходилось ли вам обращать внимание на глагол течь в поэме С. Есенина «Анна Снегина» (1925)? Он используется здесь поэтом (как и слово оладья) несколько необычно:
Ну что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Необычность употребления существительного оладья в родительном падеже множественного числа в диалектной форме оладьев, а не в литературной – оладий и замечается быстрее, и объясняется проще: ведь перед нами прямая речь мельника, носителя соответствующего народного говора.
Особый характер глагола течь чувствуется слабее, хотя стилистически он играет явно ту же самую характерологическую роль и вводится поэтом для воссоздания народной речи.
Смысл строчки Еще и заря не текла ясен, ее можно перевести сочетанием «еще на рассвете» или «еще до восхода солнца» (ср.: ни свет ни заря). Но вот в каком значении употреблен здесь глагол течь – не совсем понятно. Ведь слово заря в своем прямом значении и не предмет, который может прохудиться, и не жидкость, и не время. Это, как определяют словари, «яркое освещение горизонта перед восходом или заходом солнца». Впрочем – стоп! В переносном значении, как это четко и определенно отмечается еще В.Далем, слово заря значит и «время освещения от солнца, находящегося под небосклоном», т. е. время восхода или захода солнца. Значит, перед нами не нарушение литературной нормы, не поэтическая вольность, а закономерное проявление глаголом течь общеязыкового значения «идти, проходить» (о времени), хотя и своеобразное, поскольку он сцепляется со словом заря не в первичном его смысле, а в переносном.
Есенинское употребление слова течь, как видим, спокойно укладывается в прокрустово ложе современных семантических законов. А вот обратившись к классической поэзии первой половины XIX в., мы найдем и такое использование глагола течь, которое с семантико-синтаксической точки зрения будет уже архаичным, устарелым. Ведь в XIX в. у поэтов мог течь и… человек, а не только жидкость, время и прохудившийся предмет. Сцепляясь с существительным, обозначающим человека, глагол течь имел временное значение «идти, проходить; быстро идти; бежать, нестись».
Вспомним, как писал, например, Пушкин:
Смотря на путь, оставленный навек, —
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело протек…
(«Князю А. М. Горчакову»)
(ср. у него же современные временные связи и семантику: «И многие годы над ними протекли…» («Подражания Корану»); «Но полно: мрачная година протекла…» («Второе послание к цензору»). Протек в значении «прошел»);
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек (= пошел)
И к утру возвратился с ядом.
(«Анчар» )
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый…
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший (= «ушедший») гений…
(«Чем чаще празднует лицей…»)
Словесные связи глагола течь «идти, проходить» с обозначениями человека, так часто наблюдаемые в поэзии первой половины XIX в., восходят к старому – еще церковнославянскому – источнику: Петръ, въставъ, тече къ гробу – «Петр, встав, пошел к могиле» («Мстиславово евангелие», до 1117 г.), тогда Влурь влъком потече – «Тогда Влур волком побежал» («Слово о полку Игореве») и т. д.
Последнй пример косвенно свидетельствует, что течь (уже со значением «бежать, нестись») могли и животные, ср. у Даля – белка течет. Живой и актуальной эта семантика сохранилась до сих пор у просторечных глаголов того же корня: приставочного утечь и «перегласовочного» (очевидно, заимствованного из украинского языка) тикать.
О существительном обилие во множественном числе
В поэме С. Есенина «Анна Снегина» мы в самом ее начале натыкаемся (в речи возницы, везущего героя в Радово) на существительное обилие… во множественном числе:
Но люди – все грешные души,
У многих глаза – что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одною сохою
На паре заезженных кляч.
Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.

Гравюра художника С. Харламова к стихотворению С. Есенина. 1994 г.
В современном русском литературном языке слово обилие имеет значение «множество, богатство» и в соответствии с этим употребляется, как и другие подобные ему абстрактные существительные (бездна, пропасть в количественном значении «много», энтузиазм, мудрость, слава и т. д.), только в единственном числе.
Чем и как объясняется здесь эта ненормативная, чуждая литературной речи грамматическая форма?
Может быть, она обусловлена какими-то стилистическими задачами, в частности речевой характеристикой персонажа, и носит тем самым такой же художественно оправданный характер, как в том же монологе, только немного ранее слова почитай (= «почти»: «Дворов, почитай, два ста»), неуряды (= «напасти»: «С тех пор и у нас неуряды») и форма два ста (= «двести»)?
Ответить на это можно однозначно и утвердительно. В таком случае – почему именно оно и именно во множественном числе? Ларчик открывается довольно просто: слово обилие употребляется здесь С. Есениным не в его литературном значении (слову со значением «множество, богатство» множественное число просто не нужно), а в диалектном значении – «урожай». Это значение слова обилие идет из древнерусского языка: Поби мраз обилие по волости («I Новгородская летопись»). Таковы скудно изложенные, но вполне достаточные сведения о слове обилие, устанавливающие полный контакт и взаимопонимание между читателем и поэтом.
Таинственное словосочетание
Когда я читаю стихотворение С. Есенина «О товарищах веселых…», какое-то особенно светлое и теплое, каждый раз меня охватывают совершенно невеселые мысли. Однако вовсе не от задушевного и грустного есенинского произведения, а по совсем другим, «внелитературным», основаниям. Ведь как это ни может показаться странным, ни в одном издании поэта – большом и малом – ни один есениновед не только не объяснял, но даже и не касался одного совершенно непонятного и темного восьмистишия, без толкования которого пейзажная зарисовка наступающей зимы кажется если не простым набором, то странной композицией удивительных в своих сочетаниях и самих по себе слов.
И дело здесь не только в своеобразности перифразы (т. е. описательного наименования) первой строчки восьмистишия («Ловит память тонким клювом…» = «вспоминаю»). И не столько в имеющихся здесь диалектизмах (о них я расскажу ниже). Больше всего языкового «шума и помех» содержится в словосочетании третьей строки второго четверостишия – парагуш квелый. Но приведем соответствующий отрывок:
Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.
Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки.
Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.
Память и интуиция (а в крайнем случае словари, например словарь В. И. Даля) легко подскажут вам, что в санках озера значит «по краям озера» (буквально – «в скулах озера»), люлька – «трубка», а на излуке – «на излучине, на изгибе». Но вот что такое парагуш квелый, будет (и есть даже для специалистов) поистине тем, что принято называть фразеологизмом «темна вода во облацех». И причиной этому примечательному факту прежде всего… простая опечатка (!), кочующая из издания в издание: вместо нужной буквы к в слове карагуш неизменно печатается буква п. Ну а зная это, легко будет уже разгадать «таинственное» сочетание. Карагуш квелый – это терминологическое, но широко известное обозначение птицы, которую мы иначе называем подорликом. Оно точно соответствует латинскому прототипу Aquila clanga (Aquila – «орел», clanga – «кричащая, клекочущая, каркающая», от глагола clango). Здесь, как и во многих других случаях, нас выручает В. И. Даль. В его «Толковом словаре…» находим: «карагуш – вид небольшого орла, татарский орел, Aquila clanga; квелить – писклявить, плакать, жалобиться, хныкать». Указываемое В. Далем значение «татарский орел», несомненно, представляет толкование, отражающее не реальное значение слова карагуш – «небольшой орел, подорлик», а его этимологическое объяснение. Слово каракош – «небольшой орел» является в русском языке заимствованным из татарского, где оно буквально значит «черная птица» (кара – «черная», кош – «птица»).
Однако разгадка словосочетания карагуш квелый еще не конец нашим поистине детективным поискам художественной истины отрывка. Ведь странным выглядит и само это терминологическое обозначение подорлика в соседстве с глаголом курит: птицы не курят. Расшифровывать надо и это. Дело здесь в особой стилистической манере С. Есенина, в специфическом образно-метафорическом употреблении поэтом (а таких фактов у него хоть отбавляй) слов, нам уже в прямом значении известных. Поэт использует скрытое сравнение. Подорлик у него, как курящие старики на завалинке, отдыхает на излучине «тихих вод» (обратите внимание на инверсию и дистанционное расположение слов тихих вод… на излуке, восходящее к поэтическим вольностям, известным в стихотворном синтаксисе со времени их появления в XVIII в.). Вот, как видим, какой запутанной и сложной оказывается иногда словесно-художественная вязь, казалось бы, у одного из самых простых и доступных поэтов.
В наших жилах – кровь, а не водица
«Угловатые и аритмичные стихотворные произведения В. Маяковского, одного из самых оригинальных и талантливых поэтов XX в., с их версификационной лесенкой и «рубленностью», заражают и поражают тем не менее каждого способного читать и думать своей неподкупной искренностью содержания, страстностью, высоким и душевным лиризмом, удивительной афористичностью выражения. Последнее обусловило тот несомненный факт, что многие его поэтические строчки стали афоризмами и неотъемлемой принадлежностью нашего повседневного языка. Крылатые слова В. Маяковского, разные по своей структуре и содержанию, постоянно используются нами в речи, наряду с готовыми словами и фразеологизмами, как наши собственные выражения. В этом отношении фразеологическим новообразованиям поэта повезло значительно больше, чем его словным словообразовательным неологизмам. Если из последних в наш язык прочно вошло одно лишь прозаседавшиеся, а остальные так и остались прикрепленными к определенному контексту, то крылатые слова В. Маяковского сосчитать трудно. На каждом шагу мы употребляем его крылатые выражения: Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет; мне бы жить и жить, сквозь годы мчась; во весь голос; моя милиция меня бережет; становясь на горло собственной песне; товарищ жизнь; мне и рубля не накопили строчки; слово – полководец человечьей мысли; и жизнь хороша, и жить хорошо; вся поэзия – езда в незнакомое; что такое хорошо и что такое плохо и т. д.
К числу крылатых принадлежат и слова, которые составляют заглавие настоящей заметки, сразу воскрешающие в нашей памяти одно из самых замечательных стихотворений В. Маяковского «Товарищу Нетте – пароходу и человеку»:
В наших жилах —
кровь,
а не водица.
Мы идем сквозь револьверный лай,
Чтобы,
умирая,
воплотиться
В пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
В них нет ничего для нас неясного, и может остановить в них нас (и то, если мы начнем этот фразеологизм анализировать) только слово водица (вместо пресного и сухого существительного вода).
Это производное от вода слово у Маяковского не является ласкательным образованием, как оно объясняется в словарях.
Суффикс– иц(а) указывает в слове водица на то, что речь идет о воде еще более жидкой, чем вода как таковая (ср. каша и кашица – «жидкая каша», кожа и кожица – «тонкая кожа» и др.). И употребил поэт слово водица поэтому не случайно: контекстуальная антонимичность сопоставляемых слов в паре кровь – водица значительно сильнее и глубже. Кроме того, совершенно несомненно и то, что слово водица в процессе работы над стихотворением подсказывал поэту и избранный классический ритм стихотворения, и рифма (водица – воплотиться).
Но при полной языковой ясности этот афоризм поднимает и еще один вопрос, если его уж рассматривать под лингвистическим микроскопом. В какой степени он является инновацией В. Маяковского? И здесь, может, следует сказать, что этот фразеологический неологизм поэта – обобщение и концентрация того, что в русской художественной литературе и повседневной русской речи уже было. Это, конечно, нисколько не умаляет в данном случае роли поэта в огранке слова (вспомните народную пословицу Виноватого кровь – вода).
Восстановите в своей памяти отрывок разговора братьев Кирсановых после дуэли Павла Петровича с Базаровым:
– Да из-за чего все это вышло?..
– Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.
– Да у тебя кровь, помилуй!
– А ты полагал, у меня вода в жилах?
Если же вы заглянете в поэму «Сашка» М. Ю. Лермонтова, то можете прочитать три следующие строчки:
Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах – кровь, не молоко
И вы краснеть умеете уж кстати…
(ср. народное кровь с молоком).
Жизнь этого образа и крылатых слов В. Маяковского продолжается. Достаточно назвать роман М. А. Стельмаха «Кровь людская – не водица», где заглавие приобретает обобщенное переносно-метафорическое значение, аналогичное тому, что характерно для слов и словосочетаний мертвые души, дым, накануне, обрыв и в соответствующих произведениях Гоголя, Тургенева и Гончарова.
Решите сами
Куда ведут клипсы-лапки…

«Сердечный контакт» В. Маяковского с читателями, если несколько перефразировать слова поэта А. Суркова, делает «каждое открыто и откровенно гражданское по проблематике стихотворение поэта лирическим признанием». Маяковский – совершенно современный поэт по своей тематике и пафосу, но прошло уже более 70 лет с тех пор, как он ушел из жизни. Этим обстоятельством, наряду, конечно, с его неологизмами и элементами традиционной поэзии, и объясняются имеющиеся в его произведениях языковые шумы и помехи, порождающие приблизительное понимание нами его художественного текста. Тот сердечный контакт с поэтом, о котором говорит А. Сурков, может, однако, выступать для нас иногда весьма опосредованным и даже нарушаться. Надежная защита от этого – замедленное и вникающее, внимательное и бережное чтение произведений В. Маяковского.
Попробуйте сами найти трудные, темные слова и определить их значение в приводимых далее отрывках. Ответы, как всегда, будут даны после.
1. Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
(«Хорошо!»)
2. Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть товарищ Нетте.
(«Товарищу Нетте – пароходу и человеку»)
3. Бумажное тело сначала толстело.
Потом прибавились клипсы-лапки.
Затем бумага выросла в «дело» —
пошла в огромной синей папке.
(«Бюрократиада»)
4. По всей округе —
тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги.
От жизни высохли и жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и нощно
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.
Готово.
Спрашивается – прожег? Прожег!
И сердце и даже бок.
Только поймут ли поэтические стада,
что сердца
сгорают —
исключительно со стыда.
(«О поэтах»)
5. Посудите:
сидит какой-нибудь верзила
(мало ли слов в России есть).
А он
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.
(«О поэтах»)
6. Например
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
(«Юбилейное»)
7. Что ж о современниках?
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
(Там же)
8. Потомки,
словарей проверьте поплавки:
Из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как…
(«Во весь голос») (Далее поэт приводит примеры слов.)
А сейчас проверьте себя
1. В этих афористических – гордых и оптимистических строках нет как будто ничего «не нашего». Однако если иметь в виду кодифицированную литературную речь, то у Маяковского наблюдается здесь явное отступление в просторечие. По грамматическим нормам современного литературного языка в глаголе на – ти (после согласного основы) ударный и не отпадает (ср. мести, нести, ползти, брести, блюсти, грести и т. д.). Маяковский в разбираемом отрывке обращается к просторечной форме для рифмы: месть – есть.
2. Здесь нас должны остановить или, вернее, останавливают два факта: рифмовка мчась – час и фразеологизм смертный час. Рифмовка мчась – час указывает на твердый с в слове мчась. Мы так уже не говорим, но это не ошибка. Во времена Маяковского такое так называемое старомосковское произношение было нормой.
Оборот смертный час в значении «время умирать» обращает на себя внимание из-за старого значения слова час – «время» (ср. час пробил – «время настало»; иное в выражении через час по чайной ложке, возникшем из врачебной прописи на рецепте). Вспомните пушкинские строки «Калигулы последний час Он видит живо пред глазами» («Вольность»); «Мы все сойдем под вечны своды И чей-нибудь уж близок час» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»).
3. Здесь может быть непонятным слово клипсы-лапки, неологизм Маяковского, представляющий собой сложение синонимов клипсы и лапки, аналогичное словам стежки-дорожки, друг-приятель и т. п. Это сложение употреблено совершенно не в «нашем», несовременном значении – «конторская скрепка», «держатель». Слово клипсы в таком значении заимствовано из немецкого языка. В настоящее же время существительное клипсы значит по 4-томному академическому «Словарю русского языка» – «серьги, прикрепляемые к мочке уха без прокалывания». Оно пришло к нам либо из немецкого, либо из английского языка.
4. Здесь в первом отрывке Маяковский иронически, в переработанном виде использует пушкинское выражение из стихотворения «Пророк» «Глаголом жечь сердца людей», в котором существительное глагол, как и в тексте Маяковского, значит «слово». Слово жечь в целях создания комического эффекта употреблено сначала в прямом, свободном значении («Прожег! И сердце, и даже бок»), а затем в переносном, уже в связанном значении в составе фразеологизма сгореть от стыда. Вероятно, не представляет затруднений выражение денно и нощно «днем и ночью, постоянно» со старославянской огласовкой нощь, а не ночь в составе наречия нощно.
5. В этом отрывке трудностей в понимании у вас, очевидно, не возникло. Однако он тоже требует комментирования. Ведь в нем содержится ненормированная форма полегше (вместо правильного полегче) и неологизм Маяковского зарифмоплесть – «зарифмовать». Оба эти факта стилистически оправданы и используются Маяковским в тех же целях создания комического. Заметим, что иными – чисто версификационными – причинами (чтобы срифмовать со словом калекши) определено наличие легше в стихотворении «Сергею Есенину»: «…но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» Отметим также, что у Маяковского глагол зарифмоплесть как приставочное образование от рифмоплесть восходит к традиционно-поэтическому рифмоплет, частотному в первой половине XIX в. (ср. также у Пушкина иронически-насмешливое рифмач, рифмодей, рифмотвор).
В этих строчках в чисто языковом плане понятно все, однако все же требуется небольшой лингвострановедческий комментарий слов Сосновский и «Ундервуд». Чтобы понять соответствующее место, надо знать, что Л. С. Сосновский – журналист, выступавший против поэтики Маяковского, а «Ундервуд» – пишущая машинка системы «Ундервуд» (ср. современное «Эрика»).
6. В приведенном отрывке из «Юбилейного», где Маяковский выступает против неблагозвучных и трудных для понимания сложносокращенных слов, которых в 20-е гг. было значительно больше, чем сейчас, требует толкования не только само незнакомое существительное Коопсах. Оно значит в переводе на простой русский язык «кооперация сахарной промышленности». Тут надо вспомнить прежде всего древнюю историю вавилонского (или халдейского) царя Навуходоносора II, при котором Вавилония достигла наивысшего экономического и культурного расцвета.
Однако не только это. Чтобы понять сочетание слов сине-мордое, в оранжевых усах, т. е. что сравнивается поэтом с «портретом» вавилонского царя, необходимо иметь в виду, что речь идет о рекламном плакате Коопсахʼа, изображенном на синем фоне с расходящимися оранжевыми лучами. Почему Маяковский вспомнил здесь именно это сложносокращенное слово? Вполне закономерно, так как рекламный плакат Коопсахʼа находился недалеко от памятника Пушкину на Страстной (ныне Пушкинской) площади.
7. В этой лесенке нуждается в особенном внимании слово однаробразный. Оно является оригинальным новообразованием поэта очень своеобразным путем – контаминацией двух слов однообразный и наробраз (сложносокращенное существительное того времени, возникшее на базе словосочетания народное образование).
8. В приводимых двух строчках привлекает внимание словосочетание выплывут из Леты, представляющее у Маяковского отголосок поэтической фразеологии первой половины XIX в. Оно значит «вспомнятся» и построено как антоним частого у Пушкина и других поэтов выражений потонет, поглотит и т. д. Лета. Вспомните из «Евгения Онегина»: «И память юного поэта Поглотит медленная Лета»; «…И сохраненная судьбой Быть может в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной» (= «не забудется»).
Лета – мифологическое название древними греками реки забвения, выступающее у русских классиков XIX в. как символ забвения – в словоупотреблении Маяковского конкретизируется (поплавки словарей, остатки слов).
Решите сами
В плену поэтических строк Б. Л. Пастернака

Стихотворный почерк еще одного поэта XX в. Б. Л. Пастернака на редкость своеобразен и специфичен. Неожиданные метафоры и сравнения; ошеломляющие своей резкой ненормативностью и непривычностью «счастливые сочетания слов»; разноцветная и разноликая палитра эпитетики; стремительные потоки внезапных анафор и синонимов; разнообразные по форме и содержанию сцепления антонимов в изумляющих своей выразительностью антитезах и оксюморонах; на первый взгляд, беспорядочный и вечноспешащий (иногда как бы «задыхающийся») синтаксис – основные слагаемые особого поэтического слога поэта. Некоторым он кажется не только читательски трудным, но и авторски искусственным. Но последнее архинеправильно. Все в стихах Пастернака «диктовало чувство», было от его чистой души и открытого сердца, хотя, конечно, и не представляло «случайный навзрыд»: «стихи слагались» поэтической личностью, с ее жизненным опытом, литературным образованием и художественным восприятием постоянно меняющегося мира. Нарочитая «филологичность» стихотворного текста прихотливо уживается у поэта с естественной раскованностью и широтой его индивидуального художественного зрения и социального видения мира.
Если говорить о зрелом и тем более позднем периоде его творчества, то в нем все больше и больше проступает та «неслыханная простота», которая идет от «опыта больших поэтов», нашей неувядаемой русской поэтической классики. Об этом прекрасно сказал сам Б. Л. Пастернак:
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
И тем не менее в его стихотворном языке есть над чем задуматься, есть что не увидеть, а значит, есть о чем вас спросить. Вот вам еще одно проверочное задание. Выполните его, как и предыдущие, сначала самостоятельно. Затем можете обратиться к ключу, чтобы узнать, насколько успешно вы этот маленький экзамен выдержали.
Найдите в следующих далее четверостишиях имеющиеся в них художественно-изобразительные средства: анафоры (повторения начальных элементов), сознательные тавтологии (избыточность), сравнения, афористичность, антитезы, оксюмороны, омонимы и т. д.
1 Не волнуйся, не плачь, не труди,
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.
2. Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя не по сердцу,
Вся рвется музыкою стать
И вся на рифмы просится.
3. Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.
4. И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
5. Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.
6. Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
7. На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета…
Посмотрим теперь ответы, чтобы убедиться, что заданные вопросы успешно решены
1. В приведенных строках выразительная сила стиха достигается прежде всего четырехкратным анафорическим отрицанием не, анафорическим трехкратием местоимения ты и сравнительного как, а также своеобразным рядом сравнений с неожиданны и аналогичны «синоним о» к слова опора, друг, случай.
2. В данном четверостишии особо останавливает внимание повсестрочное употребление «всеобъемлющего» местоимения вся, омоформы стать (существительное) и стать (глагол), синоним ия стать – суть и возвратные глаголы рвется и просится.
3. В строках явно проглядывают реминисценции из Лермонтова (я ищу свободы и покоя) и Маяковского (я родился, рос, кормили соскою. Жил, работал, стал староват. Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова). Ярким и свежи является переносно– метафорическое употребление глагола горбиться.
4. Очень сильным в художественном отношении в данном отрывке, выступающим как настоятельный завет всякому настоящему человеку, является категоричность долженствования, создаваемая тавтологией прилагательного живой и усилительной частицей только и оканчивающим заключительную строчку предложно-падежным сочетанием до конца.
5. Особенно важными в создании удивительной отточенности поэтического фрагмента являются троекратное повторение повелительной семантики «бодрствуй» (не спи, не спи, не предавайся сну) с развертыванием не спи во второй строке в перифразу и оживлением в ней у слова предавайся значения, связанного с глаголом предать, и конечно же афористичность двух заключительных строк.
6. Четверостишие строится на антитезе мировоззренческого характера двух первых строк заключительным. Выразительности отрывка особо служат яркое противопоставление (не – а), синонимы первой строки и инверсивность порядка слов четвертой.
7. Отрывок в основном строится на оксюморонном характере двух заключительных строк, образующемся сознательным «столкновением» слов неповторим и повторялся.
Поэтический текст глазами лингвиста
«Прощай, немытая Россия…» М. Ю. Лермонтова
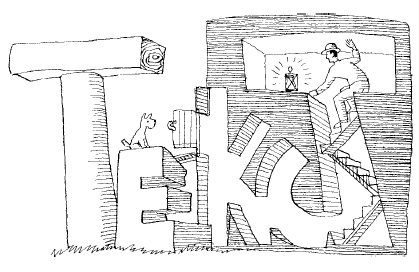
Горькое значение стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия…» с гневом и грустью воспринимается каждым нравственно здоровым человеком даже сейчас, хотя со времени его появления прошло уже почти 160 лет и живем мы в совершенно ином государстве. Написанное, несомненно, экспромтом в апреле 1841 г., оно ходило по рукам в разных списках, пока, наконец, не было опубликовано в 1887 г. в том виде, в котором мы знаем его сегодня, в журнале «Русская старина» известным лермонтоведом XIX в. П. Висковатым. Современники читали это произведение и как стихотворное выражение глубоко личной и незаслуженной обиды Лермонтова на Николая I за его отказ уволить поэта в отставку, и как острую политическую характеристику самодержавной и крепостнической России. В общем, таким лично-общественным, написанным чеканным стихом, «облитым горечью и злостью», это произведение как будто и должно восприниматься. За вырвавшимися словами обиды поэта на то, что царь не утвердил представление командующего на Кавказе от 3 февраля 1841 г. к награждению Лермонтова орденом «Золотая полусабля» и снова посылает его из двухмесячного отпуска в действующую армию, несмотря на настойчивые просьбы В. А. Жуковского, ходатайствовавшего за восходящую звезду русской поэзии, в стихотворной миниатюре мы ясно чувствуем трезвую и твердую оценку российской действительности того времени, своей несчастной, «убогой и обильной», забитой, горячо и беззаветно любимой родины, своей «немытой России».

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841). Портрет работы художника К. Горбунова. 1841 г.
Стихотворение, прямо гипнотически заражающее современного читателя лермонтовским чувством гнева и горечи, своей поразительно отточенной формой и логикой, тем не менее, несмотря на прозрачность словесной ткани, четкую и ясную композицию, в коммуникативном отношении простым для нас не является. Языковые шумы и помехи заставляют читателя, если он хочет понять стихотворение до конца, анализировать эту миниатюру очень бережно и неспешно.
Семантически-поверхностно и композиционно восьмистишие достаточно непритязательно, делится на две части и по содержанию, и по «плану выражения». Первое четверостишие представляет собой перифрастическое обозначение России, с которой поэт прощается, вновь высылаемый на Кавказ. Во втором четверостишии выражается надежда, что хотя бы в действующей армии ему будет более легко и свободно.
Прочитаем внимательно лермонтовское стихотворение и построчно, и построфно.
В первой строке нас сразу же останавливает и повергает в недоумение казалось бы совершенно неожиданный эпитет немытая к названию отчизны, которую Лермонтов любил и не щадя жизни защищал. Что вкладывает поэт в этот эпитет и что хочет им сказать нам? Вопрос трудный. Но можно, пожалуй, согласиться в целом с тем, что по этому поводу говорит
Т. Г. Динесман: «Оскорбительно-дерзкое и вместе с тем проникнутое душевной болью определение родной страны («немытая Россия») представляло собой исключительную по поэтической выразительности и чрезвычайно емкую историческую характеристику, вместившую в себя всю отсталость, неразвитость, иначе говоря, нецивилизованность современной поэту России» (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 452). Но обратимся к первому слову первой строчки – этикетному слову расставания прощай. Это слово используется поэтом в первичном значении, не так антонимично, как, например, у А. П. Чехова в «Трех сестрах» (Не до свиданья, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся) или у П. Антокольского в стихотворении «Памяти Фадеева» (Никогда не прощай, навсегда до свиданья, милый друг, дорогой человек), а как самый обычный общеязыковой обиходный синоним до свиданья. Лермонтов ехал на Кавказ в свой полк с надеждой (пусть и в полевой обстановке и сражениях, где смерть глядит отовсюду) не быть под постоянным колпаком у царских «пашей», чувствовать себя хоть в какой-то степени на воле. Но он отнюдь не думал, что его этикетное прощай окажется окончательным и бесповоротным, горьким и безысходным последним прости. Он надеялся вернуться впоследствии в Москву, в Петербург, в родные Тарханы, и его прощай звучало как до свиданья.
Начальное прощай мы встречаем в стихотворении «К морю» А. С.Пушкина. Однако пушкинское и лермонтовское прощай принципиально отличаются «объектами прощания» и семантикой этикетного слова. Лермонтов прощался с отчизной, забитой и глухой, крепостнической «немытой Россией», где он был для власти и нежелательным, и нелюбимым. Пушкин прощался со свободной стихией (в Крыму он вращался в высшем обществе и жил относительно свободно).
Пушкин прощался с морем навсегда (в п о с л е д н и й р а з передо мной Ты катишь волны голубые…). И его прощай звучало как знак расставания со свободой навсегда. Т. Г. Динесман справедливо пишет, что у Лермонтова «1 – я строчка синтаксически и ритмически воспроизводит зачин пушкинского «К морю»: Прощай, свободная стихия» (Лермонтовская энциклопедия. М., 1 981. С. 452). Но этим только и ограничивается. Между тем эта реминисценция требует к себе большего внимания хотя бы потому, что она прямо и непосредственно связана со сходными событиями, послужившими причиной появления стихотворений «К морю» и «Прощай, немытая Россия…». Лермонтов сознательно «творчески» использовал начало пушкинского «К морю» потому, что оба поэта писали эти свои стихи в связи с новой ссылкой (Пушкина – из Одессы в Михайловское, Лермонтова – опять на Кавказ в действующую армию). Царские чиновники, не испытывая к обоим поэтам любви или хотя бы расположения, не были способны на великодушие и порядочность. Эта экстралингвистическая деталь появления переоформленного Лермонтовым пушкинского этикетного обращения весьма важна. Кстати, у Пушкина в стихотворении «К морю» есть еще одно место, получившее специфическое отражение в лермонтовском «Прощай, немытая Россия…». Вот оно:
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!
И дело здесь не только в том, что ими обоими было использовано в пятой строчке слово хребет (Быть может, за хребтом Кавказа), но и в высказываемой надежде (у обоих поэтов так и не сбывшейся), что как-нибудь удастся стать относительно свободным от царских «пашей».
Вторая строчка первой строфы представляет собой уточняющую перифразу к предмету расставания – немытой России. Яркая и выразительная, она четко характеризует родину как страну рабов – страну господ. Антитеза во фразе скрепляется повтором слова страна в единое целое, образуя чисто лермонтовский афоризм. Заметим, что слово раб в этой строчке имеет более широкое и обобщенное значение, нежели, например, в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина (Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил, И раб судьбу благословил), где оно означает «крепостной». Род. п. господ – также не форма вновь входящего в употребление (правда, не без понятных трудностей) этикетного господа. Это обозначение вообще власть имущих, от дворян до чиновников.
Очень своеобразны третья и четвертая строчки, выражающие детализирующие предметы расставания – мундиры голубые (жандармы) и народ. В принципе они в развернутом виде «повторяют» антитезу предыдущей строки.
В версификационном же отношении они являются классическими конструкциями с присоединительным и:
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Метонимическое обозначение жандармов требует соответствующих, как говорится, фоновых знаний: в XIX в. форменной одеждой жандармов были мундиры голубого цвета.
На четвертой строчке первой строфы нужно остановиться особо, хотя она в смысловом отношении кажется совершенно ясной. Особенно тогда, когда мы знаем, что в списках и в первых публикациях были в ходу и такие варианты: И ты, послушный им народ; И ты, покорный им народ. Однако это только в том случае, если из памяти уже успела уйти предыдущая строчка. Ее же наличие в памяти (И вы, мундиры голубые) заставляет сразу подумать о явно мнимой логичности следующей: И ты, им преданный народ. Когда это русский народ (пусть и такой-сякой!) был безропотным, всегда верным, покорным и послушным царю и его приспешникам? Разве не являются отражением реальных событий «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Вадим» М. Ю. Лермонтова? А В. И. Коровин, между прочим, в книге «Творческий путь М. Ю. Лермонтова» (М., 1973), принимая, кстати, неавторский эпитет послушный (об этом см. ниже), в частности, пишет: «Действительно, любовь к такой родине, где на каждом шагу попрано человеческое достоинство, где за каждым бдительно шпионят «голубые мундиры», где столь безропотен «послушный им народ», не может не показаться «странной»». Такое ли значение имеет в разбираемой строчке слово преданный, которое характерно для него сейчас, – «беспредельно верный»? Попутно заметим, что современное значение преданный «вероломно, изменнически выданный» требует творительного надежа (ими), а не дательного (им). Т. Г. Динесман (как часто это делают литературоведы, не обращая внимания на «языковые мелочи») нисколько не сомневается в том, что это именно так, что в результате приводит исследователя к совершенно неправильной, более чем странной и нелепой интерпретации всей первой строфы: «И все это, вместе взятое, – крепостническое рабство, жандармский произвол и жалкая «преданность» ему – предстает в поэтической формуле Лермонтова как нечто единое, чему он говорит решительное «прощай»». О характере и значении этого этикетного слова мы уже говорили выше.
На самом деле слово преданный здесь имеет абсолютно другое, никак эмоционально-экспрессивно не окрашенное, прямое номинативное значение «отданный во власть» < «переданный в распоряжение кого-либо» Это убедительно доказал еще В. В. Виноградов в книге «Проблема авторства и теория стилей».
Второе четверостишие, как уже отмечалось, выражает (и то с оговоркой быть может) слабые надежды поэта на то, что на Кавказе он сможет быть более свободным от правительственной заботы:
Быть может, за хребтом Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
М. Ю. Лермонтов высказал эти надежды именно в таких словах. Об этом сказано в примечаниях И. Л. Андроникова к собранию сочинений М. Ю. Лермонтова (М., 1964. Т. 1.С. 594). В некоторых списках стихотворения вместо пашей мы находим царей или вождей, но эти слова во множественном числе в данном контексте были совершенно невозможны по экстралингвистическим причинам.
В пользу слова пашей говорит и характерная для поэта точная рифмовка ушей – пашей, и тот факт, что в николаевской России существительное паши как наименование турецких военных сановников иронически употреблялось для обозначения жандармов, поскольку Турция для русского общества в 20-е гг. XIX в. была деспотическим государством (особенно в период национально-освободительной борьбы греков). О последнем наглядно свидетельствует еще юношеское, написанное в эзоповской манере стихотворение «Жалобы турка», с объясняющим Р. S. и строками: Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! этот край… моя отчизна!
Кончается стихотворение «Прощай, немытая Россия…» парой синтаксически однородных и лексически близких строк в виде анафоро-тавтологического повтора предлога и местоимения (от их), одноструктурных слов с одинаковыми начальными и конечными морфемами, идентичных словоизменительных форм, частей речи и однотематических слов (глаз – ухо).
Первое четверостишие с двумя присоединительными союзами и скрепляется в единое целое анафорическими последними строчками с предлогом от. Ритмо-синтаксический параллелизм двух последних строк первого и второго четверостиший скрепляет высказывание в текст, не только не требующий продолжения, но и не могущий быть продолженным. Сказано все то, что автор задумал сказать, поставив все точки над и.
В заключение лингвистического анализа второго четверостишия необходимо, пожалуй, еще отметить лексико-фонетический архаизм сокроюсь (вместо скроюсь), использованный по традиции как поэтическая вольность (ср. у А. С. Пушкина: Подымем стаканы, Содвинем их разом), и редкий в поэтической речи М. Ю. Лермонтова словообразовательный неологизм всеслышащих (ушей), образованный им по модели церковнославянского слова всевидящий (ср. в Патерике Печерском XIII в.: «…мняхъ сие укрыти от всевидящего Бога»).
Проведенный анализ стихотворения наглядно показывает, как далеко иногда находится читатель от правильного понимания написанного поэтом, особенно если последнее отделено от читающего большой временной дистанцией, читается наспех или предвзято, без учета исторических реалий и изменчивости языковых единиц и особенностей их употребления. Он же лишний раз доказывает необходимость лингвистического анализа художественного произведения, коль скоро мы хотим адекватно, по-авторски воспринять его как информационно-эстетическое целое.
Не просто слова
Как строится поэтический текст без каких-либо поэтических изысков, простыми, самыми обиходными и русскими словами, известными всем, но далеко не всеми сейчас уважаемыми, может рассказать нам миниатюра замечательного поэта XX в. А. Яшина (1913–1968) «Не просто слова» (1957), которая кажется на первый взгляд и негромкой, и неприметной. Жаль, что сейчас его знают и помнят немногие, хотя этот стихотворный «мал золотник» стоит многого.
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь… Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!
И это вполне понятно: насколько близка и волнительна для нас его высокая гражданская тематика, насколько изящна и тонка его художественная форма. Стихотворение умещается в нескольких строках всего из 35 слов. Но мыслям в нем просторно – поэт доверительно говорит здесь с читателем о важнейших обязанностях человека в нашем обществе (о любви к родине, дружеском единении с другими, верности, чувстве ответственности за свои слова и дела перед другими людьми, своем добром имени и достоинстве, наконец, о нравственном самосознании) и призывает всех нас во имя нашего же счастья в своих поступках никогда не забывать о том, что составляет сердцевину моральных качеств настоящего человека, независимо от его должности, образования и профессии.

Александр Яковлевич Яшин (1913–1968)
Страстное обращение поэта, задевающее самые лучшие струны нашей души, больно берет за живое и волнует, заставляет задуматься о том, как стать лучше. Такое воспитывающее воздействие разбираемого стихотворения А. Яшина во многом объясняется замечательным художественным мастерством, с каким он его «сделал» как эстетическую информацию-обращение. Горячий лозунг поэта быть честным, порядочным и человечным, по-настоящему любящим родину и верным своим идеалам, действует особенно сильно и непосредственно потому, что по своей форме анализируемая миниатюра не представляет собой прямого призыва быть таким. Она выступает с виду как простая повествовательная констатация сожаления (Ах, если бы все понимали… ) по поводу того, что далеко не все понимают и берегут всю драгоценность конкретных человеческих ценностей, выражаемых такими, казалось бы, обыкновенными, но в это же время поистине бесценными абстрактными существительными, какими являются слова отечество, верность, братство, совесть и честь.
Поэтическая мини-повесть о настоящем человеке и его ответственности за будущее в структурном отношении строится А. Яшиным как двухчастное целое. Первая часть вводит нас в мир самых дорогих слов, самых дорогих потому, что они обозначают наиболее важные, конститутивные, высокие для человека понятия. Именно поэтому из несметного словарного богатства русского языка поэт выбирает прежде всего абстрактные существительные, на которых здесь все как бы и зиждется. В одно сверхфразовое единство слова поэтом «сшиваются» и повторением одного и того же сказуемого (есть – а есть еще), и уточняющими обобщение однородными членами (драгоценные слова), и принадлежностью соответствующих однородных членов по своему морфологическому статусу к отвлеченным существительным, и одинаковым в трех словах суффиксом– ство, и созвучием заключающих это сложное синтаксическое целое существительных совесть и честь.
Во второй части стихотворения, содержащей лозунг поэта быть настоящим человеком, он с сожалением и болью говорит о том, что не все руководствовались и руководствуются в своей жизни надлежащими моральными правилами человеческого общежития. А это неумолимо приводит к промахам, издержкам, малым и большим бедам. Чтобы этого не было (он утверждает это со всей определенностью: И это не просто слова), надо только понимать, что высокие слова отечество, верность, братство, совесть, честь и др. не просто слова, это «звуки, полные значения», за которыми (ср. приводившееся уже пушкинское: «Москва… Как много в этом звуке Для сердца русского слилось…») стоят важнейшие ценности и принципы поведения человека как личности.
Структура этого четверостишия особенно интересна и своеобразна. Прежде всего, конечно, бросается в глаза тавтологическая рифмовка второй и четвертой строк. Они отличаются друг от друга только начальными союзами что и и. Все остальное фонетико-графически совпадает: это не просто слова. Но совпадение словосочетания не просто слова здесь на деле мнимое – омонимическое: в третьей строчке перед нами свободное сочетание слов, аналогичное объединениям типа не просто совпадение, не просто дом и т. д. и имеющее семантику «не только слова» (но и обозначаемые ими понятия), в четвертой же, заключительной строке с присоединительным союзом и, сочетание не просто слова является уже фразеологическим оборотом со значением «не пустая болтовня, не безответственное утверждение» (ср. бросаться словами), а твердая уверенность в том, что это так (ср. хозяин своему слову). Использованная А. Яшиным рифмовка сверхсловных омонимов создает, с одной стороны, яркий версификационный эффект, а с другой – более основательно выделяет то главное, что хочет сказать поэт читателю.
Такой прием идет из русской стихотворной классики XIX в. Ср. начало лермонтовского описания сражения у речки Валерик (по-чеченски валлариг «мертвая»): «Я к вам пишу случайно; право, Не знаю как и для чего. Я потерял уж это право…»
Умело использует А. Яшин в анализируемой части миниатюры также и параллелизм повторений бы – бы, это – это, и антитезу местоимений все – мы, воспринимаемых как антонимы (ср. все мы; здесь все не входят в мы, и мы как бы полностью исключает тех, кого поэт называет все).
Первая строка заключения живо напоминает всем, знакомым с творчеством М. Ю. Лермонтова, «Жалобы турка»: «Ах, если ты меня поймешь…» Но если А. Яшин как-то и отталкивается от этой с детства знакомой строчки, то это можно видеть только в творческом использовании технического приема. Содержательно лермонтовское Ах, если ты меня поймешь («Прости свободные намеки») и яшинское Ах, если бы все понимали (что это не просто слова) отличаются принципиально. У первого речь идет лишь об иносказательном смысле основной части стихотворения (говоря о Турции, поэт на самом деле говорит о России и хочет, чтобы читатели сказанное им правильно поняли). Второй хочет, чтобы все, к кому он как к читателям обращается, правильно понимали свое человеческое назначение. Замечу попутно, что по своей тематике разбираемое стихотворение у А. Яшина не одиноко. Об этом горячо и страстно он пишет в стихотворениях «Твоя родина», «О насущном», «Спешите делать добрые дела», «Неулыбчивому человеку», «О погожих днях и хороших людях» и многих других. Братское, доброе слово А. Яшина волнует и радует читателя своим участием и честностью, неброской лиричностью и глубокой народностью.
Алгебра поэтической гармонии
– Алгебру поэтической гармонии позволяет наглядно представить одна из стихотворных миниатюр Л. Мартынова (1905–1980), названная им коротким, но очень емким и значительным словом «След».

Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980)
Маленькое стихотворение это воспринимается как прекрасное гражданское послание поэта своим современникам, поднимающее большую проблему общественного наследства, оставляемого после себя человеком, вопрос о том, так ли ты живешь и как надо жить, чтобы оставить после себя добрую память, долгий и чистый след в людской душе.
Стихотворение «След» не содержит ни одного слова, которое бы как таковое в коммуникативном отношении требовало специального лингвистического комментария. Все его слова – это, по существу, слова лексического минимума для школы. Все они употребляются в своих самых обычных значениях.
И тем не менее перед нами настоящее художественное произведение, представляющее собой специфическую образную систему.
А ты?
Входя в дома любые —
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
Выразительно-изобразительным стержнем стихотворения является языковая единица след, которая последовательно выступает то в качестве слова след с конкретным значением «отпечаток чего-либо», то в качестве составной части наречия вслед, соотносительного с предложно-падежным сочетанием в след, то в качестве слова след с абстрактной семантикой «впечатление в результате чего-нибудь», то, наконец, в самом заглавии как слово, совмещающее в себе оба указанных значения сразу и выполняющее переносно-метафорическую функцию обобщения.
В таком поэтическом, одновременно двузначном виде заглавное слово стихотворения является хорошим примером одного из основных и принципиальных свойств языка художественной литературы как словесного искусства, хорошо сформулированного.
Переключение поэта в стихотворении с прямого значения на переносное, скрепляющее воедино всю вторую его часть и являющееся той словесной игрой, которая и делает текст истинно поэтическим, ярким произведением, подготовлено Л. Мартыновым нарочито обыденной по своему содержанию первой частью и бытовой информацией вытерли паркет и косо посмотрели вслед во второй.
Что касается первой части миниатюры, то она очень интересна прежде всего в композиционном отношении. Ее структура носит «рамочный» характер со скрепами: начальное А ты? и конечное Скажи. Внутри эта часть «Следа» привлекает к себе внимание в первую очередь рифмованными определениями (любые – голубые, крутые – залитые) с тавтологией одних и тех же окончаний, анафорическими союзами и, близкозначными, но не синонимическими деепричастиями входя – всходя и двумя конечными строчками с неожиданными индивидуально-авторскими сочетаниями слов звон клавиш и даря ответ.
Лингвистического комментирования, кроме только что указанных фактов, также и с нормативной точки зрения требует употребление поэтом слова всходя, которое одинаково относится и к сочетанию слов на лестницы крутые и к следующему далее квартиры, светом залитые (в которые можно только входить!).
Если сочетания звон клавиш и даря ответ – созвучья слов живых, обусловленные художественными задачами и вполне законные, то сочетание всходя… в квартиры (хотя оно в своем возникновении и ясно как подверстка к всходя на лестницы крутые) является ненормативным и стилистически неоправданным.
Но это не все, что нуждается в комментировании в данном стихотворении. Оно – яркий пример прекрасного использования современным поэтом поэтического наследия русской стихотворной классики. В «Следе» Л. Мартынова – два ясных следа этих традиций. Одним из них являются компоненты, образующие структурную рамку первой части миниатюры А ты? – Скажи. Здесь Л. Мартынов по-своему и удивительно оригинально использует обе частотные у поэтов XIX в. и тех, кто им так или иначе следует (вплоть до Маяковского), начинательные формулы, открывающие предложения. Такими являются, с одной стороны, единичные или «осложненные» присоединительным союзом (а, и, но) личные местоимения, а с другой – главная часть бессоюзного предложения, синонимического сложноподчиненному предложению с придаточным дополнения, которая выражена глаголом речи (сказать, говорить, молвить, ответить и т. д.).
Художественная новизна поэта состоит в том, что на базе существующих отдельно или соположенных главных членов предложения он образовал совершенно новое синтаксическое единство с дистантно расположенными частями А ты?.. – Скажи…, где один компонент формулы отделен от другого развернутой характеристикой поэтического адресата как действующего лица. В результате такого циркумфлексного оформления первая часть стихотворения воспринимается как единое целое особенно остро.
Трудно сказать, какие конкретно строчки легли в основу анализируемого сверхфразового индивидуально-авторского неологизма Л. Мартынова или хотя бы породили творческий импульс для его создания. Но несомненно, что в кладовой памяти поэта так или иначе отложились, чтобы потом активизироваться, образования, подобные тем, которые можно привести далее в качестве гипотетически исходных или стимулятивных:
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила…
(Ф. Тютчев. Весенняя гроза)
И я скажу: Христос воскрес.
(А. Пушкин. В. Л. Давыдову)
Скажите: взят он вечной мглою.
(А. Пушкин. Элегия)
Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный.
(А. Пушкин. Стансы)
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…
(А. Пушкин. Что в имени тебе моем?)
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?
(А. Пушкин. Евгений Онегин)
Не говори: любовь пройдет…
(А. Дельвиг. Романс)
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
(Е. Баратынский. Подражателям)
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один…
(Ф. Тютчев. Брат, столько лет сопутствовавший мне)
О ты, владеющий гитарой трубадура…
(К. Батюшков. Послание графу Вильегорскому)
А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля…
Ты так же ли, как земледел, богат?
(Е. Баратынский. Осень)
Более того, в первом компоненте невольно слышатся и поэтический лозунг В. Маяковского: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» (А вы могли бы? «Я сразу смазал карту будня…»), и гражданский лозунг окон РОСТА: «А ты записался добровольцем?»
Последнее делает вопрос-обращение Л. Мартынова еще непосредственнее и призывнее.
Влияние поэтического языка XIX в. ярко проявляется в «Следе» Л. Мартынова также и в заключительной части, содержащей скрытый и (в форме вопроса!) страстный призыв к свои читателя жить так, «чтобы, у ирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела». Они, несо ненно, восходят (пусть очень опосредованно, как усвоенное, ставшее уже кровно свои) к пушкински слова о стихах, славе и с ысле жизни.
Вот соответствующие места из «Евгения Онегина»:
Для призраков (= видений) закрыл я вежды (= глаза),
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить (= умереть)
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук (= слово) (гл. 2);
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет (гл. 4).
В тексте Л. Мартынова мы видим и абсолютно идентичные лексические единицы (след, оставишь, много лет), и близкозначные слова (незримый – неприметный, прочный – долгий, душа – сердце). Но что еще важнее: в них мы ясно ощущаем пушкинский пафос мыслей и чувств.
Быть самим собой
Среди великих русских поэтов, произведения которых теперь бессрочно принадлежат нашей стихотворной классике, свое особое место занимает Александр Трифонович Твардовский (1910–1971). Истинно народный поэт, живший с народом и для народа, он был замечательным художником слова, по-настоящему взыскательным и строгим к себе и другим. Поэт-гражданин, он был большой и совершенно самобытной личностью, словно по фамилии твердым в своих идейных и художественных убеждениях. И вместе с тем в своих произведениях, и в жизни он был самым обычным человеком, только удивительно искренним, прямым и поразительно чутким к человеческой и поэтической красоте, человеком, хотевшим и – что еще важнее – умевшим при любых обстоятельствах быть всегда самим собой (нередко в самых тяжелых для него жизненных обстоятельствах).

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971)
Твардовский был до мозга костей нашим современником, но его поэзия будет, вне всякого сомнения, современной и для наших потомков. И в первую очередь потому, что она в высшей степени правдива – и большой и малой правдой реальной жизни, и высокой правдой словесного искусства.
В лирических стихотворениях поэт прямо и непосредственно открывает перед читателями самое заветное и сокровенное. Его лирические строки строго и безыскусственно представляют нам размышления поэта о времени и о себе, раздумья о прошлом и будущем родины и народа, о своей судьбе и судьбе других, с которыми вместе он «честно тянул воз» «во имя наших и грядущих дней»; они полно и явственно выражают его радости и печали, сомнения и надежды.
Его честный и щедрый поэтический голос нельзя слушать без волнения и отклика, он убеждает своим народным оптимизмом, непоколебимой верой в светлое будущее, памятью к прошлому, любовью к земной красоте, неразрывной связью с родной природой и эпохой.
Душевная чистота и трепетность лирики Твардовского, его высокая художественная правота и обаятельность всегда шли рука об руку с обязывающим чувством личной ответственности поэта «за все на свете до конца».
Среди драгоценных в своей человеческой душевности лирических страниц Твардовского более других, пожалуй, выделяются лирические миниатюры, где девиз позднего Твардовского – «Короче. Покороче» – проявился с особенной силой и яркостью.
В лирике Твардовского совсем немного языковых шумов и помех, которые требовали бы лингвистического комментария как такового. Однако это не значит, что она не нуждается вовсе в замедленном чтении (иногда даже под филологическим «микроскопом»). Последнее здесь не менее необходимо, нежели, скажем, при чтении Пушкина, но уже для того, чтобы за фасадом хорошо известных нам фактов современного русского языка не просмотреть получаемые ими под пером поэта смысловое и стилистическое приращения, их эстетическую новизну и свежесть. Лирическому словоупотреблению Твардовского в принципе чужды слова и фразеологические обороты архаического и диалектного характера, в нем исключительно редки отступления от литературных норм в грамматике и фонетике, оно не терпит «словес», «краснословья» и «трезвона», всей той поэтической шелухи, которая так характерна для эрзац-литературы. Слова поэта «питало сердце», «смыкал живой разум», и «сказочную быль» нашей жизни он выражал честными и знакомыми словами, словами, «что жгут, как пламя» и «светят вдаль и вглубь – до дна», и притом так, «чтоб не мешать зерна с половой, самим себе в глаза пыля».
Заветные слова лирики Твардовского, мудрые и волнующие по своему содержанию, всегда просты и прозрачны, без капли лингвистической эквилибристики и образной нарочитости и изощренности. Тем не менее и одновременно (и это лежит на поверхности) язык и стиль лирических произведений Твардовского предстают перед нами как нечто, глубоко впитавшее в себя все ранее известные животворные эстетические «сложности» русской стихотворной классики – от так называемой традиционно-поэтической лексики до художественных образов и символики.
Как будто совершенно бесхитростный, безыскусственный язык лирики Твардовского построен на самом деле очень хитро и искусно и тщательно скрывает большую творческую работу поэта над словом. Это по своему существу золотой сплав наиболее выразительных средств живого народного слова и самых дорогих ценностей русской художественной речи.
Высокая филологическая культура поэтического языка Твардовского – при всей внешней непритязательности – видна в каждом его стихотворении, поэтому для иллюстрации этого положения можно обращаться к любому.
Обратимся к последнему опубликованному при жизни Твардовского стихотворению. Это чеканные и искренние до боли слова обета и одновременно нравственного завещания настоящего поэта-гражданина, вся жизнь которого была посвящена служению добру, людям.
К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участье добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,
Взялся за гуж – не говори: не дюж.
С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.
Духовная программа Твардовского изложена здесь таким удивительным образом, что в то же время является поэтической характеристикой его постоянной жизненной позиции и самой жизни.
Звучный ряд привычных слов выстроен так, что эта стихотворная миниатюра выступает для нас и как строгий приказ поэта самому себе, и как горячий призыв к другим всегда быть самим собой, «жить, как живешь», честно и упорно заниматься своим любимым трудом, жить, не жалуясь на трудности и не отступая от своих убеждений, жить так, чтобы становилось легче жить другим.
Такое обобщенное, вселичное значение текст приобретает потому, что взволнованные и чистые слова большого поэта синтаксически оформлены в цепочку стройных инфинитивных предложений с модальной семантикой долженствования, где собственный твердый обет и страстная просьба к читателям слиты воедино.
Структурно составляющие стихотворение четыре инфинитивных предложения организованы по две строки. Только последнее состоит неожиданно из трех строк, хотя формально могло как будто уложиться в две: «Так со своей управиться судьбой, Чтоб в ней себя нашла судьба любая».
Но это только как будто. В последней (девятой) «висячей» строке стихотворения с неожиданным присоединительным и содержится едва ли не самое главное: «мысль о том, чтобы жить, помогая счастливее и лучше жить другим». Эта строфически «лишняя» строка, которая «представляется присоединительно-заключительным аккордом» и «побуждает видеть в нем композиционно-смысловую вершину произведения» (Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1940. С. 312), изящно, чисто по-пушкински, венчает стихотворение и как определенную структуру, и как смысловое целое.
Концовка стихотворения Твардовского не менее экспрессивна и выразительна, нежели, например, та, которую мы наблюдаем в стихотворении А. С. Пушкина «Близ мест, где царствует Венеция златая…»:
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.
Дисциплинированное и логичное изложение нравственной заповеди сознательно сложено Твардовским из прозаически-добротных и как бы лишенных нежности, твердых, как в клятве, слов, и звучат они торжественно и призывно.
Формальное отсутствие лирического «я» – в связи с отсутствием при безличном и обобщающем инфинитиве местоимения первого лица и, напротив, наличием вселичного притяжательного местоимения свой, возвратного себя и определительного любой – ведет к тому, что «мысль и чувство изливаются так, как если бы говорил не поэт, а любой человек, живущий достойной жизнью и не желающий терять своего достоинства» (Кондратович А. А. А. Твардовский. М., 1979. С. 329), человек, который хочет, чтобы и другие жили так же.
Что очень характерно для Твардовского, и в этих блистательных стихах тонкую эмоциональность и человеческое волнение нам предлагают самые обыденные и неброские слова и выражения. Тут – «не убавить, не прибавить»: и добродушно-ироническая перифраза собственная персона как обозначение себя со стороны, и народно-поэтическое наименование своего «пристально любимого труда» (страда бессонная), и мужественная пословица Взялся за гуж – не говори: не дюж, и милый (особенно в сочетании с существительным судьба) разговорный глагол управиться в значении «справиться, одолеть» и т. д.
Лирическая напряженность стихотворения, его обетный и призывный характер создаются Твардовским различными языковыми средствами. На это работает дотошная продуманность композиции, в частности, следование друг за другом трех простых (!) предложений с завершающей сложноподчиненной концовкой, имеющей к тому же присоединительную конструкцию с и. Этому служит также мастерское использование инверсии (обида горькая, страда бессонная, судьба любая, с тропы своей), синтаксический параллелизм и лексические повторы (жить, как живешь, не соступая – не отступая, душ – душу) и даже аллитерации (например, «перезвон» согласных б – п, д – т и особенно с, ср.: «С тропы своей не соступая, Не отступая – быть самим собой», где с тропы своей как бы тянет за собой не соступая, а последнее – не отступая).
Есть в этом стихотворении несомненная «перекличка» с Пушкиным: так живо оно своей глубинной сущностью (при всей особенности и непохожести) воскрешает в нашей памяти пушкинские «Поэту» и «Памятник».
Правда, у Твардовского поднимаемая нравственная проблема решается созвучно с нашим временем, подается и прочитывается уже в общечеловеческом плане: речь идет не столько о поэте, сколько о любом смертном вообще (в том числе, конечно, и о поэте, каким его представлял себе и каким был сам Александр Трифонович).
«Усовершенствуя плоды любимых дум» и «не требуя наград за подвиг благородный», Твардовский всегда был самим собой, «ни в чем не соступая и не отступая», шел своей тропой, но это была народная тропа, широкая и свободная дорога народа, которому (только ему) он служили и любовью которого дорожил бесконечно.
Решите сами
Еще одно, последнее, заданье
Перед тем, как мы расстанемся, совершите самостоятельное небольшое путешествие по стихотворным страницам А. Т. Твардовского, с анализа художественного текста которого мы начали конкретный разговор о поэтическом слове, впервые посмотрели на литературное произведение внимательными глазами.
Выполните еще одно (последнее) мое задание по определению значения и характера употребления, художественной значимости, оригинальности и правильности содержащихся в приводимых далее отрывках слов, форм и выражений. При необходимости обращайтесь к толковым словарям, но прежде попытайтесь вывести искомое из окружающего контекста сами. Ключ, по которому вы можете проверить правильность ответов, находится, как обычно, за данным заданием. Не заглядывайте туда, прежде чем не попытаетесь вначале решить для себя вопрос сами. Однако обязательно и тщательно прочтите после мои ответы. Пусть даже в моих вопросах к вам будут, как писал поэт, «совсем знакомые слова». Уверяю, что и при правильном решении вами поставленной задачи в моем «ключе» вы обязательно найдете что-то для вас незнакомое, интересное и полезное.
I. Что обозначают выделенные курсивом слова? Почему А.Т.Твардовский употребил их здесь? В какой степени использование им соответствующих фактов оправдано и соответствует литературным нормам современного русского языка?
1. Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.
(«Братья»)
2. И девчонка у колодца
Скромный делает кивок.
Журавель скрипит и гнется,
Вода льется на песок.
(«Шофер»)
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется —
Само не пройдет, не сотрется, —
За все это надо спросить…
(«Армейский сапожник»)
3. Косые тени от столбов
Ложатся край дороги.
Повеет запахом хлебов —
И вечер на пороге.
(«В поселке»)
4. У дороги дуб зеленый
Зашумел листвой каляной
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный…
(«В поселке»)
5. От порога дед спешит
Сразу все заметить:
Вот яичница шипит
С треском на загнете.
(«Еще про Данилу»)
6. И на каждой печке новой,
Ровно выложив чело,
Выводил старик бедовый
Год, и месяц, и число.
(«Ивушка»)
7. Ты проглядел уже, старик,
Когда из-за горы
Они пробили бечевик
К воротам Ангары.
(«Разговор с Падуном»)
8. Дорога дорог меж двумя океанами,
С тайгой за окном иль равнинами голыми.
Как вехами, вся обозначена кранами —
Стальными советского века глаголями.
(«Дорога дорог»)
9. Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки,
Стряхнуть опасается ель.
(«Спасибо за утро такое…»)
10. На дне моей жизни, на самом донышке
Захочется мне посидеть на солнышке,
На теплом пёнушке.
(«На дне моей жизни…»)
11. Чуть зацветет иван-чай, —
С этого самого цвета —
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.
(«Чуть зацветет иван-чай…»)
12 В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.
(«Полночь в мое городское окно»)
II. Найдите сами слова и обороты, требующие толкования с позиции рядового читателя, и попробуйте объяснить их значение и употребление:
1 И среди дерев укрыт,
Выстроившись чинно,
Дружно воет и гудит
Городок пчелиный.
Луг некошеный душист,
Как глухое лядо.
Вот где благо, вот где жизнь —
Помирать не надо.
(«Еще про Данилу»)
2 Где нет ни жары парниковой,
Ни знатных зимой холодов,
Ни моря вблизи никакого,
Ни горных, конечно, хребтов;
Ни рек полноты величавой,
А реки такие подряд,
Что мельницу на два постава,
Из сил выбиваясь, вертят.
Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.
Что в дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне.
(«О родине»)
3 Все так: и краток век людской,
И нужен людям свет,
Тепло, и отдых, и покой, —
Тебе в них нужды нет.
Еще не все. Еще у них,
В разгар самой страды,
Забот, хлопот, затей иных
И дела до беды.
(«Разговор с Падуном»)
4 Там память горя велика,
Глухая память боли.
Она не стишится, пока
Не выскажется вволю.
(«Дом у дороги»)
5 В холодной пуне, не в дому,
Солдат, под стать чужому,
Хлебал, что вынесла ему
Жена тайком из дому.
(Там же)
6 И сладко пьет родной, большой,
Плечьми упершись в стену,
По бороде его чужой
Катятся капли в сено.
(Там же)
7 Я мал, я слаб, я нем, я глуп
И в мире беззащитен;
Но этот мир мне все же люб —
Затем, что я в нем житель.
(Там же)
8 Из новоприбывших иной —
Гостинцем не погребуй
Делился с пленною семьей
Последней крошкой хлеба.
(Там же)
9 И тут, на росстани тайшетской,
Когда вагон уже потек,
Он, прибодрившись молодецки,
Вдруг взял мне вслед под козырек.
(«За далью – даль»)
10 И очутиться вдруг в Сибири
В полубезвестной точке той,
Что для тебя в подлунном мире —
Отныне дом и адрес твой.
(Там же)
11 А мы тем часом
Свою в виду держали даль.
И прогремела грозным гласом
В годину битвы наша сталь.
(Там же)
12 И, опершися на косье,
Босой, простоволосый,
Ты постоял – и понял все,
И не дошел прокоса.
Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду все тот же звук
Как будто раздавался.
Он сердце ей насквозь изжег
Тоскою неизбытной,
Когда косила тот лужок
Сама косой небитой.
(«Дом у дороги»)
III. Какие строки из русской классики XIX в. вспоминаются вам при чтении приводимых далее отрывков? Чем они могут объясняться?
1 По окнам вспыхивает свет.
Час мирный. Славный вечер.
Но многих ныне дома нет,
Они живут далече.
(«В поселке»)
2 Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь – до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.
Вот почему, земля родная,
Хоть я избытком их томим,
Я, может, скупо применяю
Слова мои к делам твоим.
(«Слово о словах»)
Обратимся теперь к контрольной «подсказке», чтобы было видно, насколько правильно и полно вы ответили на заданные вопросы.
1. 1. Сынами – «сыновьями». Формы сыны и т. д. без суффикса – овј– вообще-то принадлежат к устаревшим и книжным и относятся к высокому торжественному стилю (ср. сыны отечества), но в данном контексте поэт употребляет форму сынами как стилистически нейтральную, свойственную как книжной, так и живой разговорной обыденной речи. Слово обапол значит «около, возле, рядом» и сейчас представляет собой диалектизм. Первоначальное его значение отмечается в древнерусском языке – «по обе стороны». Оба факта (и сынами, и обапол) в тексте А. Т. Твардовского – родимые пятна его родного говора.
2. Слово журавель здесь обозначает не птицу, а похожий на нее рычаг для подъема воды из колодца (в виде длинного деревянного шеста – ср. у В. Шукшина в «Любавиных»: «Скрипел от ветра колодезный журавель, глухо стукалась о края сруба деревянная бадья»). Оно является диалектным и имеет вариант журавль. Слово в приводимых отрывках передает местный бытовой колорит.
3. Слово край здесь – не существительное со значением «конечная от центра часть или линия чего-то», «страна, местность» или «административно-территориальная единица», а наречие, имеющее значение «около» (ср. укр. коло – «около», родственное слову около, кольцо, колесо и т. д.). Сейчас слово край в этом значении является устаревшим.
4. Диалектное прилагательное каляный взято А. Т. Твардовским из родного смоленского говора. Оно значит «грязный», «пыльный». Образовано это слово с помощью суффикса – ян-(ср. аналогичные овсяный, медвяный – от старого медва — «мед на воде, медовуха», багряный – от устаревшего багр – «багрянец» и т. д.) от существительного кал в общеславянском значении «грязь». Оно известно в данном значении в некоторых славянских языках и сейчас: болг. кал – «грязь», серб. – хорв. кал – то же, чеш., словацк. kal – «грязь», «слякоть». Употребление поэтом слова каляный приветствовать нельзя: оно ненормативно и мешает его общению с читателем.
5. Существительное загнет (или загнетка) является диалектизмом, который отражает быт и нравы русского народа (этнографизмом) и обозначает «место около выходного отверстия (устья) русской печки».
6. Существительное чело здесь значит, конечно, не «лоб» (ср. в лермонтовском «Демоне» «И на челе его высоком не отразилось ничего»), а совсем другое. Ведь речь идет о печке. Слово чело здесь тоже из старого русского быта и обозначает переднюю часть русской печи. Так, в «Супругах Орловых» М. Горького читаем: «Прямо у двери большая русская печка, челом к окнам».
7. Слово бечевик обозначает «береговую полосу, дорогу у берега реки». В старину их пробивали для тяги судна по реке бечевой.
8. Очень выразительное сравнение кранов с предметами, похожими по форме на печатную букву Г. Архаизм глаголь – старое название буквы Г. Оно является по происхождению повелительной формой глагола глаголить – «говорить» и родственно слову глагол (ранее, кстати, имевшему значение «слово», ср. разглагольствовать).
9. Разлатые – «расходящиеся в сторону и кверху». Прилагательное сейчас является устаревшим и встречается иногда лишь в просторечии.
10. Слово пёнушке – предложный падеж единственного числа от малоупотребительного просторечного пёнушек.
11. По своему значению слово полдневный – «жаркий» является неологизмом поэта и восходит к традиционно-поэтическому полдневный – «южный» (на юге лето жаркое!). Со словом полдневный – «происходящий в полдень» непосредственно не связано.
12. Форма светы – индивидуально-авторское образование А. Т. Твардовского от слова свет в значении «мир, вселенная». Светы здесь значит «миры».
II. 1. Читая внимательно этот отрывок, нельзя не остановиться на словах дерев, лядо, благо и выражении городок пчелиный. Дерев – устаревшая форма род. п. мн. ч. слова дерево (вместо современного деревьев). Эта форма была одной из излюбленных в классической поэзии первой половины XIX в. Вспомните у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине»: «Он мчит ее лесной дорогой; Вдруг меж дерев шалаш убогий» (убогий здесь в старом значении «бедный, ветхий». – Н. Ш.), в «Руслане и Людмиле»: «И дни бегут; желтеют нивы; С дерев спадает желтый лист» и т. д. Существительное лядо понять очень трудно, если не обратиться к «Словарю русских народных говоров». Это по своей семантике (очень разной и своеобразной) смоленское слово, обозначающее здесь «лес». Глухое лядо значит «дремучий, очень заросший лес». Слово благо в приводимом контексте – наречие, синонимичное литературным наречиям «хорошо, прекрасно, замечательно». Это тоже диалектизм, но простой по значению и смысловых связей для большинства читателей не нарушающий. Разобранное чуть ранее слово лядо (возникшее у поэта, возможно, для рифмовки с надо) оправдать в плане восприятия очень трудно: оно не дает читателю правильного и непосредственного ощущения сравнения поэта (как глухое лядо) и требует специального комментария.
Городок пчелиный – прекрасная перифраза, обозначающая улей.
2. В данном отрывке должны привлечь к себе внимание обороты жара парниковая, дальняя даль и слова знатные, постав. Обороты являются «изобретениями» поэта, в которых прилагательные играют усилительную роль и являются тавтологическими по отношению к существительным, если не по корню (дальние), то по значению (парниковые).
Слово знатный – это просторечно-устарелое прилагательное со значением «сильный».
Существительное постав является этнографизмом и обозначает «механизм из подвижного и неподвижного жерновов в старых русских мельницах».
3. В этих восьми строках придется выделить в соответствии с заданием слова век, страда, предложно-падежное сочетание до беды. Многозначное слово век выступает здесь как синоним существительного жизнь, слово страда употребляется в значении «труд», до беды значит «очень много». Последнее является новообразованием поэта по модели до черта. Что касается слова страда (это следует особо отметить), то соответствующее существительное является одним из самых любимых и частотных слов А.Т.Твардовского.
4. В этих четырех строках только одно слово «вылезает» за рамки нашей привычной речи. Им является слово стишится. Ни в каких словарях его нет (у В.Даля отмечается лишь производное затишь – «затишье»). Имея в виду глагол стишать в 17-томном академическом словаре его по аналогии можно охарактеризовать как принадлежность старого просторечия. Стишиться значит «успокоиться, затихнуть».
5. Здесь совершенно чуждым вам является диалектизм пуня. Он обозначает сарай для сена, мякины и т. п. и выступает в поэтическом тексте как этнографизм, характерный для быта Смоленщины.
6. Данные строчки содержат старую форму плечьми – «плечами» и устаревшее для литературного стандарта ударение в глаголе катится на втором слоге. Оба факта использованы поэтом в версификационных целях – для сохранения заданного размера; один дает в строчке на один слог меньше, другой позволяет не нарушить ритма. Все это сделано Твардовским в соответствии с поэтическими традициями прошлого, «прямо по-пушкински» (ср. у Пушкина: «А мешок-то у него за плечьми-. См. «Словарь языка Пушкина»).
7. В данном отрывке нас встречает также одна из ярких особенностей поэтической речи первой половины XIX в. и, в частности, языка Пушкина. Это ныне устаревший причинный союз затем, что – «потому что, так как». У Твардовского он, несомненно, является данью классической стихотворной речи прошлого, скорее всего влиянию Пушкина, у которого он учился, в первую очередь. Особенно ярко и глубоко воздействие пушкинской стилистической манеры сказалось в его поэме «За далью – даль». Ср. у Пушкина: «Иные даже утверждали, Что свадьба слажена совсем. Но остановлена затем, Что модных колец не достали» («Евгений Онегин») и т. д.
8. Во второй строчке содержится яркий южновеликорусский диалектизм погребать – «побрезговать» (не погребуй = «не побрезгуй»).
9. В этом четверостишии вас может повести по ложному следу диалектное росстань. Оно значит «перекресток дорог». А остановить ваше внимание должен глагол потек в старом «пушкинском» значении «пошел» (ср. в «Анчаре»: «И тот послушно в путь потек…»).
10. Мастерское использование Твардовским здесь нового, прозаического и рядом старого, высокого не заметить нельзя. В самом деле рядом с прозаизмом точка в значении «место в системе других пунктов» (ср. наивысшая точка горного хребта) им здесь употребляется и высокое отныне – «с настоящего времени» и поэтическая перифраза подлунный мир – «земля» (ср. у Пушкина: «Доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит»).
11. В этом отрывке, несомненно, вы обратите свое внимание на наличие в нем ныне совершенно неупотребительной в обиходе неполногласной формы глас вместо обычной голос. Она тоже взята на вооружение поэтом из классики первой половины XIX в. Однако это не просто поэтическая вольность, поскольку форма гласом стилистически наполнена и хорошо согласуется с высоким словосочетанием в годину битвы, придавая стихам взволнованно-патетический характер.
12. Данный отрывок содержит в своем словарном составе следующие слова, которые нуждаются в комментарии: косье, прокос, запоясался и небитая. Косье – диалектизм со значением «рукоятка, древко косы», прокос – «прокошенная полоса в ширину взмаха косы», небитая – «неотбитая», т. е. с неточеным лезвием. Все эти слова связаны с ушедшим в прошлое крестьянским бытом.
В глаголе запоясаться в поэтическом тексте наблюдается ненормативное ударение (запоясаться, не запоясаться), обусловленное требованиями версификации, конкретно заданным ритмом.
III. 1. В этом четверостишии явно проглядывается влияние строчек «Иных уж нет, а те далече. Как Сади некогда сказал» в последней строфе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Слово далече (вместо далеко), возможно, помогает поэту также и версификационно, как нужное для рифмовки с вечер. Обратите внимание на разницу слова нет у Твардовского и Пушкина (у последнего нет = «нет в живых»).
2. В приведенном отрывке из стихотворения «Слово о словах» прежде всего обращает на себя внимание своеобразное отражение пушкинского глаголом (= «словом». – Н. Ш.) жги сердца людей. Возникает также непроизвольное в памяти (в связи со строчкой «Хоть я избытком их томим-) пушкинское «То робостью, то ревностью томим».
Нельзя пройти и мимо мастерского использования поэтом современной и исходной, ныне устаревшей, формы, имеющей сейчас уже иронический характер: словеса. В этом противопоставлении четко сформулировано поэтическое кредо А. Т. Твардовского, выступавшего против много– и красно-словья, словесного трезвона и неправды за слово «по курсу твердого рубля».