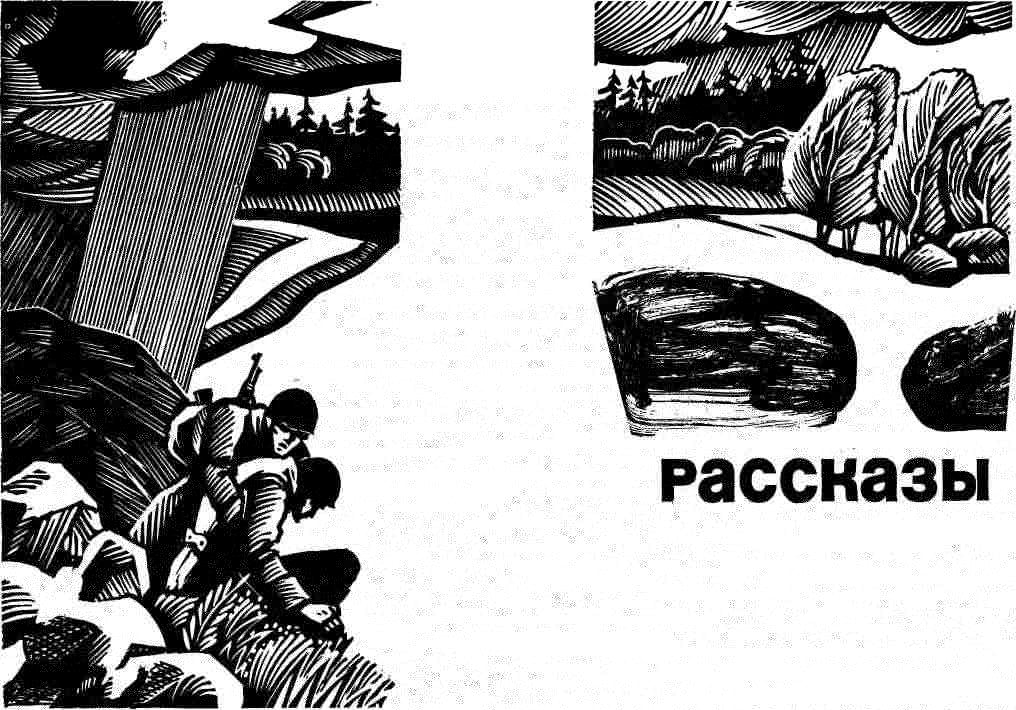Поединок. Выпуск 2
Сборник открывает повесть «Под копытами кентавра», в которой рассказывается о первых днях и предыстории мятежа фашистских ультра в Чили. Повесть «Пропавшие без вести» посвящена советским морякам, действие ее происходит во время Великой Отечественной войны. Герой повести А. Голубева «Пломба» — инспектор уголовного розыска Воронов.
В книге помещены пять рассказов В. Осипова, Б. Воробьева, Э. Маркина, Э. Хруцкого, М. Барышева.
ПОВЕСТИ
Николай АГАЯНЦ, Валентин МАШКИН
ПОД КОПЫТАМИ КЕНТАВРА
Чилийским демократам и патриотам посвящают эту книгу авторы
11 сентября, 0 часов 15 минут
САНТЬЯГО. ПРЕЗИДЕНТ САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ ОБЪЯВИТ СЕГОДНЯ О ВАЖНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПЛАНЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ МЕРЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЭТОЙ НЕСПОКОЙНОЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ПОДРОБНОСТИ ПЛАНА ПОКА НЕИЗВЕСТНЫ.
Фрэнк отдал телеграмму бою:
— Поторопись, малыш! Отправишь по пресс-тарифу.
Покосился на часы, висевшие у изголовья кровати. Четверть первого. Черт возьми, уже наступило 11 сентября. Ничего, в дневной выпуск газеты сообщение все равно поспевает.
Он устал.
От. суеты и неразберихи последних недель.
От своей профессии.
От самого себя.
Он устал и, как это иногда бывает, именно поэтому долго не мог уснуть. Ворочался с боку на бок. Курил. И в конце концов принял таблетку снотворного. Незадолго до рассвета сквозь тягучую полудрему ему почудилось — или не почудилось? — что в шелест весеннего дождя ворвался скрежет и лязг гусениц.
Зазвонил телефон:
— Доброе утро, сеньор. Вы просили позвонить в восемь часов. — В «Каррера-Хилтоне», принадлежавшем американской компании, все служащие были отменно вышколены и на резкость пунктуальны.
— Спасибо, сеньорита, — поблагодарил Фрэнк.
Завтрак заказал в номер. Пока принесут, он успеет принять душ и побриться.
Холодная вода немного взбодрила. Подравнивая холеную бородку, Фрэнк уже вполне умиротворенно подмигнул собственному отражению в зеркале. Не так ты и стар, Фрэнсис О’Тул, многоопытный корреспондент нескольких солидных газет и журналов! И женским вниманием не обойден. Всего сорок три, в конце-то концов!
Официант вкатил в номер столик: тихо звякнул лед в стакане с соком. Снял крышку с серебряного блюда, на котором покоилась роскошная глазунья, обрамленная ломтиками румяного бекона. Налил кофе в чашку и удалился, поблагодарив легким поклоном за щедрые по нынешним временам чаевые: пачку «Честерфилда».
Но завтрак, начатый неспешно и с удовольствием, завершить не удалось. Задребезжали оконные стекла. Фрэнк вышел на балкон. Низко над площадью Конституции, над президентским дворцом «Ла Монеда», с ревом пронеслось звено истребителей-бомбардировщиков с опознавательными знаками чилийских ВВС. «Хаукер-хантеры», — механически отметил он про себя, — из тех, что совсем недавно куплены в Англии. — И лишь потом мелькнула догадка: — Неужто началось?»
О’Тул вернулся в комнату. Торопливо включил приемник. «Агрикультура» — станция оппозиционеров — передавала бравурный марш. Фрэнк взялся было за ручку настройки, чтобы поймать другую программу, но тут музыка стихла и диктор объявил:
«Внимание, внимание! Повторяем сообщение из Вальпараисо. Сегодня утром в этом городе патриотически настроенные солдаты и офицеры морской пехоты взяли власть в свои руки. Над нашей многострадальной родиной вновь восходит звезда Свободы!»
И опять торжествующие, ликующие звуки военного оркестра. Стрелка поползла дальше по шкале. Некоторые радиостанции почему-то молчали. И вдруг — приглушенный треском и шорохом помех — в комнату пробился хорошо знакомый голос Сальвадора Альенде:
«...В Вальпараисо на флоте поднят мятеж. Над президентским дворцом кружат боевые самолеты. Не исключена возможность, что нас обстреляют... Трудящиеся должны с оружием в руках встать на защиту своего правительства!»
Помехи усилились. Некоторые слова стали едва различимы:
«...Безответственные элементы требуют моей отставки. Я заявляю, что не уйду со своего поста и до последнего дыхания буду защищать власть, данную народом... Перед лицом всей страны я обличаю предательство тех военных, которые нарушили присягу...»
Речь президента оборвалась. Одновременно в открытую дверь балкона эхо донесло раскаты отдаленного взрыва. За ним последовал еще один. Авиация бомбила ретрансляционные вышки на окраине Сантьяго. Но об этом Фрэнк О’Тул узнает гораздо позже. А пока, прихватив репортерский кофр с диктофоном и фотокамерой, он направился к лифту. Скорей в город!
Внизу, в холле, толпились постояльцы и служащие отеля. Их тревожный настрой разительно не соответствовал благодушной изысканности зала с его зимним садом, где щебетали в клетках редкие птицы, с абстрактными картинами на стенах и деревянными скульптурами, с экзотическими рыбками в аквариумах.
У широких стеклянных дверей Фрэнк столкнулся со своими коллегами-журналистами. Тут были француз Марсель Риво из «Орор», вертлявый испанец Фернандо Крус, работавший на агентство ЕФЕ, два англичанина из Би-Би-Си, несколько американцев и его соотечественник — дипломатический обозреватель газеты «Ла пресс» Жак Леспер-Медок.
— Привет, Фрэнк! Куда тебя несет?
— Привет, Жак. Ко дворцу «Ла Монеда», разумеется...
— А этих не видишь? — раздраженно кивнул Леспер-Медок в сторону солдат у входа в «Каррера-Хилтон». Лучи солнца холодно поблескивали на примкнутых штыках карабинов.
— Значит, введен комендантский час?
— Де-факто, если хочешь...
Надо обязательно, во что бы то ни стало, выбраться отсюда. А что, если?.. Ни с кем не делясь внезапно возникшим планом, Фрэнк сбежал по служебной лестнице в подземный гараж. Но и там стояли часовые в мрачных серо-зеленых мундирах прусского образца.
— Назад! — штык почти коснулся груди О’Тула.
— Что здесь происходит, сержант? — послышался начальственный голос из глубины гаража. Лавируя между машинами, к ним приближался невысокий тучный офицер.
«Да это полковник Кастельяно! Вот уж повезло так повезло! Похоже, я действительно родился с серебряной ложкой во рту», — подумал О’Тул.
— Хэлло, Эстебан! — О’Тул намеренно заговорил по-английски, чтобы солдаты его не поняли. — Помоги мне, ради бога, попасть на площадь к дворцу.
— А-а-а! Это ты, Фрэнки! — ответил полковник, с ленцой растягивая слова. — Брось свою затею. Через час-другой у «Ла Монеды» будет очень жарко. Если «эль пресиденте марксиста» не согласится на наши условия, мы уж зададим ему перца. Настоящего! Чилийского! Ты-то знаешь, дружище, какой он крепкий — огонь!
— Вот мне и следовало бы увидеть все своими глазами. Лучшего финала для моей книги не придумаешь.
— А ведь это верно... О’кей! Ради другого я бы никогда не нарушил приказ шефа — генерала Паласиоса. Пошли, Фрэнки! Только не к дворцу, а в другое место — там ты будешь видеть все как на ладони.
Когда они оказались на улице Аламеда, забитой солдатами, на площадь Конституции медленно вползали бронетранспортеры и тяжелые танки «шерман». Расчехленные пушки и пулеметы были наведены на приземистое, построенное в испанском «колониальном» стиле здание резиденции президента республики.
У перекрестка, перегороженного впритык поставленными армейскими грузовиками, Кастельяно и О’Тула остановил патруль.
— Дальше идти опасно! — козырнув, предупредил молоденький капрал, сам явно насмерть перепуганный происходящим.
— Мы в министерство обороны! — небрежно бросил Кастельяно. Это прозвучало как пароль. Он обернулся к Фрэнку: — Быстрее! На всякий случай давай-ка держаться поближе к домам.
Через несколько минут они сидели в просторной, обшитой мореным дубом приемной адмирала Карвахаля.
— Дойдет очередь и до нас, — вполголоса проговорил полковник, когда адъютант, черноусый красавчик в безукоризненно отутюженной морской форме, в очередной раз отправился с докладом.
— А зачем, собственно, ты привел меня к адмиралу? — О’Тул недовольно передернул плечами. Ему порядком надоело затянувшееся ожидание. — Ведь мне нужна информация о том, что творится в Сантьяго. Военных кораблей у дворца «Ла Монеда» я что-то не видел...
— Карвахаль здесь, в министерстве обороны, координирует по поручению хунты действия восставших. Сами члены хунты в других районах столицы. Я представлю тебя адмиралу. Надеюсь, он позволит наблюдать за штурмом «Ла Монеды» из здания министерства — прямо из нашего центра связи.
— Кстати, кто входит в хунту? — Фрэнк вытащил из кофра диктофон.
— Спрячь эту штуку обратно. Вот так-то лучше. А теперь слушай. От сухопутных войск — генерал Пиночет. От флота — адмирал Мерино, он сейчас не в Сантьяго, а в Вальпараисо. От ВВС — генерал Ли и от карабинеров — генерал Мендоса.
— Почему Мендоса? Он же не командует жандармерией?
Кастельяно чуть помедлил с ответом:
— Три старших начальника корпуса карабинеров отказались присоединиться к восстанию. Пришлось их арестовать.
В этот момент дверь кабинета распахнулась, и адъютант, обращаясь к ним с порога, отчеканил:
— Адмирал ждет вас, сеньоры! В вашем распоряжении десять минут. Ровно десять.
Патрисио Карвахаль — ладный, седовласый, с лицом ухоженным, но усталым — склонился над огромным заваленным бумагами столом. Перед ним была расстелена подробная карта города. Услышав шаги, он выпрямился. Жестом пригласил сесть. Кисть его руки была под стать лицу, породистая, узкая, с тонкими нервными пальцами. Флотские офицеры, как правило, набирались из «лучших семей» страны.
— Мой адмирал, разрешите представить вам Фрэнсиса О’Тула, известного журналиста. Он канадец, однако пишет не только для своих канадских изданий, но и для американской газеты «Лос-Анджелес таймс». В свое время его рекомендовал мне Джеймс Драйвуд. Так что, как понимаете, ему можно доверять полностью.
При упоминании имени Драйвуда адмирал, слушавший полковника вежливо и чуть рассеянно, впервые с интересом поглядел на Фрэнка.
— Продолжайте!
— Сеньор О’Тул с марта нынешнего года собирает материалы для книги о кознях красных в нашей республике. Ему известны многие детали плана «Зет».
И снова блекло-серые глаза хозяина кабинета на мгновение задержались на непроницаемом лице журналиста. На губах адмирала мелькнуло и тут же погасло некое подобие улыбки.
— Ваше превосходительство, — перехватил инициативу О’Тул, — я понимаю, что вы очень заняты, но мне нужно знать подробности сегодняшней акции вооруженных сил.
— Хорошо. Только учтите, все, что я расскажу, пока не для печати. Вот в книге своей вы сможете это использовать.
Рассказ адмирала был сух, деловит, по-военному четок. В 5.00 по местному времени на периферии армия приступила к захвату всех стратегически важных объектов. От успеха этих действий во многом зависело начало восстания гарнизона в Сантьяго. Члены тайно сформированной накануне — 10 сентября — хунты поддерживали постоянную связь по радио с морской пехотой в Вальпараисо и Талькауано, с боевыми кораблями, курсировавшими вдоль побережья, с военно-воздушными базами в Сьерро-Морене, Кинтеро, Эль-Боске, Серрильосе и Пуэрто-Монте, с батальоном «черных беретов» в Пельдеуэ. В эту систему связи были включены подразделения 1-й и 6-й дивизий, дислоцировавшихся на крайнем севере страны, 3-я, 4-я и 5-я дивизии в районе между крайним югом и Консепсьоном. К восьми утра стало ясно, что обстановка во всех провинциях Чили складывается благоприятно. Поэтому столичный гарнизон, как и намечалось, выступил в 8.30.
— Дальнейшее развитие событий? — Патрисио Карвахаль поднялся и подошел к окну, откуда был виден расположенный напротив дворец «Ла Монеда». — Альенде предъявлен ультиматум. Мы ждем ответа. На этом все, господа. Извините. Полковник, проводите нашего друга в центр связи.
В коридоре, плотно прикрыв за собой дверь приемной, Эстебан Кастельяно потрепал О’Тула по плечу:
— Ну как? Доволен? Готовь ящик виски!
О’Тул достал из пачки сигарету — первую в это суматошное утро. Щелкнул зажигалкой и сразу же загасил пламя: он увидел, как прямо на них вынырнул из-за угла Дик Маккензи, высокий широкоплечий янки с квадратной челюстью и непроницаемо-чугунными глазами.
— Рад вас видеть, друзья, в это утро.
Стареющий супермен на секунду замедлил шаг. Удивился или растерялся?
Его широченная ладонь крепко сжала руку Фрэнка.
— Тебе опять повезло, Счастливчик! В самой гуще событий. Присутствуешь на похоронах плана «Зет»? Да, ничего не вышло у комми. Между прочим, тебе, Фрэнк, привет от мистера Драйвуда — встречались с ним в конце августа в Вашингтоне... Ладно, мне нужно бежать.
В центре связи, куда полковник препроводил О’Тула, стоял невообразимый шум. Дробь морзянки. Стук телетайпов. Трели телефонных звонков. Охрипшие голоса.
— Оставляю тебя на попечение капитана Гальярдо, — откланялся Эстебан Кастельяно.
По выражению лица Гальярдо было заметно, что он не в восторге от полученного приказа («Вечно эти штатские путаются под ногами в самое неподходящее время»). Досадливо поморщившись, офицер сунул Фрэнку листок с текстом, отпечатанным на ротаторе.
— Познакомьтесь для начала с коммюнике командования вооруженных сил.
«...Мы едины в своей решимости взять на себя ответственную историческую миссию и развернуть борьбу за освобождение отечества от марксистского ига, за восстановление порядка и конституционного правления. Печать, радио и телевидение, связанные с Народным единством, должны немедленно прекратить свою деятельность. В противном случае эти органы информации будут подавлены силой. Населению — оставаться в своих домах. Вводится осадное положение».
С улицы послышались выстрелы.
Из зала, где размещался центр связи, открывался вид на президентский дворец, к которому короткими перебежками, под прикрытием пулеметов, продвигались солдаты — их было около двухсот. Открыли ответный огонь и защитники «Ла Монеды», поддержанные «франко-тирадорес» — снайперами, укрывшимися на крышах соседних зданий. Глухо рявкнули орудия путчистов. Неуверенно тронулись с места танки — и застыли, когда одна из машин, подбитая прямым попаданием из базуки, вспыхнула. Атака захлебнулась.
— Сколько же их там, во дворце? — поинтересовался Фрэнк.
— Не знаю... Вроде бы не больше сорока, — процедил капитан Гальярдо.
В комнату стремительно вошел Патрисио Карвахаль.
Бледное лицо его покрылось пятнами. Адмирал схватил трубку аппарата прямой связи с президентом республики:
— Сеньор Альенде? Даем вам на размышление еще двадцать минут. Повторяю наши условия: в случае добровольной сдачи мы предоставим вам самолет, на котором вы сможете покинуть пределы Чили с вашей семьей и ближайшими сотрудниками... Что-о-о? — лицо Карвахаля вытянулось и побагровело, словно от пощечины. Ни на кого не глядя, он вышел из комнаты.
После полудня, когда истек срок очередного ультиматума, «Ла Монеда» был подвергнут бомбардировке с воздуха. Президентская резиденция загорелась.
И тогда начался штурм.
Через арку главного входа два танка, стреляя на ходу, вломились во дворцовый «патио» — внутренний дворик. За ними ворвались солдаты-пехотинцы, которыми командовал генерал Паласиос.
Когда все кончилось, Фрэнк вернулся в отель.
Попробовал с ходу приготовить репортаж об этом бесконечно долгом, сумасшедшем дне. Репортаж впрок — на тот момент, когда возобновится связь со Штатами.
Но дальше первой фразы дело не пошло.
Попробовал дозвониться к Глории — долгие гудки в ответ.
Тогда он запер дверь на ключ и достал толстую черную тетрадь, сплошь исписанную мелким почерком. Он решил занять себя, отвлечь от сегодняшнего дня просмотром набросков к книге.
Перелистывая страницы, О’Тул шаг за шагом восстанавливал в памяти события недавнего прошлого.
Из воспоминаний О’Тула
ОТТАВА — ТОРОНТО. МАРТ
С чего же все началось для меня? Пожалуй, с той субботней вечеринки у Леспер-Медоков в Оттаве, в марте 1973 года. Я пришел, когда веселье было в разгаре. Оглушительно ревела включенная на полную мощность стереосистема «Ревокс» — гордость Жака, хозяина дома. Сам он в такт музыке встряхивал миксер, колдуя над приготовлением убийственного коктейля, «рецепт которого, мадам, месье, мадемуазель, не известен ни одному бармену Западного полушария». Люси уже хлебнула дозу этого зелья — захмелевшая, с распущенными волосами, она не обращала на мужа ни малейшего внимания и откровенно прижималась в танце к длинноволосому юнцу в джинсовом костюме. На полу, возле дорогой вазы с искусственными нарциссами, сидела молодая равнодушная парочка. Сладковатый дымок шел от сигареты, которую они после каждой долгой затяжки передавали друг другу: эти всем прочим мирским утехам предпочитали марихуану. Два знакомых мне по пресс-клубу газетчика — Билл и Пьер, — стараясь перекричать магнитофон, спорили по поводу нашумевшего выступления премьер-министра в палате общин. («Трюдо тысячу раз прав! Мы, канадцы, конечно же политически ближе к Европе, чем к Соединенным Штатам».) Их смиренные жены, потягивая пиво, скучно жевали сэндвичи. У книжных полок рассматривал названия на корешках представительный джентльмен, одетый строго и со вкусом. Широкобортный, отливающий сталью костюм. Тонкая сорочка в полоску. Галстук от «Шанель». Башмаки на платформе... У Жака Леспер-Медока, аккредитованного в столице дипломатического обозревателя «Ля пресс», публика собиралась всегда на редкость разношерстная.
— О’Тул, тебе не надоело торчать в дверях? — окликнул меня Жак, не прерывая манипуляций с миксером.
Люси нехотя отлепилась от джинсового мальчика и подставила щеку для поцелуя:
— Присоединяйся к нам, Счастливчик! Идем, я представлю тебя.
Оказалось, что респектабельный господин — американец, и не кто иной, как член совета директоров ИТТ — крупнейшей компании связи «Интернэйшнл телефон энд телеграф». Звали его Джеймс Драйвуд.
— Судя по разгоревшейся здесь жаркой дискуссии, в Канаде стало хорошим тоном пинать доброго дядюшку Сэма и винить его во всех смертных грехах? — тонкие бесцветные губы Драйвуда растянулись в вежливой улыбке. — Вы тоже, господин О’Тул, ярый противник континентализма?
— Да что вы, Джеймс! Наш Фрэнк больший роялист, чем сама королева английская, не говоря уж о принце Уэльском, — рассмеялся Жак. — Для него даже некоторые из наших консерваторов — «розовые», а уж про либералов и говорить нечего — «агенты мирового коммунизма». При слове «национализация» О’Тула бросает в дрожь. Его статья «Чилийская трагедия» — о реформах Альенде — вызвала большой шум.
— Читал ее и не могу не согласиться с выводами автора, — сухо заметил Драйвуд, пригубив пиво.
— Тогда вы просто в восторг прилете от того, как Фрэнк разделал под орех книгу профессора Уорнока «Партнер Бегемота», — невозмутимо продолжал хозяин дома.
— Ты славный парень, Счастливчик, и честный журналист, — включился в разговор Билл. — Но, — он покачал головой, — абсолютный слепец. Как же ты не понимаешь, что Штаты — это поистине Бегемот. Жить рядом с таким соседом — рискованно: того и гляди, придавит. Джон Уорнок прав тут на сто процентов. И учти, его исследование основано на документах.
— Ваш уважаемый профессор из Саскатунского университета в своем «Бегемоте» чересчур вольно обращается с фактами, — отмахнулся я. Спорить всерьез не хотелось. Пусть без меня догладывают кость, брошенную Жаком. Непонятный все-таки человек Леспер-Медок. Якшается с хиппи и леваками. Таскает красотку жену на все приемы в социалистические посольства. А статьи пишет в общем-то вполне лояльные. И что ему вздумалось изображать меня перед Драйвудом чуть ли не правоверным бэрчистом? Я традиционалист — не более того.
Билл не унимался. Снял с полки томик в серебристой обложке:
— Послушайте, что утверждает Уорнок. «На Западе десятилетиями твердят о необходимости крестового похода в защиту пресловутого «свободного мира». А что он, этот мир, означает на самом деле? Если внимательно приглядеться к партнерам США по различным военным блокам, то их, при всем желании, нельзя отнести к демократическим режимам. В странах, которые именуются «свободными», на самом деле правят фашистские диктатуры. Испания, Тайвань. В Латинской Америке Вашингтон откровенно поддерживает правые военные хунты». Так на кого же идут походом «крестоносцы»? — продолжал он. — На чилийцев из Народного единства, к примеру. Законодатели с Капитолийского холма, мистер Драйвуд, отказывают им сейчас в традиционных кредитах...
— Отчего же, — сказал американец, — чилийская армия недавно получила несколько миллионов долларов на перевооружение.
— Вот-вот, армия! А на развитие экономики — ни цента.
— Вы бы иначе судили о правительстве Народного единства, если бы знали Чили получше. Я там бывал не раз по делам фирмы, — жестоко возразил Драйвуд. И повернулся ко мне: — Говорят, вам, как и Жаку, вскоре предстоит поездка в Латинскую Америку? Возможно, встретимся где-нибудь к югу от Рио-Гранде.
— У меня в кармане билет до Сантьяго. Лечу в следующий вторник... Кстати, где в городе лучше остановиться?
— Рекомендую «Каррера-Хилтон». В самом центре. Полный комфорт. И отличная кухня.
— То, что мне надо. Позже осмотрюсь и, наверное, сниму под корпункт особнячок в предместье. В отличие от Жака я собираюсь надолго. Обоснуюсь в Сантьяго-де-Чили и стану потом наезжать в другие страны континента. Так что, вполне вероятно, увидимся в одной из латиноамериканских столиц...
— Да уж ясно, что не в Сантьяго, — хохотнул коротышка Жак, разливая по рюмкам свою гремучую смесь. — Теперь, после национализации ИТТ, Джеймсу там делать нечего.
Расходились далеко за полночь. Прощаясь со мной, Драйвуд предложил в воскресенье поужинать вместе в «Риверсайд стейк-хаусе». Я принял приглашение.
В условленный час мы сидели в углу почти пустого зала. Над столиками мерцали большие золотистые шары, не нарушая интимности полумрака. Приглушенная музыка не мешала беседе.
— Мне по душе ваш образ мыслей, О’Тул. Думаю, у вас получится хорошая, нужная книга о Латинской Америке. Вы ведь обязательно будете ее писать?
— Пока я знаю одно — для начала я намерен собирать материал о Чили...
— А есть издательство, которое заинтересуется этой темой? — Драйвуд попробовал из глиняного горшочка луковый суп и блаженно сощурился. — Фрэнк! — Он впервые назвал меня по имени. — Я связан с самыми различными деловыми кругами в вашей стране, в том числе и с людьми из книжного бизнеса. Если хотите, я сегодня же позвоню в Торонто и предупрежу директора компании «Люис и сын», что вы к нему заглянете... О, у этого португальского вина весьма приятный букет...
Мы просидели в «Риверсайд стейк-хаусе» около трех часов.
Разговор вновь и вновь возвращался к Чили. Джеймс рассказывал интереснейшие вещи. Он уверял, что правительство Народного единства готовит оппозиционерам варфоломеевскую ночь. Разработан детальный план под кодовым названием «Зет».
— Распутать этот клубок, предать гласности опасный замысел марксистов — увлекательная задача для журналиста, не правда ли, Фрэнк?
Тут же, в ресторане, Драйвуд написал несколько рекомендательных писем своим друзьям в Сантьяго.
В понедельник, после полудня, я выехал в Торонто. Нужно было зайти в издательство «Люис и сын» (чем черт не шутит, вдруг Драйвуд и впрямь договорился насчет книги?). Вернуть «бьюик» в компанию по прокату автомобилей. Да и лететь в Чили удобнее оттуда, поскольку из Оттавы нет прямых международных рейсов.
Сквозь унылый мартовский снегопад машина мчалась по дороге № 401 — восьмирядному бетонированному шоссе. Я мог бы сделать крюк — время позволяло — и. заглянуть в мой родной городок Альмонте. Но к чему понапрасну травить душу? Как хорошо, что подвернулась возможность сменить обстановку: может, там, в далеком экзотическом Сантьяго, кончится полоса затяжного душевного безвременья и опять пойдет настоящая жизнь?
Драйвуд оказался человеком слова. В издательстве меня уже ждали. Сэмьюэл Люис был сама любезность и даже предложил аванс — две тысячи долларов.
Я чувствовал себя превосходно, когда устраивался в салоне первого класса «Боинга-707». Заученная улыбка тоненькой большеглазой стюардессы показалась естественной и адресованной только мне. Джин, который она предложила, остро пахну́л можжевельником, беззаботными каникулами в Альмонте. В старом, милом Альмонте, где на запущенном кладбище — могилы моих предков, первых поселенцев; где тринадцать лет мы с Кэтрин жили, как мне думалось, в мире и согласии; где родился сын — я не видел его два года; где таким же холодным мартовским днем я остался совсем один. Кэтрин собрала вещи, бросила их в наш старенький «шевроле» и укатила в Ванкувер, к Тихому океану. («Прости, Фрэнк, — сказала она на прощание. — Мне нужна семья, отец мальчишке, муж, в конце концов... Ненавижу твои газеты, бестолковую, бесплодную суету, которой ты живешь, твоих подонков дружков, торгующих журналистской совестью оптом и в розницу, вроде этого скользкого Леспер-Медока с его потаскухой женой. Все одним миром мазаны, одному богу служите...») Говорят, у нее роман с каким-то невзрачным учителишкой...
А «Боинг» уже завершал прощальный круг над Торонто. Внизу несуразно топорщились небоскребы торговой части города — даунтауна. В льстивом свете прожекторов красовалось новое здание мэрии. За кромкой огней прибрежного шоссе угадывалась свинцовая тяжесть холодных волн озера Онтарио.
11 сентября, 16 часов 30 минут
САНТЬЯГО. В ЧИЛИ СОВЕРШЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, ВЛАСТЬ НАХОДИТСЯ В РУКАХ ВОЕННОЙ ХУНТЫ, ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ «ЛА МОНЕДА» ВЗЯТ ШТУРМОМ. УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НАХОДИВШИЙСЯ ТАМ САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ. В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СТОЛИЦЫ СТОРОННИКИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОКАЗЫВАЮТ ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АРМИИ И КАРАБИНЕРАМ.
Откуда-то с предгорий Анд порывистый ветер гнал пепельно-серые тучи. Смешиваясь с дымом и гарью пожарищ, они тяжело нависали над вымершими улицами. День угасал в раскатах весеннего грома, в тревожных отзвуках отдаленной канонады.
Связь с внешним миром все еще была прервана, но в оффисе отеля за столом управляющего уже по-хозяйски расположился военный цензор. Тупо таращась на копии телеграмм, подготовленных иностранными журналистами к отправке, он с трудом продирался сквозь частокол слов. Одни сообщения браковал, другие — бесцеремонно правил жирным черным фломастером, на третьих просто расписывался («Это годится. То, что надо»). По распоряжению хунты в «Каррера-Хилтон» открыли «пресс-центр», поскольку именно здесь чаще всего останавливались иностранные корреспонденты.
Подошла очередь Фрэнка:
— Текст я предварительно оговорил с генералом Паласиосом.
Офицер на мгновение задержался на словах «...утверждают, что... Сальвадор Альенде покончил жизнь самоубийством». Потянулся было к телефону, но передумал. И решительно поставил визу.
— Обязательно приходите сюда завтра, мистер О’Тул. Все представители прессы должны аккредитоваться при новом правительстве.
Завизировав у цензора свою корреспонденцию, Фрэнк добрых полчаса висел на телефоне, пытаясь дозвониться до Глории. Но в ответ слышались лишь долгие гудки.
Глория в это время была в Техническом университете.
Студенты превратили главный корпус, расположенный на улице Экуадор, в импровизированную крепость, забаррикадировав двери и окна первого этажа всем, что попалось под руку, — столами, диванами, пюпитрами, шкафами. Винтовочными и револьверными выстрелами они встречали каждую попытку солдат прорваться к зданию.
Глория Рамирес сбилась с ног, делая перевязки раненым. Пригодился ее опыт работы медсестрой в Чильяне, где она жила до поступления в университет и где ее отец, старый опытный врач, имел обширную практику в кварталах городской бедноты. Дон Анибаль не захотел расстаться с дочерью, к которой еще больше привязался после смерти жены. И они вместе перебрались в столицу, сняли крохотную квартирку в предместье Сан-Мигель.
— Компаньера Рамирес! Компаньера Рамирес! — окликнул девушку широкоплечий гигант с мягкой русой бородой. — Забинтуй руку. Царапнуло.
— Садись сюда. — Глория придвинула стул. — А то мне, Луис, до тебя не дотянуться.
Она склонилась над раненым. Ее длинные иссиня-черные волосы были туго стянуты широкой красной лентой. Малиновая строгая блуза — нечто вроде формы чилийских комсомолок — в пятнах спекшейся крови. Луису эта миниатюрная девушка неожиданно напомнила героическую парижанку на баррикадах с картины Делакруа.
— До чего ты хороша, — улыбнулся парень и тут же сморщился от боли.
— Нашел время для комплиментов.
— Да, дела наши не блестящи, но, позволю себе заметить, сеньорита коммунистка, все могло бы сложиться иначе, если бы слушали нас, мировцев. Мы не раз призывали Альенде и его Народное единство перестрелять всю эту контрреволюционную сволочь. Пустили бы в расход тысяч двадцать — некому и переворот делать.
Глория нахмурилась: не впервые приходилось ей слышать подобные рассуждения от членов МИР — ультралевой организации, не входившей в блок Народного единства.
— Молчи уж, Луис. Такие, как ты, и лили воду на мельницу правых. Да, да! Я знаю, многие из вас действовали из лучших побуждений, но объективно — понимаешь ты, объективно! — леваки помогали реакции унавоживать почву для путча.
Тишину недолгой передышки располосовала длинная очередь тяжелого пулемета: три паренька в рабочих комбинезонах и беретах, выскочив из переулка, стремглав бросились к боковому входу университетского корпуса. У каждого на шее висел автомат, у пояса — запасные диски.
Возле уже приоткрытой двери один из них споткнулся, вздрогнул и стал медленно оседать на асфальт. Товарищи подхватили его и на руках внесли в дом. Подоспевшая Глория занялась перевязкой.
— Откуда вы, ребята? — Студенты обступили вошедших.
— С текстильной фабрики «Сумар».
— Как там?
— Бились до последнего. Сейчас все кончено. Солдаты заняли цеха. Тех, кого им удалось схватить, расстреливают на месте. Мы еле ушли... У кого найдется закурить?
Глория достала из кармана блузки мятую пачку и протянула сигареты, вглядываясь в покрытое копотью горбоносое лицо юноши:
— Хуан? Ты?
Она узнала своего товарища-комсомольца, механика с фабрики «Сумар», который вечерами занимался на рабфаке Технического университета.
— Привет, Глория! — устало отозвался Хуан. — Гарсиа здесь? По всему городу идут облавы. Составлены черные списки.
— Здесь, здесь, наверху. Пойдем.
Коммунист Фернандо Гарсиа, молодой профессор математики, по поручению ЦК курировал работу комсомольцев Сантьяго. Они нашли его на третьем этаже перезаряжающим винтовку. Рядом, у распахнутого окна, примостились еще два снайпера. На полу валялись стреляные гильзы.
Хуан рассказал товарищам о кровавых событиях на «Сумаре», о повальных арестах активистов Народного единства.
— Странная история, кстати. На улице Бенедикта XV мы чуть не напоролись на патруль. Спрятались в кустах, церковного сада. Когда карабинеры поравнялись с нами, я увидел среди них Марка Шефнера. Ну, этого — левака из «Мансли ревью», который вечно путался с мировцами...
— Сцапали его? — подал голос кто-то из снайперов, не отрываясь от оптического прицела.
— Да нет! Шел с офицером, покуривая сигару. Дружески болтал с ним. Посмеивался.
Глория вспомнила разговор с раненым мировцем. Конечно, среди леваков немало честных людей. Тот же Луис, к примеру. Но — боже мой! — сколько разных темных личностей постоянно вьется среди них...
— Фернандо, давай к нам! — позвали снайперы. — Начинается.
Мятежники под прикрытием пулемета выкатывали противотанковую пушку. Гарсиа вскинул винтовку. Сухой щелчок выстрела — наводчик упал. Его место тут же занял другой солдат. Раздался противный ноющий звук выпущенного снаряда. С потолка посыпалась штукатурка. На перекрестке установили еще два орудия — они били прямой наводкой. Здание сотрясалось. Замертво падали на бетонный пол молодые защитники университета. Стонали раненые. Но неравный бой продолжался.
Ровно в три наступило затишье.
Офицер прокричал в мегафон:
— Сопротивление бесполезно! Расходитесь по домам — никто не будет задержан. По приказу правящей хунты комендантский час в городе временно — до 18.00 — отменяется.
— Хуанито! Глория! На одну минуту. — Гарсиа вместе с комсомольцами вышел из аудитории в темный коридор. — Оружие мы не сложим, но долго нам не продержаться. Надо узнать, можно ли рассчитывать на помощь. Вы оба сейчас постараетесь выбраться отсюда. Сначала ты, Хуанито. Автомат и патроны, разумеется, оставишь здесь. Потом пойдет Глория. Только блузу хорошо бы сменить. На-ка мой джемпер, он тебе подойдет... Сверху накинь плащ.
— Я останусь здесь, — отрезала Глория.
— Не горячись! Это — задание, и притом опасное. Вы оба знаете в лицо членов горкома партии, знаете, где они живут. Разыщите кого-нибудь, доложите об обстановке в университете... Действуйте, пока мы не окружены со всех сторон.
Гарсиа обнял Хуана, расцеловал Глорию.
Они уходили с тяжелым сердцем, хотя в тот момент не могли и предположить, что больше никогда не увидят ни профессора, ни своих товарищей. После того как студенческий бастион падет, путчисты перебьют всех его защитников. В коридорах, аудиториях, на лестницах останутся сотни трупов.
Из воспоминаний О’Тула
САНТЬЯГО. МАРТ — АПРЕЛЬ
Март — самый разгар жары в этой стране сумасшедшей географии. Я совсем не вспоминал о холодной, заснеженной Канаде. Под прессом новых впечатлений прошлое сжалось, и я с облегчением забросил его на дальнюю полку в архиве памяти. Работа съедала все время, поэтому мне некогда было поискать особняк под корпункт. Да, в общем, и не было особой необходимости спешить — для одинокого корреспондента «Каррера-Хилтон» был вполне удобен.
Отшумевшие парламентские выборы ошеломили меня. Я никак не ожидал, что партиям Народного единства удастся укрепить свои позиции в Национальном конгрессе. Несмотря на лишения, явные экономические трудности, люди шли за Альенде, верили в него.
Выборы долго еще оставались темой бесконечных пересудов в «светских салонах» Сантьяго. О тональности этих пересудов дает некоторое представление следующий записанный мною разговор в доме сенатора Антонио де Леон-и-Гонзага.
— Получи оппозиция две трети депутатских мест, мы бы отстранили Альенде от власти на законных основаниях и песенка красных была бы спета. А теперь... — сенатор потянулся было к карточной колоде, но вместо того, чтобы взять ее, хлопнул ладонью по ломберному столику, — теперь с конституционными методами борьбы пора проститься...
— И это говоришь ты, папа, ты — христианский демократ! — голос молоденького лейтенанта зазвенел от возмущения. — Не думал, что в нашем доме услышу призыв к свержению избранного народом правительства.
— Милый Томас, — с ленцой протянул полковник Кастельяно, старый друг сенатора, — если мы не разорвем конституцию, это сделает сам Альенде. «Эль пресиденте марксиста» у себя на заднем дворе давно уже вынашивает заговор и против всех демократических институтов, и против армии...
— Чилийская армия традиционно нейтральна, не мне вам напоминать, полковник.
Кастельяно, поигрывая покерными фишками, насмешливо фыркнул.
Мы сидели на просторной, увитой плющом террасе белостенной виллы. Английский газон оттенял кобальтовую синь бассейна причудливой асимметричной формы. Аккуратная, выложенная песчаником дорожка, петляя, вела к розарию и дальше — к теннисному корту. В густом ароматном зное летнего дня плыл мелодичный стрекот цикад.
Сколько уже взрывных речей я наслушался в особняках вроде этого! При мне говорили откровенно: срабатывали рекомендательные письма Джеймса Драйвуда, к которому, как я заметил, его чилийские друзья относились с превеликим почтением. В разговорах порой касались и плана «Зет», но, как я ни бился, ничего конкретного о заговоре красных узнать не мог.
Вытянуть что-либо у левых тоже не удавалось. Дружеских связей в их среде у меня не было.
Завязать полезные знакомства помог случай. И снова связанный с Леспер-Медоком. Жак, осевший в Сантьяго после мартовских выборов — по заданию своей редакции он раскручивал сенсационную историю о том, что будто высоко в Андах, в «специальных лагерях», квебекские сепаратисты проходят боевую выучку, — так вот неуемный Жак (без Люси он словно с цепи сорвался) снял бунгало на берегу океана — для шумных попоек. Он много раз звал меня «провести вечерок на живописном мысу Топокальма». Все было недосуг. Наконец, я выбрался туда — и не пожалел.
Компания у Леспер-Медока собралась, как всегда, пестрая, гомонливая. Человек двадцать.
Немытые, хипповатые юнцы и девицы. В основном мировцы.
Долговязый нескладный Марк Шефнер (из журнала «Мансли ревью») ссутулился над изящной длинноногой брюнеткой в простеньком платьице, которая слушала его с терпеливой отчужденностью.
На нее нельзя было не обратить внимание — до такой степени эта строгая молодая женщина не вписывалась в незатейливый калейдоскоп расхристанных гостей Леспер-Медока. Высокий чистый лоб, смелый разлет бровей над задумчиво-ироничными зелеными глазами, правильной формы чуть вздернутый нос, по-детски пухлые неподкрашенные губы, шелковистая нежность загара. Я прислушался к их разговору.
— Традиционные левые силы не способны ответить на вызов реакции, — безапелляционно вещал Шефнер.
— Под традиционными левыми ты, конечно, подразумеваешь нас — коммунистов?
— И вас, и социалистов тоже. Только МИР несет в себе подлинный заряд революционности. И с реформистами ему не по пути.
— Ты прав, Марк, — поддержал я американца. Тот был слегка ошарашен. И фамильярностью (мы ведь едва знакомы), и неожиданной радикальностью респектабельного буржуазного журналиста.
Но я не дал ему опомниться:
— Старик! Представь меня нашей очаровательной оппонентке.
— Глория Рамирес.
— Очень приятно, сеньорита. Фрэнсис О’Тул. (Сухость ее тона меня нимало не обескуражила.) Позвольте заметить: старомодность во взглядах в ваши лета алогична, противоестественна (я сознательно эпатировал девушку) и не идет к прекрасным глазам. У меня в отеле, между прочим, завалялась последняя книжка Маркузе. Хотите, дам почитать?
Терпение девушки иссякло:
— Здесь собрались, как я погляжу, единомышленники. Вы без меня прекрасно обойдетесь, господа.
Глория ушла в сад.
С полчаса я толкался в толпе леваков, разгоряченных смелостью собственных суждений и дефицитным американским виски. Усердно поддакивал самым абсурдным высказываниям. Раздавал направо и налево визитные карточки. Записывал телефоны новых друзей, уславливался о встречах. Порой я ловил на себе внимательный взгляд-Жака. Наконец он не вытерпел:
— Работаешь, Счастливчик? — и понимающе подмигнул.
Баста! На сегодня хватит! Я вышел из бунгало к своей машине. В небе горели крупные, как на рождественской елке, звезды, увенчанные Южным Крестом, С океана докатывался глухой рокот прибоя. Пряно пахли араукарии.
— Простите, О’Тул, вы не в Сантьяго? — Я узнал голос Глории. Она появилась из темноты сада.
— Да, сеньорита.
— Я с вами, если не возражаете.
— Ну что вы, сеньорита. Почту за счастье.
Я включил зажигание, дал полный газ и рывком вывел юркую «тойоту» на дорогу. Коснувшись сухого асфальта, колеса несколько раз провернулись с резким визгом (Кэт в таких случаях обычно ворчала: «Дожил до седых волос в бороде, а все ведешь себя, как мальчишка»). Долго ехали молча. Молча проскочили мост через реку Рапель. Компаньера Рамирес не выказывала никакого желания общаться с нахрапистым и развязным иностранцем, кокетливо щеголяющим левой фразой. Мне стало совестно:
— Я должен извиниться, Глория, за свое фиглярство. Сам не знаю, что вдруг на меня нашло.
Пролетарская мадонна милостиво улыбнулась и попросила сигарету. Это уже было похоже на перемирие, хоть и вооруженное. Я попытался расшевелить ее. Заговорил о Канаде. О скованных льдами зимних озерах, о белом безмолвии Арктики, о неоглядных прериях и непроходимых лесах, об огненных всполохах кленов «индейского лета». О печальной участи загнанных в резервации потомков Монтигомо Ястребиного Когтя.
— Резерваций в Чили нет, — краем глаза я заметил, что Глория повернулась ко мне, — но во всем остальном — до недавнего времени — нашим индейцам приходилось не легче, чем вашим.
В 1970 году с группой журналистов я был привлечен к работе над докладом парламентской комиссии, занимавшейся расследованием положения коренных обитателей Канады, потом даже выпустил брошюрку «Автономия или ассимиляция? Два взгляда на одну проблему». Так что тему знал, прекрасно ориентировался в ее хитросплетениях и потому в разговоре с Глорией мог, не кривя душой, осудить политику «бледнолицых» по отношению к индейцам, где бы в Западном полушарии они ни жили.
Глория с интересом и, похоже, с симпатией выслушала меня, а потом заметила:
— Эта проблема — что лучше для индейцев, ассимиляция или автономия — чилийцам тоже знакома. Некоторые из наших ученых отстаивают идею создания автономных индейских республик. Но не все разделяют эту точку зрения. Есть у меня в Техническом университете знакомый индеец-мапуче. Хуан, как и я, член комсомола. Судьба его народа ему, разумеется, не безразлична: он ревностный сторонник сохранения национальной самобытности индейцев, их культуры, традиций, языка. Однако решение вопроса ему видится не в организации замкнутой общины аборигенов, а в обеспечении им таких условий, которые позволят индейцам стать не на словах, а на деле равноправными гражданами республики. Этим сейчас и занимается правительство Народного единства. Хотите, я познакомлю вас с Хуаном Амангуа?
«Ох уж мне эти милые партийные пропагандистки! Говорит, как пишет». А вслух я произнес:
— Конечно, буду рад. Равно как и новой возможности встретиться с вами и поговорить обстоятельнее. Признаться, я слабо разбираюсь в оттенках левой политической палитры.
— Вот как? — удивилась Глория. — Обычно люди вроде вас и Шефнера большие доки по этой части.
— Боюсь, вы составили обо мне превратное представление. Я связан с консервативными, выражаясь вашим языком, буржуазными изданиями.
— Значит, интерес к левым у вас чисто профессиональный?
— Отнюдь. Разве буржуазный журналист не может симпатизировать справедливому делу? Вспомните испанские репортажи Хемингуэя... Или, на худой конец, — я хмыкнул, — некоторые корреспонденции вашего дружка Леспер-Медока...
— Дружка? — Глория пожала плечами. — До сегодняшнего вечера я и встречала Жака всего дважды. Он брал у меня интервью. Зазвал на этот дурацкий уик-энд: говорил, что будут интересные люди, а собрались какие-то умничающие позеры и бахвалы...
— К ним вы, естественно, относите и меня, — поддразнил я девушку.
— Ну, отчего же! — ее голос был мягок и дружелюбен.
Дорога кружилась в звездной осыпи ночи. Разлапистые деревья серебрились в лунном свете. Подмаргивали фары встречных машин.
Смутные чувства оставила эта первая встреча с Глорией. Мучило, что и с этой сразу понравившейся девушкой во имя проклятой работы, во имя задуманной книги приходилось лицедействовать, играть роль человека пусть не самых крайних, но все же радикальных взглядов. Вынужденное притворство оставляло неприятный осадок.
При встречах я рассказывал Глории о своих журналистских шатаниях по белу свету, о передрягах, в которые попадал в погоне за сенсационным материалом. Попадал — и с честью вновь выкарабкивался из самых запутанных и опасных ситуаций, чем и заслужил у своих коллег репутацию счастливчика. Рассказы об этих лихих похождениях вроде бы впечатляли мою внимательную слушательницу.
Мы виделись все чаще.
Постепенно я входил в круг ее товарищей.
В начале апреля комсомольцы удостоили меня «высокой чести» — взяли с собой в агитационную поездку в захваченное мировцами небольшое поместье «Сельва верде», неподалеку от Сантьяго (вооруженные отряды левых экстремистов в ту пору кое-где прибегали к противозаконной экспроприации земельной собственности, мешая планомерному осуществлению в стране аграрной реформы).
— Стой! Кто такие? — Прислонившись к столбу давно некрашенных ворот, стоял мальчишка в расстегнутой до пояса отстроченной рубашке, в узких кожаных брюках и щегольских полусапожках со шпорами. Он играючи, по-ковбойски, вертел на пальце шестизарядный наган с рукояткой, инкрустированной перламутром. Насмотрелся, бедолага, плохих голливудских вестернов.
— Хота-Хота Се-Се![1] Приехали в гости! Открывай! — спокойно ответила Глория, не снимая рук с руля. «Джип» въехал во двор. Створки ворот за нами захлопнулись.
На потемневших от времени выщербленных ступенях, ведущих к парадному подъезду господского дома, развалились парни, которые при нашем появлении и не подумали сдвинуться с места. Рядом с ними валялись карабины, на крыльце тускло отливал вороненой сталью ручной пулемет.
«Это уже становится интересным», — подумал я.
В проеме одного из служебных строений, беспорядочно громоздившихся в глубине захламленного двора, выросла похожая на вопросительный знак фигура Шефнера. Секунду он всматривался в нас, близоруко щурясь. Потом без особого энтузиазма кивнул и неторопливо зашагал в сторону апельсиновой рощи, сбегавшей вниз по холму.
Комсомольцы спрыгнули на землю возле живописной группы мировцев. Я замешкался в «джипе», прилаживая телеобъектив к одной из двух моих фотокамер.
— Никак пополнение прибыло? Да еще откуда — из Хота-Хота Се-Се! — разлепил губы вислоусый юнец, сдвигая на лоб крохотную соломенную кепочку. — Наконец-то решились помочь братьям по борьбе?
— Решили втолковать вам, что вы делаете непростительные глупости, — осадила его Глория. — Форсирование революционного процесса, перегибы, которые вы постоянно допускаете, на руку врагам народного правительства. Разве не ясно, что это дает им повод заявлять о неспособности властей навести в стране порядок. Вы мутите воду, а рыбку в ней ловят правые.
Дискуссия затягивалась.
Сделав несколько снимков митингующей молодежи, я поплелся осматривать поместье. «Поместье»! Одно только название: с десяток апельсиновых деревьев, маленькое картофельное поле, убогий выгон для скота... Земельные владения таких размеров, как и утверждали комсомольцы, на нынешнем этапе аграрной реформы национализации не подлежали.
Сторонкой миновав заморенного бычка, который, хотя и явно не годился для родео, все же свирепо раздувал ноздри и бодливо поводил рогами, я пошел вдоль изгороди, отделявшей «Сельва верде» от дороги. Там, где она делала поворот, у обочины стоял серенький запыленный «фольксваген». Водитель — с этого расстояния лицо разглядеть было трудно, — открыв дверцу, разговаривал с Марком (его-то и за милю узнаешь!). Машинально я взялся за фотокамеру с телевиком и присвистнул от удивления — приближенная мощным объективом сценка действительно заслуживала внимания: собеседником Шефнера оказался Дик Маккензи. Что может быть общего у троцкиста, «потрясателя основ», с человеком, приметным и популярным в американском сеттльменте в Сантьяго? Я дважды щелкнул затвором аппарата.
С Диком по приезде в Чили мне довелось встретиться всего лишь раз, да и то мимоходом. Но мне он хорошо запомнился, и не только из-за настойчивой рекомендации Драйвуда. Уж больно колоритная личность!
Из поездки в «Сельва верде» вернулись затемно, и я вызвался проводить Глорию до дому. Впервые я увидел эту бедную окраину, совсем несхожую с центром города, веселым, оживленным, залитым огнями разноцветных реклам. Здесь в свете редких фонарей угрюмо кособочились глинобитные хижины вперемежку с перенаселенными «мультифамильярес» — многоквартирными обшарпанными корпусами. Чахлые акации ежились под нудным осенним дождем.
В подъезде висел стойкий запах жареных овощей и рыбы. Слышался приглушенный детский плач. Где-то смеялись. Наверху любитель футбола, врубив приемник на всю катушку, слушал репортаж со стадиона «Насьональ».
— Я не приглашаю вас сегодня, Фрэнсис, поздно уже. И отец чувствует себя неважно.
— Хорошо, Глория. До завтра.
Но на следующий день нам увидеться не удалось. В пять часов позвонил сенаторский сынок Томас де Леон-и-Гонзага и пригласил в офицерскую школу имени Бернардо О’Хиггинса[2], где он преподавал историю военного искусства («Наш маленький Клаузевиц», — подтрунивал над ним папаша).
Крупнейшее в Чили общевойсковое училище раскинулось на обширной территории, занимающей несколько кварталов богатого района Лас-Кондес. На плацу гусиным шагом маршировали кадеты в серо-зеленых мундирах.
Лейтенант де Леон-и-Гонзага как гостеприимный хозяин провел меня на стрельбище, показал казармы, аудитории (он так и сказал — «аудитории», словно был университетским профессором).
— Мы воспитываем курсантов в духе безусловного невмешательства армии в политическую жизнь республики. И это приносит свои плоды, мистер О’Тул. У нас в стране «гориллы» перевелись.
Прекраснодушный Томас искренне верил, в то, что говорил. Впрочем, в те дни я сам был достаточно наивен. И все-таки спросил:
— А ты уверен, что все офицеры разделяют твои взгляды?
— Дорогой Фрэнсис, исключения лишь подтверждают общее правило. Генерал Вио Морамбио, уверяю тебя, исключение.
Мне, конечно, была известна история чилийского ультра, которого правые в Латинской Америке подняли на щит. 21 октября 1969 года бригадный генерал Роберто Вио Морамбио, неделей ранее уволенный в запас за антиправительственную деятельность, возглавил бунт пехотных полков «Юнгай» и «Такна». Мятежники намеревались установить военную диктатуру и сорвать предстоящие всеобщие выборы, которые могли привести — и привели на самом деле — к победе кандидата левых сил Сальвадора Альенде. Поражало, что после крушения их планов заговорщики отделались легким испугом. Разжалованный генерал вскоре вновь всплыл на поверхность и активно включился в политическую борьбу. Он разъезжал по городам и весям, бросая с трибун подстрекательские призывы, красовался на банкетах, которые закатывала в его честь чилийская знать. Откуда-то у Роберто Вио появились деньги. И немалые. Ходили слухи, что он накоротке с крупным разведчиком Верноном Уолтерсом, сделавшим блистательную карьеру на военном перевороте в Бразилии. Позже Вио Морамбио стал душою заговора против Рене Шнейдера, командующего сухопутными силами. Шнейдер погиб, а человек, направлявший руку убийцы, понес смехотворно мягкое наказание.
— Скоро твое «исключение из правила», Томас, выйдет из тюрьмы. Ты не думаешь, что в офицерском корпусе найдутся такие, кто будет рад этому? — поинтересовался я.
Лейтенант развел руками:
— Разве что наш общий знакомый — полковник Кастельяно...
11 сентября, 20 часов 00 минут
САНТЬЯГО. ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗДАЛО ПРИКАЗ, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ВСЕХ МАРКСИСТОВ НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЬСЯ К ВЛАСТЯМ С ПОВИННОЙ. ЛИЦА, УКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ, БУДУТ РАЗЫСКАНЫ И ПОДВЕРГНУТЫ СУРОВОМУ НАКАЗАНИЮ.
— Семнадцать! — Бармен сгреб кости в потертый кожаный стаканчик. — Твоя очередь.
— Семь. Проиграл. — Фрэнк бросил на прилавок десятидолларовую бумажку.
— Не везет вам сегодня.
— Как сказать, Игнасио. Семерка у древних халдеев считалась счастливым числом.
Бармен по-своему истолковал эти слова:
— Довольны, значит, сегодняшним поворотом событий? Ну-ну. Не вы один, сеньор.
За резной деревянной решеткой, отделявшей стойку с высокими вертящимися табуретами от банкетного зала, гуляли «победители». Вырядившиеся в смокинги брыластые господа провинциального вида (из тех, что застряли в Сантьяго в ожидании визы на выезд из страны — «подальше от Народного единства»), их манерные дамы в вечерних платьях. И — напыжившийся пехотный офицеришка, которому в другую пору было бы не по себе в этом светском обществе.
Хлопали пробки, звенели бокалы.
Раскрасневшиеся лица сияли откровенной радостью. Торжеством.
— Пир во время чумы? — Соседний с Фрэнком табурет оседлал Леспер-Медок, изрядно нагрузившийся за день вынужденного заточения в отеле. — Закажем что-нибудь?
— Поднимемся лучше ко мне.
В лифте Жак по-французски буркнул под нос нечто невразумительное.
— Ты о чем?
— О тех ресторанных снобах. — Он перешел на английский. — Фашисты. Законченные фашисты.
О’Тул оглянулся на лифтера. Пожилой мужчина с усталым безразличием горбился у пульта с кнопками, такими же блестящими, как начищенные металлические пуговицы его униформы.
Ворсистый ковер скрадывал шаги в коридоре. Тихо тут было, пусто. А в номер — с распахнутой балконной дверью — по-прежнему долетали пронзительно тревожные звуки глухих одиночных выстрелов.
— Фашисты, говоришь? — Фрэнк налил виски. — Вот уж не ожидал подобной категоричности в суждениях. Ты же не веришь ни в бога, ни в дьявола. И тебе, в сущности, на все наплевать.
— А кому не наплевать? — Жак пригорюнился вполпьяна. — Никто теперь ни во что не верит. А для нас в особенности нет ничего святого: такая уж профессия — «вторая древнейшая». После проституции.
«Все вы одним миром мазаны». О’Тулу вспомнился последний разговор с женой. Но была ли она права?
— И тем не менее ты не утратил способности возмущаться.
— Мы, Фрэнсис, люди конченые, опустошенные. Но и в пустыне попадаются оазисы... А почему, собственно, ты взял со мной этот менторский тон? — взъерошился Леспер-Медок. — Ты сам-то, Счастливчик, разве ты не одному богу молишься — Успеху?
«Счастливчик, которого бросила жена... Жрец ветреной фортуны, уставший от многотрудной погони за удачей...»
— В мои намерения отнюдь не входило тебя обидеть. Выпьем еще?
— Конечно, — усмешливо откликнулся Леспер-Медок, — нельзя же позволить, чтобы зачах оазис в моей душе. — Он был отходчив, маленький Жак.
— Кстати, мне может понадобиться бунгало.
— На, возьми ключ. Поезжай, когда хочешь, Фрэнки. Только вот на субботу я позавчера наприглашал гостей. Да теперь уж, конечно, никто не соберется. Ты-то мои рауты вообще не очень жалуешь.
— Народ у тебя, старик, собирается чересчур разномастный...
— Верно! Разборчивость — не в моих правилах.
— Впрочем, — О’Тул невозмутимо закончил фразу, — по крайней мере, дважды под твоей крышей я свел весьма и весьма памятные знакомства...
— Об одном догадаться нетрудно — Глория. А второе?
Фрэнк нахмурился. Говорить о Драйвуде не хотелось.
— Я тебе искренне завидую, Счастливчик. Давно не страстями живу — страстишками пробавляюсь.
«Еще бы! С такой женой, как Люси, что ему остается... Красотка щедро делит свою благосклонность и прелести между шефом Леспер-Медока (чтобы супруг успешно продвигался по службе), мужем бывшей приятельницы Жака (чтобы быть в курсе событий на случай рецидива) и неким давнишним поклонником (чтобы не терять старого друга дома)».
Бедняга окончательно закис. Привалившись к спинке кресла, понурившись, он затянул популярный некогда шлягер собственного сочинения — непутевый корреспондент монреальской «Ла пресс» пробавлялся и страстишками и стишками:
Облака плывут, облака
Уплывают куда-то вдаль,
Хлещет дождь по крутым бокам
Невысокую Мон-Руайаль[3].
Хлещет дождь по моим рукам,
По лицу хлещет дождь косой,
И плывут, плывут облака,
Как тяжелый, недужный сон...
У Леспер-Медока в запасе имелся добрый десяток куплетов. Фрэнку набила оскомину меланхоличная баллада, которую его приятель обычно распевал в подпитии. Поэтому, когда в номере раздался звонок, он облегченно вздохнул:
— Алло, алло! О’Тул у телефона. Да, сэр! Спасибо.
На проводе был Лос-Анджелес. Редактор газеты благодарил за оперативность. («Отлично сработано. Вы первый, кто сообщил о самоубийстве президента».)
— О предполагаемом самоубийстве, сэр. — Фрэнк сделал ударение на первом слове.
— Ну, эту оговорку мы опустили. Продолжайте в том же духе, завтра ждем от вас новых телеграмм. Интерес к происходящему в Чили огромен: нам пришлось увеличить тираж.
В трубке прозвучал сигнал отбоя.
— Побреду-ка я к себе, — Жак поднялся и нетвердой походкой направился к двери.
Аппарат моргнул зеленым глазком и опять ожил. Не Канада ли теперь? Фрэнк неохотно потянулся к телефону. Но это наконец звонила Глория.
— Где ты? Я так за тебя волнуюсь, Гло.
— У знакомых... Могу здесь остаться только на одну ночь.
— Лучше всего будет, если ты переберешься в бунгало. Мы поедем туда вместе. Скажи, где ты находишься. Я сразу же свяжусь с тобой, как только получу пропуск на машину.
— Пиши, Фрэнк: 817115. Адрес: улица Архиепископа Вальдивесо, 69, напротив католического кладбища...
«Как получить разрешение на проезд по городу? К кому обратиться? К полковнику Кастельяно? К генералу Паласиосу? Но где их отыщешь сейчас?.. А вот Карвахаль, тот наверняка на месте — в министерстве обороны».
Лишь с третьей попытки его соединили с адмиралом.
— Ваше превосходительство, ради всех святых, извините за беспокойство! Вы один в состоянии мне помочь: распорядитесь, прошу вас, о пропуске на мою «тойоту», номер Се-Де 4117. Куда я собрался? Да, собственно, прокатиться по Сантьяго, глянуть, что происходит.
Карвахаль — именем хунты главный координатор действий мятежников — был предельно учтив: настоятельно рекомендовал не выезжать из отеля до утра. («Франко-тирадорес кое-где еще не уничтожены, мистер О’Тул. Не исключено, что и наши патрули в темноте невзначай пальнут по машине».) А назавтра гарантировал пробивному журналисту карт-бланш. («Разрешение на свободный проезд возьмете в пресс-центре. У цензора».)
Путь Глории к дому доктора Суареса, известного в столице стоматолога, где она нашла убежище поздним вечером нескончаемо долгого, трагического 11 сентября, был непрост и опасен. По крышам домов, чердаками, пожарными лестницами она выбралась из зоны осажденного Технического университета. Глухими переулками, проходными дворами шла к товарищу Мальдивиа, работнику горкома партии.
На углу Суспирос и Амунатеги Глория нос к носу столкнулась с танкистами, еле державшимися на ногах. Возле бронированной громады, уткнувшейся дулом в разбитую витрину продуктовой лавки, валялись опорожненные бутылки вина и банки из-под анчоусов.
— Кто такая? Чего не сидится дома? — пьяно уставился на Глорию сержант. — Ты что? Не слыхала про комендантский час?
— Слышала. Но ведь его до шести отменили.
— Да, для того, чтобы выманить на свет божий таких пташек, как ты, — опасных террористок! Посмотрим, нет ли при тебе оружия. — И со скверной улыбочкой он резко рванул ее за ворот плаща. Ткань затрещала. — Э! Девчонка-то спешила и напялила на себя мужской джемпер. — Сержант захлебнулся визгливым смехом. — Жена вас, что ли, застукала?
Солдаты подобострастно гоготнули. Глория стиснула зубы.
Сержант потрепал ее по щеке:
— Ладно, шалунья, катись отсюда!
На улицу Театинос (товарищ Мальдивиа жил по соседству с хорошо знакомым всем коммунистам и комсомольцам двухэтажным зданием Центрального Комитета компартии Чили) пройти не удалось. Повсюду были выставлены посты карабинеров.
«Куда теперь? К Сесару Паланке? Там, за рекой, подальше от центра, должно быть поспокойнее». И снова круговерть переулков, темных дворов. В обход безлюдного, хмуро насупившегося вокзала Мапочо. Через пугающе гулкий мост — к авениде Индепенденсия.
Серый четырехэтажный дом словно отстранялся темными ладонями неосвещенных окон от безлюдной улицы. Из подъезда дохнуло сыростью. Весна выдалась на редкость прохладная, а с топливом из-за стачки владельцев грузовиков были серьезные перебои. Осторожно, вслушиваясь, Глория поднялась по истертым ступеням на самый верх. Чиркнула спичкой. Язычок пламени высветил номер квартиры. «Правильно — двадцать восьмая». Бронзовой дверной альдабой — дверным молотком — негромко постучала. Три раза, потом — коротко — еще два. Повторила условный сигнал. Дверь отворилась.
— Входи!
Глория всегда восхищалась выдержкой товарища Сесара, и сейчас он был невозмутимо спокоен, подтянут, приветлив.
— Приготовить кофе? А ты пока рассказывай... Времени у нас с тобой в обрез. С минуты на минуту должны нагрянуть. Я ведь заглянул сюда ненадолго. Чтобы забрать папку с гранками. Они еще понадобятся. Вот наладим выпуск газеты...
Девушка понемногу успокаивалась. Уверенность и решительность Паланке передавались ей. Она рассказала об обстановке в Техническом университете, о критическом положении его защитников. Спросила, что передать профессору Гарсиа.
— К сожалению, Глория, помочь защитникам университета мы не в состоянии. Отряды вооруженных рабочих сражаются с путчистами на заводах и фабриках. Им просто не пробиться на выручку к студентам. И силы повсюду чересчур неравны.
— Тогда я пойду. Надо сообщить об этом Фернандо Гарсиа.
Сесар помедлил. Потом как можно мягче произнес:
— По моим сведениям, все подступы туда сейчас перекрыты...
— Что же делать? — ее голос дрогнул.
Что мог ответить Паланке?
Он поднялся.
— Пора, Глория. Вместе со мной тебе идти опасно — здесь меня каждая собака знает. Ты, конечно, понимаешь, что и домой возвращаться нельзя. Всем товарищам по партии и комсомолу грозит арест. Поэтому пристанище, хотя бы на одну ночь, тебе нужно искать у людей, далеких от политики. Есть у тебя такие?
— Здесь рядом живет друг отца. Врач. Христианский демократ.
— Да ты что? Демохристиане — вместе с путчистами...
— Анхель Суарес не партийный функционер и даже не активист. О своей партии он вспоминал разве что на выборах. К тому же доктор — глубоко порядочный человек. Он не выдаст и не продаст.
— Ну смотри, — покачал головой Паланке, — если ты так уверена в нем... Завтра непременно позвони. Постараемся найти тебе надежную конспиративную квартиру. Запомни номер: 32007. Нет-нет, не записывай — запомни!
Улица Архиепископа Вальдивесо. Маленький, окруженный запущенным садом домик под номером 69. Через четверть часа Глория была там.
Располневшая с годами, и особенно после поздних родов, сеньора Эухениа суетливо хлопотала вокруг нежданной — и как она отлично понимала — опасной гостьи. Хозяйка встревоженно поглядывала на попыхивавшего трубкой мужа и десятилетних дочерей — двойняшек Росу-Марию и Пиляр.
— Могу я сегодня переночевать у вас?
— Отчего же нет, — дон Анхель безмятежно послал к потолку колечко сизого дыма. — Побудешь, сколько понадобится. Располагайся в комнате возле спальни девочек. Мы всегда тебе рады, правда, Эухениа?
Жена Суареса покорно улыбнулась.
Мучительно было пользоваться радушием этой доброй семьи при столь необычных и страшных обстоятельствах.
Два часа спустя Фрэнк с огорчением сообщил Глории по телефону, что сможет заехать за ней лишь утром.
Из воспоминаний О’Тула
САНТЬЯГО. АПРЕЛЬ
Пожилой дебелый мужчина в застиранном дхоти стоял на голове, вопросительно уставившись на меня янтарно-желтыми пятками. По его бесстрастному лицу струйками бежал пот. Несколько молодых людей в тренировочных костюмах уважительно созерцали своего наставника — гуру.
— Прошу прощения, что помешал занятиям. Скажите, где сыскное бюро Дика Маккензи? В лабиринте коридоров и вывесок я окончательно заблудился...
Пятки раздумчиво качнулись.
— Маккензи? Верзила-гринго? — чувственные губы толстяка йога пришли в движение. — Значит, так: пойдете прямо, потом направо. Там, где вывеска масонской ложи, свернете налево, а затем еще раз налево. Понятно?
— Понятно, — озадаченно ответил я и ретировался из Академии хатха-йоги доктора Лоуренсио Раджапури.
Бронзовые таблички обступали меня со всех сторон: «Директор компании по производству истинно русской водки «Тройка», рецепт которой был известен только императору Педро I и его убиенному сыну Алехо», «Предсказание судьбы на картах и кофейной гуще. Лиценциат оккультных наук Маурисио Шапиро», «Редакция журнала «Неонудизм», «Консерватория конкретной музыки». А вот и масонская ложа «Кабальерос де Ля Люс». Теперь уж не собьюсь.
— Ну и местечко выбрали вы, однако, для своего оффиса. Здравствуйте, Дик!
— Добрый день. А чем оно плохо? Вполне современный небоскреб — бетон и стекло. И расположен не где-нибудь, а прямо на авениде О’Хиггинс.
— У меня в голове не укладывается: вы — и весь этот балаган...
Маккензи золотыми щипчиками откусил кончик длинной гаваны, обрезанной частью обмакнул сигару в чашку с черным кофе, дымившуюся на столе. («Видно, бывал на Кубе, где бы иначе он приобрел эту привычку?») Закурил.
— А что прикажете делать? Департамент социологических исследований, которым я руководил, после национализации ИТТ закрылся. («Слышал я, слышал об этих исследованиях, смахивающих на составление разведсводок для совета директоров компании».) Меня выбросили на улицу — впору хоть пособие по безработице просить. («Это с твоими-то деньгами, ханжа!»)
— Но вы могли уехать из Чили, получить пост в другом филиале фирмы или даже в Центральном правлении, в Штатах?
— Не хотелось покидать Сантьяго. Понимаете, люблю я этот город, эту проклятую страну. («Не знаю, как насчет любви, но то, что стареющий супермен прекрасно разбирался в чилийских делах и безукоризненно владел местным певучим диалектом испанского языка — факт несомненный».)
— А почему все-таки сыскное бюро, да еще с такой деликатной специализацией по адюльтерам?
— Чистая случайность. Увидел в газете «Меркурио» объявление: «Требуется частный детектив с собственной машиной». Явился сюда. Взяли. Понравилось. Потом откупил всю контору на корню. Деньги — плевые, а, согласитесь, приятнее быть независимым, вести дело самому.
— Между прочим, Дик, я видел вас не так давно на ферме «Сельва Верде».
— Вы что-то путаете, вездесущий мистер Счастливчик. Так ведь вас зовут друзья?
Я не дал увести разговор в сторону:
— Клянусь, я видел вас. («Моя проявленная пленка, не оставляя места для сомнений, зафиксировала чеканный профиль социолога из ИТТ».) Вы сидели в «фольксвагене» и о чем-то беседовали с Марком Шефнером.
— Марк Шефнер? — Маккензи недоуменно наморщил низкий лоб, отчего кустистые брови подползли к некогда пышной шевелюре. — Не припоминаю такого.
— Пусть будет по-вашему. Оставим это... У меня дело к вам, Дик. Вы знаете из рекомендательного письма Драйвуда, что я собираю материалы для книги о заговоре красных. Но до сих пор ничего о плане «Зет» обнаружить не удалось. Sine ira et studio[4] — поделитесь любой информацией, которой располагаете.
Чугунные глаза специалиста по адюльтерам не отразили ни малейшего движения мысли или эмоций, но он определенно понял меня, хотя с латынью был явно не в ладах, а уж «Анналы» Тацита наверняка не читал даже в переводе на английский.
— На прошлой неделе с оказией я получил весточку от мистера Драйвуда. Он еще раз настоятельно предлагает мне помочь вам. Я, конечно, теперь всего лишь скромный частный детектив, но... — последовала многозначительная пауза, — кое-какие важные связи сохранились, а значит, и информация имеется.
Маккензи поднялся, решительно распрямив свой могучий скульптурный торс. Остановился у вделанного в стену бара, забитого бутылками.
— Если вы намерены угостить меня, Дик, покорнейше благодарю — мне еще сегодня предстоит выдать триста строк для «Лос-Анджелес таймс».
— Да нет, сынок! Я не за тем.
Один из отсеков бара оказался потайным сейфом. Дик бережно извлек оттуда канцелярскую папку с фирменным вензелем ИТТ.
— Результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного вашим почившим в бозе департаментом? — усмешливо сказал я.
Однако Дик не поддержал шутливого тона:
— В этой папке — бомба замедленного действия. Копия плана «Зет». Оригинал хранится в кабинете заместителя министра внутренних дел Даниеля Вергара.
Я весь напрягся: гончая наконец-то напала на след! Суть плана, изложенного на пяти с половиной машинописных страницах, вкратце сводилась к следующему:
первый этап — физическое уничтожение высших офицеров всех трех родов войск чилийских вооруженных сил;
второй этап — захват правительственных учреждений, конгресса, муниципалитета;
третий этап — истребление гражданских лиц, настроенных оппозиционно к партиям Народного единства...
— Разрешите один экземпляр взять с собой? — отказываясь верить неожиданно выпавшей удаче, спросил я омерзительно-робким голосом.
— Само собой разумеется. И цените, Счастливчик: из писак вы единственный, кто получил этот сенсационный документ. Предупреждаю: никому ни слова и в газеты пока не давать...
— Почему?
— Преждевременно, — загадочно ответил Маккензи. — Полученный материал вы должны использовать в книге. Вот с ней вам лучше поторопиться. Недалек тот день, когда правду о плане «Зет» будет можно и нужно сделать достоянием свободного мира.
— Хоть убейте, Дик, ничегошеньки не понимаю.
— А вам и не надо понимать, дружище! Занимайтесь своим делом.
Мы поменялись ролями. Самоуверенный журналист, по-хозяйски и свысока учинивший чуть ли не допрос владельцу заурядного сыскного бюро, превратился в послушного исполнителя диких, с точки зрения любого газетчика, распоряжений. Впрочем, спорить не приходилось: за широкой спиной узколобого сыщика маячила тень элегантного Джеймса Драйвуда, от которого, как ни крути, зависела судьба моей книги.
В тот вечер я так и не отправил обещанные газете триста строк. Не хотелось заниматься дежурной жвачкой из лежащих на поверхности новостей, хотя обычно я с интересом следил за перипетиями напряженной политической жизни республики. Поляризация сил становилась все более отчетливой. Центризм исчез. Невидимая демаркационная линия разделяла чилийцев на два лагеря — правых и левых, с их различными оттенками и нюансами. Меня — стороннего наблюдателя — поражало, что размежевание коснулось даже личной жизни и привычек людей: здесь читали только свои газеты, слушали только свои радиостанции, смотрели программы только своих телевизионных каналов. Оппозиция обвиняла правительство Народного единства в «эскалации антидемократических действий». Альенде, в свою очередь, утверждал, что новые факты свидетельствуют «о желании реакции развязать в стране гражданскую войну». Разобраться тогда в этой каждодневной чересполосице противостояний и противоборства мне было чертовски трудно.
В последних числах апреля левые устроили в Сантьяго похороны двадцатидвухлетнего строителя Хосе Рикардо Аумадо. Его убили во время демонстрации сторонников Народного единства выстрелами из штаб-квартиры христианско-демократической партии. Я присоединился к траурной процессии, растянувшейся на несколько километров по умолкшим улицам города: тут были рабочие, служащие, студенты, домохозяйки, школьники — никак не менее двухсот тысяч человек. Во главе грандиозной колонны шли министры, руководители партий правящей коалиции, лидеры Единого профсоюзного центра. В момент, когда печальный кортеж поравнялся с дворцом «Ла Монеда», последние почести погибшему отдал президент Сальвадор Альенде.
Это зрелище невольно впечатляло. Я вспомнил о бумагах, переданных мне Диком Маккензи, и меня вдруг на какой-то момент взяло сомнение: стреляют не левые, а правые. Да и вообще, зачем нужен план «Зет» — переворот сверху, если правительство и без того пользуется широчайшей поддержкой низов? Но тут же память услужливо подсказала недавний случай, о котором писали местные газеты: в пригороде Сантьяго двое вооруженных молодчиков ворвались в кинотеатр, зажгли в зале свет и стали разбрасывать листовки. В них обещалась «скорая и неминуемая смерть всем и всяческим реакционерам». Я решил для себя, что при следующей встрече с Глорией обязательно заведу разговор об этой акции левых.
К концу месяца совсем распогодилось — редкие дожди утихли. Чилийская осень почти не отличается от лета. Знойное солнце допоздна плавило асфальт тротуаров, обжигало зелень листвы, раскаляло автомобили, наполняя их кабины горячей духотой. Хорошо, что я не поскупился на машину с кондиционером и новомодными темными стеклами. Глорию, правда, шокировала моя «тойота», вызывающе роскошная. Она не показывала вида, но это все равно было заметно.
Мы ехали через торговую часть столицы, еще не остывшей от жаркого дня и насквозь пропитанной бензиновыми парами. Неоновым пламенем полыхала реклама. Сделанная со вкусом или кое-как, бесстыже броская или по-сиротски невзрачная, она подмигивала с головокружительной высоты, игриво приплясывала на фасадах зданий, огненной белкой резвилась в зеркальных витринах первоклассных магазинов (в ту пору торговцы еще не бастовали). Потянулись чопорные старинные дворцы и самодовольные модернистские виллы района Баррио Альто. Над ними, на самой вершине горы Санта-Люсия, словно парила подсвеченная рефлекторами гигантская статуя Богоматери. Дева Мария безропотно благословляла и резиденции здешних мытарей и пилатов, и смахивающие на дома свиданий («к услугам посетителей плавательные бассейны и комнаты отдыха») дорогие ресторации.
— Надеюсь, ты везешь меня не в одно из этих сомнительных заведений?
— Боже упаси, Гло! Я хочу показать тебе маленькое забавное кабаре «Ранчо луна». Хозяин — кубинец. Он попытался воссоздать кусочек экзотической ночной Гаваны.
...Пепито Акоста, отстранив метра, сам поспешил нам навстречу.
— Добрый вечер! Рад, что не забываешь меня, Фрэнк. Столик слева у эстрады. Шоу начнется минут через сорок.
Белая гуайабера[5] тонкого полотна едва сходилась на его обвислом животе. Под двойным подбородком сбился набок красный галстук-бабочка. Полные губы, оттененные черными усиками, растянулись в улыбке. Нагловатые навыкате глазки настороженно ощупывали Глорию, ее скромный туалет, который при всем желании не назовешь вечерним.
— Устраивайтесь, а я мигом распоряжусь насчет ужина. То же, что всегда? Думаю, и сеньорите придется по вкусу наша национальная кубинская кухня.
Оркестранты лихо наигрывали пачангу.
— Что будете пить? — У столика выросла фигура метра в несвежем смокинге. Он протянул карту вин. Я отстранил ее:
— «Куба либре», пожалуйста.
Мистер Несвежий Смокинг и глазом не моргнул, но, вернувшись с коктейлями, позволил себе язвительно заметить:
— Вот, сэр, ваша бывшая «Свободная Куба». — И, довольный, исчез.
Глория сердито сдвинула брови:
— Зачем тебе понадобилось тащить меня в это гнездо «гусанос»?
— Дорогая, — я с укоризной покачал головой, — нельзя же политические симпатии и антипатии переносить в область гастрономических вкусов! Мы сейчас отведаем фирменный лечон, отличных «мавров и христиан». Знаешь, что это такое? «Мавры» — черные бобы вперемешку с рассыпчатым рисом, «христианами». А лечон — по-особому приготовленная свинина. Фантастика! Пальчики оближешь!
— Нет, Фрэнк, мне здесь решительно не нравится. И ты называешь это кубинской экзотикой? — она кивнула в сторону тощих нейлоновых пальм, развешанных по стенам деревянных масок топорной работы, пузатого чучела трехметровой рыбы-меч под стеклянным колпаком с табличкой:
«Перед вами чудо природы, собственноручно отловленное героем прославленной повести лауреата Нобелевской премии Э. Хемингуэя «Старик и море».
— Не суди строго, Глория. Горемыка-эмигрант Пепито Акоста старается как может.
— Ты меня удивляешь: сколько симпатии к отвратительному слизняку! Всем известно, что за публика эти «гусанос» — эмигрантское отребье.
Назревала наша первая ссора. Положение спас застенчивый, милый юноша, который пригласил мою строптивую леди на танго. В пику мне она согласилась. Я залпом допил коктейль и щелкнул пальцами. Вместо метра к столику подкатился толстяк хозяин.
— Повторить? О’кей! Могу предложить и кое-что позабористее — по сигарете для тебя и твоей дамы...
— Наркотиками не балуюсь, Пепито. А где же ты достаешь марихуану?
— У Чили о-о-очень длинная граница с Аргентиной. А за кордоном есть неприметные тихие городки вроде Сан-Мартин-де-лос-Андес. А там — верные дружки-приятели...
Вернулась Глория. Она все еще дулась на меня. Чтобы отвлечь ее от сердитых мыслей, я пустился в пространные рассуждения о достоинствах и недостатках латиноамериканской кухни, благо нам, наконец, подали заказанные блюда. Злые ветры стихли, и, воспользовавшись наступившим штилем, я пустил пробный шар:
— Скажи, что за странная история произошла в кинотеатре «Трианон»? Не ваши ли ребята из Хота-Хота Се-Се грозились устроить варфоломеевскую ночь?
— Как ты можешь даже подумать такое! Ни комсомол, ни одна из партий Народного единства не имеют отношения к нашумевшей вылазке маоистов, которых направляют агенты ЦРУ, проникшие во многие ультралевые организации.
Я решил играть ва-банк, махнув рукой на предупреждение Маккензи:
— Допустим, ты права. Но почему же тогда среди нашего брата журналиста крепнет уверенность в существовании... в существовании плана «Зет».
— О чем ты? — Недоумение было искренним.
— О плане физической расправы с оппозицией.
— До чего же господа журналисты из «солидных» газет падки до фальшивок, фабрикуемых провокаторами! А вот о подлинных, невыдуманных заговорах — заговорах реакции — не напишут и слова! Завтра «Сигло» печатает важную статью. — Она порылась в сумочке и достала гранки. — Но, бьюсь об заклад, твои коллеги опять отмолчатся. Возьми! Вдруг сгодится, и дашь информацию об этом...
В статье цитировался секретный документ, который будто бы компания «Интернэйшнл телефон энд телеграф» распространила среди своих наиболее видных партнеров в Европе:
«...В ближайшее время, в результате предстоящего в Чили военного переворота, мы вернем наше национализированное имущество...»
— Крепко закручено! Передать-то я передам обязательно. Вопрос лишь в том, опубликуют ли.
...Вообще-то очень похоже на почерк ИТТ. Об этой могущественной корпорации — настоящей империи с филиалами в шестидесяти семи странах мира — мне было известно то, что Глория, возможно, и не знала. Еще в 1964 году в канун президентских выборов — об этом мне рассказывал обозреватель «Вашингтон пост» Джек Андерсон, мой добрый приятель, на осведомленность которого я привык полагаться — «Интернэйшнл телефон энд телеграф» вкупе с Центральным разведывательным управлением таровато отвалила 20 миллионов долларов на поддержку кандидатуры Фрея, чтобы помешать приходу к власти его популярного соперника — социалиста Альенде. В 1970 году история повторилась, но валютный допинг уже не помог христианским демократам, хотя незадолго до победы Народного единства чиновник штаб-квартиры ИТТ Роберт Баррельес (он же крупный агент ЦРУ) послал своему подчиненному, заведующему одним из департаментов чилийского филиала компании (не Дику ли Маккензи?!), шифрованную телеграмму с требованием любыми средствами, вплоть до убийства, не допустить лидера левых в «Ла Монеду» и доложить об исполнении. Мне запомнился, со слов Андерсона, следующий пассаж шифровки в стиле романов о Джеймсе Бонде:
«Срочно сообщите о времени, благоприятном для ловли форели в Сантьяго. Боссы планируют выехать из Нью-Йорка на рыбную ловлю в сентябре — октябре. Им нужно знать места, где разрешается рыбалка. Потребуются ли спиннинги?»
— Обстановка тревожная, Фрэнк. Против нас действуют многонациональные монополии, Центральное разведывательное управление, наши доморощенные фашисты, наконец. И, что хуже всего, — правые все настойчивее стучатся в двери казарм.
Красный луч юпитера, установленного на балкончике, скользнул по залу, окровавив на секунду «рон а ля рока» — ром со льдом в стакане передо мной.
...Кровавые языки пламени лизали вчера автобусы, подожженные молодцами из «Патриа и либертад» после митинга у Католического университета. «Старина Фрэнк! Рад, что ты здесь, с нами». Я обернулся. Впервые видел я полковника Кастельяно в штатском. «Привет, Эстебан! Ты что же, участвовал в митинге? Ведь конституция категорически запрещает офицерам заниматься любой политической деятельностью. За это, если мне не изменяет память, полагается немедленное увольнение в отставку». Полковник и бровью не повел. «Не прикидывайся младенцем, Фрэнки! Не я один среди военных восхищаюсь смелостью истинных патриотов, борцов против грозящего республике марксистского тоталитаризма. И подожди — в руках у этих славных парней скоро окажутся не дубинки и цепи, а новенькие автоматы и пулеметы». Я постарался не выказать своего удивления. Небрежно спросил: «Из государственных арсеналов?» Эстебан понизил голос: «Из Аргентины. Есть там приграничный городишко, носящий имя соратника Симона Боливара»[6]... «А о каком городе говорил сейчас Пепито? — вдруг подумал я. — Сан-Мартин-де-лос-Андес! Генерал Сан-Мартин — сподвижник Боливара. Сходится! Значит, не только наркотики идут оттуда?»
Тощий нелепый конферансье возвестил о начале шоу. В меру раздетая танцовщица в окружении пышнотелых фигуранток изображала на сцене роковые карибские страсти.
— На этих днях мы ненадолго расстанемся, Гло! Еду в Аргентину. Мне заказали серию очерков.
— Желаю успеха. В Буэнос-Айресе сейчас интересно. Есть даже некоторая схожесть с тем, что происходит у нас.
Я смотрел на тропических герлз, а мысленно раскладывал пасьянс из врученных Глорией гранок и машинописных страничек плана «Зет».
«Эм ля верите!» — «Люби правду!» — написано на моей корреспондентской карточке члена оттавского пресс-клуба. Не знаю, как другие, но я всегда старался следовать благородному девизу. Джеймс Драйвуд, вы мне друг, но истина дороже. И я докопаюсь до нее!
12 сентября
САНТЬЯГО. ХУАН САЛЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧИЛИЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВИКОВ, ВЫСТУПАЯ ПО РАДИО, ПРИЗВАЛ ВСЕХ ЕЕ ЧЛЕНОВ НЕМЕДЛЕННО ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ И ТЕМ САМЫМ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЗАБАСТОВКЕ, НАРУШАВШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ШЕСТИ С ЛИШНИМ НЕДЕЛЬ. «УСИЛИЯ, ПРИЛОЖЕННЫЕ ВАМИ, ЗАВЕРШИЛИСЬ ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО ОТЕЧЕСТВО НАКОНЕЦ СВОБОДНО», — СКАЗАЛ ОН.
ДРУГОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕДЕРАЦИИ, ИЗВЕСТНЫЙ ПРОТИВНИК НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ЛЕОН ВИЛЬЯРИН, ПРИВЕТСТВОВАЛ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, КОТОРЫЕ «ПРЕОДОЛЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ И ОСУЩЕСТВИЛИ ПЕРВЫЙ ЗА 42 ГОДА ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЧИЛИ».
У входа в пресс-центр Фрэнка окликнул Сэм Рассел, редактор международного отдела «Морнинг стар».
— Как вам понравилось выступление Вильярина? Мавр сделал свое дело.
— Я отстучал телеграмму об этом. Несу на визу.
Они вместе вошли в оффис, где спозаранку было полным-полно журналистов, жаждущих поскорее получить необходимую для их работы аккредитацию. Очередь двигалась вяло — офицер въедливо вчитывался в документы.
Француз Марсель Риво из крайне правой «Орор», надушенный, в песочного цвета клетчатом костюме при ярко-желтом галстуке, покуривал, независимо положив ногу на ногу. Встрепанный, припухший после ночных возлияний Фернандо Крус — представитель агентства «Эдиториаль фаланхиста эспаньола» — довольно похохатывал, смакуя пикантные фотографии свежего номера журнала «Люи», которым проныру-испанца снабдил, по-видимому, его дружок Марсель.
— Следующий. Пошевеливайтесь!
К столику дежурного офицера направился Жорж Дюпуа, прервав на полуслове разговор с Марлиз Саймонс, экстравагантной дамой, приехавшей в Чили от «Вашингтон пост». Та повернулась к молчаливому соседу-шведу:
— Слышал, что рассказывает корреспондент «Фигаро»? Рабочие многих заводов и фабрик все еще сражаются с солдатами.
— Студенты тоже. Против Технического университета брошены танки и боевые вертолеты. Говорят, путчисты применяют фугасы и напалм...
— Господи, какой ужас! — ахнула американка.
Рыжеволосый оператор Би-Би-Си, примостившийся с кинокамерой на кончике дивана, возмущенно — даже веснушки на его лице побледнели — жаловался заведующему бюро еженедельника «Ньюсуик» Джону Барнесу, что вчера, когда он пытался из гостиницы снять штурм «Ла Монеды» («Это же моя профессия, Джо! Именно за это мне платят деньги...»), по окну («Без предупреждения!») открыли с улицы огонь...
— По нашему телетайпу получено сообщение: в Вашингтоне осторожно взвешивают все «за» и «против» деликатного вопроса о признании хунты. — Корреспондент Ассошиэйтед Пресс перешел на доверительный шепоток.
— Почему осторожно взвешивают? И почему этот вопрос деликатный? — изумился обычно непроницаемо-замкнутый шеф отделения «Синьхуа» в Чили. С аляповатого значка, приколотого над карманом его синей куртки казарменного покроя, на империалиста-янки вопрошающе уставился великий кормчий.
— Видите ли, мой дорогой друг, — американец обращался со своим собеседником осторожно и бережно, как с драгоценным китайским фарфором. — Видите ли, эпицентр любого катаклизма, случившегося к югу от Рио-Гранде-дель-Норте, вечно ищут на берегах Потомака.
— Да, да, да, — сочувственно закивал головой китаец.
Фрэнк не особенно вслушивался в разглагольствования коллег: мысли были заняты предстоящей поездкой за Глорией. Но одна беседа газетчиков — из «Морнинг стар» и «Униты» — показалась ему интересной.
— Генеральный директор корпуса карабинеров генерал Сепульведа отказался примкнуть к мятежникам.
— Моя новость стоит твоей. Кубинское радио сообщает о красноречивом признании «Нью-Йорк пост»: в штаб-квартире ИТТ откровенно ликуют по поводу переворота. Добились своего!
Прошло по меньшей мере полчаса, прежде чем О’Тул оказался у столика, где оформлялись документы. Хамоватого цензора словно подменили. Не читая, подмахнул текст телеграммы. Предупредительно протянул анкету! «Заполните, пожалуйста, и распишитесь. Вот здесь». Старательно приклеил фотографию к удостоверению личности: «Возьмите, прошу вас». Из ящика своей конторки достал опечатанный сургучом пакет: «А это...» Фрэнк перебил его: «Я знаю, давайте сюда».
— Любовное послание от сеньора Пиночета? — угрюмо съязвил Сэм Рассел, которому только что отказали в аккредитации.
— От адмирала Карвахаля, — ответил Фрэнк. («Пусть думают, что хотят. Главное — удалось заполучить пропуск».)
В гараже О’Тул прикрепил разрешение на проезд к ветровому стеклу, и все равно по дороге его не единожды задерживали патрули. Правда, без каких-либо неприятных последствий. Как заклинание действовали слова: «Друг нового порядка», выведенные каллиграфически четко рукою писаря министерства обороны. «Надо же — нового порядка», — подумал Фрэнк. Тоталитаризм всегда был ему ненавистен. И не только потому, что в войне с нацистами погиб отец, капитан канадских Королевских военно-воздушных сил. Имя его выбито на мраморной плите памятника павшим пилотам, что возвышается на берегу реки Оттавы напротив столичного муниципалитета.
На улицах пылали костры: тысячи томов, вытащенных из книжных магазинов и библиотек, — за ересь! — предавались огню. На грязном асфальте тротуаров — неубранные для устрашения инакомыслящих — лежали трупы.
У поворота на Сантос Думонт «тойоту» остановил наряд карабинеров:
— Поезжайте прямо. Свернете не раньше чем через три квартала.
— А что происходит?
— Район оцеплен. Выкуриваем снайперов.
На улице Архиепископа Вальдивесо, возле каменной стены католического кладбища, Фрэнк увидел растерзанные тела двух девочек в синей школьной форме. Тут же с довольным видом хорошо потрудившихся людей стояли солдаты. Покуривали. Лениво перебрасывались шутками.
О’Тул невольно нажал на акселератор. И не сразу заметил, что проскочил нужный ему дом. Затормозил. («Ладно, оставлю машину здесь».)
Доктор Суарес со старомодной церемонностью проводил канадца в гостиную.
— Глупышка заждалась, хотя я ей втолковываю, что она может оставаться у нас, сколько пожелает. Здесь безопасно. Жилище христианского демократа не посмеют тронуть. — И будто отвечая на невысказанный вопрос Фрэнка, продолжал: — Я всегда был против Народного единства, но то, что происходит сейчас, ужасно!
По лестнице, ведущей на второй этаж, спускалась Глория. Радостно улыбнулась Фрэнку.
Следом шла донья Эухениа с желтым кожаным баулом в руках. Она собрала кое-что из продуктов, поверх положила сигареты и теплое шерстяное пончо.
— Сообщи о себе. Я уж найду возможность передать весточку отцу. — Доктор Суарес поцеловал девушку в лоб. — Тебе, насколько я понимаю, домой звонить рискованно.
Проводить их вышли всей семьей. Роса-Мария и Пиляр хотели даже выбежать на улицу, но мать не позволила. Прижав растерянные недоумевающие мордашки к литой — под старину — ограде сада, они провожали взглядом автомобиль, который с ревом развернулся и, набирая скорость, помчался вдоль кладбищенской стены.
Стыли по-весеннему прозрачные деревья. Солнце оплывшим огарком едва пробивало завесу туч.
— Куда ты, Фрэнк?
— К автостраде Панамерикана-норте. Прежде всего надо попасть за город, а оттуда...
— Нет-нет. Сначала на Манантьялес, прошу тебя. Это очень важно.
О’Тул ни о чем не спрашивал, а Глория не стала вдаваться в подробности. Еще на рассвете она говорила по телефону с Сесаром Паланке и получила от него задание.
Чем дальше норовистая «тойота» уходила от центра, тем реже их останавливали для проверки. На окраине, среди пустырей и неказистых дощатых лачуг, с трудом отыскали нужный переулок, вздыбившийся ухабами незаасфальтированной мостовой. За подслеповатыми окошками хибар — Фрэнк это чувствовал кожей — роскошный лимузин настороженно, с опаской провожали сотни глаз обитателей квартала нищеты.
— Я сейчас, — Глория приоткрыла дверцу.
— Подожди. Вдруг там засада?
— Не беспокойся. Видишь, рекламный щит кока-колы на стене у входа повешен косо. На одном гвозде. Это условный знак, что все в порядке.
Она скрылась внутри убогого строения, напоминавшего большой, наспех сколоченный ящик. Визг ржавого засова резанул по нервам — Фрэнк вздрогнул и тут же, устыдившись минутного малодушия, потянулся за сигаретой. Закурил и включил приемник.
Радиостанция аргентинского города Мендосы передавала сводку новостей. Диктор монотонно перечислял страны, где проходят митинги и демонстрации протеста против государственного переворота в Чили. Сообщил о гибели Сальвадора Альенде. Потом зачитал телеграмму корреспондента Франс Пресс из Вашингтона.
— Ну вот и все. Можем ехать. — Глория вышла не одна. За ней, сутулясь под тяжестью дешевого фибрового чемодана, прихрамывал низкорослый худосочный мужчина лет пятидесяти. Типичный «рото» — простолюдин. Бережно уложив свой груз на запаску, подле баула, он вернулся к дому, выровнял линялую рекламу. И, обращаясь к Глории,сказал:
— Больше этой явкой пользоваться нельзя. Намертво засвечена. Народ здесь разный — много люмпенов...
— Исидоро поедет со мной, ты не возражаешь, Фрэнк?
— Разумеется. С пропуском, дарованным самим Карвахалем, не страшны никакие кордоны. Даст бог, без приключений доберемся до побережья.
Устроившись на заднем сиденье, Исидоро Итурраран протянул журналисту жилистую руку:
— Привет, товарищ!
— Привет, компаньеро, — ответил О’Тул, улыбнувшись про себя парадоксальности ситуации, в которой неожиданно оказался: «Знал бы Драйвуд, что я помогаю подпольщикам-марксистам и что те доверчиво величают меня товарищем».
У последнего контрольно-пропускного пункта на выезде из Сантьяго произошла заминка. Путь преграждал установленный за ночь шлагбаум. Поодаль хищно щерился пулеметами пятнистый бронетранспортер. Безусый лейтенант — судя по всему, вчерашний кадет — оперся о крыло «тойоты» и ломким баском приказал:
— Всем выйти. Приготовить документы и открыть багажник!
— А что, этого вам недостаточно? — Фрэнк, не трогаясь с места, небрежно постучал пальцем по пропуску на ветровом стекле. Заметил, что его спутники тоже держатся с завидной выдержкой: они вполголоса вели незначащий разговор.
Офицер всмотрелся в гипнотические слова:
«Друг нового порядка. Оказывать всяческое содействие».
— Кем выдан пропуск?
— Патрисио Карвахалем.
— Адмиралом? — растерялся начинающий служака.
— Именно. Если угодно проверить, позвоните ему. Вот номер телефона — на этой его визитной карточке.
Ах, как не хотелось лейтенантику «терять лицо» в присутствии своих солдат, с любопытством выжидавших, чем закончится трудная для их начальника сцена. Насупившись, он с минуту раздумывал. Потом — уже без командирских ноток в голосе — произнес: «Багажничек все-таки откройте, сеньор». Для проформы покопался в бауле. Вытащил из-под пончо блок сигарет. Повертел его в руках.
— Возьмите себе... Берите-берите, капитан! Не стесняйтесь — у меня есть еще.
Разжившийся дефицитным куревом и походя «повышенный в чине» блюститель «нового порядка» таял от удовольствия. Он застегнул молнию на желтой дорожной сумке и торжественно водворил ее в багажник, рядом с чемоданом, к которому так и не прикоснулся. Почтительно откозырял: «Счастливого пути». И гаркнул: «Поднять шлагбаум!»
Когда отъехали достаточно далеко от злополучного КПП, спутники О’Тула заговорили разом — возбужденно и с облегчением:
— Спасибо, любимый! Ты настоящий друг. — Глория поцеловала Фрэнка.
— Ты и впрямь молодчина! — Исидоро крепко хлопнул его по плечу. — Ловко провел сопляка. Сунься он в чемодан, пришлось бы отстреливаться, товарищ...
Обычно забитая транспортом автострада была пустынна. Лишь изредка попадались военные грузовики. Фрэнк вел машину на бешеной скорости — стрелка спидометра держалась на отметке «сто миль». К двум часам дня впереди показались нарядные коттеджи Топокальмы. В богатом курортном поселке, хотя и притихшем, жизнь шла своим чередом. Нигде не было видно ни солдат, ни карабинеров.
Двухэтажный каменный особнячок одиноко стоял на самом краю обрыва, отгородившись густым садом от валунов и скал с узкой тропинкой между ними, сбегавшей к пляжу.
Пока О’Тул возился с замком, Исидоро достал ящик из багажника.
— Отнесем наверх? — Фрэнк протянул руку к чемодану.
— Возьми баул. А чемодан я отнесу сам.
Из воспоминаний О’Тула
БУЭНОС-АЙРЕС, САН-МАРТИН-ДЕ-ЛОС-АНДЕС. МАЙ
Крошечная, будто обезьянья лапка, бледная рука в коричневых старческих пятнах и массивных золотых перстнях деликатно коснулась меня:
— Сеньор, с какой скоростью мы летим?
— Объявили, что пятьсот миль в час.
— Чудесно, это просто чудесно, — затрясла головой моя соседка. Ее пергаментное костистое лицо с выцветшими глазами горделиво венчал пышный голубой парик. Тщедушные плечи укутаны в норковое боа, хотя в самолете совсем не холодно.
— Изволите торопиться? — спросил я.
— Не откажите в любезности, говорите громче. За этим ужасным гулом моторов я ничегошеньки не слышу. — Старушка вплотную придвинула ко мне ухо со слуховым аппаратом, вмонтированным в оправу очков.
— Куда вы так спешите, мадам? — больше из вежливости, чем из любопытства повторил я вопрос.
— Переселяюсь в Аргентину — прочь от марксистских безбожников.
— У вас там родня, наверное?
— Да, да. Небольшая кондитерская фабрика под Буэнос-Айресом. Филиал нашей чилийской компании «Бонбонес пара тодос» — «Конфеты для всех». Национализировали ее в прошлом году. — Древняя леди поскучнела и умолкла. До конца рейса она сладко проспала (может, ей снились милые сердцу леденцы и тянучки?).
В креслах через проход щебетали две смазливые американочки. Девицы, расписанные, как пасхальные яички, и раздетые не по погоде (весьма условные мини-юбки и некое, очень прозрачное и призрачное, подобие кофточек), хихикали, советуясь со стюардом, где лучше остановиться в аргентинской столице.
— O tempora, o mores![7] — сокрушенно заметил пассажир, сидевший слева от меня. Он оторвался от иллюминатора и теперь заинтересованно поглядывал на разбитных туристок. — В какие только крайности не бросается нынешняя молодежь: секс, наркотики, преступность. А правящие классы не гнушаются использовать это в своих корыстных целях, чтобы отвлечь молодое поколение от борьбы за социальную справедливость. Вы не согласны со мной, сеньор?..
— О’Тул, — представился я.
— Падре Порфирио, — отрекомендовался радетель нравственности в поношенной серой тройке.
— Для священнослужителя вы рассуждаете довольно необычно.
— Я принадлежу к движению «Католики за социализм». Учение Христа не противоречило и не противоречит марксизму.
— Разве?
— Социальная доктрина церкви всегда зиждилась на признании высокогуманных принципов свободы, равенства и братства. Беда в том, что нерадивые пастыри веками выхолащивали революционную суть заветов сына божьего и его апостолов. Их и сейчас предостаточно, таких пастырей. Но есть и другие. Мы — а нас немало в странах Латинской Америки — стремимся возродить в обществе идеалы раннего христианства. Мы идем в массы. Простыми рабочими поступаем на заводы, фабрики, рудники. Я, к примеру, коммивояжер. Продаю книги. И заметьте, сеньор О’Тул, предприниматели нас боятся. Мой хозяин не подозревает, что я священник. В противном случае меня давно бы уволили.
— А не проще ли свои идеи высказывать с амвона?
— Увы! Я понял, что, возглавляя приход, практически невозможно вести революционную пропаганду среди трудящихся. Без эвфемизмов в этом случае не обойтись, а иносказания не до всех доходят.
Принесли ужин. Стюардесса не стала будить приморившуюся старушку. Мы же с красноречивым падре принялись за бифштекс. Я не раз встречал левых в сутанах, и всегда мне были непонятны эти люди. Кто они? Блаженные? Подвижники? Или попросту ловкие слуги Ватикана, пытающиеся не отстать от эпохи?
Священник допил кофе. Промокнул рот бумажной салфеткой и вновь повернулся ко. мне. Его интересовало, где я постоянно проживаю, надолго ли собрался в Аргентину и зачем. Узнав, что в моем предполагаемом журналистском маршруте значится Сан-Мартин-де-лос-Андес, он с воодушевлением воскликнул:
— В этом забытом богом городке настоятель монастыря Святой Троицы — мой друг! Обратитесь к нему. Падре Лукас — преобязательнейший человек. Он охотно покажет вам достопримечательности: новую больницу для бедных с рентгеновским кабинетом, который, правда, пока не работает, кварталы ремесленников, скотоводческие фермы в окрестностях и замечательный лепрозорий.
«Каравелла» пошла на снижение. Мы подлетали к распластавшемуся на равнине самому большому городу южного полушария — Байресу (так называют аргентинскую столицу ее жители — «портеньос»).
Таможенные формальности не отняли много времени. Простившись с падре Порфирио и тут же забыв о нем, я нанял такси. Попросил шофера отвезти в любой приличный отель. Общительный водитель на непривычном для меня местном диалекте выпалил с дюжину названий, из которых удалось разобрать лишь одно — «Инглатерра».
— Хорошо, отправимся в «Англию».
Семимиллионный Байрес встретил нас долгими километрами разномастных и разнокалиберных строений (я ахнул, увидев на одном из домов номер 10053). Темпераментная толпа морским приливом захлестывала улицы. Пешеходы, не считаясь со светофорами и заливистыми трелями полицейских свистков, бросались прямо под колеса автомобилей и автобусов. Казалось, каждый здесь помышляет о самоубийстве, но только не всем это удается. Водители не уступали им в безрассудстве, неслись сломя голову, будто на финишной черте сумасшедших гонок их ждал, по крайней мере, гран-при.
— Не спешите! — взмолился я.
Таксист осклабился:
— Сеньор иностранец — не первый, кому становится муторно от уличного движения в Буэнос-Айресе. Но не волнуйтесь: хоть нас, шоферов, и называют «асесинос» — убийцами, жертв дорожных происшествий в Аргентине не больше, чем в других странах, — при этих словах он присвистнул, как заправский аргентинский ковбой гаучо, и дал шенкеля своему покрытому свежими ссадинами восьмицилиндровому «мустангу».
«Приличный отель», обещанный удалым таксистом, обернулся заурядной второсортной гостиницей, построенной во время оно в добрых традициях кастильских постоялых дворов. Англией в «Инглатерре» и не пахло. Впрочем, привередничать я не стал, не рискуя вновь окунуться в автомобильный омут: жизнь, в конце концов, дороже удобств.
После беспокойной ночи, проведенной в неуютном и душном номере, я решил развеяться, побродить по городу. Но меня хватило часа на два. Когда тебе перевалило за сорок и ты досыта насмотрелся на мир, чужедальные края приедаются быстро. Вот почему бездумная поначалу прогулка завершилась деловым визитом в Ассоциацию иностранных журналистов. Мне тут же выдали корреспондентскую карточку, снабдили адресами, телефонами коллег и местных политических деятелей. Долго расспрашивали о развитии событий в Чили со времени мартовских выборов.
Этот визит имел неожиданные последствия.
Вечером портье вместе с ключом протянул старательно заклеенный конверт:
— Вам письмо. — Заметив мое удивление, добавил: — Не извольте сомневаться. Здесь же ясно написано — «Номер 212, мистеру Фрэнсису О’Тулу». — Он понимающе и восхищенно причмокнул губами: — Очаровательная сеньора — загляденье. Блондинка! А фигура! Вылитая Джейн Мейнсфилд. Назвалась вашим старым другом. Видно, тоже из Канады. Говорила со мной по-английски.
Записка, которую, не отходя от конторки, я извлек из надушенного конверта, ровным счетом ничего не прояснила:
«Настоятельно прошу о встрече. Жду вас завтра в час дня в кафетерии «Джиоконда» на улице Флорида. Я подойду к вам.
Заранее благодарю.
Странное, трепетное имя незнакомки преследовало меня даже во сне, бредовом и болезненном, как сюрреалистические фантазии Сальвадора Дали.
Рваными клочьями пепла стремительно падали облака. И все не могли упасть на раскаленную докрасна пустыню в черных шрамах глубоких трещин, над которыми клубились ядовито-зеленые испарения. В овальное — медальоном — разводье туч с размаху врезался месяц. Акульим плавником вспорол темную лазурь — небо разверзлось. Надо мной парил тяжелый гранитный крест чудовищных размеров. С распятой женщиной. В гнетущем безветрии медленно шевелились складки пропитанной кровью легкой туники и пряди длинных медвяных волос, скрывавших лицо.
«Аллика! Аллика!» — в отчаянии крикнул я.
Она рывком подняла голову.
Наши взгляды встретились.
Это была Глория.
Без четверти час, заказав бутылку «пепси» и попросив официантку прихватить свежий номер газеты «Ла Расон», я сидел в кафетерии «Джиоконда» на самом видном месте — за свободным столиком у входа. Будничная обстановка закусочной средней руки никак не вязалась в моем представлении с романтичностью предстоящей встречи. Где же моя загадочная блондинка? Ни одна из студенток, секретарш, модисток, продавщиц из соседних магазинов, забежавших на обеденный перерыв в это бистро со своими приятелями, не соответствовала всемирно известному стандарту безвременно усопшей голливудской дивы.
— Разрешите? — спросил по-английски представительный господин в летах, присаживаясь за столик.
— Извините, но здесь занято.
— Полагаю, что для меня. Мистер О’Тул?
Я рассмеялся:
— Судя по восторженным описаниям портье, мне предстояло сегодня волнующее рандеву с пленительной дамой.
Незнакомец вежливо и чуть иронично улыбнулся и ответил:
— Письмо в гостиницу отвезла Энн-Маргарет — моя секретарша. Самому появляться там не хотелось по многим причинам.
Привстав и слегка поклонившись, он назвал себя:
— Фабио Аллика, корреспондент нескольких аргентинских газет в Нью-Йорке, при ООН. В Байрес прилетел на две недели. Был вчера в Ассоциации иностранных журналистов — хотелось повидать знакомых — и узнал, что вы здесь.
— Будь я проклят! Не могу припомнить, где и когда мы встречались...
— А мы не встречались. В Ассоциации мне подробно описали вашу внешность.
— ?..
— Терпение сэр. Сейчас все объясню. Но прежде, если не возражаете, перекусим. Кормят здесь вполне сносно, хотя и без особого изыска. К тому же в таких скромных кафе, как «Джиоконда», меньше любопытных глаз. — Пст! — сеньор Аллика на латиноамериканский манер окликнул миловидную девушку в переднике, спешившую с подносом на кухню.
Пока, поминутно советуясь со мной, он делал заказ, я украдкой присматривался к нему. Перейдя с официанткой на родной язык, Фабио разом преобразился: говорил громко, оживленно жестикулировал, пересыпал речь солеными словечками. Место суховатого американизированного денди занял истый портеньо. Горячий. Порывистый. Открытый.
За ленчем аргентинец выложил карты на стол. Против законного чилийского правительства готовится заговор. Международный валютный фонд разработал план государственного переворота под кодовым названием «Кентавр», осуществление которого возлагается на Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. Он надеется, что я напишу об этом в канадские газеты.
— Отчего же вы сами не используете столь выигрышный материал?
— Сведения получены из сугубо конфиденциальных источников. Я связан словом. Появление моего имени под разоблачительной статьей сопряжено со смертельным риском для тех, кто доверительно поделился секретной информацией. Больше того, мистер О’Тул, ни одна душа не должна знать о нашем разговоре. Именно поэтому сегодняшнее свидание я обставил в стиле дешевого детективного романа. Уж извините великодушно...
— А что заставило вас остановить выбор на мне?
— Вы не аргентинец и, кроме того, приехали сюда ненадолго! Вряд ли кому придет в голову связать вместе наши имена.
— Ваша откровенность меня поражает. Откуда вам известно, что я за человек?
— Положим, кое-что известно. От моих друзей в Сантьяго. Они неплохо знают Глорию Рамирес, да и о Фрэнсисе О’Туле отзываются как о человеке твердых принципов и... достаточно радикальных убеждений.
Если в конце этой фразы и прозвучал вопрос, я на него никак не отреагировал, думая о своем. В том пасьянсе, который я начал раскладывать в Сантьяго, кажется, появилась еще одна нужная карта. Вот только не крапленая ли?
— Есть основания полагать, — продолжал Фабио Аллика, — что путч в Чили будет первым шагом «Кентавра». На очереди Панама и Аргентина.
— Даже так?
— Представьте себе. Нынешние режимы этих стран тоже вызывают раздражение в определенных и притом, весьма влиятельных кругах Вашингтона своим стремлением покончить с неравноправным партнерством.
Знакомые интонации. Знакомые доводы.
Словно мой экспансивный портеньо позаимствовал их из книги канадского профессора Уорнока. Бедные «партнеры Бегемота»! Или в сочувствии нуждается сам бедняга Бегемот, от которого все шарахаются?
Десятого мая, наутро после моего дня рождения, отмеченного более чем скромно в баре Ассоциации иностранных журналистов, я вылетел в Сан-Мартин-де-лос-Андес, в тот самый «неприметный городишко» на границе с Чили, о котором говорили Пепито Акоста и полковник Кастельяно. Впервые я выступал в роли частного детектива (правда, работающего на самого себя да еще, пожалуй, на Истину). С чего начать свой персональный сыск, решительно не знал. И потому начал с визита к отцу Лукасу, настоятелю монастыря Святой Троицы.
Священник-коммивояжер Порфирио не преувеличивал: его друг и вправду оказался преобязательнейшим человеком. Он угостил отменным обедом (в прохладной с низкими сводами трапезной, где гулко разносились голоса монахов, звон оловянных тарелок и шаги обслуживающего нас бледного послушника), рассказал об истории этих мест (от седых времен испанской конкисты до войны за независимость против тиранов-испанцев, в которой особо отличился генерал Хосе де Сан-Мартин), охотно согласился познакомить с достопримечательностями города и окрестностей (и позже выполнил обещание — сам водил меня до тех пор, пока я не стал валиться от усталости, по мастерским ремесленников, больнице для бедных с рентгеновским кабинетом, лепрозорию. До скотоводческих ферм, слава богу, мы не добрались).
Преломив со мною хлеб (если только можно так назвать сочное асадо со свежими овощами и терпкое монастырское вино), настоятель пригласил пройтись по саду.
— Этот розарий — моя гордость и услада, — францисканец потянулся к хрупкому стеблю лимонно-желтого цветка, склонился над кустом, умиленно вдыхая аромат чайной розы.
Нелепо выглядел в сутане этот рослый, пышущий здоровьем красавец с лицом умным, живым и мужественным. И что ему вздумалось в затворники податься? Воистину, неисповедимы пути господни! Но так ли уж он далек от мирской суеты? Я спросил:
— Вы разделяете воззрения падре Порфирио на роль церкви в современном мире?
— Крайности сходятся. Я бы, конечно, не стал торговать книгами на улице ради пропаганды «всеобщего равенства и братства», однако я тоже не стою в стороне от борьбы за социальную справедливость. Ведь Второй Ватиканский собор внес существенные изменения в программную и практическую деятельность церкви. Здесь, в Латинской Америке, революция все равно произойдет. С нами. Или без нас. Но ясно как божий день, что если она свершится без нас, то будет против нас...
Многое из того, что поведал настоятель, было не лишено интереса, однако это ни на шаг не приблизило к цели предпринятого расследования, так мне, по крайней мере, в тот день казалось.
Рыжими лучами солнце зацепилось за остекленный фасад шестиэтажного банка — самого высокого и модернового здания Сан-Мартин-де-лос-Андес. Был час сиесты. Разомлев от очередной экскурсии, организованной неуемным францисканцем, я сидел под тентом в кафе, которое притулилось к моей гостинице «Каса гранде», и цедил из кружки студеное пиво. За компанию со мной томились от жажды припыленные деревья сквера, разбитого на центральной площади. Она, как и во всех старых латиноамериканских городах, конечно же называлась Пласа-де-Армас — Арсенальной. Где — в этом сонном царстве! — скрыты тайные арсеналы? Или они — плод фантазии кичливого полковника Кастельяно, выдающего желаемое за действительное?
— Могу предложить на выбор несколько девочек. Молоденьких. — Заискивающе-нахальный сутенер подошел неслышно, по-кошачьи. Веером развернул скабрезные фотографии.
— Не требуется.
— А сигареты с марихуаной? Товар первосортный...
— Это другое дело — готов приобрести оптом большую партию.
Озадачил я зализанного субъекта — оптовая торговля определенно не по его части. Замявшись на минуту, он тут же вновь оживился:
— Сам я не оптовик. Но сведу с нужными людьми, — засуетился он. — Сегодня же вечером. В десять часов. Годится?
— О’кей. Ждите меня в отеле. В холле.
Кажется, я напал на след контрабандистов. А там, где промышляют наркотиками, может быть, наживаются и на продаже оружия.
Тусклая, засиженная мухами лампа не столько освещала комнату, сколько подчеркивала никогда не покидавший ее сумрак. Если бы даже я попал сюда днем, единственное узкое, как бойница, оконце вряд ли добавило бы света в подвальное помещение, смахивающее на тюремную камеру, — впечатление это еще усиливали металлические прутья оконной решетки, кованная жестью тяжелая дверь, холодный цементный пол и давно нештукатуренные стены в бурых подтеках то ли вина, то ли крови.
Гаденький сутенеришка вел меня в этот притон контрабандистов разве что не с завязанными глазами: мрачным зловонным переулком; узкими проходами кладбища ржавых, отживших свой век машин; безлюдным двором, забитым пустыми бочками и ящиками; крутой неосвещенной лестницей; сырым тоннелем длинного коридора. Привел и надолго оставил одного.
Я курил сигарету за сигаретой, стряхивая пепел в консервную банку из-под пива, валявшуюся на осклизлых досках грубо сколоченного стола. Не по себе мне было в каменном мешке. И откуда тут глухие звуки музыки, шарканье ног, неясное бормотание?
В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась.
В комнату вошли двое. Третий задержался на пороге.
Молча подняли меня с колченогого стула. Молча прощупали — нет ли оружия. Кивнули третьему:
— Все в порядке, Эль-Тиро.
— Тогда валите, ребятки. Будьте поблизости. Можете понадобиться.
Рослые, широкоплечие «ребятки» — щуплый шеф рядом с ними выглядел преждевременно состарившимся мальчиком — ретировались с невозмутимой покорностью на лицах, тупых и невыразительных, как плоские валуны в предгорьях Анд.
— Мачо сказал, что вам требуется большая партия товара. — Морщинки на лбу выжидательно сошлись к переносице.
— Верно. — Я сообразил: прозвище относится к сутенеру.
— А почему сеньор надеется именно в Сан-Мартин-де-лос-Андес найти то, что ему требуется?
— О вашем городе мне рассказывали еще в Чили.
— Любопытно узнать, кто же? — контрабандист недоверчиво прилип ко мне взглядом, будто брал на мушку. Этот Эль-Тиро — Выстрел — наверняка бьет без промаха. Я невольно поежился под двустволкой его глаз.
— Пепе Акоста. Слышали о таком?
Вопрос повис в воздухе и растаял в табачном дыму, плававшем под потолком «камеры пыток». Но было ясно, что имя владельца «Ранчо луна» здесь пользуется достаточным доверием. Эль-Тиро закинул ногу на ногу, выставив напоказ черно-белый лакированный штиблет — в таких щеголяли лет тридцать назад чечеточники в Штатах. Расстегнул пиджак своего белоснежного костюма — по красному жилету змеилась золотая цепь от часов.
— Есть героин. Сколько возьмете?
— Фунтов пять... Впрочем, меня интересуют не только наркотики. Оружие тоже.
— Бесплатным приложением к героину — в память о нашей фирме — обещаю револьвер «Руби экстра» 32-го калибра и несколько обойм к нему.
— Благодарю... Только моей фирме нужно револьверов... ящиков десять. Не меньше.
Контрабандист продолжал сидеть все в той же непринужденной позе, но я заметил, что он насторожился, на скулах заиграли желваки, пальцы, отбивавшие дробь по столу, сжались в кулак:
— Кого вы представляете, сеньор?
— Отвечать обязательно? — вопросом на вопрос с вызовом ответил я.
— Обязательно.
— Обещание чека на крупную сумму можно считать ответом?
— Боюсь, что нет.
Дело принимало скверный оборот.
Эль-Тиро подождал, немного. Потом громко свистнул. В комнату ввалились его телохранители.
— Отведите нашего дорогого клиента к Хозяину... Прошу вас! — он поднялся и повел рукой в сторону выхода.
Громилы расступились.
Я прошел между ними, напрягшейся спиной ожидая удара.
Резкая, острая боль отшвырнула меня назад. Падая, я успел увидеть промчавшуюся над головой тусклую лампу. Качнувшиеся стены в бурых подтеках то ли вина, то ли крови. И мрак, надвигавшийся из углов комнаты-камеры.
15 сентября
САНТЬЯГО. ПО ПРИКАЗУ ВОЕННОЙ ХУНТЫ В ГОРОДЕ СО СТЕН ДОМОВ СДИРАЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ И ЛОЗУНГИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ОСТАВШИЕСЯ ОТ ПРЕЖНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. СЕГОДНЯ ВМЕСТО НИХ ПОЯВИЛИСЬ ЛИСТОВКИ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ УШЕДШИМИ В ПОДПОЛЬЕ ПРОТИВНИКАМИ НОВОГО РЕЖИМА. Я ВИДЕЛ ТАКЖЕ ВЫВЕДЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ СВЕЖИЕ НАДПИСИ: «АЛЬЕНДЕ, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ПРО КРОВЬ, ПРОЛИТУЮ ТОБОЮ ЗА РОДИНУ».
Карикатурно вытянутое лицо с непропорционально высоким лбом смешно шевелило губами маленького, как куриная гузка, рта. Фрэнку было лень отлаживать изображение, тем более что программа Католического университета — единственного разрешенного хунтой канала столичного телевидения — не представляла для него особого интереса.
Диктор торжественно вещал:
«Обстановка в стране нормализуется. Военные власти повсюду контролируют положение».
— Вранье!
Фрэнк вздрогнул и всем телом резко повернулся на голос, раздавшийся за спиной. У двери стоял Томас де Леон-и-Гонзага, без стука вошедший в номер. Он был бледен. Правая рука на перевязи.
— Вижу, красные снайперы задали вам нелегкую задачу? — О’Тул не смог сдержать неприязни, глядя на ранее симпатичного ему офицера, который тоже запятнал свои руки кровью: а ведь совсем недавно любил порассуждать о верности армии правительству, избранному народом, и, казалось, искренне возмущался «гориллами» вроде полковника Кастельяно.
Лейтенант рухнул в кресло. Швырнул на диван автомат.
— Будь другом, дай выпить!
Взял стакан и торопливыми большими глотками осушил его.
— У господ победителей не все ладится?
— Пошел к черту, Фрэнк! Неужели ты думаешь, что я вместе с этой сволочью?!
Журналист, который, казалось, перестал в последнее время вообще чему бы то ни было удивляться, потрясенно слушал молодого де Леон-и-Гонзага. Как тот вырвался из офицерского училища, поднятого генералами в ружье, и примкнул к горстке защитников «Ла Монеды». Как военная форма спасла ему жизнь, когда президентский дворец был взят штурмом (в неразберихе, в дыму бушевавшего пожара путчисты приняли лейтенанта за своего). Как потом он присоединился к снайперам и сражался вместе с ними в течение пяти дней, пока его не ранили.
— Каким образом удалось уйти из оцепленного района? А мой мундир? Да еще эта нарукавная повязка — «верноподданного хунты». Их раздавали в училище и во всех воинских частях в ночь с 10 на 11 сентября... Налей-ка еще виски, Фрэнк. Лихорадит меня что-то...
Томас выглядел вконец измученным. Лоб покрыла испарина. На ввалившихся небритых щеках проступил нездоровый румянец. Воспаленные веки слипались.
— Прилег бы ты... Поспи часок.
— Признаться, я за этим и шел к тебе. Пять суток без сна. Домой мне пути заказаны. А надо передохнуть немного: до гор далеко, я ведь к партизанам собираюсь...
Уложив раненого, О’Тул запер дверь на ключ, отключил телефон и, взяв пишущую машинку, устроился, чтобы не мешать спящему, в просторной лоджии за низеньким мраморным столиком.
Ему предстояло закончить статью для журнала «Маклинз».
Описывая церемонию принесения присяги членами хунты, Фрэнк полностью привел текст клятвы, произнесенной генералом Аугусто Пиночетом. Там, в частности, говорилось:
«Я заявляю перед богом, страной и законом, что буду действовать на своем посту со всей силой моей страсти и любви к отчизне. В борьбе за национальное возрождение я не остановлюсь перед использованием всех находящихся в моем распоряжении средств, каких бы жертв это ни потребовало...»
О’Тула так и подмывало зло откомментировать слова главаря путчистов, но он, как и в своих коротких корреспонденциях и телеграммах, отправленных из Сантьяго после 11 сентября, ограничился сухим изложением фактов. Не время было раскрывать свое подлинное отношение к перевороту.
Непродолжительный отдых не принес облегчения Томасу. Озноб не проходил. Поднялась температура.
— Нет, мой юный друг, никуда я тебя не отпущу. Идти в таком состоянии в горы — никому не нужная бравада. Самоубийство. Ты отправишься со мной, одевайся. Есть надежное место на побережье.
Парень настолько ослаб, что возражать не стал.
В дороге, задремав, он начал бредить. Фрэнк остановил машину, чтобы уложить лейтенанта на заднее сиденье, но тот, с трудом открыв глаза, сказал:
— Не надо. Сидя рядом с тобой, я меньше привлекаю внимание.
Патрули пропускали «тойоту» беспрепятственно, едва взглянув на документы и раненого боевого офицера.
Неожиданность подстерегала их в Топокальме. Они увидели приткнувшийся к бунгало армейский «джип» с пулеметом, установленным на капоте. Вокруг ни души...
В тот день телефонный звонок О’Тула, сообщившего, что он намерен приехать, да к тому же не один, застал Глорию врасплох. Она ждала Хуана и потому попросила:
— Давай отложим до завтра.
— Это невозможно.
— Тогда, по крайней мере, объясни, кого ты везешь с собой.
— Не телефонный разговор, Гло. Узнаешь при встрече.
Повесив трубку, девушка взбежала по лестнице на второй этаж, где в одной из пустующих гостевых спален Исидоро Итурраран печатал листовки.
— Еще две сотни готово. — Он вытер тряпкой перепачканные краской руки. — Жаль, бумага на исходе.
— Бумага будет: товарищ Паланке обещал. А сейчас все равно только-только успеем добить последнюю пачку: должны пожаловать гости — Фрэнк с каким-то своим другом.
Исидоро вновь склонился над печатным станком, а Глория принялась за упаковку прокламаций, которые предстояло отправить в Сантьяго.
За окном послышался нарастающий шум автомобильного мотора. К дому приближался «джип» с пулеметом, установленным на капоте. За рулем сидел солдат в каске.
Из воспоминаний О’Тула
САН-МАРТИН-ДЕ-ЛОС-АНДЕС, МЕНДОСА. МАЙ
Ящики... ящики... ящики мерно качались, грозя обрушиться на мое тело, беспомощно распростертое на полу. Пол подо мной тоже ходил ходуном, как при семибалльном шторме. Трюм был пропитан стоялым запахом машинного масла. Я попытался приподняться и вновь потерял сознание.
Сквозь вязкую глину беспамятства просочилось:
— Ахтундахтциг!
И словно эхо, меняющее голос:
— Ахтундахтциг!
Корабль. Немецкая речь. Куда меня занесла нелегкая?
Приоткрыл глаза. В конце узкого прохода между плоскими длинными ящиками (их перечеркивала броская надпись: «Стекло! Осторожно! Не кантовать!») два тевтона болтали на чистейшем баварском диалекте. И тут меня осенило: «ахтундахтциг» («восемьдесят восемь») — да это же приветствие неонацистов! Современный эквивалент приснопамятного «хайль Гитлер!».
Ящики, качнувшись в последний раз, застыли на месте. В неверном свете фонаря проступили запотевшие от сырости каменные стены. Нет, не на корабле я. Не на корабле...
— Мальчики из команды Эль-Тиро явно переусердствовали. Они едва не отправили нашего гостя к праотцам. Могли испортить всю обедню: мертвые — народ неразговорчивый, слова не вытянешь.
— Ничего. Очухается. Подумаешь, приласкали кастетом... Кстати, где они его так?
— В задней комнате бара «Засоня Педро».
Так вот почему там слышалась музыка, шарканье ног. Я потянул налитую свинцом руку к ноющему затылку и не сдержал стона. На ладони осталась липкая, загустевшая кровь.
— Смотри-ка, Отто, — теперь тевтон заговорил по-испански, — этот любитель наркотиков и контрабандного оружия уже приходит в себя. А ты, доброхот, сердобольничал... Позови Хозяина.
— Хорошо, Иоганн.
Кап. Кап. Кап... Совсем рядом с потолка падала вода. Китайской пыткой капли взрывались в моей — и без того иссушенной болью — голове.
— Пи-и-ить!
— Заткнись! Нахлебаешься вдосталь на дне озера. — Грубые, с подковками, ботинки загрохотали по цементному полу. Иоганн остановился, выплюнул обслюнявленный огрызок сигары и пребольно пнул меня в бок. — Поднимайся, скотина!
Что мне оставалось делать? Попытался по частям собрать свое Я, разметанное во времени и пространстве.
Перевалился на бок.
Подтянул колени.
Уцепился за скобу ближайшего ящика.
Встал, пошатываясь.
Выпрямился.
Так и подмывало коротким хуком съездить по физиономии недобитого наци. Но мне тоже не хотелось портить обедни. Я рассчитывал вывернуться из этой гибельной ситуации и довести расследование до конца. Я упрямо верил, что родился с серебряной ложкой во рту.
Иоганн повел щетиной рыжих бровей и невесело глянул на меня:
— Ну, ну! Не валяй дурака. — Руку с револьвером (опасаясь, что я рискну выбить оружие) он держал у пояса, сбоку, — готовый к выстрелу с бедра. — Топай! — Короткий кивок в сторону тесного прохода. — Стой! Садись! — Тычок дулом в спину. Я плюхнулся на цинковую коробку («А ведь в таких обычно перевозят патроны!») у замызганного канцелярского стола.
Иоганн уселся на валкий стул, единственный в этом странном складском помещении. Зевнул, блеснув коронками золотых зубов. Раскурил сигару и с ухмылкой выпустил клуб дыма мне прямо в лицо.
Осенний дождь шаркал по крыше. На пороге склада появился Хозяин. За ним смутной тенью маячила фигура Отто.
Иоганн вскочил со стула:
— Присаживайтесь, шеф. — Поймал на лету брошенный ему дождевик. Бережно повесив на крюк, вернулся к столу.
— Какой язык предпочитает для беседы сеньор журналист? Испанский или английский? — на чистейшем кастильском диалекте, которым в Латинской Америке никто не пользуется, вежливо спросил господин с бритым черепом, снимая пенсне в золотой оправе.
— Немецкий, если не возражаете. — Мои разбитые спекшиеся губы едва шевелились.
Щека, прорезанная стародавним шрамом драчуна-корпоранта, нервно дернулась:
— Возражаю... — И уже спокойнее: — Кроме вас, любезнейший, по-немецки здесь никто не говорит. (Отто и Иоганн пугливо переглянулись.) Так вы, стало быть, и не канадец вовсе, а фамилия О’Тул — липа?
— В отношении моей национальности можете не сомневаться. Это нетрудно проверить, связавшись с посольством Канады в Байресе. Мой прапрадед майор Арчибальд О’Тул под знаменами генерала Бронка сражался у Ниагары в 1812 году с американцами, когда те, под шумок наполеоновских войн в Европе, попытались оттяпать добрый ломоть нашей земли и были разбиты наголову... А батюшка, капитан Канадских королевских военно-воздушных сил, должен вам заметить, топил подлодки бошей в Атлантике. (Щека со шрамом опять дрябло дрогнула.) Позвольте и мне полюбопытствовать, с кем имею честь?
Хозяин величаво водрузил пенсне на прямой арийский нос. (Его породистому лицу больше подошел бы монокль — из тех, в которых любили щеголять высшие офицеры вермахта.) Откашлялся. Слегка склонил голову — блик от фонаря скользнул по буграм отполированного черепа:
— Называйте меня просто Алонсо Кабеса де Вака-и-Бальбоа. (С таким же успехом он мог прибавить к своей, несомненно вымышленной, фамилии еще парочку-другую имен известных конкистадоров.) Хуан!.. (Иоганн продолжал безмятежно дымить сигарой.) Хуан, я тебе говорю! Подай бумаги сеньора О’Тула.
Обалдело хлопнув редкими рыжими ресницами, подручный дона Алонсо ринулся в темный угол и извлек оттуда атташе-кейс крокодиловой кожи. Мой! Но он же оставался в гостинице! Значит, пошарили в номере.
На свет божий появились и аккуратно легли на стол визитные карточки, документы, блокноты с записями, чековая книжка «Ройал банк оф Канада», газетные вырезки, бережно хранимые мною письма от Глории и — отдельно — «контрольки», пробные отпечатки некоторых отснятых еще в Чили пленок, которые я удосужился отдать в проявку лишь в Буэнос-Айресе.
Господин Бритый Череп ничего не оставил без внимания; даже марки, собираемые мною для сына, педантичный, хотя и определенно латинизированный немец вытряхнул из конверта. Навалился грудью на стол и предложил с наигранной задушевностью:
— Давайте потолкуем откровенно.
— Прежде — пить. И сигарету. — Отчаянно мутило. Перед глазами расплывались радужные круги.
— О, конечно, конечно, дорогой сеньор О’Тул. Воду сейчас принесут. — Понятливый Отто, не дожидаясь, пока шеф придумает ему какое-нибудь экзотическое имя, вышмыгнул за дверь. — Закуривайте! — Он протянул открытую пачку и предупредительно щелкнул зажигалкой. — Ай-яй-яй! Мои несмышленые мальчики до сих пор не дали вам напиться... Надеюсь, они вели себя корректно?
— Корректней некуда. — Меня всего ломало. Я демонстративно потер ноющий бок.
Дождь припустил, угрюмо барабаня в черепичную кровлю.
Ночная бабочка, на свет залетевшая в помещение, обреченно билась о фонарь, когда расторопный Отто вернулся с графином воды.
— Итак, сеньор О’Тул, — допустим, что эта фамилия настоящая, — придется ответить на несколько серьезных вопросов. Отчего вас, солидного журналиста, если опять же вы и в самом деле имеете отношение к прессе, отчего вас потянуло вдруг к такому неблаговидному занятию: операциям с наркотиками?
— А собственно, по какому праву мне учинен этот допрос?
— По праву сильного... В ваших интересах не лезть на рожон и быть посговорчивее. Вы ведь хотите дожить до старости и умереть в собственной постели, в окружении чад и домочадцев? Ну, вернемся к нашим баранам, то бишь наркотикам.
Я вздохнул:
— Никуда не денешься, придется выкладывать правду, — ответ был приготовлен заранее. — Хотите — верьте, хотите — нет, без наркотиков жить не могу. Удовольствие — сами понимаете — накладное. Даже моих, в общем-то, хороших заработков стало не хватать. По уши залез в долги. Пушер[8] Пепито Акоста, владелец кабаре в Сантьяго, перестал отпускать товар в кредит. А когда узнал, что я еду в Аргентину, предложил связаться с контрабандистами в Сан-Мартин-де-лос-Андес. Я сдуру отказался. А потом пожалел. И ох как пожалел! Вот и решил сам попытать счастья. Запасусь, думаю, наркотиками для себя, остаток выгодно сбуду тому же Акосте и расплачусь с заимодавцами.
Хозяин слушал внимательно, кивая головой в такт моим словам. Но вот он снял пенсне. Протер стекла аккуратным лоскутком замши и ласково произнес:
— Неувязочка... Чтобы приобрести пять фунтов героина, нужны большие деньги. Где же при вашем-то стесненном положении вы раздобыли столь кругленькую сумму?
— Работаю не один. В доле с приятелем: его деньги — мой риск.
Для вящей убедительности я назвал имя Дика Маккензи. Расчет был прост: захотят проверить, убедятся, что тот — человек с достатком, докопаться же до правды им не удастся: ведь будь Дик и впрямь причастен к придуманной мною афере, он все равно никогда в этом не признался бы.
— Ну ладно, будем покамест считать, что на первый вопрос вы ответили. Остается сущий пустяк. Десять ящиков револьверов, очевидно, понадобились вам для пополнения личного арсенала? Вы и к стрельбе пристрастились так же, как к героину?
Я ждал этого вопроса и опасался его: ничего путного для объяснения моего сугубого интереса к контрабандному оружию придумать — увы! — не удавалось. Желая выиграть время, попросил еще одну сигарету. Отхлебнул из стакана воды, почему-то остро пахнущей карболкой (поначалу, мучимый жаждой, я этого не заметил).
— Что же вы замолкли, сеньор?
— Размышляю, как яснее изложить суть дела и одновременно не предать чилийских друзей, возложивших на меня столь деликатную миссию...
Дон Алонсо Кабеса де и так далее сумрачно ждал продолжения.
— ...Группа противников Народного единства готовит вооруженное восстание, — я еще раз многозначительно замолк.
— «Патриа и либертад»?
— Нет, речь идет о другой организации, действующей в условиях строжайшей конспирации, — я понимал, что бессмысленно выдавать себя за эмиссара «Патриа и либертад», с которой контрабандисты наверняка тесно связаны. — Мне хотелось объяснить все это вашему другу Эль-Тиро, но я не успел...
При слове «друг» шрам на щеке бывшего драчуна-корпоранта гневно зарделся. Еще бы: мой надменный собеседник, поди, учился где-нибудь в Гейдельбергском университете, до того как сменил приставку «фон» на «дон», а его ставят на одну доску с мелким туземным гангстером. Благоразумие подсказывало, что опасно играть на самолюбии высокомерного боша, но — господи! — как мне всегда было трудно обуздывать свой колючий, ершистый характер.
Хозяин успокаивал нервы, перетасовывая изъятые из моего атташе-кейса визитные карточки, будто собираясь сыграть в «канасту».
— Видные у вас знакомые, сеньор О’Тул, по ту сторону границы... Депутат парламента Лескано... Сенатор де Леон-и-Гонзага — семейство известное... Генерал Пиночет... Полковник Кастельяно... Епископ Доминеч... — Он отложил визитки, придвинул к себе пачку фотографий. Сухой, когтистый палец царапнул по снимку, сделанному в поместье «Сельва Верде»: — А тут кто запечатлен?
— Глава частного сыскного бюро в Сантьяго американец Дик Маккензи — я уже говорил о нем, и его соотечественник журналист Марк Шефнер.
Я уже было настроился рассказывать обо всех, кому довелось попасть в объектив моих фотокамер, но неожиданно «фон Алонсо» встал и отрубил:
— На сегодня хватит!
Он собрал со стола бумаги, уложил в атташе-кейс и, не прощаясь, удалился, на ходу небрежно бросив:
— Отто, притащи сеньору матрац и возьми на кухне что-нибудь из еды.
Мой поздний ужин — или ранний завтрак? — свелся к миске плохо проваренной кукурузы с ошметками говяжьей тушенки и кружке остывшей светло-коричневой бурды, безуспешно выдававшей себя за кофе. Зато постель показалась королевской: новенький — точно только что из магазина — матрац, шерстяное мышастое одеяло и чистая, хоть и без наволочки, подушка.
По-немецки пожелав охранникам доброй ночи (они вздрогнули при звуках родной речи), я заснул, без порошков и таблеток, глубоким сном праведника.
Привиделось, что я в своем далеком заснеженном Альмонте. Под бледными лучами северного солнца высверкивал лед застывшей реки, по которому, шлепая босыми ногами, я бежал к отчему дому. Ближе... Ближе... Но что это? Окна и двери крест-накрест заколочены досками с броской надписью: «Ахтунг! Стекло! Не кантовать!» Что сталось с отцом? Я хотел и не мог сдвинуться с места: ступни все глубже врастали в лед...
Я стряхнул сонное оцепенение. Мои голые ноги, выпроставшись из-под одеяла, стыли в рассветной прохладе.
В крохотное, затянутое паутиной оконце хмуро заглядывало белесое утро. Я сел, осмотрелся. За столом, в конце прохода, похрапывал кто-то из охранников, кажется, Отто. Вокруг громоздились все те же ящики, но сейчас на их смолистых боках отчетливо белели бумажные квадраты почтовых ярлыков — во мгле и треволнениях минувшей ночи я их не приметил. Вчитываясь, увидел, что адрес отправителя везде одинаков: «г. Вальдивия. Алонсо Кабеса де Вака-и-Бальбоа». (Неужели этот проходимец выправил себе документы на такое фантастическое имя?!) Получатели были разные: какие-то неведомые мне сеньоры Пересы, Мартинесы и так далее и тому подобное, жительствующие в Сантьяго, Консепсьоне, Темуко, Вальпараисо, Ранкагуа, и в компании с ними — некий господин Адольф Кранц из колонии «Дигнидад», что подле города Парраль. («Дигнидад»?.. По-немецки «Вюрде»... Ну, конечно! Это же поселение нацистов, бежавших от возмездия после разгрома третьего рейха.)
На одном из ящиков доска отошла, оскалясь редкими зубьями ржавых гвоздей. Я осторожно, чтобы не разбудить Отто, поднялся со своей королевской постели и — еще более осторожно — запустил руку в утробу деревянной тары, содержимое которой предписывалось никоим образом не кантовать. Стружки. Промасленная бумага (вот откуда тот поначалу сбивший меня с толку запах судового машинного отделения!). Пальцы нащупали цилиндрический стержень, прошлись по нему и легли на ложе карабина.
Все становилось на свои места: Хозяин и его свора — контрабандисты оружием, попутно промышляющие наркотиками; груз, минуя пограничные и таможенные посты, переправляется из Аргентины в Чили, а там из города Вальдивии рассылается — уже по почте — противникам Народного единства. К этой преступной игре причастны и вчерашние наци.
Размышляя над сделанным открытием, я вновь улегся. По самый нос натянул на себя одеяло. Прямо перед глазами по мышастой шерсти кровью расползался красный казенный штамп: «Лепрозорий святого Франциска Ассизского». Я громко выругался.
Сонный страж заворочался.
— Отто! Черт вас возьми... Да проснитесь же!
Натянув башмаки, я заковылял к выходу. Тевтон заворчал сквозь зубы, постепенно пробуждаясь.
— Немедленно позовите шефа, — я сорвался на крик: — Слышите, не-мед-лен-но!
Отто пружинисто выскочил из-за стола, схватил меня за ворот рубахи и рывком отшвырнул назад.
— Заткнись, собачий сын!.. Если понадобишься шефу, он сам сюда придет.
Не решаясь присесть на матрац — новый вроде, но вдруг им уже пользовались прокаженные! — я без сил опустился на ящик. Понятно теперь, почему вода в графине воняла карболкой. А миска? Ее-то хоть догадались продезинфицировать?! В памяти всплыла мерзкая картина: отец Лукас — Дантевым Вергилием — во время очередной экскурсии таскает меня по кругам лепрозорного ада. Львиные маски сгнивших лиц... Култышки скрюченных рук... Безобразные язвы на теле...
Сколько я просидел так в удрученном оцепенении, не знаю. Я полностью отключился и не слышал, как пришел Хозяин.
— Доброе утро, сеньор О’Тул. Надеюсь, хорошо спалось. Присаживайтесь к столу. Мы навели справки — наши чилийские коллеги рекомендуют вас с наилучшей стороны: вы, оказывается, протеже мистера Драйвуда. Что ж, голубчик, сразу об этом не сказали?
— А вы бы мне поверили? И потом, как я мог предположить, что вам знакомо имя моего друга Джеймса, крупного бизнесмена, не имеющего ровным счетом никакого отношения ни к торговле оружием, ни тем более к операциям с наркотиками.
Гневливый главарь контрабандистов слегка поморщился на мой почти незакамуфлированный укол, но вступать в словесную перепалку не стал:
— Давайте о деле. Итак, если ваши планы не изменились за ночь, мы можем действительно оказать вам содействие в приобретении и героина и оружия. В какой валюте будете платить?
— В долларах. Через полторы недели я возвращаюсь в Чили, получу «о’кей» от Дика Маккензи и других моих компаньонов и тут же дам вам телеграмму... Ну, скажем, такого содержания: «Тетя Грета на смертном одре». Кстати, куда ее направить?
— Телеграмму адресуйте в монастырь Святой Троицы, отцу Лукасу.
Я едва не поперхнулся от неожиданности.
— Ясно... Дальше действуем так. Я вновь приезжаю в Сан-Мартин-де-лос-Андес — уже с задатком. Столкуемся о цене, и остальную часть денег получите на чилийской территории, в милой вам Вальдивии.
— Вот атташе-кейс. Все бумаги на месте. Сейчас вас отвезут в гостиницу, но... — извиняющимся тоном предупредил он, — придется, сеньор О’Тул, смириться еще с некоторыми неудобствами: наш бизнес — дело деликатное, требующее максимальной осторожности.
Миг — и по знаку шефа сноровистый Отто ловко защелкнул наручники у меня за спиной, натянул на голову черный мешок.
Через четверть часа кончились и последние «неудобства»: я увидел сочные пастбища под низким пологом кучевых облаков, беленные известью фермы, буйные заросли жимолости и тамариска — все радовало меня в этот час свободы, когда лихой «ситроен» во весь опор мчался к городу.
За рулем восседал Эль-Тиро. Я — как ветчина в сэндвиче — был зажат между его рослыми широкоплечими «ребятками».
Щуплый бандюга обернулся с улыбкой:
— Рад, что мы снова вместе...
Невыразительные лица его телохранителей (кто же из этих мерзавцев «приласкал» меня кастетом?) неумело изобразили благодушную незлобивость.
Очутившись наконец один в своем номере — высоченный потолок и приземистая мебель, застекленная олеография понурого Христа-спасителя и ярмарочно-крикливое полотно местного художника-абстракциониста Леонардо Рабиновича, захватанная телефонная книга и чистенькая, нечитаная библия на поцарапанном комоде, — я первым делом ринулся в ванную и вспугнул полчища тараканов, совсем обнаглевших за время моего отсутствия.
Скорее смыть и грязь, и кровь, и усталость, и само воспоминание о последнем прибежище отверженных!
После душа, подравнивая бороду, я заметил, что в ней как будто прибавилось седины за прошедшие сутки.
«Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим», — вспомнил я расхожий афоризм Ларошфуко, когда взялся за трубку, чтобы позвонить настоятелю монастыря. Расследование, предпринятое мною, чуть было не привело к катастрофе, но я не мог остановиться.
— Я сам к вам приеду, — густым басом отозвался погрязший в мирской суете последователь святого Франциска Ассизского.
Он вошел гренадерским шагом.
Чуть дольше положенного задержал мою руку в своей здоровенной ладони.
Глубоко заглянул в глаза.
— Получается, мы с вами единомышленники. — Опускаясь в кресло-качалку, он по-женски поддернул бурую, подпоясанную нейлоновым вервием сутану.
— Получается... Значит, все, что вы говорили в прошлый раз о новой роли церкви, преподобный отец, следует напрочь вычеркнуть из моего журналистского блокнота?
— Упаси бог! Именно так все и изложите, коли уж надумали затронуть эту щекотливую тему в своих писаниях. Да, революция в Латинской Америке грядет с неотвратимостью рока. Да, наша святая церковь, чтобы сохранить место под солнцем, должна поспешать за стремительным развитием событий, приспосабливаясь к ним. Но — и это очень важное «но», не предназначенное для непосвященных, — задача слуг божьих — оттянуть, поелику возможно, революционную бурю... В прошлый раз я не был с вами до конца откровенен, не зная, с кем имею дело.
— Вот оно что... А я всерьез поверил в существование левой церкви...
— Нет такой и в помине, милейший Фрэнсис. Одна видимость, мираж. Правда, среди священнослужителей есть кучка блаженных... Вроде падре Порфирио... К счастью, они не делают погоды.
Отец Лукас до сумерек просидел у меня. С упоением говорил о Мендосе, откуда был родом и куда я намеревался вылететь на следующий день. Нахвалил здешний мате[9], который нам подали в номер. Сокрушался, что я не видел аргентинского родео. Заметно оживился, покачиваясь в кресле, когда речь зашла о сравнительных достоинствах и недостатках англосаксонских женщин и латиноамериканок.
У самой Мендосы наш древний винтовой самолет попал в грозу. По-старчески задыхаясь и охая обоими моторами, он безропотно проваливался в воздушные ямы, мотался из стороны в сторону средь сизых туч, театрально подсвеченных отблесками молний.
Дождь почти утих, когда мы пошли на посадку.
Я возвращался в Буэнос-Айрес. Никаких дел в Мендосе у меня не было, но я решил остановиться там на пару дней, позволив себе маленькие вакации, столь необходимые после встряски в Сан-Мартин-де-лос-Андес. Тем более, что мне давно хотелось поглядеть на «жемчужину Кордильер», которую так нахваливали рекламные проспекты и мои аргентинские друзья.
Пообедав на скорую руку в гостиничном ресторане, я, как заправский турист, нанял пролетку и попросил возницу показать город. Тот услужливо приподнял засаленный цилиндр, щелкнул кнутом, и двухколесный музейный экспонат со скрипом тронулся с места.
Дома укрывались от любопытных глаз за нескончаемыми рядами развесистых деревьев, тронутых позолотой осеннего мая. Аллеи сменялись цветниками. Асфальт, умытый недавним дождем, влажно блестел. Редкие прохожие старательно обходили зеркальные лужи, в которых плескалось солнце, выглянувшее из-за туч.
На фоне буйной зелени, затопившей центр Мендосы, глуповато смотрелась с вывески потухшая стеклянная пальма, давшая имя какому-то невзрачному отелю, выбежавшему на угол узкой торговой улицы. Под полотняным навесом подъезда маялся златогалунный швейцар. Вот он засеменил к остановившемуся такси. Распахнул дверцу. Из автомобиля вышел и как-то странно огляделся по сторонам коротко стриженный крепкосбитый субъект, чье лицо показалось мне знакомым. «Роберто Тим? Быть того не может! Ведь он погиб в авиакатастрофе. В феврале в одном из соборов Сантьяго была отслужена месса за упокой его души... Да нет, я, конечно, обознался».
Пока я терзался сомнениями, пока раздумывал, не броситься ли вдогонку за незнакомцем, двойник Тима скрылся за стеклянными дверями «Ла пальмы».
«Померещилось», — окончательно решил я и приказал ехать к Холму славы. («Оттуда прекрасный вид на город, сеньор», — занудливо втолковывал мне Засаленный Цилиндр, погоняя неторопкого мерина.)
Вершину Сьерры-де-ла-Глория венчал величественный монумент в честь легендарного перехода через Кордильеры инсургентов генерала Сан-Мартина. Я взобрался на постамент, прислонился к позеленелому крутому боку генеральской лошади и вместе с ее бронзовым хозяином залюбовался захватывающей дух панорамой. Анды старыми монахинями в белых, туго накрахмаленных чепцах вечных льдов глядели на суетный, шумный, жизнелюбивый город, оазисом раскинувшийся у их ног. Именно оазисом, потому что за Мендосой простиралась неоглядная безводная пустыня.
Отсюда — полтора века назад — войска Сан-Мартина принесли свободу Чили. Отсюда, из Аргентины, подумалось с горечью, сегодня идет оружие для чилийских заговорщиков. Эта незатейливая, хотя и неожиданная для меня самого ассоциация наверняка порадовала бы Глорию.
Холодная скользкая сеть дождя опять нависла над долиной.
— В отель! — велел я вознице.
Дождевые капли шрапнелью ударили в кожаный верх экипажа, подстегивая порезвевшего мерина.
От монотонного заунывного цокота копыт бросало в дремоту. Я лениво вытащил из кармана плаща еще не читанную здешнюю газету. Пробежал первую страницу, сплошь составленную из телеграмм Ассошиэйтед Пресс и ЮПИ, — ничего интересного. Пролистал вторую, третью. С четвертой, мгновенно спугнув сонливость, мне криво ухмыльнулся Эль-Тиро. Подпись под фотографией гласила:
«Сегодня агенты чилийской национальной службы расследования арестовали на границе аргентинского контрабандиста Висенте Адольфо Марельо Венегас. («Так вот как его зовут на самом деле!») Конфискована большая партия легкого огнестрельного оружия, предназначенного, как полагают, для террористов из «Патриа и либертад». Задержанный вскоре предстанет перед судом». («Допрыгался, мерзавец!»)
Размышляя — не без злорадства — над судьбой щеголеватого гангстера (на снимке он был все в том же белоснежном костюме и при золотой цепочке, змеившейся по жилету), я отложил газету. Пролетку крепко тряхнуло, когда мы свернули с шоссе на булыжную мостовую окраинной улицы. «Новедадес де Мендоса», шурша, поползла с сиденья. Я придержал ее. В самом низу четвертой полосы увидел:
«Пресс-конференция Роберто Тима!»
Значит, коротко остриженный субъект, чье лицо мне показалось таким знакомым...
— Поезжай к «Ла пальме». Да поживее.
В феврале руководитель штурмовых отрядов «Патриа и либертад» Роберто Тим и его ближайший сообщник Мигель Хуан Сесса похитили принадлежавший аэроклубу Сантьяго спортивный самолет и вылетели в неизвестном направлении. Считалось, что машина упала в океан, поскольку поисковым партиям обнаружить ее следы на суше не удалось. Теперь, из текста, предпосланного сообщению о пресс-конференции, явствовало: сообщники главаря штурмовиков, горько оплакивавшие его безвременную кончину на заупокойной мессе, прекрасно знали, что Роберто Тим в добром здравии пребывает в Аргентине. Мистификация с воздушной катастрофой понадобилась для того, чтобы, исчезнув из поля зрения чилийских органов безопасности, он мог в глубокой тайне готовить мятеж против правительства Народного единства, организуя поставки оружия и нелегально наведываясь на родину. Несколько дней назад Тим был случайно задержан в мендосском аэропорту, но тут же выпущен на свободу.
Златогалунный швейцар помог мне выбраться из экипажа.
Смеркалось.
Неоновый огонь, побежав по стеклянным трубкам, вдохнул жизнь в анемичную пальму на гостиничной вывеске.
— В каком номере остановился сеньор Роберто Тим?
Большеносый портье в малиновом вельветовом пиджаке отбросил прядь кудрей и, не отрываясь от пишущей машинки, ответил:
— Сеньор просил его не беспокоить.
Вместе с визитной карточкой я выложил на конторку десятидолларовый билет — портье не повел и бровью. Добавил еще одну банкноту того же достоинства — он небрежно смахнул деньги в ящик стола и взялся за телефонную трубку:
— Прошу прощения... С вами хочет встретиться... Да, да, я знаю, что вы никого не принимаете, но... — Глаза скользнули по глянцевитой поверхности моей визитной карточки. — Но мистер О’Тул из «Лос-Анджелес таймс» настойчиво добивается встречи с вами... Хорошо. — И уже в мою сторону: — Номер 215, сеньор. Желаю успеха.
Тим встретил меня приветливой улыбкой:
— Рад познакомиться. Мне смертельно надоели местные докучливые репортеры, но для представителя крупной американской газеты время у меня всегда найдется. Присаживайтесь. Пиво? Виски? Сигару? Или, может, заказать кофе?
— Я предпочитаю сигареты, а вот от стаканчика виски не откажусь.
Мне сразу не понравилось это одутловатое лицо (прежде я видел Тима только на фотографиях). Прикосновение влажной шершавой ладони (будто мне сунули в руку дохлую рыбу). Надтреснутый голос.
От дежурных любезностей мы перешли к интервью:
— Свержение правительства — единственный способ ликвидировать марксизм в Чили. Это наша сегодняшняя задача, выполнение которой я возлагаю на себя. — Тим заученно чеканил фразу: — Если гражданская война — цена за освобождение родины, я готов сполна уплатить по этому счету истории. Мою «Патриа и либертад» можно смело сравнить с испанской фалангой, поскольку политическое положение в Чили напоминает сейчас обстановку на Пиренеях в канун выступления вооруженных сил во главе с генералом Франсиско Франко.
— А что, вы тоже стучитесь в двери казарм? — вставил я, вспомнив слова, услышанные как-то от Глории.
— Стучимся... Стучимся, мистер О’Тул. И не без успеха.
— Однако вам нельзя отказать в откровенности.
— Настала пора ставить точки над i. А скоро пробьет час — от слов мы перейдем к делу. Больше медлить нельзя: красные с каждым месяцем, с каждым днем укрепляют свои позиции. — Он умолк, тяжко задумавшись. С печальным недоумением развел руками: — И чем только они берут? Чем привлекают к себе людей?
Я откашлялся и поддакнул правому ультра:
— Сам не возьму в толк, в чем секрет успеха Альенде и его Народного единства! Если чилийских комми не остановить сегодня, завтра будет поздно. Дурные примеры заразительны — марксистская чума расползется по всему западному полушарию. Мы этого допустить не можем!
— С нами бог!
— Примите мои соболезнования, Роберто, — я резко изменил тональность от мажора к минору. — Красные ищейки сцапали нашего Эль-Тиро. Надеюсь, он не расколется и власти не узнают о доне Алонсо и его складе оружия в лепрозории Франциска Ассизского?
— Однако вам нельзя отказать в осведомленности, — почти моими же словами отозвался главарь чилийских штурмовиков. Удивленно и настороженно смотрел он на меня.
— Я — доверенное лицо Джеймса Драйвуда. Вам это имя что-нибудь говорит?
— Разумеется, хотя и не имею чести быть с ним знакомым. Инструкции от мистера Драйвуда мы получаем через... Ну, вам же известно, через кого?
— Со стариной Диком мы большие друзья. — Выстрел, сделанный наугад, попал в яблочко.
— Ну что же... Вернетесь в Сантьяго, передайте мой привет Дику Маккензи.
При прощании влажная шершавая ладонь Тима дохлой рыбиной вновь ткнулась в мою руку. Но грех сетовать — улов в «Ла пальме» был богат.
В тот же вечер я вылетел из Мендосы в Буэнос-Айрес. Сразу же по прибытии позвонил Аллике:
— Нужно встретиться. Завтра в «Джиоконде»? О’кей!
19 сентября
САНТЬЯГО. СЕГОДНЯ БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ ДВА ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТА — ЖОРЖ ДЮПУА ИЗ ПАРИЖСКОЙ «ФИГАРО» И МАРЛИЗ САЙМОНС ИЗ «ВАШИНГТОН ПОСТ». ИМ ВМЕНЯЛОСЬ В ВИНУ «ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ» В ОСВЕЩЕНИИ ПРОИСХОДЯЩИХ В ЧИЛИ СОБЫТИЙ. ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХЧАСОВОГО ДОПРОСА В ПОМЕЩЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ОНИ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ. СЕГОДНЯ ЖЕ ВЕЧЕРОМ АРЕСТОВАН ЖАК ЛЕСПЕР-МЕДОК — СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ МОНРЕАЛЬСКОЙ «ЛА ПРЕСС». ПО СВЕДЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ, НО ОБЫЧНО ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОН СОДЕРЖИТСЯ НА СТОЛИЧНОМ СТАДИОНЕ «НАСЬОНАЛЬ», ПРЕВРАЩЕННОМ ВЛАСТЯМИ В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ.
В гостиной бунгало за столом сидели Глория и Исидоро Итурраран. У стены на диване лежал Томас де Леон-и-Гонзага.
Свет не зажигали.
Отблески пламени, угасавшего в камине, метались по лицам молчащих людей, по лакированной деревянной обшивке потолка и фривольным японским гравюрам, развешанным на стенах («Для услады глаз», — посмеивался Жак) заботливой хозяйской рукой Леспер-Медока.
В тишину вполз дальний рокот автомобильного мотора.
Лейтенант — исхудалый и ослабевший (почти неделю он провалялся без сознания в лихорадке, а теперь понемногу приходил в себя) — откинул плед и потянулся к автомату.
— Ну-ка, лежи смирно, Томас, — с напускной строгостью прикрикнула на раненого Глория, подымаясь из-за стола.
Исидоро опередил девушку. Прохромав к окну, он отодвинул жалюзи и, сгорбившись, стал вглядываться в ночную мглу.
— Это Хуан едет. Трижды просигналил фарами, как уславливались...
— Ну и натерпелись мы страху из-за него в прошлый раз, — облегченно рассмеялась Глория. — Армейский «джип». Пулемет на капоте. Сам в солдатской каске. Слава богу, что я узнала своего товарища, а то ведь и подстрелить могли...
— Мы тоже с Фрэнком изрядно переволновались, увидев «джип» возле дома, — слабо отозвался Томас. — За вас, конечно. Думали — обыск. И решили идти на выручку, полагаясь на мой офицерский чин и высокие связи О’Тула.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — проворчал Итурраран, — вы, юноша, так стремительно ворвались в дом, что Хуан сгоряча чуть было не продырявил ваш офицерский мундир.
Заговорили о Хуане Амангуа, молодом отважном индейце-мапуче. О том, как он и его друзья-комсомольцы на другой день после переворота совершили дерзкое нападение на патруль путчистов в самом центре Сантьяго, захватили их машину и благополучно, без потерь, скрылись на ней. Поменять номера, изготовить нужные документы, раздобыть солдатское обмундирование помогли товарищи из перешедшего на нелегальное положение ЦК компартии. Теперь на отбитом у мятежников «джипе» Амангуа — со смертельным для себя риском — поддерживал постоянную связь между подпольщиками.
Машина подкатила к бунгало.
— Заждались? Все, все привез. И бумагу. И тексты новых листовок. — Хуан обнял Исидоро за плечи. — Пойдем разгружать. А Глория приготовит ужин. Продукты я тоже прихватил, сейчас принесем.
Девушка включила электрическую плиту, поставила на конфорку кофейник с водой, потянулась за сковородкой. И тут зазвонил телефон.
— Слушаю. Это ты, Фрэнк? Добрый вечер.
— Гло, любимая! Нельзя терять ни минуты. — В голосе О’Тула звучала тревога. Он говорил торопливо, сбивчиво. — Только что забрали Леспер-Медока. По доносу Шефнера. Он — провокатор. Просто не знаю, что делать. Вам всем нужно немедленно уходить. Номер Жака перетряхнули до основания. Наверняка нагрянут и в Топокальму. Я сейчас же выеду за вами, боюсь только, как бы меня не опередили...
Жака арестовали прямо в баре «Каррера-Хилтон», когда он благодушно потягивал излюбленный «Джимлет», пятый за вечер. Карабинеры грубо стащили канадца с вертящегося табурета и, вывернув за спину руки, поволокли его, упирающегося, протестующего, чертыхающегося, по коридору, через холл, на улицу. Втолкнули в забитый до отказа полицейский фургон.
Привезли не в комиссариат — на стадион «Насьональ».
— Выходи! Руки за голову!
Пинками, прикладами загнали в подвал — в бывшую раздевалку для спортсменов («Лицом к стене! Обопритесь о нее руками! Ноги врозь! Пошире, пошире!»), где капитан из военной разведки рассортировывал вновь прибывших по секторам и камерам, наспех оборудованным в подсобных помещениях. Он по очереди подзывал к себе задержанных, снимал краткий допрос и направлял кого на поле, кого на бетонные трибуны.
«Придется мне сегодня померзнуть. Как-никак 40 градусов по Фаренгейту», — Жак уныло пошевелил затекшими пальцами. Резиновая дубинка охранника в тот же миг прошлась по его спине.
— Тебе ведь ясно сказано, скотина, не двигаться!
Офицер — тот не кричал. Говорил мягким, вкрадчивым баритоном.
— Капрал, давайте-ка сюда этого франта. Да, да, вот того, длинноволосого. Которому никак не стоится на месте. (Охранник дубинкой ткнул Леспер-Медока в бок.) Зачем же так грубо? Он и сам пойдет...
Жак, приободрившись, направился к столу. Назвав себя, добавил, что он канадец и требует незамедлительно вызвать консула своей страны.
— Ах, вы иностранец? — зарокотал музыкальный баритон. И приказал, батистовым платком вытирая пот со лба: — В камеру для особо опасных преступников!
— Сеньор капитан, произошло какое-то чудовищное недоразумение. Я не преступник.
— Вы иностранец. Тем самым все сказано. Иностранцы приехали в Чили, чтобы мутить воду, чтобы помогать марксистам подрывать основы нашего правопорядка и государственности. Поэтому мы решили убить вас всех до последнего. Что до меня, то в этой очистительной акции я с удовольствием приму самое активное участие. И по ночам меня не станут мучить угрызения совести. Нет, премногоуважаемый месье, — как вас там? — не станут.
— Да поймите же, я не политик. Я журналист. Обыкновенный журналист...
— Вот именно. О таких-то и говорил как раз сегодня генерал Аугусто Пиночет.
— Что же он мог такое сказать? — удрученно пробормотал Леспер-Медок.
— Генерал Пиночет заявил, что определенная часть заезжих газетчиков руководствуется в своей работе директивами международного коммунизма. А вы — нам доподлинно известно — принадлежите к этой самой «определенной части».
— Могу я, по крайней мере, отправить прощальное письмо моему коллеге и соотечественнику Фрэнсису О’Тулу, большому другу, между прочим, господина адмирала Патрисио Карвахаля... — Ноги не держали беднягу Жака. Во рту пересохло. Но он напряг память и пролепетал: — Генерал Паласиос тоже дружен с Фрэнки.
Тем не менее письмо ему писать не разрешили и препроводили в камеру, правда, без пинков и зуботычин.
О’Тул услыхал об аресте завзятого неудачника от бармена Игнасио. Сунулся было в номер к Леспер-Медоку — там шел обыск: солдаты шарили в шкафу, под кроватью, в ящиках секретера. А на балконе, в плетеном кресле, невозмутимо покуривал сигару, ультрар-р-р-революционер Марк Шефнер.
О’Тул сообщил обо всем в посольство Канады и вместе с консулом отправился на стадион. В Топокальму ехать не пришлось — Глория упросила его не беспокоиться: «Нам есть, где укрыться, Хуан поможет».
Вокруг «Насьоналя», залитого ослепительным светом прожекторов, как в дни больших футбольных ристалищ, саперы деловито разматывали колючую проволоку, рыли траншеи. Сновали озабоченные полицейские и солдаты.
Вот и все, что канадцы сумели увидеть.
Внутрь их не допустили.
Не помог даже дипломатический паспорт консула, равно как и его угрозы учинить международный скандал.
Из воспоминаний О’Тула
БУЭНОС-АЙРЕС, ЭЛЬ-ТИГРЕ. МАЙ
Не в моих привычках опаздывать на свидания и деловые встречи. Но в «Джиоконду» я не попал к сроку: задержал звонок из Сантьяго.
Фабио Аллика безропотно ждал за столиком в нише, в сторонке от возможных соглядатаев. Читал газету, что-то отчеркивал в ней.
— Как прошла поездка по провинции, Фрэнк?
— Лучше некуда. Я бы сказал — превосходно. Правда, были кое-какие осложнения...
— Что-нибудь серьезное?
— Да так, пустяки. Едва не отправился в мир иной.
Аллика с глубочайшим интересом выслушал историю моих детективных похождений в Сан-Мартин-де-лос-Андес и Мендосе.
— А я-то еще хотел обратить ваше внимание на новые материалы о Тиме и контрабандистах оружием в сегодняшнем номере «Ла Расон». Даже газету с собой прихватил... Но вы теперь и сами убедились, что план «Кентавр» — не фальшивка, не порождение горячечной фантазии вашего аргентинского друга... Раз уж вы такой отчаянно рисковый парень, извольте — есть и другие аспекты этого плана, нуждающиеся в проверке и расследовании.
— Выкладывай, Фабио... Позволь мне называть тебя на «ты».
— Давно пора. Так вот. Я располагаю сведениями, что намечаемое выступление «Патриа и либертад» — на случай его неудачи, надо думать, — подстраховывается еще одной заговорщической организацией, действующей сепаратно, хотя и в рамках того же «Кентавра». Как она называется, не знаю. Но известно, что ее штаб-квартира находится здесь, в Байресе...
— Любопытно, что подспудные чилийские дела проясняются для меня все больше именно с тех пор, как я покинул Сантьяго.
— Это же естественно, Фрэнк. У нас, в Латинской Америке, антиправительственные заговоры готовятся обычно на чужих территориях.
— Прости, я перебил тебя.
— Итак, один из руководителей организации — Артуро Маршалл.
— Тот самый майор, что был замешан в несостоявшемся покушении на Сальвадора Альенде три года назад?
— Да, в Аргентине его зовут иначе. Он теперь Мануэль Мартинес, «боливийский коммерсант». Проживает недалеко отсюда — на площади Корриентес, 1500. В гостинице «Колумбия палас». Номер 403.
— Не так быстро. Я запишу.
— Далее: пометь себе — вызывает подозрения некое акционерное общество «Импромаре». Туда, как мухи на мед, слетаются чилийские заговорщики из ближайшего окружения Маршалла. И, наконец, последнее: эмигрантский еженедельник «Нотчам». Заместитель главного редактора Альберто Мората Сальмерон — агент ЦРУ. Его адрес: гостиница «Эуропа», номер 1294, телефон 389-629. Все, Фрэнк. Действуй, если посчитаешь нужным.
Задал мне задачу мой непонятный друг.
Час от часу не легче!
Мало того, что я разворошил осиное гнездо торговцев оружием, вызвав, судя по сегодняшнему телефонному разговору с Диком Маккензи, явное неудовольствие у большого специалиста по маленьким адюльтерам (благодарение богу — его хватило, по крайней мере, на добрый отзыв, когда люди дона Алонсо наводили справки обо мне), так сейчас я ввязываюсь в новую авантюру, которая неизвестно чем может кончиться!
Номер 403 «Колумбии палас» упорно не отвечал, Когда уже за полночь меня с ним соединили, я услышал приглушенный, но властный, привычный к командам голос:
— Мартинес слушает!
— Извините, что беспокою вас в такой неурочный час. Мне крайне необходимо встретиться с вами, сеньор...
— С кем имею честь?
Я объяснил, кто я и что.
— Не понимаю, чем вызван интерес большой прессы к заурядному торговцу? — помедлив, спросил «боливиец», неумело скрывая чилийский акцент.
Я решил — была не была — блефовать:
— На днях мы виделись с Роберто Тимом. У меня к вам от него поручение. — Пауза. — Алло, алло! Вы слушаете? У меня к вам от него поручение.
— Вы что-то путаете... Да и поздно уже. Перезвоните завтра. Часов в десять утра...
Ровно в десять я входил в отель на площади Корриентес, 1500.
В холле набрал телефон Мартинеса. Долгие гудки.
Увы, меня ждало разочарование: постоялец из номера 403, как сообщили в администрации, на рассвете выбыл из гостиницы.
Вспугнул я птичку. Ушлый майор, если и поверил моему блефу, в ту же ночь, как видно, связался с Тимом и убедился в обмане. Иначе не объяснишь скоропалительное исчезновение Артуро Маршалла.
Исчезнув с горизонта, он, в довершение бед, успел предупредить хозяев «Импромаре» о появлении в Байресе подозрительного иностранца, сующего свой длинный нос в котел с чилийским эмигрантским варевом. Я догадался об этом по холодному приему, оказанному мне в директорском кабинете акционерного общества.
Ссылки на близость к Джеймсу Драйвуду и Дику Маккензи (великие люди! сколько услуг, порой и сами того не ведая, они оказывали доморощенному детективу) впервые не произвели должного эффекта. Сухим тоном мне без обиняков дали понять, что надобны письменные рекомендации упомянутых почтенных личностей, чтобы претендовать на роль их доверенного. Таковых не имеется при вас? Ergo[10], ни о какой ответной доверительности не может быть и речи.
— Да и о чем, собственно, говорить? Повторяю: «Импромаре» занимается импортом детских игрушек, — директор шишкастой рукой подагрика распахнул дверь и выдворил меня из оффиса.
Диковинная это была контора.
Ни привычного постукивания дамских каблучков. Ни птичьего щебета смазливых секретарш. Ни дразнящего аромата духов. Ни одной женщины!
Даже в директорской приемной одним пальцем остервенело давил клавиши разболтанного «Ундервуда» молодцеватый усач.
Служащие «Импромаре» походили на кого угодно — на обрядившихся в партикулярное платье офицеров, на не успевших свыкнуться с городской жизнью помещиков, на обанкротившихся фабрикантов и финансистов, только не на согбенных канцелярскими трудами клерков.
«Игрушки импортируют, сукины дети! Знаем мы эти игрушки!» — со злостью думал я, обескураженный уже второй за день досадной неудачей.
3-8-9-6-2-9... Без малейшей надежды на успех набрал я номер Сальмерона. К вящему моему удивлению, тот сразу согласился на встречу. И предложил: «Увидимся на ипподроме «Палермо» в ложе «А». К вечеру начнутся самые интересные заезды. Там и потолкуем. Билет для вас будет оставлен на контроле».
Поезд к загородному ипподрому стремительно скользил по зеленой плоскости пампы. Мимо самодовольных вилл и прибитых нуждою крестьянских домишек. Мимо свалок с гниющими отбросами мясохладобоен. Мимо парков с благоухающими цветниками.
На контроле меня ждал билет в ложу «А».
Она оказалась не из лучших — в стороне от финишной черты, тесная, грязная...
— Места у нас неважные, мистер О’Тул, — по-кубински съедая окончания слов, заметил сосед слева с непринужденностью человека, продолжающего прерванную беседу.
Был он широк в кости, приземист и ряб. Из-под старомодного канотье тонкой соломки (в таких до революции фланировали по гаванскому бульвару Прадо искательные альфонсы) торчали бледные уши.
— Сколько я вам должен за билет, сеньор Сальмерон?
— Десять песо. Кстати, для друзей я просто Монти.
— А меня можете называть просто Фрэнком.
— Вот и познакомились, — хохотнул кубинец.
Трибуны ахнули, когда жокей на пепельном жеребце, шедшем ухо в ухо с рыжей кобылой, рванулся вперед и устремился к финишу.
— Обошел фаворитку! Плакали мои денежки — а уж такой, казалось, верняк... — подосадовал Монти. — Будете ставить на следующий заезд?
— Давайте сперва о деле.
— Тогда спустимся в бар... А еще лучше — в парк, рядом с ипподромом. Там-то уж никто нам не помешает.
Углубляться в сумрачную чащобу, по вполне понятным причинам, я не собирался. Присели на скамейке под фонарем. Невдалеке у ворот конюшни маячила фигура полицейского.
Почему толстомясый Монти зазвал меня за город? Готовит ловушку? Или не хочет, чтобы нас видели вместе?
Почему он вообще, в отличие от Маршалла и прочих, столь легко пошел на контакт с «подозрительным иностранцем»? Намерен меня прощупать? Или готов — за известную мзду, конечно, — поделиться секретами своих дружков, чилийских заговорщиков?
Без сколько-нибудь ясного ответа на эти «почему» мне было трудно приступить к деловой беседе. Разговор петлял вокруг да около. Мы повздыхали над горькой судьбиной кубинских и чилийских эмигрантов. Повспоминали вместе Гавану былых времен: оплаченный большими деньгами безмятежный покой зеленого аристократического предместья Кубанакан, и сдержанную, чинную страстность азартных игроков дорогих казино, и разгульную веселость первоклассных кабаре, таких, как незабвенная «Тропикана» — бывшая собственность Пепито Акосты.
— Наш Пепито не так уж плохо устроился в Сантьяго, — завистливо выдохнул Сальмерон. — Его «Ранчо луна» дает приличный доход. Мне не повезло — не догадался загодя, до падения Батисты, перевести свой капиталец за границу...
— Тоже содержали кабаре?
— Пять публичных домов. Да! Пять, сеньор, — гордо ответствовал Монти. — Теперь же сижу на мели, без сентаво в кармане, расплачиваюсь за недомыслие.
— Вам ли жаловаться. На солидном посту заместителя директора еженедельника «Нотчам»...
— Еженедельник? — взвился Монти. — Тощий бюллетенишко. Тощий, как библейская корова. Да и проку от него соответственно. Ничего не выдоишь.
«А как же долларовые поступления из Лэнгли?[11]» — подумал я с ехидцей.
Между тем Сальмерон, одним махом разрубив гордиев узел всех моих «почему», сделал крутой вираж:
— Журналисты — большие охотники до сенсаций. И вы, Фрэнк, не исключение. Но сенсация — товар дорогостоящий.
Я спросил напрямую:
— Сколько будут стоить сведения об Артуро Маршалле, «Импромаре» и вашей тощей «библейской корове»?
Долларов двести — триста я бы выложил очаровательному в своей беззастенчивости Альберто Сальмерону. Но он заломил:
— Две тысячи!
Такой суммой я не располагал.
Я был поражен, что этот «гусано» оценивает себя столь дорого: кубинские «слизняки» обычно продаются дешево. Служат за-ради чечевичной похлебки кому придется — чилийским оппозиционерам и разноплеменным креольским «гориллам», свирепым диктаторам «банановых республик» и Центральному разведывательному управлению... Но зато и не торгуются, когда выпадает шанс «сделать коммерцию» на секретах своих хозяев.
Заметив мое замешательство, Монти покладисто проворчал:
— О’кей! Сбавлю 500 монет. Но не больше... Надумаете, звоните.
— Хорошо, я подумаю. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что за цену, заломленную вами, я должен получить кроме детальной словесной информации документы?
— По рукам...
Монти вернулся на трибуну. Я сел в такси, откинулся на спинку, закрыл глаза: надо было наедине, спокойно поразмыслить, что мне, безденежному, предпринять в сложившейся ситуации. Газеты, которые я представляю, не дадут ни цента под разоблачительную историю о подрывной деятельности крайне правого, да еще связанного с ЦРУ чилийского заговорщического центра. На торонтское издательство «Люис и сын» рассчитывать тем более нелепо — там ждут от меня совсем другую книгу. Я решил рассказать о своих затруднениях Аллике и впервые (без предупреждения) рискнул заявиться в его холостяцкую квартиру в многоэтажном доме на Калье Лавалье.
Дверь отворила умопомрачительная блондинка в бирюзовом нейлоновом халатике. Не спрашивая, кто я и что мне угодно, она жестом невозмутимо пригласила войти, добавив по-английски: «Фабио у себя в кабинете. Прощу вас».
По всем статьям это и была загадочная «Джейн Мейнсфилд», запавшая в пылкую душу портье из гостиницы «Инглатерра».
— Я ждал, Фрэнк, что ты нагрянешь не сегодня-завтра... — Фабио отложил в сторону пухлую рукопись. — Энн-Маргарет, правку третьей главы закончим потом. Приготовь нам, пожалуйста, что-нибудь перекусить.
С непроницаемостью фиванского сфинкса воспринял он мою взволнованную повесть о последних успехах и неудачах самодеятельного сыскного бюро «О’Тул энд О’Тул инкорпорейтед» (с ограниченной платежеспособностью). Спокойно сказал:
— Деньги будут. Достанем. В этих взрывчатых материалах не меньше твоего заинтересованы наши перонистские издания. Из тех, что полевее. Тебе они не конкуренты. Ведь верно? Ну, кто читает за границей аргентинские газеты!.. Стоит вот что прикинуть — какое выбрать место для завершения сделки...
— А чего ломать голову? Чем плох мой «люкс» в «Инглатерре»?
— Видно, мало ты сталкивался с проходимцами из кубинского эмигрантского отребья. С Монти шутки плохи. Нужно все обставить таким образом, чтобы ты был в полной безопасности и в то же время не на виду у шпиков — во избежание провокации... Эврика! Самое надежное — катер, где мотористом наш человек! — воскликнул мой славный друг, в котором опять проснулся экспансивный портеньо. — Я берусь все уладить. Назначай рандеву на завтра. В Эль-Тигре. В полдень. Причал «Эре-3». Отвезет тебя туда на моей машине Энн-Маргарет.
Она заехала в 11 утра. Когда я усаживался в двухместный «ягуар», протянула конверт:
— Здесь чек на предъявителя. Вы вооружены? Нет? — Вынула из кармана замшевой куртки маленький дамский браунинг: — Возьмите-ка на всякий случай.
В пути говорили о политике. Иные темы мою спутницу, похоже, не интересовали.
— У чилийской контрреволюции слишком мало сил, чтобы добиться успеха, — сказал я.
Энн-Маргарет на предельной скорости обошла длинный туристский автобус и, едва не столкнувшись с мчавшимся на нас тупорылым самосвалом, хладнокровно вернула машину на правую сторону шоссе.
— У противников Хуана Доминго Перона[12] сил еще меньше. Повсюду в Латинской Америке реакция пытается сейчас перейти в наступление, но это явно попытка с негодными средствами. Времена изменились, — сказал я.
Она улыбнулась и поправила одной рукой растрепавшиеся от ветра волосы.
— Милый Фрэнк, времена, конечно, изменились. Но нельзя недооценивать силы врага. Закрывать глаза на то, что по-прежнему существует реальная угроза правых переворотов на континенте. К тому же любая латиноамериканская политическая формула немыслима без важнейшего слагаемого — армии. Армии, — с нажимом повторила она.
В Эль-Тигре зеленая плоскость пампы раскудрявилась пальмами. Замелькали протоки и каналы «аргентинской Венеции».
Мимо эллингов и величавых яхт мы прошли в самый конец причала «Эре-3», где покачивался на волнах видавший виды катер.
— Ваш «турбуленто», — кивнула Энн-Маргарет.
Она познакомила меня с мотористом Джоэлем, напомнила о необходимости быть с Монти построже и настороже и сказала, что подождет в машине на стоянке.
С пунктуальностью, несвойственной беспечным креолам, Сальмерон появился на пирсе минута в минуту:
— «Джинджер» или кока-кола найдутся на посудине? Бутылку «Бакарди» я притащил, чтобы обмыть сделку. — И он любовно похлопал по затасканному дерматиновому портфелю.
Затарахтел, застучал неспокойно мотор, набирая обороты. Джоэль направил катер в лиственный тоннель протока, ведущего к лагуне. Ивы ветвями хватались за борт, царапались в стекла иллюминаторов тесной каюты, куда мы спустились с Монти.
— Деньги при вас?
— Разумеется. — Я показал чек и отвел в сторону пухлую веснушчатую руку Монти. — Стоп! Получите после того, как я посмотрю, что вы там притащили кроме «Бакарди».
— Люблю деловых людей. Правильно! Бизнес есть бизнес, — хихикнул мошенник и, аккуратно поставив на стол бутылку рома, вывалил перед собой охапку многоцветных бумаг. — Накиньте десятку, сэр, и заберете это добро вместе с портфелем. Из чудесной натуральной кожи.
Я расхохотался:
— Бог с вами! Возьму как сувенир. На память о самом беззастенчивом человеке, встреченном мною в Аргентине.
— Итак, приступим, — непробиваемый Монти открыл переговоры.
Я по косой проглядел документы.
Копии:
директивных писем ЦРУ;
стенограмм тайных сходок импортеров «игрушек» из «Импромаре»;
донесений агентов, орудующих в Чили;
планов подрывных действий, направленных против правительства Сальвадора Альенде,
Оригиналы:
извещений о денежных переводах из США на имя Артуро Маршалла;
письменных распоряжений шефа «Импромаре» заместителю директора «Нотчам»;
самого еженедельника, тонюсенького и малограмотного, но злобного.
Беседа была долгой.
Из мозаики слов и документов складывалась четкая картина широкого заговора чилийской оппозиции. Заговора разветвленного и многоступенчатого.
«Патриа и либертад», военизированные отряды «Роландо Матус» и «Черные каски»; нацисты, укрывшиеся в Чили, и их выученики из местных немцев; организация отставных военных, руководимых Артуро Маршаллом, — все это были звенья одной цепи.
В отличие от других подрывных групп, рассчитывавших свергнуть власть Народного единства с помощью мятежа внутри страны, люди Маршалла делали ставку на вооруженную интервенцию по образу и подобию вторжения в Гватемалу в июне 1954 года. Человеку, выдающему себя за боливийского коммерсанта Мануэля Мартинеса, оказывали радушный прием парагвайский президент Стресснер и другие латиноамериканские диктаторы. В принципе была достигнута договоренность.
за пределами Чили создать:
строго законспирированные лагеря наемников, где иностранные инструкторы без помех обучали бы чилийских эмигрантов и всякого рода авантюристов военному и диверсионному искусству;
склады оружия и боеприпасов;
радиостанции для ведения подстрекательских передач;
фонд вспомоществований борцам за святые конституционные свободы.
За вывеской акционерного общества «Импромаре» скрывался «мозговой центр» заговорщиков.
Там координировались вопросы, связанные с закупкой оружия.
Там собирались и обрабатывались разведданные о положении в Чили.
В этом же центре, наконец, фабриковались пропагандистские фальшивки, появлявшиеся потом на страницах «Нотчам».
— Есть еще несколько немаловажных моментиков, — Монти размягченно оторвался от коктейля. — Правда, информацию мне подтвердить нечем. Придется поверить на слово. Где-то на территории Штатов печатаются фальшивые чилийские эскудо. Их контрабандно переправляют в Сантьяго, чтобы усилить инфляцию и дезорганизовать финансовую систему республики.
— Кто их печатает?
— Клянусь, не знаю, — Сальмерон откашлялся и продолжил: — В июле или в августе должна начаться новая забастовка владельцев грузовиков и автобусов. Вроде той, что была в октябре прошлого года. Услуги забастовщиков будут щедро оплачены долларами, которые тоже поступят из Соединенных Штатов. От кого? Это вам придется выяснить самому.
— Все, Монти?
— Нет, Фрэнк. Ты мне положительно нравишься своей настырностью и смелостью. Поэтому, прежде чем выложить чек на полторы тысячи баков и десятку за портфель, не забудь, он ведь кожаный, хорошо сохранился, я скажу вот что. Уже сейчас, задолго до решающих событий, умные люди, большие люди — я не этого майоришку Маршалла имею в виду — фабрикуют материалы, которые обнародуют после государственного переворота. Для чего? Чтобы оправдать его в глазах общественности. Например, в Католическом университете стряпается деза, утверждающая, будто результаты минувших парламентских выборов в Чили были подтасованы марксистами. А эта липа, — Сальмерон достал из кармана пиджака несколько сложенных вчетверо машинописных листков, — будет почище боливийского «Красного лотоса». Помнишь, в декабре в Ла-Пасе раскрыли заговор, — он иронически подчеркнул это слово, — заговор красных? И расправились таким образом с противниками генерала Бансера[13]?.. Держи и помни старого Монти.
Я развернул измятые странички.
На первой из них в верхнем левом углу кричали заглавные буквы:
ПЛАН «ЗЕТ»
20 сентября
САНТЬЯГО. НА СТАДИОНЕ «НАСЬОНАЛЬ», КАК УТВЕРЖДАЮТ, КАЖДОЕ УТРО ПРОВОДЯТСЯ РАССТРЕЛЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО ХУНТА, ПРИБЕГАЯ К ТЕРРОРУ, СТРЕМИТСЯ ЗАПУГАТЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТОРОННИКОВ СВЕРГНУТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: ВОЕННЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ, ЧТОБЫ СЕГОДНЯ ИХ БОЯЛИСЬ.
Вместе с канадским консулом Фрэнсис О’Тул отправился вызволять Леспер-Медока, заручившись на этот раз письменным отношением пресс-секретариата хунты об освобождении корреспондента «Ла пресс».
Малиновый перезвон плыл над Сантьяго. («Год назад, — сказал консул, — вот так же гудели колокола, созывая прихожан в кафедральный собор к мессе «Де деум» по случаю Дня нации. На богослужении, помнится, присутствовали президент Сальвадор Альенде, представители вооруженных сил и дипломатического корпуса. Архиепископ в своей блистательной проповеди призвал всех и каждого искоренять Каина в самом себе».)
На стадионе «Насьональ», у входа в медпункт, превращенный в кабинет коменданта концентрационного лагеря, пришлось обождать.
— Полковник Эспиноса занят. У него посетитель, — процедил часовой.
Дверь кабинета отворилась.
— Заглядывай, Марк, почаще. Всегда рад тебя видеть. Приятно поболтать с порядочным человеком, — комендант, прощаясь, приветливо откозырял с порога своему гостю и хмуро оглянулся на докучливых иностранцев.
Повернулся и Марк Шефнер. Смешавшись, сглотнул слюну — кадык противно заелозил по тощей шее — и подошел к О’Тулу:
— Привет, старина!
Фрэнк не подал руки. Пропустил консула вперед и вслед за полковником направился в кабинет.
Начальник концлагеря несколько раз перечел бумагу за подписью пресс-секретаря Федерико Уиллоуби; зачем-то просмотрел ее на свет; неприязненно поморщился, словно хватил скисшего «вино тинто», вызвал — окриком — часового:
— Приведи из камеры номер три... — и произнес по слогам: — Лес-пер-Ме-до-ка. Да не перепутай, болван! — приглашающе ткнул в сторону застеленного больничной клеенкой низкорослого топчана. Дипломат и журналист уселись рядышком под выцветшим плакатом: «Первая помощь при переломах костей». Солнечный пыльный столбик доверчиво прилег на никелированный медицинский инструментарий, покоившийся в застекленном белом шкафу.
Хорхе Эспиноса посокрушался, что уже добрую неделю не видит семью, что вместе с товарищами по оружию день-деньской расчищает авгиевы конюшни не в меру политизированного загнившего чилийского общества, что да, бывают ошибки и что в подобных случаях невинных овец — обязательно! — отделяют потом от козлищ.
Ввели Леспер-Медока.
Тот запухшими покрасневшими глазами с ужасом вперился в набор хирургических инструментов за стеклом, в угрюмого полковника. Ужас сменился надеждой, когда он заметил земляков.
По дороге в «Каррера-Хилтон» и у себя, в гостиничном номере, Жак говорил без умолку.
О бессонной безысходности прошедшей ночи. («Разве уснешь? Стоны избитых. Ругань охранников. Зловонная духота. В комнату, где от силы могли разместиться десятка три человек, затолкали около полутора сотен».)
Об изощренном изуверстве инквизиторов в мундирах. («Я легко отделался — не трогали: помогли ссылки на тебя, Фрэнк, и твоих знакомцев из генералитета. Но чего только не пришлось насмотреться и наслушаться! Лужи крови в коридорах... Пытки электрическим током в подвалах стадиона... А в кабинете начальника лагеря что делается! В этом бывшем медпункте ломают кости, загоняют иглы от шприцев под ногти, полосуют скальпелями кожу. И знаешь, кто там вчера «ассистировал»? Эстебан Кастельяно, наш с тобой сердечный дружок».)
О казнях на заре. («Расстреливают на футбольном поле. Из установленных на трибунах крупнокалиберных пулеметов. Их здесь называют «гитлеровскими пилами»: говорят, они разрезают тела пополам».)
Надолго умолк и вдруг выпалил:
— Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба, Фрэнк, встречается еще реже. Это не я сказал, а Ларошфуко. Теперь — после всего, что ты сделал для меня — его слова я прочувствовал по-новому... Кстати, мой друг, — оживился Жак, — тебе известно, что мятежный герцог Франсуа де Ларошфуко — мой прародитель? Да, да! Так гласит наше семейное предание. Правда, родство отдаленное, по женской линии, через мадам де Шеврез, с которой он состоял в интимной связи, печально для него кончившейся, — упекли в Бастилию. Зато в результате этой тайной куртуазной любви появился первый на свете Леспер-Медок.
«Ну, понесло, — отметил про себя О’Тул. — Кажется, мой ветреный друг постепенно приходит в себя!»
Жак и впрямь приходил в себя.
Бахвалился.
Что непременно и в самые сжатые сроки изольет свою израненную душу в эссе о злодействах хунты. («Завтра же уезжаю в Топокальму. Засяду за работу. Бунгало тебе больше не понадобится?»)
Что эту сенсационную обличительную книгу издаст в Монреале, Торонто, Париже, Нью-Йорке. («Повсюду... повсюду. Представляешь, как ее будут рвать из рук? — свидетельства очевидца! Не исключено, что и премию какую-никакую дадут. То-то Люси будет поражена».)
Что отхлещет по щекам Марка Шефнера. («Дерьмо! Кто бы мог предположить? Эта прыщавая жердь — провокатор! Гужевался у меня днями и ночами. Ел, пил, прикидывался другом. — На секунду Жак задумался: — Дурак к тому же, не разобрался. За важную политическую фигуру счел».)
Что сегодня вечером закатит грандиозную попойку в честь своих избавителей. («Созову дипломатов из посольства, иностранных журналистов».)
О’Тул рассеянно слушал повеселевшего приятеля, а думал о другом — о Глории.
А с Глорией и ее друзьями-подпольщиками приключилось вот что.
Накануне, оповещенные Фрэнком об аресте хозяина бунгало и возможном полицейском налете, они, не мешкая, покинули Топокальму. И вовремя! — на окраине курортного поселка, у бензозаправочной станции с подсвеченной ракушкой компании «Шелл» над плоской крышей, им навстречу выскочил грузовичок с карабинерами.
— Чуть не накрыли нас, — прошептала девушка, когда машины разминулись.
Томас де Леон-и-Гонзага с автоматом на коленях, в лейтенантском мундире, вычищенном и отутюженном Глорией, молодцевато поправил фуражку с высокой тульей. И уверил, слегка рисуясь:
— Не бойся, не пропадем!
Обернувшись к ним, Хуан улыбнулся раскосыми индейскими глазами.
— Следи-ка лучше за дорогой, парень, а то недолго и в кювет угодить, — подал голос Исидоро Итурраран.
До утра, пока в столице действовал комендантский час, нечего было и пытаться проникнуть в Сантьяго. Решили заночевать в горах и за Талаганте свернули с шоссе на ухабистый, круто забиравший вверх проселок. Загнали «джип» в придорожные кусты, под остро пахнувшие свежей хвоей мохнатые лапы гигантской араукарии.
Спали сидя в машине, укутавшись в пледы, прихваченные из хозяйства запасливого Леспер-Медока. Исидоро вызвался покараулить.
В тиши дремотного леса далеко разносился картавый крик какой-то ночной птицы. Какой — Исидоро не знал. Вырос он и всю жизнь, может, и не очень долгую, но трудную, прожил в Сантьяго. Десятый ребенок в семье, он рано пошел работать — учиться почти не пришлось. Учила жизнь. Торговал газетами на Аламеде, служил рассыльным в редакции буржуазной «Меркурио», потом стал типографским наборщиком. Забастовки и стычки с полицией, хозяйский произвол и увольнения, аресты и тюрьма — всего хлебнул. С шестьдесят пятого года коммунист Итурраран — метранпаж в «Эль Сигло», в органе Центрального Комитета партии. На мартовских выборах по списку Народного единства его избрали в столичный муниципалитет.
Вслушиваясь в лесные шорохи, всматриваясь в лунные, затененные ветвями заросли, Исидоро вновь и вновь возвращался мыслями к событиям последних трех лет:
«Была победа... Настала пора перемен... Была борьба с противниками нового... Нелегко приходилось, но будущее — в четкой светлой перспективе — виделось уже близким, досягаемым. И вот развязка, трагическая, неожиданная... Неожиданная?.. В общем, да... Знали о подрывной деятельности правых... Знали: мумии[14] есть и среди военных... Знали — возможна гражданская война... Но что армия выступит против народа — не верилось до самого последнего момента... Всегда звучало как аксиома: чилийские вооруженные силы «традиционно нейтральны и верны Конституции»... Не учли, что солдат в основном набирали из самых темных и отсталых крестьян. Не учли и того, что солдат и офицеров воспитывали в духе бездумного, безоговорочного послушания — по прусскому образцу: ведь у колыбели чилийской армии когда-то стояли инструкторы вермахта кайзеровской Германии... Да, сейчас мы отступаем — силы слишком неравны... Отступаем с боем... Перестроим ряды, создадим крепкое подполье. Единое — всех левых партий, всех антифашистов и демократов... И тогда поглядим, чья возьмет...»
Забрезжил неяркий рассвет — горные вершины проступали в утреннем тумане. Пора было трогаться в путь.
Исидоро достал из сумки жестяную банку галет, термос с кофе. Разделил на равные части кусок козьего сыра. Разбудил своих товарищей. За торопливым завтраком вернулся ко вчерашней, беспокоившей его теме:
— Ты, значит, на все сто процентов уверен в своем отце, Томас, уверен, что он приютит нас, пока Хуан не свяжется с руководством подполья и не договорится о конспиративной квартире для нас?
— Само собой. Отец мой, конечно, реакционер, настоящая мумия, — лейтенант покраснел. — Но в элементарной человечности и благородстве ему отказать нельзя.
В машине заняли свои прежние места: Итурраран сел рядом с Хуаном, Глория и Томас — на заднем сиденье (дескать, вооруженный офицер присматривает за арестованными, которых везут куда-то на армейском «джипе» с солдатом за рулем). Расчет себя оправдал. Они без помех миновали пригороды, добрались до улицы Уэрфанос, проскочили торговый центр, мост через реку Мапочо и въехали на безлюдную спокойную улицу, обсаженную кряжистыми акациями.
Остановились у металлической резной решетки ворот, украшенной фамильным гербом древнего рода де Леон-и-Гонзага с гордым девизом: «Ex ungue leonem» — «Льва узнаешь по когтям».
Простились с Хуаном:
— До встречи!
По выложенной песчаником дорожке, мимо понурых кустов роз, мимо бассейна с бледно-зеленым сухим дном они прошли к мраморному порталу сенаторской виллы. На веранде, опутанной, как проволокой, почернелыми безлистыми побегами плюща, никого не было. В просторном холле, убранном антикварной мебелью в помпезном наполеоновском стиле, под настенным распятием сидел у камина, раздумчиво перебирая четки, усохший, лысый старик.
— Томас! Ты? — растерялся он, роняя на ковер тяжелый фолиант в поблекшем сафьяновом переплете.
— Подожди, отец. Я сейчас. Провожу друзей наверх, на мою половину, и вернусь.
— Странно все это как-то... Ты хотя бы познакомил нас, — поднялся из кресла сенатор.
— Ничего, ничего... Потом. Прежде всего им нужно привести себя в порядок, отдохнуть с дороги.
— С дороги?.. Отдохнуть?.. — проводил их надтреснутым эхом старческий голос.
Оставив Исидоро и Глорию в своем кабинете, лейтенант спустился в холл.
— Объясни, наконец, что происходит, Томас? Тебя разыскивают — считают дезертиром. Здесь был обыск. Здесь, в доме де Леон-и-Гонзага, — позор-то какой! И что за люди, с которыми ты нынче водишь дружбу? — Сенатор брезгливо передернул губами. — Типичные плебеи. Девушка — хорошенькая, но, извини меня, простушка. И этот мужлан!
Молодой офицер изложил отцу свою одиссею.
В пустых глазах сенатора Антонио де Леон-и-Гонзага тусклыми болотными огоньками затлела злость:
— Ты запятнал честь мундира. Замарал наше доброе имя. Ты не сын мне больше! Вон отсюда. Немедленно! Вместе со своими, — почтенный христианский демократ глумливо хмыкнул, — борцами за демократию, по которым плачет виселица.
— Отец... Отец... — оторопело повторял Томас. — Опомнись. Разве не ты всегда учил быть верным Консти...
Он не закончил фразу. Серебряно звякнул колокольчик у входа. За стеклянной дверью виллы, закаменев, стоял Эстебан Кастельяно в новехонькой генеральской форме.
Из воспоминаний О’Тула
САНТЬЯГО, ЧИЛЬЯН. ИЮНЬ
Мы обручились 19 июня, в день рождения Гло. Свадьбу отложили на конец года. Я рассчитывал, что к рождественским праздникам завершатся формальности затянувшегося бракоразводного процесса с Кэтрин.
Наши отношения, долгое время тягостно-неопределенные для меня и, как теперь выяснилось, для Глории тоже, определились наилучшим образом после того, как я вернулся из Буэнос-Айреса.
Поездка в Аргентину круто изменила мой взгляд на Чили Народного единства вообще, на раскладку политических сил в республике в особенности; изменила взгляд на товарищей очаровательной «компаньера Рамирес» и даже на место Фрэнсиса О’Тула подле нее.
Прилетев в Сантьяго, я не без труда отыскал среди других машин свою «тойоту», оставленную на огромной платной стоянке у аэропорта, и сразу же, не заезжая в отель, помчался в Технический университет.
Я нашел Глорию на широких, залитых нежарким осенним солнцем ступенях главного корпуса факультета горнорудной инженерии. Она сидела одна, задумчиво и грустно обхватив колени.
Я подошел незаметно.
Присаживаясь рядом, молча обнял ее за плечи.
Девушка рывком повернула голову и радостно вскрикнула:
— Фрэнк! Наконец-то! Я так соскучилась без тебя. Отчего ты мне редко писал? Всего три открытки из Буэнос-Айреса.
— Зато многое есть, что рассказать. Давай, Гло, смоемся отсюда!
— У меня по расписанию лабораторные занятия... А, да черт с ними!
Это был долгий, счастливый день.
Почему-то врезалась в память вывеска — сейчас, сколько ни старайся, не вспомнишь, где, на какой улице мы ее заприметили: «Лучшие в мире пирожки!» Плутоватый грубо намалеванный толстяк в поварском колпаке хвастливо указывал на блюдо с дымящимися эмпанадас. «Ой, Фрэнк, остановись. Это безумно вкусно!» — «О’кей, мэм!» Взяли полдюжины сочных, щедро сдобренных специями мясных пирожков и бутылку сухого красного вина. «Да ты что? — прыснула Глория, когда я стал шарить по прилавку в поисках ножей и вилок. — Настоящие эмпанадас едят руками. Смотри, вот так. Только осторожно, не облейся соком». За все три с лишним месяца, прожитых в Сантьяго, мне ни разу не доводилось до этого дня бывать в загородном парке на горе Святого Христофора. «В честь Колумба, наверное, нарекли сей холм?» — «Позволяете себе богохульствовать, мистер О’Тул?» — скрипучим голосом строгой аббатисы, дурачась, спросила Глория. «Грешен, матушка настоятельница. Давно погряз в богомерзком атеизме. А крестик ношу из чистого пижонства — я ведь престарелый фат, бонвиван, жуир и даже, можно сказать, плейбой». — «Ты чудесный, Фрэнк, — посерьезнела Гло, — и ты молодой. Моложе иных юнцов. Пока ты был в Аргентине, я окончательно поняла, что люблю тебя». Холодящий воздух поздней чилийской осени был по-весеннему звонок и чист. Внизу, под мирадором — широкой смотровой площадкой с пустующими плетеными креслами — волнисто зыбились охровые черепичные крыши. «Дорогой, дай-ка мне десять сантимос, — она опустила монету в прорезь автомата — бинокуляра. — Вон, кажется, мой дом!.. Дворец «Ла Монеда», а вон твоя гостиница!.. Стадион «Насьональ», Католический университет». Я пригасил сигарету: «Боголюбивые ученые мужи из этого университета готовятся сделать очередную гадость: они попытаются доказать, будто победа Народного единства на последних выборах — фальсифицирована». — «Да, ходят такие слухи», — Глория отстранилась от бинокуляра, пристально на меня взглянула — я понял: в словах моих и в тоне, каким они были сказаны, ей послышались новые, не совсем привычные нотки. Порывом ветра сбило набок лохматые челки пальм. «Пойдем, Фрэнк, холодно здесь, наверху». В лавчонке сувениров я купил аляповатую деревянную статуэтку Святого Христофора в золоченой хламиде, с нарумяненными щеками и подкрашенным ртом. «Сан-Кристобаль, моя хорошая, волею Ватикана стал в двадцатом веке покровителем автомобилистов. Пусть оберегает меня от дорожных происшествий». В машине я забросил неказистого святого в перчаточный ящик. Драйв-ин[15] был забит до отказа — в тот вечер давали нашумевшую американскую ленту «Буч Кэссиди и Санданс Кид». Автомобили, сгрудившись, как тюлени на лежбище, уткнулись мордами в экран. Там сновали немые герои. Они обрели дар речи, когда я высмотрел, наконец, свободное местечко, выключил мотор и подфарники, а Глория втянула в кабину репродуктор, кричавший рядом на столбике. «Пожалуйста, сделай потише», — попросил я. «Слушаю и повинуюсь». Она скинула туфли, с ногами забралась на сиденье и доверчиво прижалась ко мне. Не дождавшись трагической развязки фильма, где обаятельные грабители Буч Кэссиди и Санданс Кид отбиваются от окружившей их целой дивизии боливийских солдат, мы покинули драйв-ин под неодобрительные гудки завороженных зрелищем автомобилистов. Светлячки трассирующими пулями врезались в ветровое стекло.
После обручения мы решили провести недели две в Чильяне.
— Я хочу показать тебе город моего детства, — сказала Глория.
Ранкагуа,
Сан-Фернандо,
Курико,
Линарес, —
на обочинах «Виа Сур» — единственной автострады, пересекающей с севера на юг всю страну, что протянулась узкой полоской земли между Тихим океаном и Андами, — мельтешили дорожные указатели с названиями городов.
Парраль...
«Не завернуть ли на кружку пива к друзьям дона Алонсо из немецкой колонии «Вюрде»?» — мелькнуло в голове. Но при одной мысли об этом у меня болезненно заныли бока.
Расплющившийся в долине одноэтажный Чильян.
Чтобы не стеснять родственников Глории, остановились в мотеле.
Часами безмятежно бродили по нешумным зеленодревым улочкам, заглядывали в простецкие кабачки, покупали нехитрые и совсем нам не нужные сувениры.
Мы побывали у ее родных, встречались с ее школьными товарищами. Меня интересовало, что думают эти радушные, скромные, честные люди, в поте лица зарабатывающие свой хлеб, о правительстве Альенде и его экономической политике. Ответы были откровенны и однозначны. «Видишь ли, Франсиско (так они переиначили мое англосаксонское имя), не все, конечно, ладится. Но ведь сколько уже сделано! Аграрная реформа, национализация промышленных предприятий, социальные преобразования. Чилийцы впервые узнали, что такое подлинная свобода, почувствовали, что значит жить без страха... Словом, это — наше правительство». Естественно, я не впервые выслушивал подобные суждения. И все больше убеждался в ошибочности беспочвенных умствований и скоропалительных выводов своей критиканской, опубликованной до приезда в Чили статьи, которая снискала мне благорасположение Джеймса Драйвуда.
Главная достопримечательность Чильяна — школа со стенными росписями кисти Давида Альфаро Сикейроса. В субботу, когда закончились занятия и здание опустело, директор провел нас в библиотеку, чтобы показать «мураль» знаменитого мексиканца.
...На улице, у школы, мальчуган с пачкой вечерних газет под мышкой надрывно выкрикивал: «Танки у «Ла Монеды»!.. Попытка военного переворота!.. Генерал Пратс разоружает мятежников!.. Танки у «Ла Монеды»!.. Попытка военного переворота!..»
— Сынок, дай-ка мне!..
Я пробежал глазами сообщение на первой полосе «Кларин» и присвистнул:
— Ты была права, Гло. Мумии действительно попробовали стукнуться в двери казарм. Послушай, что пишут: «В девять утра восстал расквартированный в Сантьяго Второй бронетанковый полк под командованием полковника Роберто Супера. Выступление было согласовано с главарями «Патриа и либертад». Столичный гарнизон не поддержал мятежников. Попытка государственного переворота не удалась...»
— Как ни грустно, любимый, придется прервать наши каникулы.
— Да, выедем завтра, на рассвете.
Уже в мотеле, помогая своей невесте укладывать вещи, я продолжил прерванный разговор:
— Авантюра этого Супер... мена — явление прискорбное. Но нет худа без добра: обнадеживает, что армия не пошла за ним.
— Да, Фрэнк, очень хочется надеяться, что вооруженные силы останутся лояльными. Военные в Чили около сорока лет не вмешивались в политику.
И снова под колесами «тойоты» — «Виа Сур».
И снова — только в обратном порядке — мельтешня дорожных указателей:
Парраль,
Линарес,
Курико,
Сан-Фернандо,
Ранкагуа...
Сантьяго встретил нас умиротворенностью воскресного дня.
Внешне ничего не изменилось в городе.
О вчерашней попытке переворота напоминали разве что выщербины от пуль на фасаде здания министерства обороны да изрытый гусеницами тяжелых танков асфальт на площади Конституции у президентского дворца.
Всю ночь мне пришлось просидеть за пишущей машинкой над срочной корреспонденцией для «Лос-Анджелес таймс». (Мой американский шеф не скрывал недовольства. «Куда-вы запропастились, О’Тул? — скрипел он в телефонную трубку. — Мы вызывали вас 28-го. Собирались поставить материал на первую полосу. Зарезервированное под трехколонник место были вынуждены забить сухими сообщениями телеграфных агентств из Сантьяго... Ну, передайте хоть что-нибудь постфактум». — Я не сжег еще свои корабли. Я не спешил с этим. Потому и прокорпел до утра над заказом редакции.)
В восемь ко мне заявился гость.
Профессиональным взглядом обшарил номер, будто проверяя, нет ли посторонних.
— Я один. Абсолютно один. И к тому же фактически давно состою в разводе с супругой, мой дорогой специалист по адюльтерам.
— Меня, Счастливчик, меньше всего интересуют ваши матримониальные дела. — Маккензи умело разместил в кресле громоздкое мускулистое тело, устраиваясь, похоже, надолго. — А вот, кое-какие другие, каюсь, занимают чрезвычайно.
Помолчали.
— Ну, рассказывайте, — сказал Дик.
— Не понимаю... О чем?
— Обо всем по порядку. Начните с похождений в Сан-Мартин-де-лос-Андес.
— Дик, — я с укоризной покачал головой и повторил: — Дик, когда вы позвонили мне в Байрес, я, кажется, достаточно ясно объяснил, что мои похождения на аргентинско-чилийской границе, какими бы экстравагантными они ни выглядели со стороны, в действительности не выходят за рамки нормального журналистского поиска.
— Эти, с позволения сказать, «достаточно ясные» объяснения далеко не все разъясняют. И уж ничуть не помогают уразуметь смысл дальнейших эскапад на аргентинской земле уважаемого мистера О’Тула, который по поводу и без оного поминал всуе имя Джеймса Драйвуда и вашего покорного слуги.
(«Что конкретно ему известно? «Патриа и либертад» определенно проинформировала Маккензи о нашей встрече с Роберто Тимом, и, возможно, о моих попытках выйти на Маршалла и «Импромаре» он тоже осведомлен... А вот сделка с Монти, контакты с Алликой вряд ли попали в поле его зрения».)
Я подробно изложил свою версию бесед с латинизированным бошем и Эль-Тиро в Сан-Мартин-де-лос-Андес, с экспансивным штурмовиком Тимом и ушлым «боливийским коммерсантом» в Буэнос-Айресе. И добавил:
— Старина Дик, твои замечательные друзья — истинные герои. Сейчас им приходится скрываться, действовать втайне и, разумеется, избегать гласности. А завтра, когда они станут хозяевами положения, за ними начнут охотиться интервьюеры... Разве не объяснимо стремление загодя собрать материалы о грядущих победителях? Материалы для моей книги, в которой наряду с разоблачениями происков красных будет воздано должное бескорыстным, самоотверженным борцам за Правопорядок и Конституционность.
Маккензи озадаченно сморгнул:
— Да-а, ловко закручено... — Чугунные заледенелые глаза супермена оттаивали. — Должен признаться: звучит убедительно. Тем более, когда знаешь ваше прошлое. Во Вьетнаме, в Санто-Доминго, да и во многих других местах, куда вас заносила нелегкая, вы совали свой нос повсюду. И всегда выходили сухим из воды — за то вас и прозвали Счастливчиком. И всегда, какой бы деликатной темы вы ни коснулись, какой бы секрет ни попадал вам в руки, в своих статьях вы неизменно оставались добрым консерватором. Вы никогда не играли на руку комми, Фрэнк. Мне все это отлично известно. Но вот как отнесется мистер Драйвуд к новому направлению вашего журналистского поиска?.. Хорошо бы вам свидеться с ним... Лично потолковать... Не махнете ли, Фрэнк, на несколько деньков в Вашингтон? А?
— Идет, — согласился я, не раздумывая.
Проводил Маккензи до лифта. Отправил корреспонденцию. Отключил телефон. Принял снотворное. И прилег вздремнуть.
Но сон не шел.
Мысли рвались, мешались и путались, свиваясь тугим клубком. Я распутывал его и распутывал сквозь нестерпимую головную боль:
«Как это он там говорил?.. «Длинные руки»... «Везде достанут»... Точно... После моей исповеди о злоключениях в лепрозории Дик оборвал меня... Грубо оборвал: «Вам крупно повезло, Счастливчик. Но впредь, послушайтесь доброго совета, не лезьте куда не следует — шею свернуть недолго. И не дай бог вам написать сейчас хоть слово о доне Алонсо и его помощниках — у этих парней длинные руки, везде достанут»... О доне Алонсо сейчас не расскажешь... Да и о том, что вызнал у Монти, — тоже. И вправду пришьют... Рискованно чертовски. Пока я здесь, в Чили... К рождеству уедем с Глорией в Канаду, в свадебное путешествие... А что это меняет? Все равно возвращаться сюда, к ребятам с длинными руками... Впрочем, выход есть: останемся в Оттаве... Или в Монреаль переедем... Издателя для книги уж как-нибудь найду. Обойдусь без Драйвуда. Напечатал же Уорнок своего «Бегемота». Тьфу. Смех один: я-то, считавший себя традиционалистом и почитаемый коллегами за консерватора, оказываюсь в одной лодке с этим левым профессором из Саскатунского университета... О чем еще говорил Маккензи? Вроде о Гло?.. Запугивал: «Помалкивайте, сэр, об аргентинских похождениях. Не делитесь ни с кем. Даже с вашей очаровательной пассией — сеньоритой Рамирес. Надеюсь, вы не поторопились доложить ей о том, что узнали? Нет? Ну и прекрасно. Тогда я спокоен за нее и за вас...» Глории и верно лучше ничего не знать... А расследование я продолжу. Доведу до конца... Драйвуд? Съезжу в Вашингтон обязательно. И не только ради свидания с ним».
27 сентября
САНТЬЯГО. РАДИОСТАНЦИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВОЕННЫМИ, СООБЩАЮТ, ЧТО АРЕСТОВАН ЛУИС КОРВАЛАН. ОН ЗНАЧИЛСЯ В СПИСКЕ «ОСОБО ОПАСНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ», РАЗЫСКИВАЕМЫХ ХУНТОЙ. НЕСМОТРЯ НА АРЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОМПАРТИИ ЧИЛИ И РЯДА ДРУГИХ ЛИДЕРОВ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, В СТРАНЕ — КАК Я УЖЕ СООБЩАЛ — ДЕЙСТВУЕТ СОЗДАННЫЙ ПОСЛЕ ПУТЧА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ДРУГИХ ЛЕВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
За неделю до того, как Фрэнк отправил эту телеграмму (военный цензор, по привычке, завизировал ее, не читая: корреспондент — друг адмирала Карвахаля!), Исидоро и Глория сидели в кабинете Томаса де Леон-и-Гонзага и еще не знали, что в гости к хозяину виллы пожаловал старый друг сенатора Эстебан Кастельяно.
Новоиспеченный бригадный генерал, позвонив, толкнул незапертую дверь и вошел в холл.
— Стой! — он схватился за кобуру, увидев, что Томас, сорвавшись с места, бросился по лестнице, ведущей на второй этаж. — Стой! Стрелять буду! — Но лейтенант уже был наверху, на своей половине.
Тучный Кастельяно, зло отдуваясь и размахивая пистолетом, побежал за ним.
Усохший, согбенный годами старик сенатор вцепился в подлокотники кресла. Склеротический румянец схлынул с его щек. Но ни словом, ни жестом он не попытался остановить генерала. Кастельяно с размаху влетел в кабинет.
Томас шагнул к висевшему на стуле автомату. Не успел! Глухо грохнул выстрел. Лейтенант вскинулся, гримаса боли судорогой свела рот. Он захрипел и замертво рухнул на пол. Почти одновременно с генералом выстрелил и Исидоро. Первой пулей сорвало с головы Эстебана Кастельяно парадную фуражку с кокардой. Вторая угодила в висок.
— Прямо в сердце... Пульса нет... — Глория поднялась с колен, бережно положив безжизненную руку Томаса де Леон-и-Гонзага ему на грудь.
— Уходить надо! — Итурраран поднял с пола и протянул девушке пистолет. Чертыхаясь, стал обшаривать карманы френча убитого им бригадного генерала.
— Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? — поразилась Глория.
— Ключи ищу. Этот тип подъехал на машине. Вот они! Пошли!
У дверей кабинета столкнулись с горничной в крахмальной наколке и крохотном кружевном переднике, которая, увидев окровавленные трупы, отпрянула назад и заголосила:
— Дон Антонио! Хозяин! Нашего Томаса убили... Уби-иии-ли!.. Вы слышите, дон Антонио?
Старик сидел, не шелохнувшись, под настенным распятием у пылавшего камина, когда Глория и Итурраран стремительно пересекли гостиную и выбежали в сад к стоявшему у ворот черному лимузину.
Улица была безлюдна.
Девушка включила зажигание, придвинула сиденье ближе к рулю, неуверенно нажала на акселератор («мерседес» ей водить не приходилось).
— Скорей, милая. Скорей! Эта лысая мумия наверняка уже звонит в ближайший комиссариат карабинеров. Сейчас оцепят район, и мы окажемся с тобой в мышеловке... Как глупо все вышло!
— Здесь через два квартала — панамское посольство. Попробуем укрыться в нем.
У дипломатического представительства Панамы вдоль невысокой ажурной ограды прохаживались солдаты. Четверо стояли на въезде, под аркой.
— Не проскочим, Глория. Не давить же этих стервецов прямо на посольской территории. Хунта потребует тогда нашей выдачи.
Глория не ответила.
Разогнала машину.
Проскочила мимо ворот — у патрульных не вызвал никаких подозрений дорогой автомобиль, мчавшийся по противоположной стороне, — и вдруг, круто повернув руль влево, под носом у оторопевших солдат врезалась в ограду.
Скрежет металла по металлу. Ажурная решетка разлетелась от сильного удара, и «мерседес», чуть не опрокинувшись, на двух левых колесах выскочил на газон, прочертив его глубокой бороздой.
Из посольского особняка к ним навстречу бежали люди. Солдаты не решились пустить в ход оружие.
Лишь во второй половине дня Глория смогла дозвониться до Фрэнка, который все утро провозился с Леспер-Медоком, вызволяя своего незадачливого соотечественника из концлагеря на стадионе «Насьональ».
О’Тул приехал и с тех пор каждый день навещал свою невесту.
27 сентября он вызвал Глорию из комнаты, где она ютилась вместе с девятью другими женщинами (посольство было переполнено людьми, спасавшимися от преследований военной хунты).
— Тебе привет от отца. Виделся с ним мельком. Он здоров. Отлично выглядит. Хуан обещал на днях отправить его в Чильян. Там, у родственников, ему будет спокойнее после того, как ты уедешь.
— У меня, Фрэнк, нет еще разрешения на выезд из страны.
— Разрешение скоро получишь. Я навел справки. Был в МИДе, на приеме у генерала Оскара Бонильи.
— Ох, родной, как бы все эти хлопоты обо мне не кончились для тебя плохо...
О’Тул задумчиво потер переносицу и улыбнулся с мальчишеской беспечностью:
— Я, как известно, дряхлый психостеник. А стало быть, человек мнительный. Но похоже, что за мной и впрямь теперь приглядывают. И не только из-за тебя, Гло. Из-за моих последних корреспонденции тоже. Они вызывают все большее разочарование и раздражение у моих высокопоставленных заклятых друзей. Опасаюсь, как бы не устроили обыск в номере.
— А разве у господина буржуазного журналиста есть что скрывать от властей? — она и не думала скрывать своей иронии.
И тогда Фрэнк впервые без утайки поделился с Глорией запутанной историей сложных своих взаимоотношений с торонтским издательством «Люис и сын», Джеймсом Драйвудом и Диком Маккензи, адмиралом Карвахалем и сенатором де Леон-и-Гонзага, Марком Шефнером и полковником Эстебаном Кастельяно. («Не имел сомнительного счастья лицезреть покойного в генеральских погонах».) Во всех подробностях впервые рассказал о перипетиях своего аргентинского вояжа и вообще о работе сыскного бюро «О’Тул энд О’Тул инкорпорейтед».
Разговор был долгим. И трудным. Глория никак не могла взять в толк, почему он прежде упорно скрывал от нее правду.
— Только, ради бога, не воображай себя Христофором Колумбом, открывшим Америку, — сказала Глория, прищурив погрустневшие зеленые глаза. — Многое из того, что тебе удалось раскопать, было известно тем, кому знать надлежало. Меры по обезвреживанию правых принимались... Все же некоторые из документов, которые ты раздобыл — ну, например, полученные от Монти, — будь они своевременно опубликованы, могли бы помочь нам в разоблачении происков реакции.
— То, что я раскопал, войдет в книгу, которую я начал писать. Это мой скромный вклад, дорогая компаньера Рамирес, в международную кампанию солидарности с демократами Чили... — Он открыл атташе-кейс и извлек оттуда две толстые тетради и объемистый пакет с бумагами и фотографиями. — Возьми. Здесь наброски и документы. Хранить их в «Каррера-Хилтон» больше не решаюсь. Пусть останутся у тебя. Прогляди на досуге, если разберешь почерк. Увезешь их с собой в Панаму. Я узнаю, кто из дипломатов полетит тем же рейсом, и попрошу пронести все это в самолет, минуя таможенный досмотр. Билет я тебе достал на 11 октября. С превеликим трудом. Сам выберусь отсюда, как только улажу последние дела. Встретимся в Панама-сити. А потом, — Фрэнк привлек к себе невесту, — потом в Канаду.
Весеннее сентябрьское солнце ярко светило, подчеркивая мертвенную оцепенелость города, захваченного солдатами, которые, хотя и говорили по-испански, говорили с чилийской напевностью, были оккупантами. Жестокими, бездушными. Фрэнк с горечью подумал об этом, когда отъезжал от посольства. Даже не оборачиваясь, не глядя в зеркальце, он знал, что «тойоту» неразлучной, привычной за последнюю неделю тенью, преследует приземистый темно-коричневый «форд».
В зимнем саду гостиничного холла экзотические рыбки нервно перебирали плавниками под пристальным взором слепых деревянных масок. Кто-то из темно-коричневого «форда» вошел следом. У Фрэнка пересохло в горле, на губах горчило, и он направился прямиком в бар.
Неизменный Игнасио с отрешенным видом протирал стаканы. На дальнем конце шеренги пустующих табуретов пристроился субъект из «форда». Заказал себе пиво.
— Двойное виски. Разбавлять не надо, — попросил О’Тул.
Бармен покосился на верткоглазого любителя пива. Достал потертый кожаный стаканчик:
— Сыграем в кости, мистер О’Тул?
— В другой раз. Пойду отдохну. Устал я очень.
В дверной щели номера торчал уголок конверта.
По листу мелованной бумаги, спотыкаясь и прихрамывая, разбегались шаткие стихотворные строки:
Все, что упущено когда-то,
Нельзя вернуть!
И путь лежит в крови заката —
Последний путь.
— Что за чушь? — Фрэнк недоуменно повертел в руках листок.
На обороте увидел приписку:
«Дорогой друг!
Надоела до ужаса нынешняя свистопляска — до чего довела эту милую страну фашиствующая камарилья! С меня хватит. Улетаю домой, благо подвернулся случай ускорить отъезд: вчера поздно вечером неожиданно отказался от билета оператор из Би-Би-Си. Все утро я пробегал, оформляя документы в МИДе. Очень хотел проститься с тобой, старина. Но не застал.
Нежный поцелуй Глории. Всегда твой Жак».
О’Тул покачал головой. Очаровательный бахвал, пустомеля Жак! Где эссе, в котором ты грозился излить свою израненную душу? Где обличительная сенсационная книга о злодействах хунты? Слова... Одни слова. Даже Шефнера отхлестать по щекам не смог — при встрече смутился, промямлил что-то конфузливое...
Мало быть добрым, думал Фрэнк, перечитывая письмо Леспер-Медока, мало быть честным и даже, как это принято теперь говорить, прогрессивным. Надо действовать.
Из воспоминаний О’Тула
ВАШИНГТОН, ФОЛЛЗ-ЧЁРЧ, САНТЬЯГО. ИЮЛЬ — АВГУСТ
— Куда едем, сэр? — спросил пожилой усталый негр-таксист в форменной фуражке.
— Фоллз-Чёрч, пожалуйста. Штат Вирджиния. Вот по этому адресу. — Я протянул визитную карточку Чарли Бэрка.
— Йес, сэр.
Город, разморенный июльской жарой, задыхался в бензиновых выхлопах. Даже вечерний воздух был плотен и горяч, как только что вытащенный из духовки традиционный американский «эппл-пай» — яблочный пирог. Машина кромсала его на куски, выбираясь все дальше из раскаленного центра столицы. Мост через реку Потомак. Пятигранная громадина Пентагона, извещающая о том, что мы покидаем Федеральный округ Колумбия. И — огни Вашингтона остались позади.
Встреча с членом совета директоров компании «Интернэйшнл телефон энд телеграф» Джеймсом Драйвудом была не единственной и уж, конечно, не главной целью моего приезда в Штаты. Прежде всего я хотел потолкаться среди всезнающих столичных журналистов, послушать, что говорят они о чилийских делах, порасспросить их по-дружески и конфиденциально. Но летнее отпускное время лишило меня возможности увидеть многих моих друзей и приятелей из числа собратьев по перу. Не застал я в городе и Джека Андерсона, на осведомленность которого привык полагаться. Хорошо еще не уехал никуда толстяк Чарли. Он обрадовался, когда я зашел к нему в редакцию. Удивился, узнав, что за заботы привели меня в Вашингтон. («А ты переменился, непоседа Фрэнк. Прежнего О’Тула вряд ли могло всерьез заинтересовать подобное. Но я рад этой метаморфозе!») Он охотно вызвался помочь. («Никаких гарантий, старик, не даю. Не в моих правилах бросаться пустыми обещаниями. Однако постараюсь — будь уверен! — через сведущих людей получить нужную информацию».) Четыре дня спустя Чарли Бэрк позвонил мне в гостиницу. («Ждем сегодня часам к девяти. Адрес на карточке, которую я тебе дал. Не потерял ее?.. Сьюзэн приготовит стейки и испечет отличный эппл-пай».)
— Приехали, сэр, — сказал таксист, останавливаясь перед парадным подъездом с алюминиевыми буквами над козырьком: «Апартамент хаус — Бродфоллз».
На щитке с фамилиями жильцов отыскал Бэрка. Нажал кнопку домового телефона.
— Алло! Ты, Фрэнк? Открываю.
Зажужжал запор автоматического дверного замка.
Скоростной лифт подбросил меня к пятнадцатому этажу, в холле которого семейство Бэрков уже ждало в полном составе.
— Дядя Фрэнк! — бросились навстречу дети. Пятерых я узнал сразу, хотя они здорово выросли. А вот шестая — малышка, семенившйя позади, — появилась, надо полагать, за время, что я не видел своих друзей. Чарли и Сьюзэн блаженно улыбались.
— Ну, входи, входи в наши новые апартаменты. Год назад решили с женой перебраться в Фоллз-Чёрч: квартиры здесь подешевле, чем в Вашингтоне, да и для ребят лучше — не так шумно и воздух чище.
После ужина, когда Сьюзэн укладывала детей спать, а мы остались в гостиной вдвоем, Чарли ключом открыл ящик секретера и извлек оттуда хрусткий банковский билет достоинством в сто чилийских эскудо:
— Полюбуйся!
— Неужто фальшивые?
— На сто процентов.
— Ловко! — Я всмотрелся в новенькую купюру. — Не отличишь от настоящих. И где же их печатают?..
— Без комментариев, сэр, — отшутился Чарли и, заметив мое огорчение, добавил: — Сожалею, Фрэнк. Я просто повторяю слова человека, который передал мне эти фальшивые деньги... Оставь их у себя, если хочешь.
Вошла Сьюзэн:
— Джентльмены, ваш кофе...
— Может, ты угомонишься, наконец, и побудешь с нами, Сьюзи? — сказал я.
— Сейчас домою посуду и вернусь... Знаешь, сколько хлопот с таким семейством, как наше... — Она притворила за собой дверь.
— Даже лучше, что мы пока одни... У меня есть еще небольшой сюрприз, — Чарли достал из секретера подшивку журналов. — Читал когда-нибудь такой? Нет? Не мудрено. «Статьи по разведке» — самое труднодоступное издание в мире. В продаже не бывает. И на всей территории Соединенных Штатов его можно получить лишь в одной библиотеке. В штаб-квартире ЦРУ. Полистай. А я пойду помогу Сьюзэн.
Я стал просматривать оглавления номеров полуторагодовой подшивки узкоспециализированного журнала... Ну и ну... «Что делать с агентом-двойником в случае его провала?», «Методика устранения тех, кто слишком много знает», «Современная хирургия и способы установки подслушивающей аппаратуры в организме домашних животных (собак, кошек и т. д.)», «Шпионаж во времена царя Соломона и царицы Савской (исторический очерк)». Пространные наукообразные исследования ученых мужей от разведки перемежались сухими отчетами оперативных сотрудников ЦРУ. Среди этих статей я нашел две, касавшиеся событий в Чили: «Опыт организации антиправительственных выступлений на примере октябрьской забастовки членов чилийской конфедерации владельцев грузовиков» и «Финансирование прессы, стоящей в оппозиции к Народному единству». Первая из них с неопровержимой достоверностью (таиться автору было не от кого!) подтверждала то, на что намекал Монти, — саботаж, беспорядки, направленные на создание в стране экономического хаоса, щедро оплачиваются крупнейшими американскими монополиями, которые в результате национализации лишились привычных сверхприбылей. Вторая статья преподнесла мне поразительную новость. Оказывается, все сверхсолидные, архиреспектабельные, супернезависимые органы демократической печати чилийской республики, все эти поборники и защитники Свободы Слова (включая «Меркурио» — латиноамериканскую «Монд», как принято считать) кормятся из рук тех же самых «ущемленных марксистами» фирм и компаний США.
— Чарли! Как же ты исхитрился получить доступ к самому труднодоступному изданию в мире? — спросил я приятеля, когда тот вновь появился в гостиной.
— Только не думай, что я связался с парнями из Лэнгли. Все гораздо проще. Сидит там один мой однокашник по Гарварду. Блистал он в университете (профессора прочили фантастическую научную карьеру), а стал заурядным аналитиком в ЦРУ. Вот и мучается комплексом неполноценности. Опубликовался в своем секретном журнальчике и притащил мне сегодня утром — похвастать — подшивку...
Засиделся я у Бэрков допоздна. Сьюзи пришлось еще несколько раз варить кофе. Пили ликер. Все трое, перебивая друг друга, с удовольствием вспоминали время, проведенное в Мехико, где Чарли и я — совсем молодые! — работали корреспондентами.
Прощаясь, Сьюзи чмокнула меня и тихонько спросила:
— Так что, Фрэнк? Разлад с Кэтрин непоправим?
— Это не разлад, дорогая, а разрыв. Окончательный и бесповоротный.
Четыре дня, отделявшие нашу первую встречу с Чарли от поездки к нему в Фоллз-Чёрч, не прошли для меня впустую.
Была аудиенция у Драйвуда в оффисе столичного отделения ИТТ на Л-стрит, 1707. Недолгая аудиенция. Но ждал я ее долго — проторчал в приемной почти полчаса. «У шефа совещание», — извинилась мисс Меллоуз, тоненькая, хрупкая секретарша — фарфоровая статуэтка за серым металлическим канцелярским столом. Все в Пегги отвечало общепринятому и широкораспространенному стандарту девушек из солидных фирм. Все, кроме, быть может, умного, цепкого взгляда и нешаблонных суждений, которые искорками вспыхивали порой на зеркально гладкой поверхности нашей с ней, прерываемой звонками, беседы ни о чем.
Джеймса мучила изжога. Он глотал таблетки и ежеминутно посматривал на часы, словно желая подчеркнуть недовольство зарвавшимся, отбившимся от рук щелкопером. Мои объяснения были точным слепком спасительной версии, изложенной ранее — с тем же пафосом — Дику Маккензи. Судя по тому, что мистер Драйвуд перестал, наконец, заниматься таблетками, мои слова о стремлении воспеть героев чилийской оппозиции прозвучали для него в достаточной степени убедительно. Хотя и не поручусь, что убедили хитрую бестию полностью. Как бы то ни было, шеф отпустил меня с миром, вяло благословив на продолжение работы над книгой. «Ну, как?» — мисс Меллоуз подарила мне улыбку номер пятнадцать, самую ослепительную и самую расхожую — для особо важных посетителей святая святых столичного филиала ИТТ. «Успешно, — ответил я и, не знаю почему, предложил: — Время ленча. Может, перекусим вместе, Пегги?» — «Ол райт. У нас внизу кафетерий для служащих компании». — «Лучше ресторан. Есть что-нибудь приличное поблизости?»
Застольный разговор, покрутившись вокруг тем незначащих, пустяковых, принял вдруг совершенно неожиданный оборот. Когда я обронил, что работать в одном из известнейших концернов Америки, наверное, лестно и приятно, секретарша Драйвуда неопределенно покачала головой:
— Так кажется только со стороны. Людям непосвященным... «Интернэйшнл телефон энд телеграф» — государство в государстве. Со своими уставами, уложениями о правах и — преимущественно — обязанностях. Со своей религией, главный догмат которой — поклонение и преданность фирме. И не дай бог кому-нибудь из служащих — любого ранга! — оступиться и преступить закон, вероотступника неминуемо ждет жесткая кара. Был у нас в департаменте социологических исследований довольно видный работник, некий Билл Смазерс. Тридцать лет безупречной службы! Так знаете, за что его выставили за порог? Вольнодумец Билл удобрял газончик у своего дома химикатами не дочернего предприятия ИТТ, а конкурирующей компании. К тому же позволял себе, уезжая в отпуск, останавливаться не в гостиницах «Шератон», принадлежащих нашему концерну, а в каких бог на душу положит. Это стало известно, и — фьють! Смазерса в одночасье вытурили.
По адресу, который — после долгих уговоров — дала мне Пегги, «вероотступника» из ИТТ не оказалось. Дом в зеленом пригороде Вашингтона он продал и переехал в меблированные комнаты в районе, пользующемся не самой лучшей репутацией у столичных жителей.
Насупленные лица прокопченных кирпичных зданий. Зданий-близнецов, зданий-горемык, построенных где-нибудь в тридцатых годах по убогому проекту незадачливого архитектора-урбаниста... Грязный крикливый бар на углу. Мусор... Бездомные кошки... Рукодельная вывеска: «Румз ту лет» — «Сдаются комнаты»... У лифта я посторонился, пропустив выпорхнувших из кабины трех деловитых красоток с томно ищущими глазами (мини-шорты, модные сетчатые кофты — в стиле «смотри насквозь» — на голом теле). На самом верхнем, шестом этаже, в конце сумрачного коридора отыскал нужную мне квартиру: к двери прикноплена визитная карточка «Уильям Смазерс. Директор Си-Ар-Би-Эс».
— Вы ко мне с рекламным объявлением? — сверкнул зубами в любезной улыбке седой моложавый джентльмен, затягивая витой шнур домашней вельветовой куртки. — Располагайтесь... Я сейчас, извините.
Через несколько минут он вернулся в столовую уже тщательно, хотя и не по возрасту броско одетый (кремовый летний костюм, лиловая сорочка и широкий галстук, расцвеченный оранжевыми орхидеями). Приглаживая длинные прямые волосы (концы их упрямо топорщились над воротом пиджака), повторил вопрос:
— Так что собираетесь рекламировать?
Я представился. Сослался на знакомство с мисс Меллоуз. Дал понять, что мне известно о его изгнании из телефонно-телеграфного рая. Поинтересовался значением загадочных литер Си-Ар-Би-Эс.
— Литеры расшифровываются просто: Столичная Радиостанция Билла Смазерса.
— Вот как. Значит, вы процветаете? — Я украдкой глянул на просиженный диван с выпирающими пружинами. Прочая мебель в комнате была не лучше.
Смазерс перехватил мой взгляд:
— До подлинного процветания еще далеко. Но просперити придет! Я верю в успех.
Начать все заново, от нуля! — каким завидным запасом энергии и упорством должен обладать этот человек, тридцать долгих лет успешно делавший карьеру и вдруг дошедший до полного ничтожества. После увольнения он не мог найти работу по специальности. («Боссы ИТТ позаботились, чтобы мое «скандальное дело» стало известно директорам других компаний».) Сбережений закоренелого холостяка хватило бы от силы на два года. А дальше что? Тут Биллу подвернулся случай — спившийся хозяин крохотной радиостанции вознамерился сбыть с рук опостылевшее, хотя и небездоходное дело. Купил. («Пришлось продать дом, машину новую».) Весь штат — он сам («Директор, репортер, диктор — един в трех лицах») да парнишка-рассыльный. («Он же секретарь-машинистка».)
— Ублажаю себя тем, — кривил Смазерс губы в недоброй усмешке, — что особенно охотно беру заказы на рекламу от злейших конкурентов ИТТ. Да иной раз в обзорах новостей, если речь заходит о делишках бывшей моей работодательницы, пну ее, проклятую, и на сердце легче...
— Многое, должно быть, знаете о закулисных махинациях «Интернэйшнл телефон энд телеграф»? В Чили, например? — я подбросил головешку в костер не забытых и не прощенных Смазерсом обид.
— Еще бы! Именно на Л-стрит, 1707, спланирована чилийская операция. Я, когда там работал, постоянно был в курсе всех важнейших директив высокого начальства. Не миновали меня и сводки от Дика Маккензи, начальника департамента социологических исследований филиала компании в Сантьяго. Каждое утро их просматривал, прежде чем явиться с докладом к Драйвуду...
— Бедняга Дик! Тоже лишился своего места...
— Мне бы его печали! — взорвался Билл. — Сыскное бюро, которым он руководит, куплено на денежки ИТТ. И зарплату он получает от фирмы исправно. Не знаю, часто ли заглядывает наш пинкертон в постели нарушителей супружеской верности и сколько на его счету раскрытых адюльтеров, но то, что он сам состоит в тайной связи с противниками Народного единства и, если хотите, руководит их подрывными действиями — факт непреложный.
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», — словами евангелиста Луки подумал я, слушая разоблачения Билла Смазерса. Фрагментарные мои сведения о происках противников правительства Альенде дополнялись новыми деталями и штрихами, складываясь в объемную панораму широкого заговора под уже известным мне кодовым названием «Кентавр». ИТТ вкупе с американскими медными королями и прочими промышленно-финансовыми магнатами — при непосредственном участии Центрального разведывательного управления США — усердно, не скупясь на расходы, готовят почву для государственного переворота в Чили. Разработаны различные подстраховывающие друг друга способы свержения власти «ненавистных марксистов»: a) вооруженное выступление правых ультра; b) интервенция наемников, навербованных среди эмигрантского отребья и авантюристов; c) любой из упомянутых двух вариантов в комбинации с мятежом отдельных воинских частей и подразделений и, наконец, d) армейский путч.
— Чилийские вооруженные силы, не в пример другим в Латинской Америке, привержены Конституции. Сомнительно, чтобы они ее нарушили, — заметил я.
— Это соображение принимается в расчет. Потому в оркестровке переворота и предусматривается несколько вариаций на заданную тему. А чтобы эти замыслы успешнее претворить в жизнь, в ход пущены вспомогательные средства — террористические акты, диверсии, саботаж, распространение панических слухов и запугивание населения «ужасами коммунизма». Наш департамент социологических исследований составил, например, анкету, которую правые — выдавая себя за представителей городских властей — распространяли среди обеспеченных чилийцев. Были в ней и такие, если не изменяет память, провокационные вопросики: «Готовы ли вы поделиться частью своей жилплощади с семьями бедняков из кварталов нищеты? Сколько человек вы сможете принять на подселение? Обладаете ли вы уживчивым и общительным характером? Согласитесь ли вы разрешить подселенцам пользоваться вашим автомобилем, телевизором, холодильником и кухонной посудой?» Это, мистер О’Тул, лишь одна из фальшивок, печатавшихся на деньги ИТТ. Но самая грандиозная фальшивка припасена на будущее — далекое ли, близкое, не берусь судить. Она предназначена для морального оправдания действий заговорщиков во время и после переворота путем компрометации правительства и активистов Народного единства. Пишется так называемая «Белая книга», стержнем которой явится некий план «Зет».
— Слыхал я, слыхал о нем. Дурно пахнущий документ.
Билл помрачнел:
— Да, сейчас мне делается мерзко при одной лишь мысли о том, что сам пачкал руки в этом дерьме.
Мусор. Бездомные кошки. Мутный свет фонаря. На углу у грязного крикливого бара Уильям Смазерс, директор Си-Ар-Би-Эс попрощался:
— Мне направо. Жаль, что у вас нет времени взглянуть на мою радиостанцию, мистер О’Тул. — И неожиданно добавил: — Ничего, я когда-нибудь выплыву!
Еще в Вашингтоне мне стало известно из газет, что сбылось предсказание Монти — 26 июля в Чили забастовали пятьдесят тысяч владельцев грузовиков и автобусов. Теперь-то было ясно, из какой кормушки подкармливались саботажники.
Сантьяго, когда я туда вернулся, выглядел осажденным городом. Из-за инспирированной правыми стачки усилились перебои в снабжении населения товарами; лихорадило заводы и фабрики, испытывавшие нехватку сырья; то один, то другой район столицы погружался во мрак. Выстрелами осадных орудий звучали — по ночам и на рассвете — взрывы бомб у зданий партий Народного единства, в домах лидеров и активистов правящей коалиции.
— Это похоже на прелюдию к вооруженному выступлению реакции. Но у мумий ничего не выйдет — лишь бы армия осталась верна своему долгу, — как-то за завтраком в «Каррера-Хилтон» сказала мне Глория.
В августе мы с ней виделись очень редко. После университетских занятий (или вместо них) она со своими товарищами охраняла от террористов и провокаторов шоферов-добровольцев и отказавшихся примкнуть к забастовке водителей, помогала разгружать товары на автостанциях, участвовала в работе по контролю за распределением продовольствия. Уставала, недосыпала. Лицо ее осунулось, побледнело.
В последних числах месяца мне удалось уговорить Гло уехать на два дня в Топокальму — отдохнуть хоть немного. Жак, неведомо зачем, укатил в ту пору на Огненную Землю.
Из беседки, что прилепилась к краю обрыва, был виден весь по-зимнему сонный курортный поселок, опрокинутые рыбачьи лодки на берегу, пустынный пляж с заброшенными кабинками. Океан натужно катил тяжелые волны цвета позеленевшей бронзы. Обветренные прибрежные скалы тянулись им навстречу. В цинковой хмари неба отчаянные чайки боролись с ветром, пружиня крыльями, вскрикивая зло и пронзительно.
Щемящая печаль августовского утра нас ничуть не печалила. Будни — напряженные, горячечные — вдруг прервались на миг.
Мы были вдвоем. Мы были одни на всем свете.
Подолгу сидели в беседке. Безмолвно. Умиротворенно.
Словно дети, боясь потеряться, расстаться, сплетали руки и ходили вдоль кромки воды по мокрому, плотному, пахнущему водорослями и солью песку.
Скинув бремя лет, я карабкался по каменистым уступам обрыва, чтобы там — в расщелинах, в фиолетовых брызгах вьюнка — отыскать для Глории первые, редкие цветы бледно-лимонного утёсника.
Был день.
И была ночь.
И еще день.
И последняя наша ночь в Топокальме.
11 октября
САНТЬЯГО. СЕГОДНЯ, РОВНО МЕСЯЦ СПУСТЯ ПОСЛЕ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧИЛИ ОБРАТИЛАСЬ К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ С ВОЗЗВАНИЕМ, В КОТОРОМ ДАЕТСЯ АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ И СОДЕРЖИТСЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮ. В ЭТОМ ОБРАЩЕНИИ, В ЧАСТНОСТИ, ГОВОРИТСЯ: «КАЖДЫЙ АКТ ВОЕННОЙ ХУНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ОТРИЦАНИЕМ ТОГО, ЧТО НА СЛОВАХ ЗАЩИЩАЛИ СИЛЫ, НАХОДИВШИЕСЯ В ОППОЗИЦИИ К НАРОДНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. ОНИ ГОВОРИЛИ О ДЕМОКРАТИИ, А НАВЯЗЫВАЮТ ДИКТАТУРУ. ОНИ ГОВОРИЛИ О СВОБОДЕ, А ОРГАНИЗУЮТ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ. ОНИ ГОВОРИЛИ ОБ УВАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, А ЕЖЕДНЕВНО РАССТРЕЛИВАЮТ ЛЮДЕЙ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ. В СТРАНЕ УСТАНОВЛЕНА ФАШИСТСКАЯ ДИКТАТУРА С ПРИСУЩИМИ ЕЙ ПРЕСТУПНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ. ПЛАН ПЕРЕВОРОТА, ТАКТИКА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ, ЗВЕРСКИЕ МЕТОДЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕСУТ КЛЕЙМО ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПЕРЕВОРОТ БЫЛ ЗАДУМАН В СЛУЖБАХ ЦРУ США ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ КОНЦЕРНОВ «ИНТЕРНЭЙШНЛ ТЕЛЕФОН ЭНД ТЕЛЕГРАФ» И «КЕННЕКОТТ».
Пассажирский лайнер компании «Панамерикан» улетал из Сантьяго в Панаму в 10 утра. За два часа до этого Фрэнк приехал в панамское посольство, чтобы отвезти Глорию в аэропорт. Ее соседки по комнате оставили их вдвоем — дали поговорить на прощание.
Оба с трудом находили слова. Предстоящая разлука — пусть и недолгая, как они думали, — тревожила, саднила сердце.
— Ты жди меня, Гло! Обязательно жди. И, как прилетишь, дай телеграмму.
— Да, Фрэнк. Дам обязательно.
— И не беспокойся ни о чем. Все будет прекрасно. Верь. Ведь недаром же меня прозвали Счастливчиком.
— Да, родной. Да.
— Я уже сообщил редакциям, что возвращаюсь в Канаду. Скоро увидишь настоящую зиму, снег, много снега. Заберемся с тобой куда-нибудь далеко на север...
— Хорошо, любимый. Только береги себя, очень прошу. И вот еще что... — Она вынула из сумочки пачку листков. — Это выдержки из твоих записей и копии некоторых документов — я перепечатала их. Передай Хуану — он ждет тебя в час на смотровой площадке парка Сан-Кристобаль. Хорошо, конечно, что из твоей книги, Фрэнк, мир узнает о тайных пружинах фашистского путча. Но надо — надо во что бы то ни стало — рассказать всю правду и нашему народу. В листовках, которые продолжают печататься, мои товарищи несут эту правду людям. Кое-какие твои материалы они тоже могли бы использовать.
— Я сделаю все, что от меня требуется, Гло. И сделаю это с превеликим удовольствием. От нынешнего «нового порядка» меня мутит с каждым днем все больше. Жду не дождусь, когда, наконец, смогу уехать отсюда.
В машине, по дороге на аэродром, они молчали: не хотелось говорить при посторонних — сопровождавших Глорию двух карабинерах и представителе посольства Панамы. Все обошлось без каких-либо осложнений. Ровно в десять, по расписанию, самолет поднялся в воздух.
В салоне, когда погасла табличка «Не курить. Пристегнуть ремни», Глория опустила руку в карман плаща, чтобы достать пачку сигарет, которую в последний момент ей положил Фрэнк.
Вместе с сигаретами она обнаружила маленькую деревянную фигурку Святого Христофора. К нему была прикреплена записка:
«Милая-милая Гло! Ватикан еще не надумал, какого святого отрядить в помощь авиапассажирам. Пусть же этот Сан-Кристобаль — покровитель автомобилистов — хранит тебя в пути. Целую. Твой неизменно Фрэнсис».
В аэропорт и обратно в Сантьяго за «тойотой» О’Тула неотступно следовал темно-коричневый приземистый «форд». Все попытки оторваться от него и уйти — на автостраде и потом, на улицах города, — ничего не дали: «форд» висел на хвосте, как приклеенный. А между тем до встречи с Хуаном времени оставалось не так уж много.
Фрэнк нервничал.
О том, чтобы не выполнить поручение Глории, не могло быть и речи. Он должен выиграть этот бой с неотвязной тенью!
Попробовать отделаться от слежки в отеле? Фрэнк загнал машину в гараж. Темно-коричневый лимузин медленно двигался вдоль тротуара, выискивая место для стоянки. Из него на ходу выскочил сыщик, но Фрэнка он не догнал: тот на лифте поднялся в холл, вышел на площадь Конституции и смешался с толпой.
На смотровой площадке горы Сан-Кристобаль толкались обвешанные кинокамерами и фотоаппаратами американские туристы — громкоголосые, беспечные, довольные собой и всем на свете. Снимались поодиночке и группками на фоне города, подернутого весенней дымкой, похохатывали — милые ветхозаветные старушки в кудельках и их румяные седенькие спутники, по виду не то фермеры, не то клерки, ушедшие на покой.
Хуан Амангуа, одетый франтовато — под человека состоятельного, сидел в плетеном кресле, изучая туристический путеводитель Сантьяго.
— Прошу прощения, не позволите ли заглянуть в ваш путеводитель?
— Пожалуйста, — Амангуа небрежно протянул пухлую книжицу и одними губами добавил: — Там внутри сегодняшнее заявление нашей партии. Очень важное.
— Благодарю вас за любезность, сеньор, — пролистав путеводитель, О’Тул вернул его вместе с принесенными бумагами.
Вернувшись в отель, О’Тул прочитал текст воззвания компартии Чили к народу республики и набросал информацию. На визу к цензорам решил не нести — ну их ко всем чертям! Вызвал Оттаву. По телефону передал сообщение в редакцию.
Вечером позвонил Дик Маккензи:
— У меня к вам срочный разговор.
— Приезжайте.
— Приехать, к сожалению, не смогу. Через час у меня свидание с очень и очень денежным клиентом. Я вот что хочу предложить. Клиент живет неподалеку от вокзала Мапочо — давайте встретимся где-нибудь в том же районе... Ну, скажем, на набережной, у приставим. Договорились? Да? Жду в девять.
На набережной было пусто и темно. Лишь редкие фонари вырезали через аккуратные промежутки светлые кругляши в ночной мгле. Грязная река — в жирных разводах нефти, в нечистотах большого города — вздулась от талого снега. От воды поднимался жиденький едкий туман.
Фрэнк поежился — какой здесь промозглый воздух! Закурил. Облокотился на парапет. Посмотрел на часы. Маккензи торопил, а сам опаздывает. Что нужно этому типу? Опять станет наставлять «заблудшую овцу» на путь истинный, перемежая расхожие проповеди с угрозами? Плевать! Слава богу, скоро все кончится — еще неделя, ну, две самое большее, и они будут вместе с Глорией далеко отсюда...
Фрэнк не услышал шагов позади себя. Не успел вскрикнуть — крепкая, пропахшая табаком рука зажала рот. Удар ножа пришелся под лопатку.
— Готов! Быстрее. Вытащи документы, да смотри, чтоб в карманах из бумаг ничего не осталось. Берись за ноги. Ох, и тяжелый, черт!
Раздался всплеск — и опять тишина. Лишь сумрачно ворочалась, тяжело вздыхала уползавшая к океану река.
— Чисто сработали. Маккензи будет доволен. Бумажник с документами передашь ему... А это что?
На широкую, пропахшую табаком ладонь легла телеграмма:
«ФРЭНСИСУ О’ТУЛУ. ОТЕЛЬ «КАРРЕРА-ХИЛТОН». САНТЬЯГО, ЧИЛИ. ЛЮБИМЫЙ МОЙ. ДОЛЕТЕЛА БЛАГОПОЛУЧНО. ЖДУ. ЦЕЛУЮ. ГЛОРИЯ».
Виктор ФЕДОТОВ
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ
1
Шум мотора, доносившийся из-за холма, сначала был едва различим, потом стал удаляться, вянуть, и вот уже слух почти совсем перестал его улавливать. Похоже было, что далеко в поле работает трактор, и Ратников, напряженно прислушиваясь к этому шуму, представил даже на миг, как молодой, чумазый, разомлевший от духоты тракторист, умаявшись и на все махнув рукой, отцепил агрегат и на полной скорости — только пыль столбом! — помчался к полевому стану — попить ледяного кваску, поесть наскоро, переброситься шуткой с языкастыми девчатами. Как же сладки такие минуты!
Но все это только показалось Ратникову. Нет, не показалось — себя он увидел на тракторе, на месте этого чумазого парнишки. Только уже не здесь, не в этой прокаленной солнцем пыльной степи, а в своей родной стороне, где дремучим лесам краю никто не знал, а река уводила невесть в какие дали, и луга были такими сочными — хоть ноги полощи в траве.
Пришла, долетела к нему и песня из далекого того времени: вот ведь бывает, точно наяву все опять видишь — что было и даже чего не было, но могло бы, конечно, быть. Но ведь этим теперь душу только бередить! К чему это, если все ушло давным-давно, осталось в какой-то далекой и будто бы не своей, получужой жизни? И когда вернется, неизвестно. Да и вернется ли вообще? Нет, никак все же не уходят, не отстают слова из той далекой теперь песни: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати...» Странно, но песня эта в ту пору, почти пять лет назад, когда он, Петр Ратников, еще до призыва на флот работал трактористом, была так близка ему по духу, по настрою и состоянию души, что порой чудилось ему — не о нем ли она сложена? Нет, конечно же не о нем! Но почему же он чувствовал такую сопричастность с ней? И в поле, когда целыми днями, от рассвета до заката, без устали гонял свой трактор. И особенно тихими вечерами, когда девчата, полуобнявшись, проникновенно пели под его гармонь, поглядывая на него ласковыми глазами. В такие минуты ему хотелось сделать что-то необыкновенное, от чего и у других было бы светло на душе, он испытывал в этом какую-то нетерпеливую потребность, идущую от невысказанной доброты сердца...
Но как же давно это было! А может быть, вот эта горьковатая полынная степь с подрагивающим над ней маревом, и река позади, в тридцати шагах, и невысокий холм впереди, за которым слышится шум мотора, — может, это так, мираж? И стоит только крепко зажмурить глаза и вновь открыть, как все пропадет, сотрется? И опять он, Петр Ратников, очутится в родной своей стороне?
Ратников утер ладонью потное лицо. «Что это я? Накатит же такое!» Солнце над головой раскалилось добела, нещадно пекло, хотелось пить, окунуться в реке, она была почти рядом — за спиной. Но он знал, что не спустится к воде, — не до того, и торопливо ощупал взглядом пологую макушку холма. Ему показалось: шум мотора раздвоился, подвинулся ближе. И тогда он тщательно стал готовить последний автоматный диск и единственную противотанковую гранату, потому что знал — не трактор, конечно, шумел там, за холмом.
— Панченко! — крикнул Ратников вправо, высунувшись из своего окопчика. — Слышишь что-нибудь?
— Тебя слышу, товарищ старшина второй статьи! — донеслось в ответ.
— Не про то я! — отмахнулся Ратников. — Шум, спрашиваю, слышишь?
— Нет, никакого шума, товарищ старшина второй статьи!
— Что ты все заладил: второй статьи, второй статьи? Далась она тебе, эта статья!
— Так по уставу, товарищ старшина второй статьи, — долетел снова голос Панченко. Но сам он не показывался над окопчиком: трудно было ему подняться — в последней схватке он был ранен в ноги.
«Вот дьявол тугоухий! — беззлобно, даже скорее уважительно выругался Ратников. — Мать тебя, что ли, уставом кормила?» Он знал эту привычку Панченко — называть всех, начиная со старшего краснофлотца, непременно по званию и обязательно со словом «товарищ». Еще на сторожевом корабле, откуда они вместе были направлены в морскую пехоту, Панченко многих удивлял этой своей странной привычкой, а здесь она и вовсе уж была ни к чему, но он, упрямый этот человек, оставался самим собой.
У Панченко, как и у самого Ратникова, тоже оставалась единственная противотанковая граната и один диск для автомата, не совсем полный — они все честно поровну поделили между собой после боя, два часа назад, когда отбили последнюю, третью за этот день атаку вражеских автоматчиков. Собрали весь боезапас у четверых погибших товарищей и поделили...
Когда над пологой лысой макушкой холма стали вырастать, будто поднимаясь из-под земли, две бронированные тяжелые машины, Ратников не очень удивился, потому что другого и не ждал. Весь вопрос сейчас был только в том, сколько их — две ли, больше ли? — и пойдут ли следом автоматчики?
То, что он увидел, даже успокоило его, и Ратников, словно бы обрадовавшись, приподнялся на локте и крикнул слегка возбужденно:
— Панченко! Танки идут, видишь?
— Да вижу, товарищ старшина второй статьи! — откликнулся Панченко. Окопчик его был правее метров на двадцать, и теперь над ним виднелась серая от пыли бескозырка.
— По одному на брата! — крикнул опять Ратников. — Ты правым займись, слышишь?
— Да слышу, товарищ старшина второй статьи!
— Ну, оратор! — обозлился Ратников.
Но бескозырка Панченко уже скрылась в окопчике.
Танки на большой скорости спускались с холма, два бурых шлейфа пыли тянулись за ними, точно дымовая завеса. «Смело идут, открыто. — Ратников, наблюдая за ними, чувствовал легкое волнение. — Знают, сволочи, что никого почти не осталось. Ну, ну, идите...» Он подосадовал, что полковая артиллерия сейчас уже ничем не может помочь им с Панченко. Почти рядом валялась вдребезги разбитая рация с вываленными наружу внутренностями, перепутанными, перевитыми, похожими на кишки проводами.
Ратников пожалел о погибших своих четверых ребятах: совсем стригунками простились с жизнью, даже бриться пора не всем пришла, но держались как положено, по-флотски, и надо будет написать им домой. Как же эти четверо ребят нужны ему были сейчас!
— Панченко! Автоматчиков-то нет за танками! — крикнул он. — Повезло! Так ты правый берешь на себя?
— Правый, товарищ старшина второй статьи!
— Ну, а я, значит, левый! — Ратников остался доволен: не запаниковал Панченко, голос спокойный, хотя и есть от чего выйти из равновесия — впервые с танками сходились как-никак. Да, очень нужны были ему сейчас эти четверо ребят. Ну, а Панченко он крикнул, чтобы взбодрить его. И себя, конечно. Все-таки не по себе становится, когда лишь по автоматному диску на брата да по гранате, а на тебя прут две стальные громадины. У Панченко к тому же ноги раненые, ему из окопчика и не выбраться, в случае чего.
Чудной человек все-таки этот Панченко. Комендором на сторожевике плавал вместе с ним, Ратниковым. Только сам Ратников командиром отделения рулевых-сигнальщиков служил. Угрюмее и замкнутее Панченко не было человека на корабле. Морскую службу и само море не уважал, говорил об этом не таясь — в кавалерию просился, когда призывали! Конюхом до призыва работал, потому и тянуло к лошадям. Должно быть, немало верст проскакал он по пыльным дорогам за свою деревенскую тихую жизнь, вдоволь нагляделся на звездное украинское небо. И глубоко все это осело в его молчаливой душе, в неторопливых мыслях — так глубоко, что никакой силой не отнять у него этого прошлого, по которому он не переставал тосковать.
Когда сторожевик попал под жестокую бомбежку и палубу разворотило прямым попаданием, Панченко сбил из своего орудия самолет. Корабль, весь истерзанный, едва притащился в базу, и командование решило: он свое отслужил. Экипаж стали списывать на берег, в морскую пехоту, и самым первым изъявил желание расстаться с морем Панченко. Правда, при этом он робко спросил: «Нельзя ли в кавалерию?» Ему сказали, что нельзя, вручили медаль за сбитый самолет, и он, расстроенный, сошел на берег.
И вот судьба снова свела Ратникова с Панченко в батальоне морской пехоты. И еще четверых парней с их корабля. Но теперь эти четверо лежат уже убитые на небольшом пятачке — плацдарме, а они, Ратников с Панченко, пока еще живы, уцелели после трех отбитых атак, а что дальше будет, неизвестно.
Ратников следил из своего окопчика за танками. Метров триста оставалось до них, не больше, и он прикидывал, как лучше, умнее встретить их, хотя эта встреча ни ему, ни Панченко никак не нужна была. Он подумал, что если каким-то чудом удастся выпутаться из этой переделки, то сегодняшней же ночью попытается раненого Панченко переправить на тот берег, к своим.
Ах, какая досада, что разбита рация! Было Ратникову немножко обидно и за то, что вот он со своим отделением с таким трудом выполнил приказ комбата — отыскал брод через эту проклятую реку, переправились на чужой берег, захватили небольшой плацдарм, почти сутки чудом удерживают его, — а батальон все не может начать форсирование. Наверно, это произойдет только ночью. Во всяком случае, днем такая попытка делалась дважды и оба раза неудачно. Как только первые цепи входили в воду, тут же начинала бить вражеская артиллерии И била довольно точно, прицельно: похоже, брод просматривался откуда-то корректировщиком. Река вскипала от разрывов, высоко поднимались грязные, перемешанные с илом фонтаны воды, горячий воздух гудел, раскалялся, казалось, еще больше, и степные птицы взмывали ввысь, уносились прочь от неспокойной земли.
Знают ли на том берегу, что их осталось лишь двое? Знают ли, что у них по одной гранате и неполному диску? Ратников оглянулся назад, точно мог получить на это ответ с того берега, но ничего не увидел за далекими камышовыми зарослями, стоявшими низеньким темным заборчиком. За эти несколько секунд он вдруг точно решил, как будет действовать, хотя до этого представлял себе весьма смутно. Самому ему проще, конечно. А вот Панченко как? Тому остается только ждать, когда танк сам приблизится к нему, подставит себя под удар. Такое почти немыслимо! Но другого выхода тут нет, и Панченко ничего больше не может сделать со своими ранеными ногами.
Самому же Ратникову такая тактика не подходит. Он это понял сразу же, как только оглянулся назад, вернее, когда оглядывался и краем глаза заметил, уловил, что левый, его, танк взял вдруг вправо и пошел по кривой, обходом, норовя зайти со стороны. Минуту спустя и танк Панченко отвернул, но этот уже влево.
«Значит, решили зажать нас в клещи, — подумал Ратников, готовя гранату. — Что ж, замысел верный. Только надо еще посмотреть, что из этого выйдет. Главное сейчас — не выдать себя, не высказать». И, выждав еще с минуту, не поднимая головы, крикнул:
— Панченко! Слышь, Панченко? Ну, я пошел!
Панченко не ответил, не расслышал, должно быть.
Ратников сбросил бескозырку, чтобы не мешалась. «Надо непременно за ней вернуться, когда все кончится», — и осторожно, припадая к земле, скользнул в невысокие заросли. Он полз навстречу своему танку, забирая чуть левее, с таким расчетом, чтобы тот прошел от него метрах в десяти, не больше. Сначала все так и выходило, как намечалось, и уже виднелась впереди рябившая за кустарником серая башня с крестом, надсадно ревел двигатель и слышен был отчетливо лязг гусениц. Но вот, не сбавляя хода, танк слегка повернул и пошел прямо на Ратникова. И, это было самое страшное, что можно было представить.
«Заметил, сволочь! — Ратников замер, смотрел на танк завороженными глазами, все плотнее вжимаясь в землю, точно хотел слиться с нею совсем, уйти в нее. Над головой у него поднимались полуметровые заросли, но ему казалось, что он лежит на совершенно голом месте. — Раздавит сейчас... Чего же ты медлишь? Кидай гранату!» Но рука точно отнялась, онемела, он даже не чувствовал в ней тяжести гранаты, зато автомат в левой руке показался пудовым. Ратников, наперед зная, что долго не простит себе этой оплошности, отшвырнул автомат в сторону, успев каким-то чудом позаботиться, чтобы он не попал под гусеницы.
И вдруг сзади тяжело ухнул взрыв. Танк перед Ратниковым резко затормозил, даже корма чуть приподнялась, ствол зашевелился, стал нащупывать цель. Ратников понял, цель эта — Панченко; а только что ухнувший взрыв — его граната. Велико было желание оглянуться, но он не решился на это и бросился в сторону, почувствовав резкий запах бензина и выхлопных газов.
Ратников очутился в какой-то неглубокой выбоине, втиснулся в нее грудью, покосился на бронированный, с облупленной краской бок танка и осторожно, не отрывая от земли, точно нашаривая что-то, отвел руку с гранатой для взмаха. Он успел бросить короткий взгляд в сторону Панченко и обомлел: второй танк, совершенно невредимый, надвигался на его окопчик.
«Значит, Панченко промахнулся, не добросил гранату! — мелькнула горькая мысль. — Ах, Панченко, Панченко!»
Рядом оглушительно хлопнул выстрел. Колыхнулся от жаркой волны чахлый кустарник. Ствол танка окутался дымом, точно гигантская сигара. Ратников услышал, как скрежетнули внутри машины сцепления, и она тут же рванулась с места, выбросив из-под гусениц перемолотую с травой землю. Мелькнула перед глазами цилиндрическая округлость бензобака. Ратников ухватил ее жадным взглядом, сплюнул запекшуюся, густую от пыли слюну и, уже не думая больше ни о чем и ничего не остерегаясь, сознавая только, что остался незамеченным и что ни в коем случае не должен промахнуться, приподнялся на одно колено и расчетливо, точно опытный городошник, метнул гранату.
Он вжался опять в свою выбоину, и тут же степь раскололась, дрогнула, провалилась под грудью земля, и горячая тугая волна плотно толкнула в затылок, прокатилась вдоль всего тела — точно жару в парной наддали. Ратников не поднимал лица, боялся взглянуть — не промахнулся ли? — но уже чувствовал, что бросок вышел удачным. Это угадывалось по тому, как сразу перестал работать двигатель, как загудело пламя невдалеке. Наконец он приподнялся на ослабевших, слегка дрожащих руках и посмотрел вперед.
Все было так, как он и предполагал, и кровь жарко толкнулась в виски от удачи, от того, что вот он все-таки выстоял, совладал с этой громадиной и остался жив и невредим. Танк горел, окутываясь черными клубами дыма, сквозь них жадно пробивались багровые языки пламени. Ратников невольно отодвинулся метра на три подальше от него, стараясь разглядеть корму, куда метнул гранату — очень хотелось ему увидеть, что он там наделал, наверно, разворотил все, — но за сплошной стеной дыма и огня ничего не разобрал.
На какое-то мгновение он вдруг почувствовал, как что-то неудержимо ликующее подкатывает к самому сердцу. Ему, как мальчишке, впервые прыгнувшему с парашютной вышки, захотелось встать во весь рост и закричать о своей победе. И уже те сомнения, те невозможно длинные секунды жалкого страха, которые он все же испытал, показались ему теперь сущим пустяком, нечаянной потерей веры в себя. Сейчас, после этой схватки, он точно знал: будь у него еще граната, он сумел бы справиться и с другим танком, перехитрил бы его и поджег.
Хлопнула, откинувшись, крышка люка. Один за другим выскочили наружу трое танкистов. Ратников машинально потянулся за автоматом, с досадой и растерянностью вспомнил, что отшвырнул его в сторону, когда танк надвигался на него, и пополз его отыскивать.
Сверху вроде бы туча вдруг надвинулась. Ратников поднял голову: танкисты, двое с автоматами, третий с пистолетом, стояли над ним, в двух шагах. Он встретился взглядом с тем, у которого был пистолет, и сразу понял: конец. Да, будь автомат под рукой, он снял бы их еще раньше, когда из люка выскакивали. А теперь кончено все, амба. Кто же из них будет стрелять? Этот, наверное, с побрякушкой. Ишь глазищи яростью налились... Что ж, подумалось Ратникову, может, они и вправе разделаться с ним: все-таки насолил он крепко, что тут ни говори. А ведь могли бы и не выскочить, был бы автомат — коптились бы сейчас в своем железном гробу. Повезло: повеселели, сволочи, лопочут, рады-радешеньки — в живых остались.
Старший сделал ему знак пистолетом — встать, рявкнул что-то, но Ратников по-ихнему ни черта не понимал. А вот знак понял, конечно, тут любому ясно, это как на международном языке, если бы был такой. Он медлил, прикидывал, как подороже сорвать с них за свою жизнь, но ничего путного не приходило второпях на ум. Подумал только в последний момент, что стоя принять смерть все-таки проще, покойней, и решил уж было подняться.
Резко ударила автоматная очередь. Немцы мгновенно обернулись на выстрелы, двое сразу же ткнулись ничком в заросли, а третий огромными прыжками, точно сайгак, бросился к танку, укрылся за его горящей бронированной тушей.
Ратников вскочил и, пораженный, застыл на месте. Над своим окопчиком почти по пояс возвышался Панченко, в бескозырке, рваной тельняшке. И бил, не заботясь о себе, из автомата. Но теперь, свалив двух немцев, бил уже туда, где укрылся третий. А сбоку к нему приближался танк, поводя хоботом орудия.
— Панченко! — не своим голосом заорал Ратников, удивившись тому, как тот сумел подняться. — Ох, паразиты! — Почти ничего не соображая, зная только, что должен, обязан помочь Панченко, он выхватил автомат у убитого немца и кинулся к окопчикам.
Сбоку сухо щелкнул пистолетный выстрел. Ратников лишь оглянулся на мгновение и, продолжая бежать, метров с десяти перекрестил очередью немца с пистолетом в руке, выскочившего из-за горящей машины.
Другой танк не стрелял, но страшно, неотвратимо наползал на окопчик Панченко.
«Заутюжить решил, подлец!» — Ратников бежал, не спуская с него глаз, с отчаянием видя, что остаются последние метры — танк уже был совсем рядом с окопчиком.
— Панченко! Я сейчас, Панченко!
Панченко не прятался, — и это больше всего поразило Ратникова, — все так же возвышался над окопчиком и посылал последние патроны в надвигающуюся на него громадину. Это было бессмысленно, но он продолжал стрелять, точно надеялся, верил, что пули пробьют чудовищной прочности броню. В следующий миг танк перевалил через крохотный бруствер, обрушился на окопчик Панченко многотонной тушей и заелозил гусеницами, утрамбовывая землю.
Ратников заслонил рукавом глаза. И все пропало... Взметнулись на дыбы быстрокрылые кони, заржали призывно и жалобно, зовя хозяина, но лишь степь, горячая и неоглядная, откликнулась на этот тревожный зов тысячеголосым эхом — казалось, бесчисленные табуны, рассыпавшись, летели по звонкой земле навстречу пылающему, равнодушному солнцу. И никто не мог остановить их, спасти, кроме самого хозяина. Но его уже не было — земля сомкнулась над ним...
— Панченко, я сейчас!
Ратников вздрогнул от внезапно наступившей тишины, поднял глаза и отпрянул: прямо в лицо ему уставилось глубокое, черное жерло орудия. Танк стоял перед ним метрах в пятнадцати, точно выжидая, что он предпримет дальше. Спокойно, на малых оборотах работал двигатель.
Ратников почувствовал вдруг, что не вынесет больше ни минуты этого недвижимого, странного выжидания. Он представил, как гитлеровцы с издевкой наблюдают сейчас за ним из танка через смотровую щель и как он стоит перед ними совершенно беспомощный, будто раздетый донага, и, плохо понимая, что делает, он вскинул автомат и нажал на спуск.
Зачем-то он целился и стрелял в это немыслимо глубокое, черное, уставившееся в него жерло орудия. Когда автомат перестал биться в руках, Ратников швырнул его под ноги и, повернувшись, медленно пошел к своему окопчику. Не торопясь, точно делал какое-то будничное, обыкновенное дело, отыскал свою бескозырку, окинул взглядом истерзанный снарядами пятачок — плацдарм, погибших ребят, которых так и не успел похоронить и которым так и не успел написать домой. «Кто теперь узнает, как приняли они смерть? Какими были для них последние минуты жизни? — подумал с болью и горечью в сердце. — Все до одного полегли. Вот и Панченко тоже. Молодые: жить бы да жить... Что ж, подошла и моя минута... Делили мы прежде все поровну, и горе, и радость, разделим и это — последнее...»
И как-то сразу почувствовав успокоение и уверенность при мысли о таком честном и ровном исходе, Ратников натянул поглубже, понадежнее бескозырку, посмотрел прощально на свой недалекий, недоступный теперь для него берег — значит, артиллерия так и не подоспела — и, стиснув кулаки, повернулся лицом к танку, неотступно следящему за ним орудийным оком...
2
С берега, со стороны Волчьей балки, все отчетливей доносились отзвуки приближающегося боя, ветер нес над бухтой сизые клочья порохового дыма. Вражеские снаряды долетали уже в расположение базы: от взрывов вздыбливалась земля у самой кромки обрыва, всплескивались водяные столбы вдоль прибоя.
С моря шел сильный накат, глухо и мощно набрасывался на берег, кипела, пенясь и клокоча, вода меж камней, и вся прибрежная полоса казалась обложенной сугробами снега. Бухта была пустынна, и лишь тральщик одиноко жался возле невысокого пирса. Еще каких-нибудь полчаса назад орудия его вели беспрерывный огонь и снаряды с металлическим шелестом скользили в вышине, уносились в глубь полуострова, туда, где гремел бой — в сторону Волчьей балки. Но сейчас корабль стоял, покинутый командой, и в его трюмах находился смертоносный груз — заложенная по приказу командира капитан-лейтенанта Крайнева взрывчатка.
Медленными, очень медленными казались эти последние минуты, и уже ничто не могло их отвратить...
Дожидаясь взрыва и словно бы не веря, что он все-таки произойдет, будто надеясь на какое-то чудо, лейтенант Федосеев не отрывал взгляда от тральщика. Торпедный катер Федосеева держался кабельтовых в трех от берега, готовый к переходу в главную базу. Вся команда, Татьяна Ивановна с Ульянкой — жена и дочь командира тральщика Крайнева, представитель оперативного отдела младший лейтенант Кучевский — стояли на палубе и молча, напряженно смотрели на обреченный корабль.
В бинокль Федосеев хорошо видел бортовой номер тральщика, черные фонтаны взрывов вдоль береговой полосы, а еще выше — взбирающихся вверх по тропе моряков, простившихся со своим кораблем и теперь уходивших на прорыв, на помощь базовской команде во главе с майором Слепневым, которая пока еще удерживала немцев у Волчьей балки, на подходе к бухте. Федосеев понимал: почти на верную гибель уходили они, и виновато смотрел им вслед. Но чем же он мог им помочь? Самое разумное, что можно сделать в его положении, — это сейчас же, не медля ни минуты, уходить на полных оборотах от берега, пока, чего доброго, фашисты не вышли к обрыву и не заметили торпедный катер.
Но Федосеев медлил, держал руки на рукоятках машинного телеграфа и не решался дать ход. Ему, как и всем на катере, надо было дождаться последнего мгновения, увидеть своими глазами взрыв корабля. Зачем, он и сам не смог бы этого объяснить. Федосеев вспоминал последние минуты перед выходом катера из бухты. Когда они, капитан-лейтенант Крайнев, сам он, Федосеев, и младший лейтенант Кучевский, появились на пирсе, на котором уже выстроилась команда тральщика, старший помощник срывающимся голосом выкрикнул: «Равнение направо! Сми-и-р-но!», и, точно на учебном плацу, печатая шаг, пошел им навстречу. Он остановился в трех шагах — лицо его было напряженно и бледно — сглотнул тугой комок в горле и неожиданно тихо доложил Крайневу:
«Товарищ капитан-лейтенант, корабль к взрыву приготовлен. Экипаж выстроен на берегу в полном составе, при полном вооружении». И замер, не сводя строгих глаз с командира.
«Хорошо, Максим Савельич, — так же тихо ответил Крайнев, посмотрел на него с сочувствием, но одобрительно. — Объяснили положение и задачу экипажу?»
«Так точно!»
Крайнев медленно, очень медленно шел вдоль строя, внимательно всматриваясь в лица моряков, точно стараясь навсегда их запомнить. Затем повернулся опять к помощнику и уже громко, так, чтобы слышал каждый, отдал приказ:
«Поднять сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!»
Беззвучно плакала рядом с Федосеевым Татьяна Ивановна, прижимая перепуганную Ульянку. Торжественно-строго стоял Кучевский в поблескивающих на солнце очках, прижимая к виску подрагивающие пальцы. Застыл, точно окаменев, строй моряков. И в этой гнетущей, напряженной тишине, которую, казалось, не трогают ни взрывы снарядов, ни приглушенный гул недалекого боя, медленно и неумолимо поднимался на фалах последний роковой сигнал.
«Зачем же корабль гробить?!» — выкрикнул кто-то из строя, не удержавшись.
Крайнев резко обернулся на голос.
«А что же, немцам прикажете подарить? Машины разобраны, вы все это знаете. — Кивнул в сторону берега. — А немцы вот они, рядом! Мы идем на помощь отряду майора Слепнева, к Волчьей балке. Все до единого! Будем прорываться сушей. — Крайнев выдержал небольшую паузу, сорвал с головы фуражку. — Прощайтесь с кораблем, товарищи!»
Помнил Федосеев до мельчайших подробностей это горькое прощание — и то, как моряки, понурив обнаженные головы, проходили вдоль борта тральщика, и то, как Крайнев расставался с женой и дочуркой, и то, как торпедный катер выходил из бухты и команда без всякого приказания построилась на палубе, и как сам он, Федосеев, встал в этот строй, и Кучевский встал, и даже Татьяна Ивановна с Ульянкой на руках.
— Нет, это невероятно! Невозможно! — неожиданно произнес Кучевский. Это прозвучало так нелепо, что Федосеев не выдержал, с раздражением оборвал его:
— Отставить разговоры!
Но Кучевский не взглянул даже на него. Длинными худыми пальцами он прижимал веки под очками, точно у него глаза резало от солнца, а по впалой бледной щеке янтарной бусинкой сползала слеза. Маленький переносный сейф с документами стоял у его ног.
«Черт знает что! — обозлился Федосеев. — Нюни распустил. Тряпка, а не младший лейтенант! Ребята что подумают, если заметят? Навязался же на мою шею...»
Глухо, тяжело прогремел в бухте взрыв. Взлетели вверх обломки тральщика, медленно, нехотя оседая вместе с огромным фонтаном воды.
— Все, Быков! — сказал Федосеев стоявшему рядом боцману. — Ах, черт подери! — Передернул рукоятки телеграфа и словно погрозил кому-то: — Ну, ладно!.. По местам!
— Сушей пробьются, товарищ командир, — сказал Быков. — А тралец жаль, хорошая коробка была. Ничего, новый после войны достроят.
— Может, и пробьются, — неопределенно отозвался Федосеев. — Лево руля! Мористее забирай!
— Есть, мористее!
— Сейф с тральщика где?
— В кубрике стоит.
— Придем на базу — сдать в секретную часть. В нем документы, списки личного состава, вахтенный журнал. Неизвестно, что с ребятами станет. Сам понимаешь...
— Понимаю, товарищ командир. Пробьются!
— Это здесь, на ветерке, легко говорить! — взорвался вдруг Федосеев, и боцман с удивлением посмотрел на него, не узнавая всегда выдержанного командира.
Да, все сегодня вышло из привычного, четкого равновесия. Неожиданный прорыв немцев у Волчьей балки, взрыв корабля, вот этот вынужденный уход в базу, ощущение вины перед ребятами с тральщика, будто бросили их — все это навалилось на него нежданно-негаданно. А тут еще этот оперативник глаза мозолит со своим сейфом.
— Младший лейтенант Кучевский! — крикнул он раздраженно. — Что у вас в нем, бриллианты, что ли? Что вы его все к ногам прижимаете? Никуда он не денется!
— Зачем вы так? — Кучевский посмотрел на него, и такой у него был взгляд, что Федосеев почувствовал, что странный этот человек видит и понимает его насквозь. И неприязнь его видит, и раздражение, и невысказанное осуждение, что, дескать, взяли с собой на катер, а надо бы тебя вместе с другими послать на прорыв, в пекло это, а сейф твой — лишь причина увильнуть, никуда бы он не делся и без тебя, доставили бы и так куда следует в целости и сохранности. — Зачем вы так, товарищ лейтенант? — повторил Кучевский, конфузясь. — Я ведь не сам, не своей волей, вы же понимаете. — Кивнул на сейф. — Если бы не это, одним словом... так обстоятельства сложились, что...
Он еще что-то говорил, глядя на Федосеева смущенными своими глазами, снимал несколько раз очки, лицо его при этом становилось почти неузнаваемым, не его вроде бы, чужим — болезненным и каким-то беззащитным. Но Федосеев уже не слышал его, врубил «полный ход», моторы бешено взревели, и Кучевский, продолжая жестикулировать, походил теперь на актера из немого кино — голос его совсем пропал.
— Идите в кубрик! — крикнул Федосеев в самое лицо ему. — Там Татьяна Ивановна!
Кучевский согласно кивнул, подхватил сейф, и сутуловатая его фигура скользнула мимо мостика.
— Вот человек, — усмехнулся Федосеев. — Только футляра на него не надели... — Но почему-то на этот раз в нем шевельнулась жалость. — И зачем только на флот таких призывают...
Просторным и светлым было море, зыбь катилась пологая, гладкая, и торпедный катер словно на крыльях летел, уходил все дальше и дальше от берега. Нехорошо, неуютно было на душе у Федосеева. Думал он, с какими глазами придет в базу, как ответит, что сталось с командой тральщика; и мрачнел от этих мыслей, от предстоящей встречи. Понимал умом: нет тут никакой его вины, выполняет он приказ старшего начальника капитан-лейтенанта Крайнева. Да и выхода иного не было. Ну чем он мог бы помочь, оставшись со своим катером в бухте? Двумя пулеметами? Двумя торпедами? Немцы тут же накрыли бы, как только заметили. Нет-нет, Крайнев прав, конечно — иного выхода не было. А сердце все-таки противилось этим мыслям, о другом думало — о ребятах, оставшихся возле Волчьей балки. И никак Федосеев не мог уговорить его, успокоить.
Катер отошел в море миль на шесть, берег теперь слился в сплошную тонкую линию. Федосеев приказал боцману лечь на основной курс и передернул рукоятки телеграфа на «средний».
— На «полном» горючего не хватит, — сказал, покосившись на сразу ставшее недовольным лицо Быкова. — Часа за четыре дойдем.
— Если погода не подкачает, — хмуро ответил Быков.
— Ты, боцман, не сердись, — дружески сказал Федосеев.
Быков понимающе вздохнул:
— Трудно, конечно, там ребятам сейчас...
— То-то и оно. А мы как на курорте: палуба надраена, чехлы простираны, медяшки горят. Царская яхта! Откуда же немцы взялись у Волчьей балки?
— Может, воздушный десант?
— Вряд ли, гул самолетов услышали бы. — Федосеев наклонился к переговорной трубке: — Радиста на мостик! Вряд ли десант. Оборону, наверно, прорвали в глубине. Если так, значит, и с моря не задержатся. Стиснуть челюсти попытаются...
На мостик поднялся радист Апполонов.
— Товарищ лейтенант, краснофлотец Апполонов прибыл по вашему приказанию!
— Становитесь на мостик, — сказал ему Федосеев. — Сектор обзора триста шестьдесят градусов. Поняли?
— Так точно!
— Боцман, держитесь на курсе. Если что, немедленно докладывайте мне. Я в кубрик.
Федосеев спустился в кубрик. Кучевский сидел на рундуке, облокотившись на сейф. Татьяна Ивановна сидела напротив, поглаживая уснувшую Ульянку. Девочка спала сладко, закинув ручонки за голову.
— Представьте себе, — говорил Кучевский Татьяне Ивановне, — небольшой городок на реке, весь в зелени, садах, дома преимущественно одноэтажные, рубленые, за речкой две мельницы крыльями машут — от купца Зачесова еще остались, а дальше — леса дремучие, есть места, где и нога-то человеческая не ступала. В гражданскую белоказаки лихачили, при коллективизации — кулацкие обрезы не залеживались. И все это, заметьте, уважаемая Татьяна Ивановна, не на экране, не в книге, а в жизни. Так сказать, история наяву. Приезжайте!
— Так ведь война, Евгений Александрович, — грустно, словно маленькому, улыбнулась ему Татьяна Ивановна.
— Что ж, что война. Кончится, и приезжайте. У нас прекрасная школа-десятилетка. Вы, как учительница истории, можете вести очень интересную, увлекательную работу. Я, как завуч, обещаю предоставить вам все возможности. Поверьте, историю нашего края будут не только изучать, о ней непременно напишут книги, и вам выпадет случай принять в этом самое непосредственное участие. Ну, разве можно от этого отказываться?
— Но я ведь жена моряка.
— Но ведь всю жизнь следовать за мужем по дальним гарнизонам — не дело для учительницы. Вы будете у нас жить, работать, растить Ульянку. А муж будет приезжать к вам. Это прекрасно, поверьте! Ведь с этими дальними гарнизонами и предмет свой позабыть можно.
— Вам, наверно, трудно это понять, — устало и словно бы не ему, а себе сказала Татьяна Ивановна. Видимо, мысленно она была далеко от этого разговора.
— Что — трудно? — не понял Кучевский, подышав на очки. — Понять человеку дано все объяснимое. И даже несколько больше.
— Пожалуй, — вяло согласилась Татьяна Ивановна. — Немножко не об этом я, Евгений Александрович. Война ведь идет. Я хотела, очень хотела остаться там, с ними. Но Ульянка... Муж буквально силой заставил меня уйти на этом катере. Сказал: это последняя возможность спастись...
Кучевский покосился на свой сейф, вздохнул:
— И я вот не смог остаться. Из-за него... Вы знаете, я в жизни всегда чего-то не могу. Всегда куда-то не поспеваю. Хочу, а не поспеваю. Другие меня обгоняют, даже если я тороплюсь. Не буквально, в переносном смысле, конечно. Так почему-то складываются обстоятельства. Не странно ли? Впрочем, все это не то, мелочи, никому эти эмоции не интересны. На первом плане теперь война, человек как индивидуум стерт, потерян в этой ужасной, кровавой неразберихе.
— А вот это вы напрасно, — Федосеев подсел к ним. — Война всегда выявляла яркие индивидуальности. Настоящий человек останется настоящим в любой обстановке. И все эти чувства, эмоции и прочее, о чем вы говорите, будут при нем всегда.
— Да, но происходит и заметное торможение. Диаграмма мыслей наших, если так можно выразиться, бесспорно сужается в военное время, острие ее направлено к одному — как сделать, чтобы все это как можно скорее кончилось.
— Ну и хорошо! — сказал Федосеев. — И правильно! О прочем потом подумаем, будет время.
— В чем-то вы правы. Но ведь нельзя остановить движение мысли, оно, как вы знаете, носит поступательный характер.
— Мысль никто и не останавливает. Если какая-то мысль, скажем, есть у вас — она и останется, и будет развиваться в любой обстановке. Но если ее нет — жаловаться, увы, не на что, да и не на кого...
— В последнем случае я, безусловно, с вами согласен.
— А в первом?
— Не совсем. Я вот, к примеру, вел исследовательскую работу по истории своего края. На редкость интересную и важную работу. Несколько лет вел, заметьте. Началась война — и все пошло прахом.
— Ничего, подождет ваша работа. Сейчас есть дела и поважнее. — Федосеев усмехнулся: — Но вы все же можете предъявить свой личный счет.
— Кому, позвольте спросить?
— Как и все мы: фашизму, Гитлеру!
— Да, — помолчав, задумчиво сказал Кучевский. — Здесь никаких разногласий быть не может.
Корпус катера вибрировал, позуживал от быстрого хода, от напряженной работы моторов. Стегали брызги в иллюминаторы. Татьяна Ивановна укрыла Ульянку чьим-то бушлатом.
— Вы бы и сами прилегли, — сказал ей Федосеев, взглянув на часы. — Полпути только прошли.
Она подняла на него глаза, ища успокоения.
— Нет, нет... Что же там будет? Они прорвутся?
Федосеев подумал, что, быть может, мужа ее, капитан-лейтенанта Крайнева, уже и в живых нет, а она вот надеется, конечно, и сколько еще будет ждать и надеяться — трудно представить.
— Вы же сами знаете, Татьяна Ивановна, что значит идти на прорыв в таком положении. Вы — жена командира корабля...
— Да, да, конечно, знаю, — поспешно согласилась она, как бы извиняясь за неуместный вопрос.
— Ну, зачем вы так? — Кучевский с укором посмотрел на него.
— Послушайте, вы сколько на флоте служите? — обозлился Федосеев.
— Два месяца. Я ведь из учителей. Но это не имеет значения.
— Имеет! Вы без году неделю на флоте, а Татьяна Ивановна — шесть лет! Поняли что-нибудь?
— Я не о том, — мягко возразил Кучевский. — Я ведь о том, что по-разному можно сказать.
— Зачем? Мы знаем, в каком положении оказались моряки с тральщика. Чего же здесь кружева-то вить?
— Даже о смерти человека можно-по-разному сообщить его близким. Все дело в такте, в заботе о людях, в бережном отношении к ним.
— Суть-то одна!
— Одна, да не совсем. Вот, скажем, погиб у вас на глазах человек. Вы пишете его жене: «Уважаемая Мария Петровна, вашего мужа вчера разорвало в клочья снарядом, сам видел». И все.
— Какие страсти вы говорите, Евгений Александрович! — поежилась Татьяна Ивановна.
— Погодите, не волнуйтесь, голубушка, — успокоил ее Кучевский. — Это ведь так, условно. А можно написать и по-другому: «Уважаемая Мария Петровна. С глубокой болью сообщаем вам о героической гибели вашего мужа и нашего боевого друга-однополчанина, вместе с которым мы прошли сотни километров по фронтовым дорогам...» И так далее. Заметьте, ни в первом, ни во втором случае нет и доли вымысла, все именно так и было. Суть, как вы говорите, одна: человек погиб. А как донесено это до близких его — великая разница... Но это, разумеется, пример из крайних. А ведь подобные явления, в различных аспектах, конечно, существуют на каждом шагу. — Кучевский поискал что-то глазами, махнул рукой. — Ну, скажем, возьмем ваш торпедный катер. Он построен, вот мы плывем на нем домой.
— Идем, — поморщился Федосеев.
— Хорошо, идем. А как его строили? В согласии между собой мастеровые были или, напротив, в раздоре? Может быть, еще проектируя его, люди насмерть переругались, врагами стали. Вам это безразлично?
— Абсолютно! — усмехнулся Федосеев.
— А вам, Татьяна Ивановна?
— Пожалуй, нет. — Татьяна Ивановна с любопытством взглянула на Кучевского, не совсем еще понимая, куда он клонит, но с интересом следя за его мыслью.
— И мне — нет! — воскликнул Кучевский. — Но, надеюсь, вам небезразлично, товарищ командир, как складываются отношения между моряками вашего экипажа? Почему же вас не волнуют отношения между другими людьми — теми, кто строил ваш катер, или теми, кто строит заводы, растит хлеб? Выходит, вам небезразлично только то, что в той или иной мере касается непосредственно вас самих. Так прикажете вас понимать?
— Это философия ради философии, — отмахнулся Федосеев.
— Ничего подобного, любезный! — Кучевский с некоторым вызовом взглянул на него: куда девались его робость, стеснительность? Это был совсем другой человек, готовый, судя по всему, постоять за себя.
— Скажите-ка мне лучше — за что вы, а я скажу вам — за что я.
— Я за то, дорогой лейтенант, чтобы среди нас, людей, в любом деле присутствовала гармония.
— Но ведь ее нет! — победно воскликнул Федосеев.
— Конечно, нет, — поморщившись, согласился Кучевский. — Однако судьба ее целиком в наших руках. Основа ее в том, насколько мы ценим, любим, бережем друг друга. И если это каждый из нас поймет...
— Наступит золотой век, вы хотите сказать? — усмехнулся Федосеев. — Как бы не так! Ждите у моря погоды!
— В том-то и дело, что ее не ждать надо, а самим делать. Каждому свою долю, какая по плечу. А в результате: с миру по нитке — голому рубашка.
— Евгений Александрович, по-моему, прав, — сказала Татьяна Ивановна. — Он имеет в виду стремление человека к высокому самосознанию, к идеалу.
— Совершенно верно, — подтвердил Кучевский.
— Возможно, — Федосеев поднялся, одернул китель. — Но я — человек военный, человек действия. Если меня кто-то бьет, я не могу расшаркиваться перед ним. Как же быть в таком случае с вашей гармонией?
— Вы опоздали, — вежливо улыбнулся Кучевский. — Когда бьет — поздно задумываться о гармонии. Чтобы до этого не дошло, надо раньше позаботиться. Это как урожай: что посеешь, то и пожнешь. С той лишь разницей, что посев этот должен длиться столетиями, не прекращаясь ни на один день. И, как вам известно, многие просветители, представляющие самые различные народы, посвятили этому всю свою жизнь. И не напрасно, заметьте!
— А вы упрямый человек, — заметил Федосеев. — Не ожидал, признаться. — А сам подумал: «И здесь у тебя свой подход, своя гармония. Ну и ну! Да и не такой простак: ишь, в какие словесные дебри забрался, а ведь это для того, чтобы Татьяну Ивановну от мрачных мыслей отвлечь. Преподавать бы тебе эстетику какую-нибудь, а не на флоте служить...»
Крышка люка вдруг резко откинулась, показалось встревоженное лицо радиста Апполонова.
— Товарищ лейтенант, немецкие катера с левого борта! На сближение идут. Справа — два транспорта и сторожевик!
— Вот вам и гармония! — на ходу бросил Федосеев, натягивая фуражку. — Татьяна Ивановна, если что — не обессудьте...
— Нас здесь нет, — сказала она понимающе.
— Из кубрика не выходить! — Федосеев загромыхал сапогами по трапу, захлопнув за собою люк.
Он взбежал на мостик, схватил бинокль, хотя и так было видно: из-за недалекого мыса выходили два больших транспорта и сторожевик. Они направлялись вдоль побережья. А шестерка катеров, расходясь веером, забирала мористее, охватывала торпедный катер полукругом.
— «Охотники», — сказал боцман. — Запрашивают нас, видите?
— Вижу. — Федосеев стал сам за штурвал. — Морской десант, значит, и с моря решили отрезать... Отвечать путанно. Боевая тревога!
На фалах затрепетал сигнал, затем другой. Федосеев понимал, что такой трюк не пройдет, что это лишь минимальная оттяжка времени — фашисты сейчас все поймут, а быть может, уже и поняли, значит, схватки не миновать. Но эти минуты очень нужны были Федосееву, они давали ему возможность решить, как действовать дальше. Он видел, что еще есть возможность лечь на обратный курс и уйти обратно, пользуясь преимуществом в ходе. Но что его ждало там, откуда он ушел полтора часа назад? Судя по всему, побережье уже было занято немцами. Кончится горючее, и катер превратится в неподвижную мишень. Да и возможность такая уменьшалась с каждой минутой: «охотники» приближались, неслись навстречу, точно стая гончих.
— Подняли сигнал: «Застопорить ход!» — доложил боцман. — «Открываю огонь!»
Федосеев колебался. Он успел на какую-то долю секунды подумать о Татьяне Ивановне с Ульянкой: «Что с ними будет?» — и вдруг понял, что немцы допустили промах — перехватывая торпедный катер, они оставили открытым сектор для атаки транспортов. Федосеев понимал их: они не могли предположить, что единственный катер, которому в пору флаг спустить, решится на подобную дерзость. К тому же транспорты находились еще и под защитой сторожевика. Но тут уж Федосееву выбирать не приходилось, и он положил право руля.
Почувствовав его замысел, ближний к каравану «охотник» стал забирать левее, на нем сверкнули вспышки орудийных выстрелов, потянулся за кормой, густея, хвост дымовой завесы; он шел на полном ходу, наперерез, пытаясь успеть проскочить между, торпедным катером и транспортами, разделить их дымовой завесой.
Федосеев подосадовал: тот успевал выполнить свой маневр. Но в следующую же секунду, когда слева под самым бортом ухнул снаряд, Федосеев принял решение пропустить «охотник» и скрыться за его же дымовой завесой.
— Огонь! — скомандовал он, когда «охотник» проходил прямо по курсу, кабельтовых в двух, стреляя из носового и кормового орудий. Дробно ударили оба пулемета, огненными бусами протянулись к нему трассы очередей.
Федосеев рванул рукоятки телеграфа на «полный», почти сразу почувствовав, как катер, поднимаясь, выходит на редан, неудержимо стелется над водой. И нажал нетерпеливо на ревуны.
— Торпедная атака!
Он рассчитывал проскочить дымовую завесу, скрыться за ней от наседавших с кормы других катеров и, вырвавшись па чистую воду, попытаться атаковать караван. Что будет дальше — об этом пока не думалось.
Удушливый запах дыма плотно ударил в лицо, засаднило глаза. Казалось, не катер — самолет летит, пробивая густую облачность. Но это длилось всего несколько секунд. Распахнулся навстречу светлый простор, и Федосеев увидел впереди два длинных трехмачтовых транспорта, сыто осевших в воде. Сторожевик бил из всех орудий прямо в лицо, снаряды рвались вдоль бортов, и стоило удивляться, что пока ни один из них не угодил прямо в катер.
Сзади, за дымовой завесой, хлопали выстрелы, но «охотников» не было видно, и лишь тот, что ставил завесу, широко разворачивался теперь справа, не переставая стрелять. Нацеливая катер на первый транспорт, Федосеев подумал, что он все же счастливый человек — так удачно вышел в атаку и пока не получил ни одного попадания.
Он рассчитал все правильно, промаха не будет, не должно быть.
— Аппараты товьсь! — Федосеев не услышал своего голоса при второй команде: «Пли!» — а только увидел, как из правого аппарата легко выскользнуло тяжелое темное тело торпеды, и почувствовал, как катер чуть приподнялся облегченным бортом. «Пошла!» — Он помедлил долю секунды, провожая взглядом торпеду и моля только об одном — не промахнуться бы! — и круто положил лево руля, кладя катер на обратный курс.
— Накрыли! Товарищ командир, накрыли! — закричал боцман, и голос его, почти не слышный за ревом моторов, переломился в грохоте взрыва.
Федосеев быстро оглянулся: над транспортом, ближе к корме, взметнулось пламя. Носовая часть стала задираться над водой, кормовая проваливалась вниз. «Все! — подумал Федосеев возбужденно. — Точно сработано! — И покосился на другую, оставшуюся в левом аппарате торпеду. — Может, и эта будет счастливой?» — Он решил сделать новый заход и атаковать второй транспорт. Но понимал, что на этот раз все будет сложнее.
На баке появился вдруг Кучевский. Изгибаясь, он волочил в левой руке сейф. С него тут же сорвало фуражку, он кинулся было за ней, но ее унесло, точно ураганом подхватило.
— Назад! — закричал Федосеев, грозя ему кулаком. И увидел Татьяну Ивановну с Ульянкой на руках. Она стояла во весь рост на палубе, ветер рвал ее волосы, платье, казалось, их вместе с дочкой снесет сейчас за борт. — Назад! В кубрик! — не слыша себя, заорал Федосеев. — В море сбросит!
И сразу же все вокруг раскололось. На какой-то миг Федосеев успел заметить искаженное лицо падающей Татьяны Ивановны, окровавленную Ульянкину головку с розовыми бантиками в косичках, молнией мелькнувший леер с вырванной стойкой. И успел подумать: «Все, Крайнев, не уберег твоих...»
— Командира убило! — Боцман Быков рванулся от пулемета на мостик, к штурвалу.
Федосеев повис на поручнях, головой вниз. Он уже не видел, как Татьяну Ивановну, которая так и не выпустила из рук Ульянку, выбросило вместе с дочкой за борт, как почти одновременно рвануло и на корме, и там уже, в машинном отделении, бушевало пламя и все мотористы погибли на своих боевых постах.
Торпедный катер потерял ход, факелом пылал на воде. Быков бросил штурвал, стащил Федосеева с поручней, и вдруг взгляд его наткнулся на поблескивающее тело торпеды. Стелясь по палубе, к ней подбиралось гудящее пламя. «Все, амба, — оторопел Быков, — сейчас она ахнет!»
— Апполонов, не подпускай пламя к торпеде! — крикнул он. Радист схватил чехол от пулемета и стал прибивать языки пламени. Боцман затормошил Федосеева:
— Товарищ командир! Товарищ командир, очнитесь же!
Тот не отвечал. Из перепутанных, слипшихся волос его прямо на руки Быкову струйками сочилась кровь. Он наскоро охватил бинтом голову Федосеева.
— Товарищ лейтенант! Катер потерял ход, горит. Сейчас торпеда взорвется. Да слышите вы меня?
— За борт! — не открывая глаз, прошептал Федосеев, бессильно откинул голову, и Быков понял, что больше не добьется от него ни слова.
— Апполонов, что в моторном отсеке?
— Все погибли, боцман! — Радист смотрел на него каким-то бессмысленным, невидящим взглядом, лихорадочно ощупывая ладонями обожженное лицо, и Быков содрогнулся, почувствовав что-то неладное в этом его взгляде, в подернутых серым налетом глазах. Ему показалось, что Апполонов вот-вот потеряет рассудок. А тот, припадая на левую, раненую ногу, затаптывал дымившийся брезент. Брючина выше колена набухала от крови.
Вдруг он остановился, отшвырнул брезент в сторону и стал протирать опаленные, безбровые глаза.
— Все погибли. И мы тоже... Боцман, я плохо вижу тебя. Глаза... Что с глазами?
— Пояса давай! — закричал Быков. У него руки дрожали от этих слов, от его взгляда.
Они надели спасательный пояс на Федосеева, сбросили на воду еще два пояса для себя, и Быков успел сбросить с мостика «рыбину».
— Быстро за борт! Торпеда взорвется!
— Сейчас, я сейчас, — твердил Апполонов, но с места не двинулся. — Она вот-вот. И конец...
Быков окунул брезент в воду и накрыл им хвостовую, уже горячую часть торпеды. Брезент сразу же запарил.
— За борт, Апполонов! — Видя, что тот даже не слышит его, Быков отчаянно выругался, подтолкнул радиста к самому борту. — Прыгай же, черт возьми! Командира примешь! Приказываю!
Апполонов прыгнул, нелепо взмахнув руками.
Быков стащил Федосеева с мостика, спустил вдоль борта на воду, к Апполонову, и вдруг увидел Кучевского. Тот выползал из-за рубки на боку, неестественно волоча ноги, прикрывая правой рукой живот, с виноватой страдальческой улыбкой поглядывая на Быкова из-за очков, снизу вверх.
— Вы чего здесь? — оторопел Быков от неожиданности. — Сейчас торпеда взорвется. Прыгайте за борт!
— Я, знаете, не могу, — с трудом произнес Кучевский, морщась, отворачивая бледное, бескровное лицо от жарко гудящего пламени. — Весь живот горит, разворотило... И потом, неловко, право, — не умею плавать. Так и не научился...
— Прыгайте! — Быков наклонился к нему помочь. И вдруг заметил: левой, свободной рукой Кучевский волочит за собой сейф. — Да бросьте вы свой сундук, черт возьми! — закричал.
— Это ничего... Вот Татьяну Ивановну с Ульянкой взрывом за борт... Видели?
— Катер взлетит сейчас!
— Я понимаю. Вы уходите, а я... — Кучевский приподнялся с огромным напряжением, держась за турель пулемета, стал на колени, ноги у него дрожали, точно била его жестокая лихорадка. Упали очки: — Пожалуйста, — он беспомощно шарил около себя по палубе, — мои очки, они где-то здесь.
Быков надел ему очки, ощутив при этом, какое потное и холодное у него лицо, и понял по этому мгновенному прикосновению — нет, не жилец он уже на этом свете. На всякий случай обхватил грудь спасательным поясом.
— Давайте на воду, вместе. Медлить нельзя ни секунды!
— Я сам, следом за вами. — Кучевский умоляюще посмотрел на него. Глаза его выражали в этот последний миг одну только просьбу: «Уходите, уходите, прошу вас...», да тихое страдание, которое шло, должно быть, от нестерпимой боли.
— Ладно, младшой, не трави! — Быков понимал, что Кучевский не прыгнет, конечно, за борт — не хватит сил для этого, да и бессмысленно ему прыгать — тотчас же ко дну пойдет. — Я все вижу, младшой. — Закричал, не удержавшись: — На всю жизнь запомню тебя! Сниться мне будешь! Но что я могу поделать, что?
— Идите, идите, — прошептал Кучевский. — Мне все равно... а вы идите. Вы честный человек.
Быков окинул взглядом пылающий, гудящий в пламени, изуродованный катер, резко накренившийся на левый борт и на корму, отыскал на воде радиста с командиром — они покачивались на легкой волне, оглянулся на Кучевского — тот все так же стоял на коленях, прижавшись плечом к турели — стиснул кулак над головой, молча прощаясь, и прыгнул за борт.
Они отплыли уже метров на сто, а то и больше, когда к торпедному катеру стал подходить вражеский «охотник». Он приближался медленно, на малых оборотах, с другого борта. Быков никак не мог понять, почему же до сих пор не взорвалась торпеда, и все время, пока они плыли, да и теперь, ждал, что Кучевский прыгнет следом, но так и не дождался.
«Охотник» уже близко подошел к катеру, когда оттуда резко, с перебоями ударил пулемет. Быков вздрогнул — так это было неожиданно, и отчетливо представил себе, что там сейчас происходит.
— Это же Кучевский бьет! — возбужденно сказал он, поддерживая командира. — Товарищ лейтенант, слышите? — Но командир не открывал глаз, не отвечал. Спасательный круг надежно удерживал его на плаву, руки по самые плечи почти лежали на чуть притопленной «рыбине». Но это были руки человека, потерявшего сознание. Тогда Быков повернулся лицом к радисту. — Апполонов, это ведь наш Кучевский бьет! У него живот распорот, а он бьет. Ей-богу, он! Да что ж ты молчишь, душа твоя неладная?
В ответ на пулеметную очередь с «охотника» прогремел орудийный выстрел, и все стихло. А несколькими секундами позже море содрогнулось от мощного взрыва.
— Торпеда рванула, — сказал Апполонов, приподнимая голову над водой. — Я ничего не вижу. Погиб катер?
— Прощай, братишка, — тихо произнес Быков, и непонятно было, с кем он прощается — со своим катером или с младшим лейтенантом Кучевским. — Гляди, гляди, «охотник» тоже зацепило взрывом! — вскричал Быков. — Эх, жаль оверкиль не сыграл! На борт лишь завалился! — Быков видел, как с «охотника» бросались в воду немецкие моряки. — Давай, Апполоша, поднажмем, сейчас катера подбирать их придут. Как бы и нас не выудили по ошибке.
Они поплыли в сторону берега, поддерживая командира. Апполонов сдержанно стонал: раненая нога, обожженное лицо нестерпимо саднили в соленой воде. Быков, оглядываясь, видел, как к месту взрыва подошли сразу несколько катеров, подобрали державшихся на воде немецких катерников, взяли на буксир получивший пробоину «охотник» и направились за уходившими вдоль побережья транспортом и сторожевиком.
— Даже искать нас не стали, — с облегчением сказал Быков, глядя им вслед. — Подумали, что все вместе с катером погибли... Ну, Апполоша, фарватер наш теперь чист, навались на всю мощь. Мили четыре до берега — на среднем ходу дотянем. Держись молодцом.
Так они плыли. Минут через двадцать Апполонов неожиданно вскрикнул, оттолкнулся от «рыбины» и поплыл прочь.
— Стой! — вслед ему крикнул Быков. — Куда ты? Утонешь!
Но Апполонов продолжал плыть, не оглядываясь. И тогда Быков, понимая, что одному ему не добраться с раненым командиром до берега, что и радист пропадет совершенно бессмысленно, заорал срывающимся голосом:
— Стой, застрелю, салага! Еще один шаг и застрелю. Вернись!
Стрелять Быкову не из чего было. Да и не стал бы он делать этого, окажись у него оружие. Просто ничего другого придумать не мог он, кроме этого окрика, хотя и не надеялся, что Апполонов послушается. Он жалел, очень жалел его в эти минуты, первогодка, который после учебного отряда не успел даже толком освоиться на катере, раненого, обожженного, полуослепшего от ожогов. И понимая, что тот, потеряв контроль над собой, идет на верную гибель, Быков в отчаянии закричал, не почувствовав никакой надежды в собственном голосе:
— Ты же командира бросил, подлец! Стреляю, слышишь? Приказываю: вернись!
И Апполонов неожиданно послушался, вернулся на его голос. Глаза его бессмысленно плутали, нетерпеливо отыскивали что-то и не находили. Не мог смотреть Быков в эти глаза, только легонько встряхнул его за плечо.
— Устал?
— Там Ульянка с Татьяной Ивановной. Я видел, как их за борт выбросило. — Апполонов попытался было опять оттолкнуться от «рыбины». — Они там, на воде стоят. А вода красная — кровь это. Плачет Ульянка, зовет...
Быков невольно посмотрел в ту сторону, куда хотел плыть Апполонов. Все было пустынно на море, и лишь вдалеке виднелись силуэты удаляющихся немецких кораблей.
— Ты, Апполоша, не надо, — мягко, с уговором сказал Быков. — Ты поспокойней, братишка. Никого там нет. Фрицы отвязались, ушли. Видишь, вон берег? Туда и поплывем потихоньку. Вот командир только плох, а так ничего. Мы с тобой вдвоем управимся, доберемся вот скоро до берега. И дома, считай.
— А из чего стрелять-то в меня хотел? — Апполонов уставился на него испытующе, утирая обожженное лицо ладонью. И непонятно было: то ли воду смахивает, то ли выступивший от напряжения пот. — Не из чего ведь?
— Не из чего, — согласился Быков, улыбнувшись. — Это так я, пошутил, Апполоша. Пошутил, сам понимаешь...
— Лицо солью разъедает, — поморщился Апполонов. — Ожоги саднят. И нога немеет. Плохо вижу я, боцман.
— Ожоги твои подживут. Видишь, командир совсем плох? Давай на всех оборотах к берегу! — спокойно, но твердо произнес Быков. И увидел, что рассчитал правильно: Апполонов сердито отвернулся от него и энергично, мощно, точно пароходными плицами, заработал сильными руками.
Лишь к вечеру они добрались наконец до берега. Накатный плоский вал вынес их на своей спине на прибрежную гальку, и они так и остались лежать меж валунов, не в силах продвинуться дальше ни на метр. Волны выкатывались на берег пенными завитыми жгутами, дыбились среди огромных камней, с гулом и грохотом разбиваясь о них, и нехотя, обессиленно уползали назад.
Берег был пологий, почти сразу же за кромкой прибоя, метрах в двадцати, начинался непролазный кустарник, а еще дальше, за ним плотной стеной стоял лес. Все это наметанным глазом обхватил боцман Быков и, оставшись доволен, решил сразу же уходить в этот лес или, по крайней мере, добраться до кустарника и там переждать ночь. А уж утром выяснить, кому этот берег принадлежит.
Иззябшее тело ныло, гудела голова, точно о нее, а не о берег разбивались мощные накаты прибоя. Быков попытался размять руки, но пальцы не слушались, онемели, и не было никаких сил сдвинуться с места. С тревогой подумал: окажись здесь сейчас немцы, они с Апполоновым не смогут бросить в них даже камень и их вместе с командиром возьмут без всякой возни, как цыплят.
Но как бы там ни было, что бы в дальнейшем ни случилось с ними, а они свое дело сделали неплохо — на дне, совсем недалеко отсюда, покоится сейчас развороченный взрывом вражеский транспорт. Надо полагать, не с пустыми трюмами он шел. Вот жаль только торпедный катер — тоже, бедняга, нашел себе могилу на глубине. Погоревал о нем Быков, но такой размен показался ему необидным и вполне оправданным. Если к тому же прибавить и пробоину на вражеском «охотнике» — дело и вовсе стоящее.
Апполонов лежал, уткнувшись лицом в мокрую гальку, наползавшие волны плоскими языками облизывали его до самого пояса.
На фоне светлого, с ветвистыми трещинами огромного валуна Быков видел резко очерченный профиль лейтенанта Федосеева. Командир так и не приходил в сознание, пока они добирались до берега. Бинт на голове у него потемнел от крови, наверно, совсем просолился, и Быков пожалел, что нет под рукой никакой сухой тряпки сменить повязку... И Апполонова надо бы перевязать.
— Апполонов, — позвал Быков, — надо нам как-то до кустов добраться. Слышишь?
Апполонов, не поднимая, повернул к нему голову, левая щека у него была рябой от отставшей гальки.
— До кустов надо добраться, — повторил Быков. — Командира перетащим. Может, обсушимся.
Вдруг Апполонов — откуда только силы взялись? — резко вскочил, уставился на лежавшего рядом Федосеева и хрипло выкрикнул:
— Он мертвый! Боцман, он ведь мертвый! Я вижу!
— Не дури, ничего ты не видишь! — прикрикнул на него Быков, подумав, что на радиста опять что-то накатило. А спину обдало ознобом. Взглянув на командира, он понял: Апполонов прав. Но вновь упрямо сказал: — Не дури, слышь?! И спокойно, спокойно.
Уже в сумерках они, измученные, похоронили своего командира. Похоронили подальше от воды, чтобы волны не сумели добраться. Обложили тело камнями, сверху тоже камней навалили. Постояли несколько минут. Лунный свет струился на свежую могилу, на опущенные их головы. О каменные глыбы с грохотом бились волны, сшибались грудью с гранитом, хлопали, как орудийные выстрелы — будто салютовали командиру торпедного катера лейтенанту Федосееву.
— Надо запомнить место, — тихо сказал Быков, рассматривая совершенно раскисшие в соленой воде документы командира. — Ты знаешь, откуда он родом? Почти два года с ним проплавал — и не знаю. Вот беда. А ты?
Апполонов покачал головой:
— Откуда мне знать: он ведь начальник мне, не приятель... Да и ты — тоже. И о тебе ничего не знаю. Случись что...
Быков с удивлением посмотрел на него: «А ведь прав он, черт возьми! Действительно, так уж получалось, что командиры о своих подчиненных знали все, а те о них — почти ничего. Не было вроде особой нужды в этом, а теперь вот как обернулось... Конечно, доберемся до своих, там штаб, документы — на всех все отыщется. А все же лучше было бы лично знать друг о друге, так оно надежнее...»
— Ничего с нами не случится, — успокоил Быков Апполонова. — А познакомиться нам с тобой времени хватит... Ну, товарищ лейтенант, прощайте. Нам пора уходить.
С трудом волоча,ноги по хрустевшей гальке, они направились к кустарнику. Шли молча, не глядя друг на друга, думая о погибших товарищах — разве можно было предвидеть такое еще сегодняшним утром? — о своем катере и о том, что ждет их самих впереди. Апполонов держался одной рукой за плечо Быкова, другой опирался на суковатую палку.
— Ты не молчи, Апполоша, — сказал Быков, стараясь не дать радисту уйти в себя, — ты говори что-нибудь. Не зря вышло, не думай: наш катер, все мы вместе дело свое сделали. Только не молчи, слышишь?
— Как думаешь, ребята там, у Волчьей балки, прорвались?
— Кому-то повезло, а кому-то... — неопределенно отозвался Быков. — Такая, брат, штука.
— А здесь, на этом берегу, тоже немцы? — спросил вдруг Апполонов, приостанавливаясь и словно прислушиваясь к чему-то. — А, боцман?
Быков продолжал идти молча. Он уже пожалел, что попытался разговорить Апполонова. Ну что ответишь ему? Чем успокоишь? Чем обнадежишь, если и сам не знаешь, кому принадлежит теперь этот берег — нам или немцам?
3
Бараки концлагеря, охваченные двойным рядом колючей проволоки, стояли на взгорке, на самой окраине небольшого приморского городка. Иссушенная знойным, беспощадным солнцем земля, казалось, изнывает от жары, горячих ветров, задыхается без дождей. Небо все точно затянуто чистым, подсиненным полотном — ни облачка не видать. И особенно горько и больно было смотреть отсюда, из-за колючей проволоки, из этого пекла на сбегающие вниз, к морю, белые дома, утопающие в буйной, прохладной зелени садов, и на само море, просторно раскинувшееся до самого горизонта. Этот распахнутый, вольный простор не давал покоя Ратникову, манил к себе, казался таким доступным и близким, что каждый раз, глядя на него, рождалась с новой силой надежда на свободу. Охватывая взглядом это манящее раздолье, хотелось верить, что жизнь не может замкнуться на этом клочке бурой, потрескавшейся земли, обнесенном колючей проволокой, что не для того она дана, чтобы бессмысленно оборваться здесь, в этой постылой, душной неволе.
Постоянно хотелось пить — утром, вечером, днем, даже во сне. Но особенно днем, когда шла работа в порту на погрузке муки. Мучная пыль липла к потному телу, оседала на лице, склеивала рот и ноздри, не давала дышать. Пленные, казалось, работают в серых масках — молчаливые люди, понуро всходящие на баржу по трапу, сгибающиеся под тяжестью огромных мешков. Не успевали отгрузить одну баржу, как тут же к причалу швартовалась другая — и все начиналось сначала. И так с рассвета до заката.
...Ратников лежал на нарах рядом с Тихоном. Была ночь, барак спал, постанывали, похрапывали во сне намучившиеся за долгий день люди. Чуть светилась при входе убогая лампочка, до дальнего угла свет почти не доставал, терялся между нарами, обессилевал. В этой полутемноте спокойней думалось, вроде бы один ты в ней — никто не мешает. Но, быть может, многие, как и он, Ратников, лежат сейчас с закрытыми глазами, не спят?
Это была уже четвертая его ночь в концлагере. А утром громыхнет опять дверной засов, ворвется в барак как с цепи спущенный старший надзиратель в сопровождении двух солдат с автоматами, закричит не своим голосом: «Подымайсь! Подымайсь, сволочи!», застучит по нарам рукояткой витой плетки, непременно перепустит кого-нибудь из замешкавшихся вдоль спины. С наслаждением вытянет, точно сладость испытывает, паразит. Поглядеть на него — мощей на один хороший кулак, а захочет — любого из пленных мигом на тот свет отправит.
Потом будет завтрак: баланда, полкружки мутной воды — все это с видом на море. Нарочно, что ли, сволочи, пытку такую устраивают? Царская роскошь на виду у обреченных рабов: любуйтесь, дескать... И опять распахнутся ворота лагеря, и сытые конвоиры, пропуская строй, будут скалить зубы, осмеивать, попыхивая сигаретами.
А потом будет раскаленный от солнца причал в порту, распахнутый, глубокий трюм баржи, широкая сходня, по которой, согнувшись от тяжести, поднимаются придавленные пятипудовыми мешками военнопленные, мучная пыль на лице, пропитанный ею воздух, тихое хлюпанье волн о борта, о сваи причала, ленивые окрики осоловевших от духоты конвоиров...
— Тихон, не спишь? — осторожно позвал соседа Ратников. — Не спишь ведь, чую.
— Чего тебе? — отозвался тот шепотом. — Не по себе, что ли?
— Не по себе, — вздохнул Ратников. И спросил напрямик — давно готовил этот вопрос: — На волю не собираешься? — Почему-то он поверил в Тихона, с самого первого дня, как очутился здесь. Подумалось при первом же разговоре с ним: «Свой парень, флотский. Не подведет, если что...»
— Собрался тут было один. — Тихон повернулся к нему лицом. — Позавчера шлепнули. Видал?
— Ему теперь легче...
— Больно прыткий ты: три дня в лагере, а уж о воле заговорил. Лучше других, что ли? Я вот почти полмесяца маюсь...
— Ты скажи только одно: веришь мне?
— В одиночку не советую — гиблое дело.
— Как же тогда?
— Ждать надо, исподволь готовиться.
— Нет, братишка, мне до этого не дотерпеть: задохнусь.
— Ты что, особенный?
— Не в этом дело. Я должен вырваться отсюда! — загорячился Ратников. — Понимаешь? Во что бы то ни стало должен!
— Мало ли что... Тише ты, тише.
— Да пойми ты меня, человек дорогой, нельзя мне иначе... — Все-таки Ратников уловил в словах, голосе Тихона какую-то вроде бы очень отдаленную поддержку и второпях, сбивчиво поведал ему, как попал в плен, как очутился здесь. Он точно знал: одному с побегом не управиться, даже думать об этом нечего, а Тихон был единственным человеком во всем лагере, с которым он сблизился за эти дни и который, если согласится, может хоть как-то помочь ему.
— Этот подлюга немецкий офицер... — горячо зашептал Ратников. — Ведь что он сделал со мной. Видел, гад, что перед пулей не дрогну, смерть в рост, не на коленях приму. И такое удумал... Вот ты, Тиша, тоже здесь, тоже муки свои принимаешь. И тебе лихо, понимаю.
— В болото нас загнали, человек двенадцать, — вздохнул Тихон. — До последнего патрона отбивались, да где там — силища-то какая прет. А так бы ни за что не дались...
— Вот видишь. А меня, представь только, как собаку, на веревке. А потом — ровно сквозь строй... Ну разве можно, скажи, после такого человеком жить, людям в глаза смотреть? Тебе же вот?
— Тяжело.
Ратников совсем близко подвинулся к Тихону.
— Не могу такого унижения вынести, пойми. Руки горят, душа. Надо мне рассчитаться с этой поганью.
— У меня, думаешь, не горят?
— Панченко, кореша, танк заутюжил в окопе. Не сумел я ему помочь, Тиша, не прощу себе...
— А мог бы помочь-то?
— Нет, не мог. А все одно на душе муторно: на моих глазах ведь... Как же после всего этого сидеть сложа руки? На волю мне надо, ох как надо!
— Каждому надо, — помолчав, ответил Тихон. — Кому воля не дорога...
— И за сторожевик больно: такой корабль был, почти четыре года на нем проплавал. Штук пятнадцать бомбардировщиков налетело, как саранча. Больше половины команды погибло, палубу прямым попаданием разворотило. Кое-как до порта дотянули. Сторожевик уже не жилец, конечно...
— Да, брат, выпало на твою долюшку, — сказал сочувственно Тихон. — Ну а от меня-то ты чего хочешь?
— Помоги, самую малость помоги, Тиша. Я все уже приглядел, обдумал.
— Рисковый ты больно. Гляди: головой поплатишься.
— Один, без тебя не смогу, Тиша. Ты послушай... — Ратников в нескольких словах рассказал о задуманном. — Ты только сбросишь свой мешок. Когда дам знать. И все... Очень тебя прошу.
— Глупо, — заупрямился Тихон. — Ты что, думаешь, они дураки? Сразу к стенке поставят.
— Как выпадет...
— Может, подождешь малость? Время есть.
— Чего ждать? Новых унижений? Это же легче на колючую проволоку, под пулеметы. А так есть хоть какой-то шанс.
— Как знаешь: вольному воля. Такое дело... — нехотя, бесстрастно проговорил Тихон. — Жизнь наша гроша ломаного теперь не стоит.
Тихон засопел раздраженно, поворочался еще с минуту, прилаживаясь поудобнее на нарах, и затих. Ратников никак не мог принять этого сочувственного отречения, отказаться от своей надежды, за которой больше ничего не оставалось, ничего, кроме ожидания горькой участи, надругательства и, может быть, в лучшем случае — смерти. Но что же делать теперь? Он попытался поставить себя на место Тихона, отчетливо увидел две эти грани, за одной из которых стояла гибель обоих в случае провала, верная гибель, за другой — удачный его, Ратникова, побег, не дающий Тихону ничего... И все-таки сам он, окажись на его месте, рискнул бы помочь...
Ратников вздохнул, давая Тихону понять, что не спит и не уснет совсем, не может уснуть. Он чувствовал, что Тихону тоже не до сна, дышал тот неровно, потом повернулся на спину и лежал так долго, с открытыми глазами и в чуть разжиженной темноте они сердито и влажно блестели. Ратников видел, какую тяжесть взвалил на плечи товарища, перед каким выбором его поставил, и, стараясь помочь ему, шепнул:
— Ладно, спи. Забудем наш разговор. Не было его.
Тихон помолчал еще с минуту, точно не слышал никаких слов, затем заворочался и так же молча стиснул Ратникову локоть.
Ратников нащупал его руку, пальцы у Тихона чуть подрагивали. Вздрогнула рука и у Ратникова. Он только сумел сказать:
— Спасибо, братишка. Хотел бы я встретиться с тобой после войны.
— На том свете встретимся, — вздохнул Тихон и, отвернувшись, замолчал.
Нет, не спалось Ратникову, как ни заставлял себя. Знал: силы для завтрашнего дня скопить надо, но уснуть не мог. Вот ведь до чего додумался этот подлюка фашистский танкист. Но надо еще посмотреть, за кем последнее слово останется... Сейчас Ратникова беспокоило только одно — завтрашний день: вдруг их четвертый барак не на погрузку муки пошлют, как в прошлые дни, а на завод или еще куда? Тогда, считай, все пропало, а придет ли опять такая возможность — неизвестно.
Как ни странно, но, думая о побеге. Ратников почти не думал о себе, о своей жизни в прямом, физическом ее смысле. Ему важно было не спастись, а обрести свободу, почувствовать себя опять человеком, каким был, оставался до самой последней минуты, пока не попал в неволю, опять драться за честь и свободу своей Родины. Ему надо было отомстить фашистам и за погибших своих товарищей, и за поругание над собой.
Может быть, меньше других думал он о своей жизни и потому, что был одинок на всей земле. Отец погиб еще в гражданскую, мать в середине двадцатых умерла от тифа, а он, десятилетний беспризорник, долго мотался по разрушенной войной и голодом полунищей стране, пока не определился в колонию. Потом были годы учебы, курсы трактористов и, наконец, село Студеное, усталый рокот тракторов на пашне, отяжелевшие от росы травы по утрам, девичья песня: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати...» Он непременно остался бы в Студеном, но подоспело время службы. Почти пять лет отдал флоту, осенью сорок первого предстояла демобилизация, но ее и всю дальнейшую жизнь, и все, о чем думалось и мечталось, оттеснила война. Так Студеное стало потихоньку таять в памяти — хоть и неродное, но самое близкое на земле место.
Ему снова вспомнился последний бой у реки, на пятачке — плацдарме, погибшие ребята, Панченко с ранеными ногами. Он жалел, что не сумел уберечь их, таких молодых и добрых, почти не успевших пожить на земле. Но разве он мог уберечь их?
Как он досадовал, что не было у него еще одной гранаты! Ее как раз хватило бы на другой танк. И конечно, уж совсем зря занервничал он, когда выпустил весь диск в нацеленную в него танковую пушку. Стоило погодить малость, глядишь, фрицы и высунулись бы из люка — вот тогда с ними и поздороваться. Но они тоже не дураки, конечно, — наверняка следили через смотровую щель, видели что и как. Да разве думалось об этом тогда, под горячую руку? Одно знал: пришел конец и надо принять его, как полагается советскому человеку, моряку — не на коленях. Тогда-то с этой мыслью он и отыскал в окопчике свою бескозырку, натянул ее поглубже, понадежнее, повернулся лицом к танку и пошел прямо на него. Прикинул: мгновение, выстрел — и все. Достойная, легкая смерть на поле боя.
А вышло совсем по-другому. Ратников никак не ожидал такого оборота. Откинулась крышка люка, и один за другим на землю спрыгнули трое танкистов. Они принесли на руках убитого офицера, которого Ратников перекрестил на бегу из автомата, положили рядом, в трех шагах, на траву. Потом один из них, тоже офицер, вынул из кармана платок, накрыл им окровавленное лицо убитого, словно тому было больно глядеть на солнце, распрямился и, уперев руки в бедра — в правой был пистолет, — подошел вплотную к Ратникову, что-то рявкнул.
Ратников, хмурясь, пожал плечами.
— Не понимаешь? — Офицер, багровея, ткнул пистолетом ему в грудь и показал на горевший танк. — Теперь понимаешь? Твоя работа?
«И откуда они, паразиты, русский язык знают? Специально, что ли, выучили перед войной?» — Ратников усмехнулся, глядя ему в глаза:
— Яснее не скажешь, чего ж тут.
Офицер выругался по-своему, танкисты бросились было к Ратникову, но их остановил окрик. Офицер даже руки раскинул, как бы защищая Ратникова, кивнул на убитого.
— И это твоя? Отвечай!
— Моя, — спокойно подтвердил Ратников. — Он в меня стрелял, я — в него. Но он плохо стрелял.
— Я умею это делать очень хорошо!
— Безоружных убивать вы мастера. — Ратников опять усмехнулся, не отводя взгляда от холодных, властных глаз офицера. И понял, почувствовал по ним: тот от него молчаливо требует смирения, раскаяния, унизительной покорности.
— Ты понимаешь, кого убил?! — закипая, спросил офицер.
— Как не понять...
— Молчать! — крикнул офицер, выходя из себя, вскидывая пистолет.
Ратников знал, что погибнет. Минутой раньше, минутой позже — это уже не имело значения. Сейчас важно было другое: дать им понять, что он не боится смерти, готов принять ее в любой миг. И когда по глазам офицера увидел, что тот понял это его состояние, улыбнулся, удовлетворенный собой, и тихо сказал:
— Стреляй. Стреляй же, гад!
— Для тебя это слишком легко. — Офицер тоже улыбнулся и плюнул Ратникову в лицо.
— Сволочь! — Ратников кинулся на него и тут же почувствовал глухой удар по голове. Но на ногах устоял. Лишь круги потекли перед глазами да земля качнулась, как палуба корабля.
Что-то кричали, егозили рядом немцы, потом один из них побежал к танку, принес веревку. Стянули крепким узлом Ратникову руки, другой конец привязали за гак на корме танка. «Все, сейчас поволокут, — подумал Ратников. — Вот он какую мне смерть приготовил...»
Но он и на этот раз не угадал, что ожидает его. Рявкнул мотор, Ратникова обдало едким дымом, и танк резко взял с места, разворачиваясь. Натянулась веревка — метров десять длиной — и Ратникова потянуло следом, он побежал, чувствуя, как впивается в кожу жесткий узел. Он ждал, что танк вот-вот увеличит скорость, ноги подкосятся и его поволочет по этой пыльной степной земле, щетинящейся колючей иссохшей травой. Но скорость не прибавлялась, напротив, когда бежать становилось невмоготу, Ратников чувствовал, как она падает. Так, задыхаясь в густой пыли, ничего не видя, обливаясь потом, он сумел пробежать почти до самого холма. Потом все-таки упал, и его поволокло по земле. Ему показалось, что руки выдергивают из плечевых суставов, тело все вспыхнуло, и жарко, оглушающими ударами била в затылок кровь. «Теперь конец», — успел подумать Ратников, пытаясь приподнять голову. Но сил не хватило, и он только открыл на миг глаза и опять их тут же закрыл — глядеть было невозможно, сплошная стена пыли клубилась вокруг.
Танк вдруг остановился. В люке показался офицер, закричал:
— Встать!
Ратников почему-то подчинился этой команде, с трудом поднялся и опять побежал следом за танком, поняв только теперь, что танкисты за ним наблюдают и держат небольшую скорость, какая ему по силам. Значит, зачем-то он нужен им?
Танк перевалил через холм, спустился к подножию. Здесь стояла пехотная часть, и Ратников увидел, как навстречу высыпало десятка три-четыре солдат и офицеров. Они что-то кричали, показывая на него, хлопая себя по ляжкам от удовольствия и хохоча, а Ратников, сознавая свое бессилие, свою беспомощность, видя как бы со стороны это свое немыслимое унижение, шел между ними, следом за танком, сбавившим скорость.
«Вот ведь до чего додумался, гад», — подумал Ратников об офицере. — Посмотрели бы на меня сейчас мои ребята — глазам не поверили бы... Как же это я сплоховал, не погиб вместе с ними? Зачем выжил?»
Заглох мотор, офицер-танкист спрыгнул вниз, подбежал к подходившему пожилому полковнику, доложил что-то, кивнув за плечо, на Ратникова. Полковник, наливаясь жестокостью, скользнул взглядом по лицу Ратникова. Спросил, коверкая русские слова:
— Сколько их было там?
— Не меньше взвода, господин полковник, — ответил офицер-танкист. — Этот последний, он поджег танк и убил обер-лейтенанта.
Ратников усмехнулся, сплюнул кровавой слюной в сторону. Обступившие немцы, гогоча, с интересом рассматривали его. Но, встретившись с ним взглядом, переставали смеяться.
— Расстрелять! — полковник это слово произнес очень чисто и выразительно, с явной досадой следя за спокойным лицом Ратникова. Видно, дожидался слов о пощаде.
— Это слишком легко для него, — сказал офицер-танкист, — он не понимает смерти. Позвольте иначе распорядиться его судьбой, господин полковник?
Дальше они заговорили по-своему, Ратников не понимал о чем. А через четверть часа был уже на допросе.
— Нет, нет, тебя не расстреляют, не бойся, — говорил ему офицер-танкист. — Командира танка похоронят со всеми почестями, он был достойным офицером. А тебя отправят в лагерь строгого режима: расстрел для тебя — слишком легко. Ну как, нравится?
— Ну и гад же ты! — холодея, сказал Ратников.
...Похрапывал рядом на нарах Тихон. Сквозь зарешеченные крохотные окна барака начинал пробиваться рассвет. Засыпая, Ратников все еще видел перед собой холодные, мстительные глаза офицера-танкиста, слышал его раздраженный голос. На допросе Ратников молчал, сказал только, что насчет взвода тот слегка перегнул полковнику, потому что было их на плацдарме у реки всего двое — Панченко и он, а остальные четверо ребят погибли раньше, не зря погибли и дело свое сделали хорошо. Офицер разъярился, наотмашь ударил его по лицу.
Как же горели кулаки у Ратникова, когда он представил вновь — уже в который раз! — это унизительное свое пленение. Да что же это? Да разве возможно такое? Нет-нет, надо судьбу решать сегодня, сейчас, иначе будет поздно...
Наутро, после баланды и кружки застойной солоноватой воды пленных погнали в порт. Опять, как и в прежние дни, колонна тащилась через чистенький, утопающий в зелени городок.
Ратников потихоньку косился на Тихона. Тот понуро плелся рядом, не отвечал на взгляды, помалкивал, будто и не было между ними ночного разговора. «Неужели напугался, пошел на попятную? — тревожно думал Ратников. — Тогда все пропало. Но зачем же он дал понять? Поторопился!»
Утреннее солнце заливало городок, пахло садами, яблоками, переливалось внизу присмиревшее море. Улицы, казалось, онемели, все затаенно молчало в эти минуты, и только тяжелое шарканье ног по булыжной мостовой да редкие окрики конвоиров слышались в этой напряженной, горькой какой-то тишине.
Колонна втянулась в порт. Выстроились побарачно, с небольшими интервалами, и тут же появился расторопный лысый человек в хорошем, ладно сшитом костюме, поговорил о чем-то со старшим конвоя, и началось распределение по работам.
— Главное, держаться рядом, — Ратников слегка толкнул Тихона локтем.
— Не от нас зависит, — нехотя буркнул Тихон.
По его голосу Ратников определил: не по душе ему эта затея, жалеет, что связался. Да ведь и его поймешь: ради чего ему под пулю лезть? Ах, Тихон, Тихон...
Шестнадцать человек отрядили на погрузку муки, отвели на самый дальний причал. Ратников очутился вместе с Тихоном. Подошла машина с завода, распахнули задний борт — и работа началась. Пленные взваливали на спину мешки, поднимались по сходне на баржу, грузили их в трюм.
— Шевелись, шевелись, мазурики! — беззлобно покрикивал рыжебородый парень в тельняшке, шкипер баржи. Он живо распоряжался погрузкой, мелькал там и тут, указывал, куда и как класть мешки, сбегал на причал, торопил шоферов с подачей машин, угощал двоих конвоиров, стоявших у сходни, папиросами, курил с ними, похохатывая, поблескивая золотыми коронками.
— Поворковал я при советской власти за решеткой, почалился. С меня довольно! — услышал Ратников его голос, проходя мимо с мешком. — Теперь эти мазурики пусть за баланду повтыкают.
Оба конвоира похлопывали его по плечу, смеялись, подгоняя пленных ленивыми голосами.
«К этому типу не пришвартуешься, — подумал Ратников. — Такой и мать родную не пожалеет. Подбирают кадры... А, судя по всему, на барже он один. Где же охрана будет: здесь или на буксире?» — Он уж прикинул мысленно, как все должно произойти. Вот только с Тихоном как теперь: и вида не подает, забыл будто. Но и другое виделось: погрузка закончена, пленных выстраивают на причале, одного не досчитываются... Баржа стоит рядом, немцы, остервенев, взбегают по трапу, бросаются в трюм...
— Эй, землячок! — раздался рядом негромкий, ласковый голос Тихона. — В какие края свой крейсер ведешь?
— Тебе-то что за забота? — огрызнулся шкипер.
— Может, привет будет кому послать.
— С того света пошлешь, земеля, — хохотнул шкипер, довольный шуткой.
— С этого хотелось бы успеть.
— Хотела одна дева... Проваливай, проваливай!
Понял Ратников: разговор этот Тихон для него затеял, чтобы хоть знал он самую малость — куда баржа пойдет, если шкипер вдруг скажет. Да нет, не на такого, видать, наскочил. Но все же стало легче на душе: значит, на Тихона можно рассчитывать.
Солнце подбиралось к полудню, обжигало голову, даже мешки накалились, вода у причала не давала никакой прохлады, казалось, вот-вот закипит. Тень передвинулась от сходни под самый борт, уманив за собой конвоиров; они сидели на бревне, потихоньку говорили о чем-то, утираясь большими платками.
Обогнув небольшую косу с мигалкой на выступе, в порт вошел буксир с густо засуриченными бортами, он тащил за собой точно такую же баржу, какая стояла под погрузкой. Буксир развернулся, точно примеривался подойти к причалу, и оттуда долетел хрипловатый голос:
— Сашка, скоро галошу свою загрузишь? Другую пора ставить! Кончай резину тянуть!
— Через полчаса, Семеныч, трос приму! — крикнул в ответ шкипер. — Как сходили?
— Порядок! Так жми на педали!
— Давай, мазурики, давай! — засуетился шкипер, подгоняя пленных. — Слыхали голос пророка? То-то!
«Значит, — соображал Ратников, — эту баржу сейчас отведут от причала, поставят сюда другую. Судя по всему, сразу же начнут загружать. Строить, пересчитывать пленных не будут — некогда. Вот он — момент! Только спокойней, спокойней».
Он подошел к заднему борту машины, немного опередив Тихона, ухватил взглядом его взгляд, взвалил на спину мешок. Поднялся по сходне, чувствуя, что Тихон идет следом, сбросил мешок в трюм и оглянулся. Шкипер курил с конвоирами, над бортом торчал лишь его рыжий затылок. Ратников мигом растащил мешки и, уже лежа в освободившемся проеме, вновь взглянул Тихону в глаза, снизу вверх: «Давай!»
Тихон свалил на него свой мешок, подтащил еще один — на ноги, другой приткнул к голове, оставив небольшое отверстие, сказал чуть слышно: «Бывай», и ушел.
Погрузка закончилась. Шкипер колебался: укрывать трюм брезентом или не укрывать?
— Да зачем, землячок? — услышал Ратников голос Тихона. — У такого неба дождя нарочно не выпросишь. Куда же, скажи, свой крейсер направляешь?
— Если не заткнешься, долговязый, я тебе рот мукой зашпаклюю! — обозлился шкипер. — Только слово еще... А ну, бери на корме брезент, затягивай трюм. Живо! — И уже весело, что есть мочи заорал: — На буксире! Семеныч, готово, заводи трос!
И опять Ратников послал Тихону благодарности: тот рассчитал точно, скажи он, что мешки надо накрыть, и шкипер сделал бы наоборот. Такая натура в нем угадывалась.
Какой-нибудь час спустя буксир с баржей был уже милях в трех от берега, лег на курс и прибавил ход. По голосам Ратников определил: кроме шкипера на барже находится еще немец-охранник, которого шкипер называл Куртом. Значит, путь предстоит неблизкий, раз послали сопровождающего. Только куда он, этот путь, лежит? И что там ждет Ратникова?
Брезент накалился на солнцепеке, от него несло, как из духовки, хотя между ним и мешками оставалось с полметра пространства. Обливаясь потом, Ратников потихоньку растолкал мешки, освободился и осторожно, боясь задеть брезент спиной, пополз ближе к корме, где пробивалась широкая полоса света и откуда слышалось легкое посвистывание. Он увидел плотную спину Курта, стриженный аккуратно затылок, автомат рядом, с наброшенным на кнехт ремнем. Ничего не стоит, подумал, столкнуть этого молодчика за борт, но заорет ведь, сволочь. Нет, трогать его пока не надо, пускай посидит, посвистит.
До вечера Ратников выяснил, что шкипер все время стоит на руле в рубке, Курт иногда ненадолго подменяет его — видимо, у них полный контакт. И все-таки он не представлял, как выпутается из этого положения, пока не заметил, что за кормой у баржи тащится на буксире шлюпка. Но весел в ней не было.
Ему хотелось пить. Никогда прежде жажда так не одолевала его, и он боялся, что не вынесет этой пытки, обнаружит себя. Конечно, у этого рыжего шкипера есть вода, она, наверно, совсем недалеко, в рубке или в кубрике. Стоит, наверно, бачок, за ручку кружка на цепочке прицеплена, и, может, капельки роняются из плохо закрытого краника...
Спустились уже плотные сумерки, в трюме стояла густая темнота. Ратников дождался, когда Курт ушел опять на корму, услышал оттуда легкое его посвистывание и сказал себе: «Пора!» Он на ощупь добрался до конца трюма, разулся, осторожно развязал веревку и раздвинул брезент. Первое, что увидел — обсыпанное звездами глубокое небо, чуть покачивающийся клотиковый огонь на мачте. Сразу же обдало прохладой, запахом моря, слегка закружилась голова.
Курт сидел на прежнем месте. Не торопясь, вспыхивал огонек сигареты в темноте. «И не чувствует беды, поди, — отчего-то подумал вдруг Ратников. — Ничего не поделаешь: война. Сами свалку затеяли...» — И неслышно выскользнул наверх. Успел заметить: впереди, на буксире, тоже горит клотиковый огонь, но отличительных нет, значит, маскируются, побаиваются. Он и сам не чувствовал, как босыми ногами ступал по палубе — так тихо, привидением подбирался сзади к Курту. Казалось, тот уже должен слышать его дыхание или стук сердца. Неужели не слышит?
Ратников ладонью закрыл ему рот, рванул на себя податливую голову, придавил к палубе стриженым затылком. Сначала он хотел было переодеться в его форму, но потом передумал и аккуратно, без единого всплеска спустил тело за борт. Даже сам удивился: был человек — и как в воду канул...
Он взял автомат, проверил и, уже не таясь, во весь рост, босиком, пошел к шкиперу. Распахнул дверь в рубку. На полу тускло светила аккумуляторная лампочка.
— Что, Курт, — не оборачиваясь, сказал шкипер, — скучно одному?
Ратников сразу же наткнулся взглядом на бачок, закрепленный в уголке, у переборки, даже кружка за цепочку прицеплена. Жадно облизнул сухие горячие губы.
— Воды налей!
Шкипер порывисто обернулся, остолбенел на мгновение.
— Воды налей! — повторил Ратников. — И за штурвалом следи! — Он видел, как дрожала кружка в руках у шкипера. Выпил залпом. Тот подал ему еще и вдруг выкрикнул:
— Ты кто такой? Где Курт?
— Курт там. — Ратников кивнул за борт. — Может, и тебе охота? «Давай, давай, мазурики!.. Поворковал я при советской власти за решеткой, почалился. С меня довольно!» Запомнил твои слова...
— Ну это ты, кореш, брось. Меня на бога не возьмешь. Из этих, что ли, из пленных? — Шкипер слегка пришел в себя. — Как же ты здесь очутился?
— Не твое дело. Куда баржа идет?
— На Меловую. К обеду завтра будем, если обойдется: есть слухи, наши часть побережья освободили.
— Кто это — ваши?
— Иди ты! — взвинтился шкипер. — Я, может, больше тебя советский. Ну и что, что сидел? Что? А этими словами мне дело не шей: по-твоему, я перед немцами советскую власть расхваливать должен? Это же конспирация, соображать надо! Ты сам-то хвалил ее, когда в концлагере сидел? То-то... Курта напрасно вот кокнул, — помолчав, прибавил шкипер.
— Жалеешь? — насмешливо спросил Ратников.
— Должок за ним остался... Теперь тю-тю. — Шкипер спохватился, что сказал лишнее, бросил хмуро: — Ну и что же дальше? Пришьешь, что ли? Так на буксире услышат.
— Не услышат, — жестко произнес Ратников. — Шлюпка нужна, с веслами. Вода, продукты.
— Рвануть хочешь?
— Уж к немцам в гости снова не собираюсь. Не за этим расстался с ними.
— А мне потом — вышку! — зло покосился шкипер. — Где Курт, где шлюпка, спросят? Спросят ведь?
— Обязательно, — усмехнулся Ратников. — Боишься? Ничего, почалишься и при другой власти: тебе не привыкать.
— Вот как? — шкипер сверкнул глазами. — Сигнал на буксир подам. Там охрана. Сейчас подам, понял?
Ратников шевельнул автоматом.
— Пикнуть не успеешь! До берега далеко?
— Миль шесть, — притих вдруг шкипер.
— Оружие на барже есть?
— Какое оружие? Да будь оно...
— Берег-то чей здесь?
— А черт его знает. Недавно бои здесь шли. У Курта спросил бы: он наверняка знал...
— Ну, хватит! Тащи весла, я постою за штурвалом.
— Что же ты меня под пулю подводишь? Совесть-то есть у тебя?
— Живо, говорю!
— К черту! — спокойно, но лютым голосом сказал шкипер. — Стреляй! Стреляй в своего. Думаешь, я боюсь?
Ратников взял со стола фонарик.
— Сам найду. Дай ключ от рубки — закрою тебя. И учти: если хоть раз мигнет на клотике огонь — тебе крышка.
— Не надо, я сам, — согласился вдруг шкипер. — Там, в каюте, моя жена.
— Жена? — удивился Ратников. — Может, у тебя и теща здесь?
— Пойду, становись за штурвал. Машка еще ничего не знает, напугается тебя. Будут тебе весла, все будет. Ты думаешь, я им служу? — шкипер кивнул на буксир. — Ненавижу их. Больше тебя!
— Ладно, не валяй дурака!
Ратников стал за штурвал. Впереди плыл в темноте едва различимый клотиковый огонь на мачте буксира, сонно чавкали волны у бортов, баржу чуть заметно плавно покачивало. Для перехода на шлюпке погоду лучше не закажешь, и сама ночь точно пришла для этого — звездная в вышине, а здесь, над морем, будто сажей все вымазано — в трех шагах не видать ничего. До рассвета часа четыре еще, шесть миль на веслах одолеть ли? А если колесить начнешь — все десять насчитаешь... Куда этот рыжий дьявол пропал? Время не ждет.
Наконец шкипер воротился. Рядом с ним стояла девушка с растерянным, заспанным лицом. В руках она держала весла. Шкипер принес вещевой мешок и небольшой чемоданчик. Ратников почему-то сразу же определил: «Нет, не может она быть женой этого рыжего. Ни за что не может! Что-то тут не сходится...»
— Мы с Машкой тоже решили уйти с баржи, — сказал шкипер. — Не на виселицу же... Вот весла, продукты, бачок с водой.
— А в чемоданчике?
— Здесь... ее вещи.
— Значит, жена? — спросил у девушки Ратников, передавая шкиперу штурвал. Уловил, как тот тайком ухмыльнулся в рыжую бороду. А она, чуть смутившись, распахнула огромные, доверчивые глаза и мягко, с едва приметным украинским акцентом пропела:
— Прихожусь. Время такое мутное, как же... Машей зовут. А вас?
— Замолчи! — осек ее шкипер. — Нашла когда знакомиться. Голову надо спасать, а ты... Так берешь нас? — спросил Ратникова.
«Если взять их с собой, — прикинул Ратников, — на берегу по рукам и ногам себя свяжешь, оставишь — шкипер шум может поднять, догонят. Да если и не поднимет, что с ними будет? Пропадут... Эта девушка глазастенькая на беду еще подвернулась. Не бросишь же... Ладно, там будет видно».
— А на берегу как? — спросил.
— У тебя своя дорога, у нас своя, — ответил шкипер. — Война много людей по миру пустила...
— Готовь шлюпку. — Ратников опять стал за штурвал и, когда шкипер ушел на корму, строго спросил у Маши: — Как здесь очутилась?
— А вы пленный? — несмело спросила она.
— Был пленный. Теперь ты со своим муженьком в плену у меня. Не нравится?
— Я не жена ему, — сказала Маша.
— Догадываюсь... Как же вышло?
— Так, взял меня к себе. Плаваю с ним.
— Любишь его, что ли?
— Разве можно?
— Отчего же нельзя?
— Да он подслуживает им. Противно.
— Не боишься так говорить?
— Боюсь. Но ведь теперь не он хозяин здесь. — Маша доверчиво, с надеждой посмотрела на Ратникова. — А в чемодане у него... не мои вещи.
— Что же? — насторожился Ратников.
— Разное...
— А ну-ка поточнее! — строго сказал Ратников.
— Деньги, драгоценности, всякое...
— Где взял? Награбил, что ли?
— Мукой спекулирует. Договариваются с охранником, прячут мешки, потом потихоньку продают. Дорого нынче мука стоит. С Куртом, которого вы... ну, которого уже нет, они сошлись, сколько раз проделывали. А раньше еще — и с другим. Но того на фронт услали.
— Хорошо, — сказал Ратников, — при нем помалкивай, поняла? Зачем же ты мне это говоришь? — спросил уже мягче.
— Уйти от него хочу. Насовсем. Не могу больше.
— Куда?
— Не знаю. С вами хочу уйти.
— Дела, — вздохнул Ратников. — Мне самому некуда идти. Как же ты очутилась с ним?
— Одна я: отца убили на фронте, мать при бомбежке завалило. Я осталась, жить негде. А тут немцы для своих солдат девчонок набирали: кто говорил — в Германию, кто — как. Жутко! Привели нас толпой в порт. Вот здесь Сашка меня и выручил: баржа его как раз у причала рядом стояла, подмигнул — мол, давай, ко мне. Я и решилась: лучше уж так, чем с немцами... — Маша робко тронула Ратникова за локоть. — Вы не бросите меня? Сашка на берег не пускал меня, прятал. Только Курт знал. И тот, перед ним который...
— Вот видишь. Я-то где тебя спрячу? А кто он, твой Сашка?
— Не знаю, ни разу не спрашивала. Только надо остерегаться его, он все может сделать.
— Оружие у него есть?
Маша открыла чемоданчик, протянула Ратникову пистолет.
— Убьет, если узнает.
— Не бойся. Только помалкивай. Мы с тобой ни о чем не говорили. Поняла? — Ратников посмотрел на нее с участием. — Насолил он, видно, крепко тебе.
— Крепче некуда, — вздохнула Маша.
— Ну вот что. Держись за меня. Умеешь за штурвалом стоять?
— Научил. Как с мешками возились, все время стояла.
— Становись-ка. А я пойду посмотрю, как он там. Черт его знает, возьмет да один отвалит на шлюпке. Правда, без весел не решится.
Ратников прошел на корму. Шкипер завел уже шлюпку к борту, копошился внизу, в темноте.
— Как у тебя там?
— Порядок, можно отваливать. Канистру с водой погрузил, продукты. Чего еще возьмем?
— Мешок муки бы надо.
— Тяжеловато: нас ведь трое. На черта он нам? Живы будем, с голоду не подохнем.
— Да, теперь трое. Волной может захлестнуть.
— Слушай, старшой, — вкрадчиво сказал шкипер. — А может, того, оставим Машку, а? Чего с ней мыкаться?
— Жену твою? — сдерживаясь, спросил Ратников.
— У тебя бабы не было, что ли? За штурвалом постоит. Ни черта ей немцы не сделают, скажет, заставили, мол, и все такое. Даже приласкают; красота-то какая....
— Ты за что сидел?
— Не бойсь, не по мокрому... Так, ковырнули угол один. Обыкновенно.
— Сволочуга ты, шкипер... Оружие, еще раз спрашиваю, есть?
Шкипер взобрался на палубу, постоял рядом, что-то обдумывая, махнул рукой.
— Эх, раз уж свела нас с тобой судьба, играю в открытую: в чемодане пистолет. Ты ведь тоже не с дубиной. Время такое...
— В женском белье? — Ратников положил ему руку на плечо. — Что еще там?
— Деньги, финтифлюшки разные...
— Откуда? — Он не удивлялся такой неожиданной откровенности шкипера: тот, видно, понял, что все уже известно про оружие и про барахло.
— Муку налево сплавляли. Охранники впутали. Тот же твой Курт.
— Поэтому и должок за ним остался?
— Ну... Откажись — шлепнут за милую душу. А так, подумал, черт с вами: во-первых, вашим же солдатам меньше муки перепадет, значит, своим какая-никакая помощь, во-вторых, пригодятся побрякушки при случае — им любая власть рада.
— Это ты брось! — перебил его Ратников.
— Зануда же ты, старшой. Раскололся перед тобой, вывернулся наизнанку. Ты что, не доверяешь мне? Да я своими, вот этими вот руками передавить их готов!
— Перестань, — поморщился Ратников.
— Как же тебя убедить? — нервничал шкипер. — Ну куда, скажи, деться, если чуть не в кандалах втыкаю. Шаг влево, шаг вправо, понял, да? Но вот нашел меня случай, и я не на мели: оружие есть, за эту же муку и купил. Для чего, спрашивается? Прикинь-ка. Так-то! Да и чемодан не пуст, готов сию минуту советской власти сдать. Без всякой расписки, между прочим. Что ж, по-твоему, лучше, если б эти ценные побрякушки у немцев остались? Или у барышников? Моя академия варит еще.
— Как на баржу попал?
— А это уже целая история! Из таких переделок простые смертные не выходят. Может, ты и не поверишь: из тюрьмы нас немцы освободили. Ничего особенного: шли мимо, под банкой были — взяли и выпустили. Пытались вербовать. И вот тут надо было иметь голову и маленькую ловкость рук. Я это имел. А как я добрался до моря и как добился вот этого положения — длинная история.
— Ты насчет Маши не вздумай, — жестко сказал Ратников. — Тебя скорей оставлю!
— Не ссориться же из-за бабы, — примирительно произнес шкипер.
— Давайте в шлюпку, пора, — распорядился Ратников.
Сам он сел на весла, шкиперу велел на корму, за руль сесть — чтобы правил и перед глазами все время был, Машу усадил на носу. Определили примерное направление на берег, и Ратников оттолкнулся от борта. Баржа сразу же стала отдаляться, грузный ее корпус прямо на глазах растворился, пропал в темноте, лишь несколько минут еще висел клотиковый огонек в черном пространстве, плыл среди звезд, сам похожий на большую звезду. Потом не стало и его.
Шлюпку покачивало — шла килевая качка, слышно было, как шипит у форштевня вода, несильный, теплый ветер дул попутно. Ратников обрадовался этому доброму помощнику, решил, что направление будет держать не только по звездам, но и по ветру.
«Черт его знает, — думал Ратников про шкипера, — может, и не врет. Скольких людей война закрутила? Так закрутила, что сразу и не скажешь, кого на какой берег вынесет. Вот ведь что. Ну, сидел человек, что же теперь делать? Не поздно, все еще можно поправить. Меня и самого жизнь в свое время помотала; побеспризорничал, наскитался вдоволь, правда, пацан еще был... Все-таки сказал же вот про оружие, про драгоценности. Может, и впрямь хочет от немцев вырваться? Хотя, будь посмелее, давно это мог сделать. Конечно, не все просто: ускользнул, пробрался к своим, а там как раз и спросят: «Кто таков, откуда? Документы. Ах, у немцев служил? Разберемся...» У него, у самого Ратникова, тоже нет документов, при случае может назваться хоть Ивановым, хоть Сидоровым, но он — другое дело, он боевой моряк, старшина второй статьи. И никто с него этого дорогого звания не снимал, да он и не позволит никому. Тут все на месте: сторожевой корабль, батальон морской пехоты, где служил и воевал, плацдарм у реки — все известно, да и доказывать никому этого не надо. Разве не видно это по его, Ратникова, лицу, по глазам, по всему настрою души и сердца? А куда этому шкиперу деться? Конечно, непростой орешек. Но ведь раскрылся же. Если уж честно, то он мог свободно ухлопать из пистолета, когда с чемоданом из кубрика возвращался. Как дважды два. Парень-то, видать, битый... Маша тоже вот еще — загадка. Выходит ведь вот что: не спаси он ее, угнали бы в Германию или потаскушкой солдатской сделали. И так, и эдак повернуть можно... Но Ратников не позабыл слов шкипера: «А может, того, оставим Машку, а? Чего с ней мыкаться?» Да, в этих словах весь человек, как на ладони: тюремные, волчьи законы...
Легонько поскрипывали уключины, всхлипывали, ластились гладкие волны у бортов. Ходко шла шлюпка. Казалось, все пространство кругом зашторено наглухо черными тяжелыми шторами, даже дышалось трудно — такая плотная стояла темнота.
— Ничего не видать, как в дегте плывем, — прошептала Маша испуганно. — Заблудимся ненароком.
— Накаркаешь! — прикрикнул на нее шкипер. — Замолчи.
— Хватит с меня, не могу больше терпеть, — всхлипнула Маша. — Уйду, только до берега добраться.
— Куда ты денешься, дурочка? К немцам пойдешь? Если бы не я...
— Вот что, шкипер! — резко сказал Ратников, откидываясь всем корпусом. Он греб уже около часа, сбросил мокрую от пота рубаху, сидел голый по пояс. Влажные плечи его лоснились в темноте. — Перестанешь издеваться над человеком? За борт можешь сыграть!
— Из-за бабы-то?
— Я предупреждал. И прекратить всякие разговоры — на воде голоса далеко слышны. Садись-ка на весла, передохну малость.
Ратников перебрался на корму. Все так же попутно дул ветер. Шкипер греб сильно, умеючи, и Ратников с удовольствием это про себя отметил. Он подумал, что хорошо приладить бы какой-никакой парус, тогда дело пошло бы и вовсе здорово, но из этой затеи сейчас ничего, конечно, не выйдет, это ясно, а вот раньше, на барже, можно было соорудить что-нибудь наподобие мачты, вырезать кусок брезента для паруса. Но баржа была уже далеко, и слава богу, если на буксире еще не хватились, не заметили ничего. Теперь его беспокоило лишь, чтобы, случаем, не нарваться на какой-либо сторожевой катер, тогда не выкрутиться — с одним автоматом ничего не сделаешь. Он заранее уже решил, что и как станет делать, если случится такое. Шкипер — черт с ним, не маленький. А вот Машу жалко. Молоденькая совсем, почти девчонка, такого же примерно возраста, как и его, Ратникова, ребята, погибшие у реки на плацдарме. Панченко разве чуть постарше был...
Вот ведь как эта дьявольская война перемолола людские судьбы, думал Ратников, вглядываясь в чуть начинающую проявляться темноту, пытаясь угадать за ней невидимый берег. Ну, ладно, мы, мужчины, по природе своей воины, а женщины-то, Маша вот эта при чем тут? Какое же тревожное, жестокое время пришло. Сколько людей уже погибло с начала войны и сколько еще погибнет. Наверно, она все же кончится когда-нибудь, и люди подсчитают убитых и искалеченных — и ужаснутся...
Море тонуло в вязкой, но уже начинающей разжижаться темноте. Нет, никакого катера не было, слава богу. И тогда беспокойство Ратникова перекинулось к неизвестно где лежавшему берегу, к которому они торопились доплыть. Если там окажутся свои, тогда все просто: представит он начальству шкипера и Машу, скажет о них все, пускай по военным законам и по совести решают их судьбу. А сам попросится в часть, сообщит о погибших своих товарищах, о Панченко, обязательно напишет о них в свой батальон, а если удастся разузнать адреса. — домой напишет подробно, как они сражались и погибли. Святое это дело он выполнит непременно. Ну, и самое главное придет за этим — наступит пора слово свое в открытом бою сказать...
Да нет же, прикидывал Ратников, не может все так гладко складываться. И так слишком везет. Скорей всего немцы на берегу. По обстановке придется действовать. Теперь вот и за Машу со шкипером соображай, будто в ответе за них. Нет, не может и на этот раз повезти — не бывает так.
— Вроде бы и берегу пора быть, — приглушенно сказал шкипер, загребая веслами. — Сереет, а ни черта не видать.
В голосе его Ратников уловил тревогу.
— Верно идем: ветер-то в корму.
Несколько раз они уже подменяли друг друга на веслах, оба умучались, а конца все не виделось. Ратников и сам стал беспокоиться: берег не показывался. Правда, видимость пока была никудышная, но светало споро, и если за какие-нибудь полчаса не удастся добраться до берега, шлюпка окажется как на ладони.
— Схватят нас, что станем говорить? — неожиданно спросила Маша. — Господи, как будто в клетке какой живешь.
— Тебе-то чего бояться? — усмехнулся шкипер. — Тебя не тронут... А вот нами поинтересуются.
— Может, наши на берегу, — как можно спокойнее сказал Ратников. — А может, никого нет. Главное — пристать.
— Немцы там, — упрямо произнесла Маша. — Лучше утопиться.
— Все равно пристать дадут, если и немцы, — сказал Ратников. — Сразу стрелять не будут. Смыслишь что-нибудь на их языке? — спросил он шкипера.
— Ну, — нехотя отозвался шкипер.
— Если окликнут, трепани им что-нибудь: мол, свои и всякое такое. Нам, главное, пристать, чтобы опора под ногами была. А там... — Ратников взял в руки автомат. — Ты, Маша, сразу в кусты забирай или в скалы. Если схватят, говори, с потопленного парохода. А мы им не дадимся.
— Ты что же, собираешься бой принимать? — удивился шкипер. — Может, у них дивизия здесь стоит.
— Попробуем.
— Один?
— А ты что же, пули ловить будешь?
— А ты толковый мужик, — помолчав, тихонько засмеялся шкипер. — Только что же я, с веслами на эту дивизию пойду?
Вот он, этот самый момент. Ждал его Ратников давно, вроде бы обдумал все, а теперь опять заколебался: отдать шкиперу пистолет или не отдать? Со спокойной душой он отдал бы его скорее Маше, а вот шкиперу не решался. Темная все-таки личность, возьмет и хлопнет в спину, разве уследишь в суматохе. Но что-то таилось в нем и такое, что заставляло Ратникова думать иначе — не может ведь человек так играть в ненависть к немцам. Русский же он, советский как-никак! Просто зачерствела душа от путаной жизни, от всяких скитаний. Может, и наладится, время придет.
— Зачем с веслами? — мирно сказал Ратников. — С ними не навоюешь долго. Держи-ка. — И подал шкиперу пистолет. Тот недоверчиво обернулся к нему. — Держи, держи. Вдвоем мы им дадим жару. Не трусишь?
— Ха-ха! Ты еще узнаешь Сашку-шкипера, старшой. Увидишь в деле — узнаешь.
— Между прочим, Сашка, — Ратников впервые назвал его по имени, — мне надо посчитаться с ними за своих товарищей.
— Ты уже Курта отправил на дно морское. Или мало? Ничего парень был, правда, сволочь, если по-честному. К Машке вон все время лез.
— Ох, Сашка, Сашка... — вздохнула Маша.
— У своих же тащил, — словно бы не замечая, продолжал шкипер. — Люди воюют, а он руки на муке греет, кусок у них урывает. Капиталец сколотить мечтал за войну, лавку какую-то вшивую собирался открыть. Ну и открыл... Я сам не ангел, но не додумался бы на войне, у своих же солдат кусок из глотки рвать. Я-то хоть у них, фрицев, оттяпывал — тут дело святое. А он? А что у тебя с корешками-то вышло?
— Погибли. У меня на глазах. Вместе дрались. Пятеро. Последнего, Панченко, танк гусеницами заутюжил.
— А ты чего глядел? Я бы что-нибудь сделал. Когда кореш в беде... Что же, совесть мучает, что ли?
Ратникову было больно принимать укор шкипера, но одновременно он и успокоился, потому что сейчас, после этих слов, окончательно ему поверил. Он сказал:
— А ты говоришь: Курт. Здесь счет один к десяти должен быть, не меньше.
— Законно.
— И за себя тоже надо поквитаться.
— У тебя-то что? Жив-здоров.
— Ну, это, как ты говоришь, целая история.
— Я тебе скажу: плен поганей тюрьмы.
— Не был в тюрьме, не знаю, — рассердился Ратников. — Тебе есть с чем сравнивать...
— В бою я не дался бы, — не заметив насмешки, убежденно сказал шкипер. — Черта с два!
Ратникову опять стало и обидно, и покойно от его слов.
— Греби, греби. Скоро сменю.
И в тот же самый миг Маша приглушенно, прикрыв рот ладошкой, ахнула:
— Берег! Глядите, берег!
Рассвет вставал из-за моря, из-за далекого горизонта, и там, в той стороне, за кормой, будто бы из-за самого края земли подсвечивало, поднималось невидимое солнце. Казалось, оно с необычной торопливостью всплывает на поверхность, будто запаздывает, — так скоро, прямо на глазах, обнажалось небо вдали, и сразу же стали различимы самые близкие к воде облака. Но здесь пока еще удерживалась зыбкая полутьма, и за ней, как в густом, вязком тумане, Ратников разглядел приземистую полоску берега.
— Навались! — скомандовал он шепотом.
Шкипер налег на весла, бросив лишь на миг взгляд через плечо: ему тоже не терпелось увидеть берег.
— Господи, что сейчас будет, — прошептала Маша.
— Помолись еще. Встань на колени и помолись, — зло бросил шкипер. — Связались с тобой.
— Ох, Сашка, Сашка, — запричитала Маша, — ведь это я тебя должна ненавидеть, а не ты меня...
— Перестаньте! — обозлился Ратников. — Нашли время.
Приближался берег, не больше кабельтова оставалось до него, и оттуда должны были уже заметить шлюпку. Но там не угадывалось пока никакого движения, хотя отчетливо уже различались крупные валуны вдоль кромки прибоя, а еще глубже, за ними — невысокий темный заборчик кустарника.
Ратников велел Маше перейти на корму, сам приладился с автоматом на носу, почему-то тут же подумав: «Вот сейчас шкипер, как котенка, может меня ухлопать. Обернется... и в затылок...» Но тут же отмахнулся от этой мысли — не до этого стало. Вглядываясь в берег, он выбрал место, куда пристать, — между двумя сгорбленными валунами.
— Чуть левее. Так держать!
Совсем рассвело. Уже по мелководью скользила шлюпка, даже видно было рябоватое галечное дно, зеленые космы водорослей. Ратников понимал, что сейчас, когда до берега оставалось метров двадцать, самое время окликнуть шлюпку, открыть по ней огонь. Сейчас ничего не стоит их перестрелять, а потом, если им удастся выпрыгнуть на отмель, сделать это будет труднее, потому что завяжется бой. Какой никакой, а все же бой, и их жизни будут чего-то стоить противнику, может быть, даже очень дорого.
Шлюпка прошипела днищем по гальке, ткнулась между валунами. Ратников, следом шкипер и Маша метнулись на берег, припали к камням. Ждали выстрелов, передыхая от перехода, от качки, привыкая к устойчивой, надежной земле, просматривая метр за метром незнакомую местность. Утренняя тишина стояла кругом, лишь слабый прибой вздыхал, накатывался на отмель. Солнце всплывало над морем, малиновая лысая, макушка его уже торчала над горизонтом, разбрызгивала по небу латунное сияние, но пока не грела, только-только накалялась.
— Надо осмотреться, спрятать как следует шлюпку, — сказал Ратников. — Кажется, нам повезло: на берегу никого нет.
— Что же теперь делать? — спросила Маша растерянно.
— Обглядимся, решим. Немного продуктов, вода, оружие у нас есть. Чего же еще? Не пропадем. Ты только не нервничай, успокойся.
— Не буду, — благодарно согласилась Маша. В глазах ее стояли слезы.
— Ох, голуби, — шкипер с насмешкой покосился на Ратникова. — Заворковали. А дальше что? Ты — в свою сторону, мы — в свою? Как уговаривались?
— Я не пойду с тобой, — твердо сказала Маша. — Один иди. А с меня хватит!
— Пойдешь? — зло произнес шкипер.
— Узнаем, где немцы, — сказал Ратников. — Раз уж вырвались из их лап, надо оправдать свободу. Как, Сашка?
— Что ж, воля — это вещь, — неопределенно ответил шкипер. И вдруг ухватил Ратникова за плечо. — Смотри-ка, во-о-н слева, почти у берега, бугорок. Видишь?
— Кажется, могила...
— Откуда она взялась? На таком безлюдье?
— Что-то здесь, наверно, произошло. А ну, погодите-ка.
Держа автомат в правой руке, левой опираясь о камни, Ратников запрыгал, забалансировал между валунами, удаляясь, потом скрылся совсем.
— Что, напела ему? — Шкипер тут же подступил к Маше. — Про все напела: про пистолет, про побрякушки?
— Чего ты хочешь от меня, Сашка?
— Уж не за него ли думаешь зацепиться?
— Дурак ты: до этого ли мне?
— Смотри, не прогадай... — Шкипер подкинул на ладони пистолет. — Шлепну вот сейчас его — и концы в воду, и на свободе. Жратва, деньги, побрякушки — опять мои...
— Да на тебе креста нет! — Маша, отгораживаясь от него руками, попятилась к шлюпке. — Я закричу сейчас, закричу!
— Не закричишь, — усмехнулся шкипер, подступая к ней, — не закричишь, ты у меня послушная...
4
Уже вторую ночь кряду к боцману приходил этот сон — навязчивый, неотступный, тревожный. А вчера вечером, укладываясь спать в шалаше, который они с Апполоновым кое-как соорудили в кустарнике возле самого леса, Быков вдруг почувствовал, что уже вроде бы невольно дожидается повторения этого сна, как больной дожидается неизбежного, очередного приступа болезни... Необычно и странно в этом сне было одно: будто торпедная атака на вражеский транспорт, короткий жестокий бой, гибель торпедного катера — все это словно происходило не в море, не в нескольких милях от берега, на котором они с раненым, почти совсем ослепшим Апполоновым находились уже пятый день, а на полуострове, возле Волчьей балки, где прорывались сквозь вражеский заслон моряки под командованием майора Слепнева и командира взорванного тральщика капитан-лейтенанта Крайнева.
Удивительно было видеть Быкову даже во сне, как торпедный катер, выйдя на редан, мчится на огромной скорости сушей, обгоняет идущих в атаку моряков, как вдоль бортов, пригибаясь, стелятся конскими гривами высокие травы, а впереди по таким же колыхающимся волнами травам плывут два немецких транспортных судна, как к одному из них, выскользнув из аппарата, стремительно ринулось мощное, темное тело торпеды, прорубая узкий коридор в ковыльном море... Быкову не терпелось узнать, прорвутся ли ребята у Волчьей балки, но это главное, как назло, не давалось, ускользало. Он видел лишь матросскую лавину в бескозырках, распахнутые в крике рты.
В этой яростной схватке, в грохоте и дыму Быков удивительно ясно различал лицо младшего лейтенанта Кучевского. Тот стоял на палубе торпедного катера у пулемета, живот распорот, кровища хлещет, и все бил и бил в подходивший немецкий «охотник»...
— Боцман. Слышишь, боцман? Не шуми же, проснись!
Быков с трудом открыл глаза, но не сразу сообразил, что слышит голос Апполонова, какое-то мгновение не мог отрешиться от увиденного, продолжал жить им. Удивительное дело! Многие не верили, когда Быков говорил, что может по желанию заказывать себе сны. И все-таки так это и было на самом деле. Правда, еще до войны. Он считал себя счастливей других ребят на катере, потому что во сне мог встречаться с хорошенькой, совсем юной своей женой Симой и полугодовалым сынишкой Кириллкой. Такие сны он мог прежде заказывать себе, но теперь это не выходило, словно волшебная сила ушла от него. Теперь и время и сны были другие...
Над Быковым нависала низкая травянистая крыша шалаша, сквозь нее и прикрытый березовыми ветками лаз сочился только что зачинающийся рассвет тихого утра; слышно было, как свиристели, заливались на все голоса лесные птицы, торопившиеся сообщить миру о приходе нового дня.
— Боцман, кажется, шлюпка подходит к берегу, — слабым голосом произнес Апполонов. Он лежал рядом, на топчане, сооруженном Быковым из ветвей и травы. — Всплески весел слышу. И голоса вроде различаю. Т-с-с, тихо.
— Какая шлюпка? — Быков смахнул ладонью сладкую сонную слюну, взглянул на него тревожно: «Как бы опять на накатило на парня. Совсем плох. И не спал, наверно, опять...»
День ото дня Апполонову становилось все хуже, он почти совсем ослеп, в пяти шагах ничего уже не различал, рана на левой ноге гноилась, нечем было ее обработать, и мучительно болели у него на лице ожоги, на которые смотреть было страшно.
Последние четыре мучительных дня не принесли им ничего, кроме напрасных надежд: ни воды, ни росинки хлеба, ни помощи. Питались ягодами, грибами, несозревшими орехами, — августовский лес прокормит, конечно, не даст помереть с голода, — поддерживали себя кое-как, но сил от этого почти не прибывало. Апполонов слабел с каждым днем, и Быков понимал, что, если не достанет для него еду и лекарства, он погибнет. Но лишь на третий день, когда немножко окреп, Быков решился сделать недалекую вылазку. Он шел лесом, кружился на месте, гадал, в какую сторону идти, все время тревожась за оставленного в шалаше Апполонова. Наконец ему удалось выйти к селу, лежавшему в, лощине, большому и, должно быть, богатому. Но он сразу же понял: село под немцами, и самое разумное — поскорее отсюда убраться.
Он обманул Апполонова, который ждал его как спасителя, сказал, что встретил в лесу мужика на лошади, который пообещал привезти еду, питье и лекарства, а потом сведет их с партизанами.
«Значит, этот берег немецкий?» — насторожился тогда Апполонов.
«Это ведь как понимать, — попытался успокоить его Быков. — Раз партизаны, значит, и наш...»
Добраться до своих, если бы даже Апполонов мог идти сам, было немыслимо — это Быков понимал. Да и где они теперь, свои-то? А неподалеку лежало село, хоть и под немцем, но ведь там же свои, русские люди. Не оставят в беде, надо только дать о себе знать... И решил он пока держаться этих мест. Море рядом, не чужое — свое море. Оно вместе с лесом и подкормит, и надежду хоть какую-то таит в себе, и жить рядом с ним намного покойней...
— Ты послушай, послушай, — сказал опять Апполонов, затаив дыхание. — Слышишь, весла чмокают по воде?
— Поглядеть надо. Ты, Апполоша, полежи тихонько, а я пойду. — Быков выскользнул из шалаша.
И сразу же — аж сердце захолонуло! — метрах в двухстах левее увидел шлюпку, пристававшую между валунами, и в ней — двух мужчин и девушку. Быков лежал в кустах, наблюдал, как приплывшие переносили в заросли рюкзак, канистру, небольшой чемодан, весла, прятали шлюпку, заводя ее за валуны. И по тому, как осторожно, крадучись делали эту работу, было понятно — люди они здесь чужие.
«Богатые соседи, — определил Быков, — в канистре, должно быть, вода, в рюкзаке — продукты». У него даже лиловые пятна пошли перед глазами — так мучил голод и хотелось пить.
Около часа Быков пролежал в кустах, не решался дать знать о себе, пока не убедился окончательно, что незнакомцы пристали сюда случайно, где находятся — не знают и пока не решили, что делать дальше. Но, судя по всему, задерживаться надолго не собираются. Быков встревожился: уйдут и унесут все с собой. Хоть бы для Апполонова что-нибудь достать. Самую малость. Нельзя упустить такой случай. Не могут же они не помочь... И, отбросив всякую осторожность, боясь только одного — чтобы эти люди не ушли, он потихоньку крикнул, придав как можно больше ласки своему голосу:
— Эй, землячки, здорово! С прибытием вас!
Один из мужчин, с автоматом в руках, забежал за валун, второй — рыжий бородач — и девушка кинулись к шлюпке.
— Да что вы? Свои же! — опять потихоньку крикнул из укрытия Быков. — Пушки-то уберите, вот чудаки!
В ответ щелкнул пистолетный выстрел, пуля вжикнула у Быкова над самым затылком. Обозлившись, он нащупал под рукой камень, швырнул его, давая понять, что у него нет оружия.
— Вы что, спятили? — выкрикнул с досадой. — Шуму, черти, наделаете.
— Выходи! — Ствол автомата за валуном угрожающе шевельнулся, приказывая.
— Кто вы?
— Может, сам представишься? Шкипер, не стреляй!
— Из местных, — отозвался Быков.
— Ну, а мы, значит, в гости к вам. Берег-то чей?
— Это как поглядеть... Да убери ты автомат! — Быков увидел: ствол опустился, приглашая подойти. Вышел из кустов и уже открыто, не остерегаясь, направился к шлюпке.
Потом, когда рассказывал о том, что случилось в базе, у Волчьей балки, как пришлось взорвать в бухте тральщик, как выплыли на этот берег с уже мертвым командиром и похоронили его, Быков чувствовал, что они не очень-то желали этой встречи с ним. Что ж, голодный сытому не ровня, в конце-концов, им решать, как поступать в таком положении. У него, у Быкова, нет воды и хлеба, но у него есть очень и очень дорогой козырь — он знает берег, знает, где немцы. Однако не собирается этим торговать. И когда у него спросили об этом, он ответил:
— Пятый день здесь. Вчера дальнюю вылазку сделал. Восточнее, километрах в пяти, большое село, гарнизон человек сорок, пулеметы. Ближе к морю водохранилище, вода в село поступает. Охрану несут. Ну, а западнее, должно быть, все в их руках: не знаю пока.
— Значит, и на этом берегу немцы? — усмехнулся шкипер. — От чего ушли, к тому и пришли.
— От чего ушли, не знаю, — сказал Быков, — а пришли почти в самые лапы к ним. Взяли бы чуть левее — и каюк.
— Командира-то что же на самом виду похоронили? — спросил Ратников. — Камень приподнял сверху, а под ним китель видно и орден. Сразу заметно: могила свежая, могут наткнуться случаем и...
— Сил не хватило подальше отнести, — ответил Быков.
— У тебя что же, все с собой? — хмыкнул шкипер, обглядывая его с головы до босых ног.
— Почти все, — почувствовав насмешку, но сдерживаясь, сказал Быков. — Товарищ еще в шалаше лежит, радист с нашего катера.
— Не отоспался, что ли?
— Пойдем, глянешь.
— Веди, — сказал Ратников, и все четверо направились кустарником, держась ближе к лесу.
Но Апполонова в шалаше не оказалось.
— Он же почти не может двигаться! — удивился Быков, заглядывая внутрь, обходя вокруг. — Апполоша, отзовись. Да ты что?
— Что-то ты, кореш, темнишь, — засомневался шкипер.
Но тут же из кустов донеслось:
— Ты кого, боцман, привел?
— Свои, Апполоша. Ребята свои пришли. Я же тебе говорил, что придут. Худое, видать, подумал, — сказал Быков Ратникову. — Расстройство у него произошло после торпедной атаки... То отойдет, то опять...
Апполонова занесли в шалаш. Маша тут же принялась хлопотать возле него, напоила, осторожно промакнула кончиком косынки обожженное лицо, перетянула рану на ноге.
— В больницу бы. Нельзя ему так.
— Какая теперь больница, — вздохнул Быков.
— Не вижу. Ничего не вижу, ночь кругом! — заметался Апполонов. Но ласковые Машины руки успокоили его, и, он понемножку затих, повторяя в полузабытьи: — Ты кого привел, боцман? Чей это берег?
— Тяжелый, очень тяжелый, — сказал Ратников, отведя Быкова в сторону. В нескольких словах пояснил, как здесь очутился. — Тоже не сладко пришлось...
— Да уж куда слаще, — посочувствовал Быков. — Говоришь, до батальона морской пехоты на сторожевике плавал? Ну а я вот на торпедном катере. Выходит, оба без кораблей теперь? Что дальше делать будем?
— Давай так: ты со своим радистом потолкуй, успокой его насколько возможно, а я — со своими.
Подошел шкипер, бросил хмуро:
— Значит, у тебя все с собой? Плюс еще этот...
— Все! — резко ответил Быков. — Не считая торпедированного немецкого транспорта. Устраивает?
— Наличность считаем! — сразу же взвинтился шкипер. — Ты что, трупы немцев собираешься вылавливать и жрать?
— Не заводись! — оборвал его Ратников. — А ну, отойдем, потолкуем. Слушай, шкипер, я о тебе лучше думал. Ты видишь, что это за ребята?
— Нахлебнички явились, вот что я вижу! Как нам это далось? А теперь еще двоих на довольствие?
— Ты догадливый парень. Разделишь, не ошибешься, глаз у тебя верный. — Ратников хотел было все свести к шутке.
— Радист этот — смертник, сумасшедший! — ярился шкипер. — Концы вот-вот откинет. Куда с ним? Пускай своей дорогой топают, мы — своей.
— Запомни: дорога у нас одна! — Ратников крепко ухватил его за руку, повыше локтя.
— Какая же?
— К своим.
— Где они, свои-то?
— Только туда! — повторил Ратников, выпуская его руку. — Понял?
— Слушай, немцы кругом, нас, как цыплят, переловят. Ради чего же мы смылись от них? Чтобы опять в лапы к ним? Ну нет, меня пыльным мешком не накроешь... А этого радиста на себе поволокем? Куда? Да с этими морячками завалишься как пить дать. Они же транспорт потопили, немцы небось по всему побережью шастают. А на них даже форма флотская, только босые. Красивый концерт получается.
— Трусишь?
— Это ты брось. Не такие кинофильмы видели.
— Чего же ты хочешь?
— На барже, когда бежать собрались, о чем договаривались?
— К чему ты это?
— Вот видишь, любви не получается. Но все должно быть честно. Я хочу получить свою долю. И отвалить.
— Сволочь же ты, шкипер!
— Не пятую, а третью долю, поскольку нас все-таки трое...
— Ну, знаешь!.. — Ратников даже сказать ничего больше не мог от изумления.
— И Машкину долю! — жестко прибавил шкипер, следя за тем, какое это,произведет впечатление. — Арифметика простая: две доли нам, одну — тебе.
— Нет! — вскрикнула Маша, подходя к ним. — Нет, нет, я не пойду с тобой! — Она встала за спиной Ратникова.
— Пойдешь. Тебе же вышку дадут, если...
— Дай-ка сюда пистолет, — сказал Ратников. — Живо!
— Не доверяешь? Ну, кто они тебе? Что ты о них знаешь? С тобой-то мы попробовали соли... Торпедная атака, потопленный транспорт. Герои! А если это липа?
— По себе судишь! — возмутилась Маша. — Постыдился бы.
— А ты заткнись. Собирайся!
— Не пойду, убей, не пойду!
Ратников шевельнул автоматом.
— Пришьешь? — зло скосился шкипер.
— На четверых придется делить... — Ратников забрал у него пистолет. — Ты зачем, скажи, с баржи со мной напросился?
— А ты что бы на моем месте выбрал: волю или пулю в затылок?
— Волю... За нее еще драться надо.
— С одним автоматом против Германии? Против всей Европы почти? — огрызнулся шкипер. — Давай, старшой, по-хорошему. Любви, видишь, не получается: ты собираешься еще драться за волю, а мы уже на воле. Выдели нам с Машкой две доли из трех — и разбежимся. Ни ты нас, ни мы тебя не видели.
— А как же они? — Ратников кивнул на шалаш. — О них ты подумал?
— Господь подаст...
— Ладно, — сказал Ратников, — черт с тобой. Как ты, Маша? Как скажешь, так и будет. — Он знал: что бы она ни ответила, держаться будет своего. Спросил так, для верности, для того, чтобы шкипер услышал последнее ее слово, потому что сам в ответе ее был уверен.
— Иди, Сашка, иди один, — сказала Маша. — Все равно от тебя только горе одно.
— Пойдешь? — спросил Ратников. — Иди! Только одному тебе дороги никуда нет — ни к нашим, ни к немцам. Везде тебе одна цена.
— Дешево же ты меня ценишь.
— Сам цену назначил... Ты что же, с баржи бежал, чтобы шкуру спасти? И только? Если бы знал, к штурвалу тебя привязал, как собаку, и кляп вбил в рот.
— А ты из плена бежал? Не за этим, что ли?
— Нет, не за этим. А уйти ты не уйдешь.
— Жратву жалеешь? Погремушки?
— Ты говорил: в любую минуту готов передать их советской власти. Безвозмездно.
— И сейчас готов! Только где она, власть?
— Я и есть власть. Все мы — вместе, на этом побережье. И ты ей будешь подчиняться!
— Трепаться каждый умеет: я — власть, я — народ... Слушать тошно.
— Отпустить бы тебя на все четыре стороны, все равно балласт. Да ведь предашь.
— Ну это ты брось! — закипел шкипер. — За такие слова!
— Вот и договорились, не хорохорься, — уже мягче, согласнее сказал Ратников. — Принимаем твою клятву. Как, Маша? Но учти, Сашка: плата дорогой станет, если что... Раз есть власть, есть и трибунал! По законам военного времени... — Он обернулся и крикнул в кусты: — Эй, боцман, давай-ка сюда, что-то вы там заговорились!
Если бы Ратников мог со спокойной душой отпустить шкипера, то, конечно, отпустил бы. Но его мучили сомнения и на вопрос, действительно ли тот может уйти чисто, без всяких последствий, которые могут потом оказаться для всех них роковыми? — он не мог ответить утвердительно. Хотя, с другой стороны, с какой стати шкиперу их выдавать? Но кто знает, чем все обернется, если он угодит к немцам? Вот это-то, главное, больше всего и тревожило Ратникова. Нет уж, пускай шкипер будет рядом, как говорится, на глазах: глядишь, и остепенится, оботрется, поймет что к чему...
— Апполонов может умереть, — сказала Маша. — Нужны помощь, лекарства, бинты хотя бы. И Быков, глядите, чуть идет, совсем ослабел.
— Таких друзей за версту обходить, — проворчал шкипер, с неприязнью посматривая на подходившего Быкова.
— Ну, боцман, что порешили? — спросил Ратников.
— Программа одна: пробиваться к своим, — ответил тот.
— И мы, все трое, к этому пришли — значит, программа общая. Да, вот еще что: как у тебя со стрельбой? Рука твердая?
— Ворошиловский...
— Я так и полагал. — Ратников протянул ему пистолет. — Держи. Правда, одного патрона не хватает, на тебя шкипер израсходовал. Ему пистолет ни к чему: сам убедился, как стреляет.
Шкипер промолчал.
— Ну вот, считай, половина личного состава и вооружена, — сказал Ратников. — Может быть, и Маше придется повоевать, только другим оружием. Как, Маша?
— Я готова, — смутилась Маша.
— Но первое твое дело — хозяйствовать. Прикинем все до крохи. Норма минимальная. Для Апполонова — усиленный паек, воды не жалеть. Понятно?
— Понятно, товарищ командир, — ответила Маша, впервые назвав Ратникова командиром.
— Е-ма-е! — удивленно присвистнул шкипер. — Это что же, наподобие партизан, что ли? Ну, дают!
— Будем активно пробиваться к своим. Постоянная готовность номер один. Сутки отдыхаем, Маша нас подкормит — и завтра вылазка к селу. Быков поведет. Нужны медикаменты, еда, связь с местными жителями. И последнее. — Ратников оглядел всех, чуть жестче, чем на других, посмотрел на шкипера. — Дисциплина корабельная! Без разрешения — ни шагу! — И эти его слова были всеми приняты с молчаливым согласием, как приказ командира.
В этот день они тщательно упрятали шлюпку среди камней, но так, чтобы ее в любой момент можно было легко спустить на воду и выйти в море. Соорудили еще один шалаш, попросторнее. В первом поместили Машу с Апполоновым, чтобы она все время могла за ним присматривать, в другом поселились остальные. Определили запасы: продуктов и воды могло хватить недели на полторы при строжайшей экономии. Значит, рассуждал Ратников, за это время надо найти какой-то определенный выход: или пробиться к своим («Где они, в самом деле, свои-то?»), или связаться каким угодно путем с партизанами («Где они, партизаны? Есть ли они здесь вообще?»).
Вечером, уединившись, Ратников с Быковым сидели возле шлюпки, прикидывали, что можно сделать в их положении. Выходило, выбраться отсюда будет довольно сложно. Может, вообще не удастся выбраться, значит, придется действовать самостоятельно, своей группой неизвестно какое время. Но об этом ни тот, ни другой вслух пока говорить не решались — надеялись на лучшее. Человеку всегда свойственна надежда, в каком бы положении он ни оказался. Если же она теряется, пропадает — значит, человек перестает верить в себя, в свои силы и дела его совсем плохи, он перестает бороться, потому что заботится только об одном — как бы выжить. И, как правило, погибает при этом. Ратников и Быков были далеки от таких крайних мыслей, им и в голову не приходило такое.
— Даже не верится, что война идет, — сказал Быков. — Закат-то тихий какой.
— У нас закаты не хуже, — произнес Ратников. — Да, теперь, боцман, отзакатилось все далеко.
— Откуда сам-то?
— Сибирь... Нету ничего лучше на свете.
— Хорошо... А я вот женился перед самой войной. Ездил в отпуск и женился. Дернуло же!
— Почему — «дернуло»? Здорово ведь.
— Сердце болит. Жена с полугодовалым сынишкой в Москве. Бомбят фрицы город, мало ли...
— Все равно здорово, — упрямо повторил Ратников. — Придется в землю лечь — сын останется... А я вот один, из детдомовских, сиротой рос. Не успел жениться: призвали на флот.
— Обидно, — пожалел Быков.
— Что — обидно?
— Ни ты ласки не знал, ни твоей ласки не знали.
— Почти так... Но время-то есть еще! Вырвемся отсюда, война кончится...
— Кончится когда-нибудь... Неужели немцы Москву могут... — Быков не решился договорить последнее слово.
— Ну, хватил, боцман!
— Я вот все думаю, — помолчав, продолжал Быков, — каждый человек пожить дольше хочет. А разобраться — зачем? Сколько проживешь — тридцать или сто лет — неважно, в конце концов. Все равно пора придет каждому.
— К чему это ты? — заметил Ратников. — Думаешь, не выберемся?
— Да нет, я не о том. Может и так, конечно, случиться. О другом я. Так, находит всякое на душу...
— Народу много в селе? — помолчав, спросил Ратников.
— Сотни три наберется. Фронт, должно, далеко укатился. Фашисты вольготно живут, винцо попивают, с девками заигрывают, сволочи, тошно глядеть.
— Маловато нас. Был бы твой Апполонов на ногах, пара автоматов еще и хотя бы десяток гранат. Мы бы им показали — вольготно. Ночь, внезапность, в полчаса все можно, обделать. Потом — лес, горы: ищи-свищи. Отряд сколотим...
Оба они замолчали, обдумывая сказанное.
Багровый огромный диск солнца тонул за морем, за горизонтом, поверхность там густо кровенела, казалось, море вот-вот вспыхнет гигантским пламенем. Но солнце все глубже и глубже погружалось в воду, вроде бы остывало в ней, тушилось, и все потихоньку тускнело вокруг, даже румянец поблек у горизонта, потом осталась только иссиня-темная полоска вдали. Накатывались на берег, шипели, просачиваясь сквозь гальку, плоские волны. Очень уж мирным, покойным стоял вечер, и Ратников, точно боясь нарушить этот покой, тихонько повторил слова Быкова:
— Да, даже не верится, что война...
Быков помолчал, тоже с удовольствием прислушиваясь к вечерней тишине, и как бы невзначай сказал:
— Не нравится мне твой шкипер.
— Мой? — Ратников усмехнулся. — Он мне уже пощекотал нервы. И еще пощекочет. Уголовник бывший, у немцев потом работал. За ним глаз да глаз. Выкинуть может что угодно.
— Не пожалеть бы потом...
— Я его предупредил: по законам военного времени...
— Немцы каждый вечер новый наряд к водохранилищу посылают, — сказал Быков, — из четырех человек. Старый той же тропой назад возвращается в село. Я проследил...
— С Апполоновым особенно не развернешься.
— Переправим его с Машей поглубже в лес. На немцев, если подкараулить у тропы, одной очереди хватит. И четыре автомата наши. А?
— Нашумим. Надо разузнать, есть ли у них собаки, и уж тогда действовать. И не забывай: немцы кругом, на десятки, может, на сотни километров...
— Ускользнем: леса-то какие кругом.
— Может, и ускользнем... Завтра вылазку сделаем. И прошу тебя: и ты за шкипером поглядывай в оба. При первом же случае в деле его проверим. — Пока Ратников ни в чем вроде бы и не соглашался с Быковым, но и не возражал ему, прислушивался, понимая, что он — человек нетерпеливый, горячий. Он не хотел ничего делать сгоряча, потому что не раз уж обжигался второпях. «Завтрашний день покажет, — подумал. — Надо посмотреть, что в этом селе делается».
Как же сладко спалось Ратникову этой ночью! После минувшей горькой недели, которая длилась вечность, — маленький плацдарм у реки, гибель ребят, Панченко, плен, несколько дней в концлагере, побег на барже — эта ночь в шалаше была для него немыслимо прекрасной. Запахами моря и хвои, сочным лесным воздухом исходила эта ночь, и он спал как убитый, даже во сне ощущая, как возвращаются, приливают силы. Наверное, он мог проспать бы не одни сутки кряду, досыпая за все, что не доспал. Но после вахты, которую отстоял, сменив шкипера, прошло только чуть больше двух часов, и кто-то уже — он никак не мог сообразить, кто же это? — настойчиво все звал и звал его, теребя за плечо.
— Старшой, старшой, — торопливым шепотом будил его Быков. — Немец на берегу. Немец, да слышишь же? Подымись!
— Какой немец? — проснувшись наконец, встрепенулся Ратников. — Ты что?
— Идет откуда-то с другой стороны. Берегом. Сел недалеко от шлюпки, переобувается.
— Вооружен?
— С автоматом. Брать будем?
— Постой. — Сон мигом слетел с Ратникова. Он толкнул шкипера, и все трое осторожно выбрались из шалаша.
Немец сидел на валуне, у самой воды, спиной к ним. Одну ногу, видно, уже переобул, но дальше что-то не торопился, — не двигался, смотрел, как из-за моря вставало солнце. Может быть, что-нибудь вспоминал, пригретый ранними лучами. Автомат лежал рядом, на камне.
— Будем брать? — спросил опять Быков.
— Хватятся, искать будут.
— А если на нас напорется? Или шлюпку увидит?
— Берегом идет, на могилу Федосеева наверняка наткнется, — сказал Ратников. — Черт его принес. Надо брать. Только тихо, без выстрела.
Быков дернулся было вперед из-за бугорка, но Ратников придержал его. Приказал взглядом шкиперу: «Давай!»
Глаза шкипера, еще полусонные, нетерпеливо, азартно вспыхнули, сверкнула финка в руке. Он скользнул за бугор и пропал — только кустарник следом зашевелился.
— Ловкий, дьявол, — одобрительно заметил Ратников, прилаживая на всякий случай автомат.
— Привычный, видать... — сдержанно сказал Быков.
Шкипер миновал кустарник. Оставалось еще покрыть метров тридцать прибрежной, почти голой полосы, покрытой галечником, разбросанными валунами. Хруст галечника уже мог выдать его. Но немец сидел спокойно. Если он обернется и потянется за автоматом, Ратников срежет его одиночным выстрелом. Промаха не будет, а вот выстрел могут услышать.
Шкипер поднялся и, пригнувшись, стал подбираться к нему, скрываясь за валунами.
— Черт его принес, этого фрица, — сердился Ратников. — Топал бы своей дорогой. Жить, что ли, расхотелось?
— Выудим что-нибудь, — произнес Быков.
— Палка о двух концах: можно выудить, а могут и нас из-за него выудить.
В шалаше вдруг громко застонал Апполонов. Немец мгновенно обернулся, потянулся за автоматом.
— Все! — с досадой шепнул Ратников. — Придется стрелять.
Но в тот же миг из-за камня выпрыгнул шкипер, почти из-под руки у немца выхватил автомат, ударил его в грудь ногой. Немец опрокинулся, раскинув руки, с криком упал в воду.
Ратников и Быков кинулись к нему.
— Не ори, зараза! — ругался шкипер, вытаскивая немца из воды. — Не хочешь подыхать — не ори!
Немец удивленно таращил глаза на полуоборванных людей, каким-то чудом очутившихся на берегу. Его усадили в кустах, возле шалаша, успокоили, что, дескать, убивать его не собираются, если он честно ответит на все вопросы. Он согласно кивал, приходя в себя, на лице его даже улыбка появилась, и он все в растерянности поглядывал то на шкипера, то на свой автомат у него за спиной.
— Было ваше, стало наше! — пояснил шкипер и перевел ему это или что-то подобное.
Оказалось, шкипер довольно сносно владеет немецким. Он почти свободно объяснялся с пленным, то грозил ему пальцем, то подносил к носу увесистый кулачище. Но на лице у немца не было уже страха: видно, понял, что убивать его действительно не собираются. Он даже попросил закурить.
— Ах, сволота! — сказал Ратников. — Ну-ка, спроси: откуда шел?
— С хутора Гнилого шел, говорит, — переводил шкипер. — Послали в село с устным донесением к коменданту: нынешней ночью на хуторе убит староста.
— Кто же это его?
— Спрашивает, не мы ли? Значит, говорит, партизаны. На хуторе их, немцев, всего четверо, и его послали в село просить помощи у господина коменданта.
— Сколько отсюда до хутора?
— Три с небольшим километра. Берегом, потом лесом.
— Связь с селом есть? Какой там гарнизон?
— Нет, а то зачем бы его послали туда... Гарнизон около пятидесяти человек.
— Партизаны есть в этих местах?
— Раз старосту убили, значит, есть. Он лично не знает.
— Что будет с хутором?
— Господин комендант строгий человек. Но он, — шкипер кивнул на пленного, — самый мирный из всех немцев. Так он уверяет. Воевать заставили, дома у него жена и двое малышей.
— Спроси-ка: где теперь советские войска?
— Фронт ушел далеко на восток — на сто пятьдесят и больше километров. Ближе нет.
Ратников с Быковым тревожно переглянулись.
— Где еще расположены немецкие гарнизоны?
— В основном вдоль побережья. Но они значительно дальше.
— Как наше население к немцам относится?
— Кто же будет любить завоевателей?..
— Не хитрит, как думаешь?
— Хрен его знает. Вроде бы нет. Спрашивает: кто мы?
— Еще чего захотел! Узнай: почему так открыто шел по берегу? Разве не боится партизан?
— Партизаны если есть, то в лесах. На побережье не выходят — здесь иногда патрулирует дозорный катер.
— Где он базируется?
— Причал около водохранилища... Этот фриц толкует, что сам простой рабочий человек и готов нам помочь, потому что питает симпатию к русским. Не русские начинали войну.
Странное, двоякое чувство испытывал Ратников, внимательно наблюдая за пленным. Лицо открытое, даже вроде бы симпатичное. Спокоен. Судя по всему, говорит правду. Даже если сопоставить то, что было известно о селе Быкову и что знал сам Ратников, — все полностью совпадало. Конечно, просто повезло, что попался такой сговорчивый немец, показания его значат немало. Но, с другой стороны, Ратников никак не мог взять в толк, почему с такой легкостью, даже без малейшего нажима этот человек выдает им все сведения. Ведь фактически он выдает военную тайну, нарушает присягу, которую наверняка давал, предает то, что клялся не предавать. Как это сопоставить? Ратников с первого дня на фронте, слыхал, как держатся на допросах наши ребята, оказавшиеся в плену. Да. и самого его допрашивали, и он знал, как надо вести себя, понимал, что нет ничего ниже, пошлее предательства... А этот как кухонные сплетни разбазаривает. Он был доволен показаниями пленного, но внутренняя логика, выработанная всей жизнью, воинскими законами, не позволяла ему уважать его, заставляла скорее презирать. Нельзя же выкупать себе жизнь такой ценой. Есть, в конце концов, понятия более высокие, которые не позволяют человеку вставать на колени, а, напротив, помогают ему гордо поднять голову, даже когда он обречен. Ратников понимал, что это совсем другое, что нельзя, конечно, сравнить нашего солдата с фашистским — они и живут, и воюют, и умирают по совершенно разным законам и понятиям. И на свободе, и в плену... И все-таки этого он презирал. Презирал, как ни странно, за то, что тот... давал ценные, так необходимые ему, Ратникову, и его товарищам, показания. И еще он ни на минуту не мог не чувствовать, что перед ним враг, один из тех, кто вольно или невольно пришел на русскую землю завоевателем.
— Когда он должен вернуться на хутор?
— Во второй половине дня. Господин комендант должен послать с ним помощь.
— Карателей? Хутор поджечь, жителей расстреливать?! — вскипел вдруг Ратников. — И он с ними?
— Нет, нет, нет! — немец взмолился, вскидывая руки. Шкипер переводил: — Я не убил ни одного человека. Верьте мне.
— Что станет делать, спроси, если мы его отпустим?
Шкипер недоуменно взглянул на Ратникова:
— Шутишь, старшой?
— Нет, не шучу.
— Говорит, что немедленно позабудет об этой встрече.
— Как же он вернется без автомата?
— Пожалуй, скажет: уронил в море, когда лез через скалы. Такое местечко тут есть. Ему поверят.
Немец заинтересованно, преданно смотрел на Ратникова: видно, такой разговор ему нравился.
— Опять воевать будет против нас, когда вернется?
— Если заставят, отказаться невозможно: он — солдат. За нарушение присяги — расстрел. Но все же постарается не воевать.
— А разве он не нарушил присягу сейчас? — не утерпел Ратников. Ему хотелось знать, что ответит на это пленный. — Он же выдал нам секретные сведения.
Немец помолчал, несколько смутившись от такого поворота в допросе. Он явно недопонимал, чего же от него еще хочет этот странный русский командир. Что-то забормотал, растерянно пожимая плечами.
— Говорит, что у него жена и двое малышей, — перевел шкипер. — Он должен жить ради них. Это выше присяги.
— Вот у Быкова тоже жена и малыш. Он тоже должен жить ради них. Но ведь вы его хотите убить! За что, понимаешь ты это? А сколько тысяч русских уже убили...
— Я маленький человек. Не я воюю с Россией. Будь моя воля, сейчас бы домой уехал. Зачем мне эта война?
— Что ему известно о потопленном неделю назад транспорте? — спросил Быков.
— Говорит,-это произошло недалеко отсюда. На нем было около семисот солдат, подобрать успели лишь несколько десятков, остальные погибли. Но у них не любят говорить об этом.
— Не понравилось, значит? — Быков подмигнул шкиперу: — Вот она, шкипер, наличность. С одного залпа!
— Способные ребята, — засмеялся тот. — Жаль, не видел этого концерта.
— Знает ли он, спроси-ка, что-нибудь о прорыве русских моряков с полуострова, в районе Волчьей балки?
Немец долго пытался вспомнить, сообразить, о чем его спрашивают. Потом вскинул указательный палец.
— О-о! Отвечать не могу, это не мои слова. Один ефрейтор, мой знакомый, говорил: в той операции русских прижали к морю, сбросили с обрыва. Их было мало, они не могли устоять. Прорвалась только небольшая часть, — перевел шкипер.
— Прорвалась-таки! Слышишь, старшой?! — возликовал Быков.
— Ну, чего еще спросить у фрица? — насмешливо бросил шкипер. — Как хошь обкатывай, все выложит: тряпка! Эх, воспитал бы Гитлер всех своих подданных такими исусиками...
— Спроси-ка, есть ли базар на селе? — сказал вдруг Ратников. Он увидел возле другого шалаша Машу, развешивавшую по ветвям окровавленные тряпицы, и у него моментально созрел план.
— Да, есть. — Немец оживился.
— А лекарства, медикаменты можно купить?
Немец несколько удивился, но, тоже увидев Машу, понятливо закивал:
— Есть. Старый аптекарь торгует.
— Что теперь делать с ним? — неожиданно спросил шкипер. — По рукам и ногам свяжет.
Ратникова и самого мучил этот вопрос. Но ответа он пока не находил.
Шкипер вопросительно взглянул на него:
— Может, того, а?
— Законов не знаешь?!
— Война всему сейчас закон и судья...
— Анархию разводить! — посуровел Ратников.
Немец встревожился, почувствовал недоброе, что-то залепетал, перекидывая взгляд с Ратникова на шкипера.
— Куда же с ним денешься? — сказал шкипер. — Или в самом деле отпустить его хочешь? Как пить дать, заложит. Может, все-таки...
— Отойдем в сторонку. — Ратников поднялся и, когда они отошли за шалаш, жестко сказал: — Автомат сдай Быкову. Сейчас же!
— Да ты что? Автомат-то мой, я взял фрица!
— Я же предупредил: дисциплина корабельная!
— Черт с вами, лопайте! — Шкипер сунул автомат Ратникову. — Давай начистоту, старшой: не доверяешь?
— Подумай-ка: почему?
— Прошлое отбрось — не было его. Идет?
— Идет. Но ты докажи, чтобы я поверил тебе.
— Разве ты пленного взял? Или Быков?
— Герой. Тут и делать нечего было. Тебе самого себя взять труднее, чем пленного.
— Это как же? — не понял шкипер.
— В руки взять! Все эти анархические штучки: автомат мой, может, немца того, война всему закон... и прочие вывихи — от прошлого и идут. А говоришь, отбрось его. Это ты его прежде отбрось.
— Да мура ведь это, семечки...
— Говорю последний раз: дисциплина корабельная. Время военное и законы военные... Все!
— Какой же ты крутой мужик, — сказал шкипер, внимательно посмотрев на Ратникова.
— Отведи пленного в шалаш, — распорядился Ратников. Он почувствовал, что шкипер вроде бы надломился в этом коротком разговоре, понял наконец, чего от него хотят. — У Быкова пистолет возьмешь. Глаз с немца не спускай, головой отвечаешь.
— Сделаем как надо, не беспокойся.
— Форма немецкая нужна. Сними-ка с него.
— Обойдется, не зима, — усмехнулся шкипер. — Значит, в село?
Форму Ратников принес Быкову.
— Прифорсись, боцман, вроде вы одного роста.
— Может, лучше шкиперу, — осторожно возразил Быков. — Языком все-таки владеет. И вообще...
— Не хочется эту шкуру напяливать? — спросил Ратников.
— Лучше бы нагишом, — признался Быков.
— Понимаю. Когда из плена бежал, на барже окунул одного. Хотел было переодеться, а душу отвернуло. Ну, это совсем другое... А сейчас надо, боцман. На село пойдем. Шкипер для такого дела чистилище еще не прошел. Немца пускай на первый случай посторожит.
— Не смоется вместе с ним? — забеспокоился Быков.
— Думаю, нет. Кажется, он кое-что понял. Да и в петлю не полезет: понимает, что фриц донесет — в плен-то он его брал. И пленный — лапша, без оружия, без формы побоится возвращаться, у них строго с этим. — Ратников подал ему автомат. — Пистолет шкиперу отдай. Машу с собой возьмем: удастся, на базар заглянет.
— Торговать-то нечем. — Быков пожал плечами.
— В чемодане у шкипера золотишко имеется: на лекарства для Апполонова, может, обменяем. Золото — и на войне золото.
— Откуда оно у него? — удивился Быков.
— Мучные коммерции... Маша на базар пойдет, а мы с тобой посмотрим кой-чего, тропу обследуем. Может, форма тебе как раз и сгодится...
— Слушай, старшой, чую я: не одни мы здесь, — заговорил Быков, горячась. — Кажется мне, что старосту на хуторе наши ребята прихлопнули. Те, что прорвались у Волчьей балки. Кто же еще? Одним нельзя. Если они где-то в этих краях — надо найти их: сольемся — такое «Бородино» закатим! Эх, связал нас этот пленный. Как теперь с ним быть?
— Нельзя было не брать. Все равно на могилу Федосеева наткнулся бы. Ну и автомат у тебя за спиной появился. — Ратников поднялся, окликнул шкипера. — Проинструктирую его сейчас... А с двумя автоматами мы с тобой, боцман, кое-чего стоим...
— Вот что, Сашка, — строго сказал Ратников, когда шкипер подошел. — Уходим мы, все трое. На село. Остаешься один. Посматривай за Апполоновым.
Шкипер невольно подтянулся, слушая приказание.
— Пленного связать.
— Да он у меня не пикнет, старшой. Глина: лепи, что хочешь.
— Связать, говорю! Сейчас же!
— Сделаю как надо. — Шкипер, нырнул в шалаш, вскоре появился вновь. — Скрутил намертво, старшой. Не пикнет. — И вдруг рассмеялся, глянув на Быкова.
— Чего зубы скалишь? — не понял Быков.
— Уж очень ладно сидит на тебе фрицевская форма, как влитая.
— На тебя бы ее напялить, — осердился Быков. — Тебе больше бы подошла...
— Пора, — сказал Ратников, закидывая за плечо автомат. — Гляди в оба, Сашка.
— Полный порядок, старшой!
Ратников окликнул Машу, уже готовую к дальней дороге, и они сразу же тронулись в путь. Первым шел Быков, за ним — Маша, шествие замыкал Ратников.
Шкипер стоял возле шалаша и глядел им вслед.
5
Быков вел их утренним лесом, шел уверенно: чувствовалось, дорогу к селу хорошо знает, хотя был там один-единственный раз. Кое-где он приостанавливался и по каким-то приметам, понятным только ему, замечал:
— Верно идем. Скоро сосна с дуплом будет, а там — небольшой овражек. Ручеек внизу пробивается.
Лес был сплошь сосновый, старый, но такая чистота и свежесть в нем стояли, что, казалось, только недавно здесь произвели тщательную уборку. Роса еще держалась, высокая, сочная трава омывала ноги, приятно было идти по ней, жмуриться от солнца, мельтешащего между деревьями, закидывать кверху голову, забираясь взглядом по стволам гигантских сосен все выше и выше, к самому поднебесью, где, чуть приметно раскачиваясь, плыли между легкими облаками высокие кроны.
— Корабельные сосны! — говорил Быков так, будто лес этот принадлежал ему и он сам, своими руками, вырастил все эти деревья-великаны.
А Ратников, поглядывая искоса на Машу, никак не мог согнать с лица улыбку.
— Маша, ты совсем стала деревенской дурнушкой, — смеялся он. — Не Маша, а Манька. Просто чудо!
Маша смущалась, пыталась поправить волосы под платком, поддернуть непомерно длинную юбку. Она шла босиком — привыкала, — связанные ботинки болтались на шнурках через плечо, в руке узелок с краюхой хлеба. А за пазухой прятала золотую безделушку. Шкипер неохотно отдал ее Ратникову: мол, Апполонов и так через день-другой на тот свет отправится, на кой черт ему лекарства, все равно зрячим его не сделаешь, а вещица может в будущем пригодится. С Машей шкипер попрощался отчужденно, зыркнул в ее сторону: мол, гляди, дуреха, рот-то особенно не разевай.
— Обычно девушки красоту наводят, — говорил Ратников, шагая рядом с Машей, — а тут все наоборот. Как же ты себя обокрала в красоте — диву даешься! Вот ведь война, штука какая... Ну, все запомнила? Не боишься?
— Кажись, все. Немножко боюсь: не в гости идем.
— Значит, две вещи сделаешь: если удастся, обменяешь свою безделушку на лекарство, бинты и насчет партизан, по возможности, разузнаешь. А этому аптекарю приглядись. Помни: из-за одного лишнего слова погибнуть можно.
Босые Машины ноги иссекло мокрой травой, по самый подол юбки они были в розовых полосах, будто плеткой исхлестаны. Потом, когда она пойдет проселочной дорогой, на ноги осядет пыль, длинный подол тоже загрязнится на славу, и вряд ли на нее, такую дурнушку и неряху, обратит внимание какой-нибудь немец.
Некоторое время они шли молча, обдумывая предстоящее. «Конечно, — рассуждал Ратников, — самое позднее к вечеру хватятся этого фашиста, начнут искать. Могилу Федосеева сразу же увидят, разыщут и шлюпку, все найдут, черти. Без шлюпки никак нельзя... Как вернемся, если все обойдется, надо немедленно менять стоянку. В глубь леса уходить...» А вслух спросил:
— Скажи, Маша, кто же он все-таки, твой Сашка-шкипер?
Маша доверчиво взглянула на него, заговорила с горечью в голосе:
— Черная душа у Сашки. Такая черная, что до сих пор не знаю, кто он. Когда выручил меня Сашка, на барже укрыл, хорошо относился. Может, потому, что дела ладно шли. Потом как-то сцепились они с Куртом, из-за чего уж, и не знаю, что-то не поделили, должно. Курт и пригрозил ему. Сашка и так и сяк перед ним — ни в какую. Потом откупаться стал. И мной хотел откупиться...
— Ну, паразит! — вспыхнул Быков, прислушивавшийся к разговору. — На что пошел, а!
— Повезло мне, — вздохнула Маша. — Курт этот, слава богу, не из таких. Лавка торговая у него на уме, деньги ему подавай, а на девок наплевать... Потрепал как-то меня по щеке, засмеялся и говорит: «Муж твой иуда, Машка. Уходи от него». Представляете, даже он такое сказал.
— И ты не ушла? — возмутился Быков.
— Куда уйдешь? — виновато ответила Маша. — Фашисты кругом.
— Ты ведь уйти от него хочешь? Навсегда?
— Не могу так жить.
— Иди сейчас, — вдруг сказал Ратников. — А с нами неизвестно что...
— Пропадет она, старшой, — возразил Быков. — Куда тут сунешься? Чужой берег...
— Пропаду, — ухватилась Маша за его слова. — Без вас пропаду. Куда ж я без вас? Нет, нет, дело решенное.
— В обиду не дадим! — твердо произнес Быков. — То-то он мне сразу поперек горла встал...
Лес впереди редел, кончался, за соснами распахивался простор — словно море лежало за ними, слитое воедино с бесцветным чистым небом.
— Рядом теперь, — уже тише сказал Быков, — вот к уклону выйдем — и дома.
Ратников подивился, как он буднично и обыкновенно произнес: «Дома» — точно и на самом деле выйдут они сейчас из лесу и очутятся у себя дома, где их ждут покой и отдых, тихая прохлада спелых садов, полуденная знойная тишина...
Село Семеновское, стиснутое с трех сторон невысокими холмами, уютно лежало в зеленой низине. Почти до самых огородов спускался к нему сосновый лес и лишь у изгородей неширокой полосой кудрявился буйный кустарник. Красиво лежало Семеновское, все в садах, зелени, чистое и какое-то картинно-застывшее, как на полотне художника. Хорошо и богато, должно быть, жилось людям в этом райском уголке до войны.
— Вот оно, — сказал Быков, — глядите. Дальше не будем спускаться, здесь укроемся.
Больше сотни дворов насчитал Ратников, тремя рядами они образовывали две прямые длинные улицы, которые стояли просторно друг от друга, пересекаясь широкими прогалами, точно переулками. В самом центре голубела небольшая церквушка с поржавевшим бурым куполом. На площади толпился народ.
— Базар, — показал Быков. — А туда дальше, по лощине, тропа. К водохранилищу.
Они пролежали около получаса на макушке склона, присматриваясь к внешне спокойной, несколько ленивой на жаре жизни села, изучая каждый закоулок, каждое подворье, широкую дорогу на въезде, перечеркнутую шлагбаумом возле будки, тропинки, протоптанные от дома к дому. На крыше самого видного дома — должно быть, в прошлом сельсовета — обвисал от безветрия чужой флаг. Возле крыльца — часовой с автоматом. Замер в теньке, не шелохнется.
— Ну, Маша, пора, — решил Ратников. — По дороге не ходи, левее спускайся. Напорешься, случаем, на патруль говори, как условились: с Гнилого хутора, на базар кой-чего поглядеть. Мы здесь будем ждать. Не удастся ничего — все равно не задерживайся. Ну, будь осторожна.
— Прощайте, — сказала Маша, — я скоро. — И такой детский, смиренный был у нее голос, и вся она сама такая беззащитная, покорная, что Ратников чуть было не окликнул ее, не вернул назад.
— Ну, теперь тропу покажу тебе, — сказал Быков после того, как они проследили за Машей до самой базарной площади, а потом она пропала из глаз. — Пошли.
Через полчаса они вышли к лесному оврагу, как раз напротив небольшого водоема. Зеркальной гладью, без малейшей ряби — словно утюгом отглаженная — стояла в нем вода. Сосны четко отражались на поверхности, стояли, опрокинутые кронами в глубину, не шелохнувшись; немая тишина висела кругом, только чуть слышно шумела вода, падая с невысокой плотины. На противоположном берегу находилось небольшое строение, напоминающее водонапорную башенку, а рядом — лесная избушка и деревянная вышка с нахлобученной легкой крышей.
— Караулка, — Быков кивнул на застывшего на вышке часового.
— Когда меняется караул? — спросил Ратников.
— Часов в семь, может, в восемь. Прошлый раз был у тропы — как раз смена шла. Часов-то нет, так, по солнышку.
— Тихая заводь у них здесь. Сыто, сволочи, устроились, сладко. Мину бы достать, сунуть на тропу, считай, новая смена жить приказала. А старую, как на взрыв выскочат, — из автоматов. Восемь фрицев как не бывало. Пятая часть гарнизона.
— Эту четверку мы и сейчас можем успокоить, — загорелся Быков. — В два счета!
— А дальше что? То-то и оно. Одним дальше нельзя. Тупик. Апполонов без движения, еще этот немец пленный... А Маша? Разве это ее работа? — раздраженно говорил Ратников. — Мы связаны, не можем быстро передвигаться, все равно что в клетке. В любой час она может захлопнуться...
— Может, действительно руки развязать, как шкипер предлагал... — вставил осторожно Быков.
— О пленном, что ли? Шкипер, шкипер... Ты-то человек. — Ратников сердился на себя, что не может решиться на такое. — Задача у нас одна, боцман, — партизан искать. Должны же они быть, раз старосту кто-то ухлопал. Из местных, в одиночку, вряд ли кто посмел бы.
— Должны, — согласился Быков.
— На хутор бы прежде заглянуть, — сказал Ратников. — Там все проще выяснить. Охрана жидкая, в случае чего...
— Дорогу не знаем.
— Пленного в проводники возьмем.
— Ночью можно нагрянуть.
Они возвратились на прежнее место, залегли, наблюдая за площадью, за улицами, млеющими в августовском зное. Площадь почти опустела за это время, жаркое высокое солнце загнало жителей в прохладные горницы. Из дома, на котором висел флаг, вдруг высыпала кучка солдат в серых мундирах, спешно выстраиваясь в две шеренги.
— Что-то случилось, — насторожился Быков. — Не с Машей ли?
— Какой же я дурак! — забеспокоился Ратников. — Лучше бы сам лохмотья какие напялил...
— Самого тебя тут же схватят: одни старики да бабы в селе.
— Слушай, боцман, надо идти! Ты в форме, посмотри на себя — настоящий немец. А я — задами.
— В капкан оба полезем?
— Ах, черт возьми! Что же делать?
Наконец солдаты выстроились, с крыльца сбежал, должно быть, командир, взмахнул рукой, и обе шеренги, повернувшись направо, побежали вдоль улицы.
— Чего бы им из-за Маши строиться да бежать? — резонно заметил Быков. Это вполне убедило Ратникова.
Они прождали Машу еще с четверть часа, но она появилась не со стороны дороги, откуда ждали ее, а вынырнула слева из кустов. Спуск тут был крутой, и Ратников удивился, как это она сумела подняться в таком месте. Маша задыхалась, пот катился с ее напуганного, побледневшего лица. Она спешила отдышаться и ничего не могла сказать.
— По селу... по селу слухи пошли: старосту в Гнилом хуторе партизаны убили, — наконец выговорила она.
— От кого слышала?
— От старухи. Вон ее третий дом с краю.
— Немцы-то чего взбесились? Построились, побежали куда-то как очумелые?
— Вот старуха и сказала: хутор карать понеслись за старосту.
— Как же они узнали? Мы ведь перехватили посыльного. Связи с хутором нет.
— Бабий телеграф лучше всякой связи работает, — заключил Быков. — Может, на базар кто пришел с хутора.
— Надо торопиться, — не успокаивалась Маша. — Вдруг на наших наткнутся.
— Пошли! — распорядился Ратников. — Как ты у старухи очутилась?
— Подошла к ней на базаре: добренькая лицом, дай, думаю, заговорю. Золотушку показала: поменять, мол, бабушка, на продукты. Она, знать, поняла толк — тут же свернула все и увела меня к себе.
— А лекарь? — спросил Быков. — Был лекарь с медикаментами?
— Нет, не было. Вчера арестовали. Старушка сказала, будто с партизанами был связан.
— Ишь, бойкое какое местечко! — удовлетворенно произнес Быков. — Скажи-ка: староста, аптекарь... Нет, это все-таки не случайность, что-то в этом есть, какая-то связь...
— Ну, бабушка, хитрю, — продолжала Маша, на ходу развязывая зубами небольшой мешок, — какие тут партизаны? Сплетни одни. И про старосту сплетни небось? Нет, сердится, здесь недалеко с неделю назад пароход германский потопили.
— И что же? — нетерпеливо спросил Быков.
— Наши моряки, говорит, кто жив остался, выплыли и ушли в партизаны.
Быков с Ратниковым переглянулись.
— А кто их видел? — спрашиваю. — Да нешто увидишь в лесу-то, отвечает. Будто лекарь только один и видел, говорят. Ну, за это вчера его схватили...
Маша наконец развязала мешок.
— Вот, посмотрите, что я наменяла. Сальца, яичек десяток, хлеба два каравая, картошки молоденькой. А лекарства нету. Отвар вот есть зато, на лесных травах настоянный.
Что-то тревожное и вместе с тем обнадеживающее угадывал Ратников за Машиными словами. Значит, все-таки, не одни, кто-то здесь есть из своих, действует.
— Старушка добрая, — продолжала Маша. — Я сказала, что братик мой меньшой обжегся сильно, вот она и дала отвар. Как рукой, говорит, снимет. И юбку сатиновую еще дала: с лица-то, мол, красна, а с одежки боса. Негоже, носи.
— Что о фронте говорят? — Быков забрал у нее мешок, закинул за спину. — Не слыхала?
— Плохо, говорят, — вздохнула Маша. — Да и чего скажешь: ни радио, ни газет. Что слышат от немцев, то и говорят.
— А все-таки?
— Даже подумать боязно: Москву, мол, скоро возьмут.
— Ох, трепачи! — Быков даже присвистнул от изумления. — Ну народ! Да им до нее — семь верст до небес и всё лесом! — Он явно приободрился, повеселел, услышав от Маши, что и здесь люди знают о потопленном немецком транспорте. И еще он полагал, что не пустые слухи идут о партизанах-моряках: все больше появлялось у него уверенности в том, что часть ребят прорвалась у Волчьей балки и выходит теперь из окружения. Не все же до единого полегли... Как бы встретиться с ними? А то уйдут на восток — ищи ветра в поле. Конечно, уйдут, чего им здесь торчать? Так небось, пошумели мимоходом...
Прошли уже больше половины пути. Солнце стало уже скатываться потихоньку с полуденной макушки, пронзая раскаленными лучами светлый и чистый сосновый лес, весь пропитанный запахами хвои и теплой травы.
— Как придем, отваром Апполонову лицо протру, — сказала Маша. — Самогонки бабушка немного налила — рану промыть надо, перевязать. Боюсь я крови, товарищ командир.
— Кто же ее не боится, — ответил задумчиво Ратников. — Ее и надо бояться... — Всю дорогу он не переставал думать о создавшемся положении. Надо немедленно менять стоянку, уходить глубже в леса. Немцы, конечно, кинутся искать пропавшего солдата. Каратели вот пошли на хутор. Кто же им сообщил об убийстве старосты? У Ратникова появился даже дерзкий план захватить немецкий сторожевой катер, который базировался где-то за водохранилищем. Но он понимал, что это уж совсем сумасбродная мысль, и тут же отмахнулся от нее. — Ничего, перевяжешь. Ты вон к немцам в гости ходила и то не струсила, — подбодрил он Машу.
— Сердце чуть не оборвалось.
— Не оборвалось же. Стучит. — Ратников одобрительно посмотрел на нее. — Страшно, конечно. Но переборола же себя. Зато дело какое сделала!
— Продуктов-то наменяла?
— И продуктов. Но, главное, Маша, ты надежду нам принесла. Где-то в этих местах действуют наши люди. Разве это не надежда?
— Дай-то господи встретить их, — вздохнула Маша.
— Сами встретим, без господа.
— Жалко Апполонова, как же это его? — спросила Маша у Быкова.
— Это когда пароход топили. Наша работа! — не без гордости сказал Быков. — Апполонов едва из рубки выбрался — дверь заклинило. Катер горит, немцы из орудий расстреливают нас, вторая торпеда вот-вот рванет. Ну лицо ему и обожгло, в ногу ранило.
— Страх-то какой!
— А старушка тебе зря сказала: из уцелевших моряков в партизаны никто не ушел. Кроме нас с Апполоновым, никто не уцелел... Что с пленным делать, старшой? — помолчав, спросил Быков. — Не будешь же его за собой таскать... Черт его знает, может, и вправду безвредный фриц. Показания-то его совпали...
— Совпали, — сдержанно согласился Ратников, наливаясь яростью. — Если бы ты видел, как дружка моего, Панченко, танк заутюжил. Живого! — Слушая, как Быков рассказывал Маше о торпедной атаке, он невольно вспоминал и свой последний бой у реки, на плацдарме. — На моих глазах заутюжил!
— Понимаю: сам и нагляделся и натерпелся.
— А кто от них не натерпелся?! — зло продолжал Ратников. — Маша, может быть? Шкиперу даже перепало. — Он не мог, не решался рассказать им о своем, как он считал, непоправимом позоре, когда его, пленного, тащили на буксире за немецким танком. Только Тихону в концлагере и рассказал, но то случай особый... Нет, он знал: те минуты будет носить в себе до последнего вздоха, о них будет говорить вслух только оружием... И все-таки, несмотря на ярость, которая кипела в нем, Ратников и в эту минуту не смог бы поднять руку на безоружного, на этого пленного, ставшего для них обузой. Это стояло за пределами его понимания цены человека, его значимости, даже если он враг. Такое понятие исходило из самой сути восприятия жизни, жило в нем как нечто само собой разумеющееся. А между тем он убежден был: окажись сам в руках у фашистов, те не стали бы ломать голову над пустяковым для них вопросом... «Ну, хоть бы бежать кинулся, что ли, чертов фриц, — с досадой подумал, — тогда и прихлопнуть не грех. А так, что с ним, на самом деле, делать теперь?»
— Ночью, может, на хутор подадимся, — сказал Ратников, — возьмем его проводником. Машу с Апполоновым оставим, а сами — на хутор. Маша, не побоишься ночью остаться? — ласково спросил он.
— Останусь, останусь, раз надо, — говорила она, взглядывая на него, и в глазах у нее стоял полудетский, чистый, ничем не прикрытый страх перед той, должно быть, еще не наступившей неизвестностью, которая придет темной лесной ночью, когда она останется одна с раненым, полуслепым Апполоновым.
И Ратников, прочитав все, что было написано в это мгновение на ее незащищенном лице, в доверчивых глазах, пожалел, что не оставил Машу вместе со шкипером на барже и не ушел на шлюпке один. По крайней мере, думал он, не знал и никогда не узнал бы, что стало с ними дальше. Ведь сколько людей вот в эти самые минуты, часы мыкаются по свету со своим горем — тысячи и тысячи, наверно? — и он не знает о них. Так и здесь. Шкипер, черт с ним, у того дорога путаная, где, как она кончится, не его, Ратникова, забота. А вот Маша!
Быков торопил их, они шли скорым шагом, почти бежали. До места стоянки оставалось не больше полукилометра. Между побронзовевшими, облитыми солнцем стволами сосен уже стало проглядываться море, далекая застывшая его округлость четкой линией обозначалась у горизонта. Глухо куковала в глубине леса кукушка, и Ратников невольно прислушивался к ее голосу, считал, сколько же лет жизни она, эта лесная пророчица, отпустит ему на земле. Выходило много, после сорока он сбился со счета, но отвязаться совсем не мог, продолжал считать, загадав теперь на Машу и Быкова. «Ку-ку, ку-ку...» — долетало до слуха, и он прислушивался с еще большей напряженностью, словно и впрямь от кукушкиной прихоти зависело, сколько они еще проживут. Пустяк, казалось бы, так — лукавая народная примета, знакомая с детства, а вот, поди ж ты, посветлело на душе. И Ратников, сбившись опять со счета, сказал с улыбкой:
— Долго жить нам накуковала кукушка.
— Добрая попалась, — улыбнулась Маша. — Вот и шалаши наши показались. Дома, считай. Ноги совсем не идут. Что же это никого не видать?
Быков первым нырнул в шалаш, подивившись, что ни шкипера, ни немца не слышно. «Где же они?» — успел подумать и тут же как ошпаренный выскочил назад.
— Апполонов! — закричал он навстречу Ратникову и Маше. Лицо его перекосилось, нервно дернулся подбородок.
— Что, Апполонов? — бросился к нему Ратников, срывая с плеча автомат.
— Убили Апполонова, зарезали!
— Ты что, в уме?!
— Ох, — легонько охнула Маша и осела на траву, закрыв руками лицо. — Да что же это? Что же!
Апполонов лежал, как и прежде, на топчане из травы и березовых веток, обожженным лицом кверху, в вылинявшей грязной тельняшке. Только тельняшка от самой шеи до пояса была теперь темно-багровой от пропитавшей ее крови. Под подбородком горло будто провалилось, осело вглубь — такая глубокая и жуткая зияла рана. Видно, смерть он принял неожиданно, мгновенно — в распахнутых и теперь уже совсем ничего не видящих глазах застыли не испуг, не мучительная боль, а какое-то остекленевшее удивление: мол, да что же это такое?
— Шкипер! — выдохнул Ратников через силу, стискивая автомат задрожавшими руками. — С пленным вместе... Как же я... — Он чувствовал, что не вынесет больше этого взгляда мертвых глаз, торопливо укрыл березовыми ветками лицо и грудь Апполонова и, ничего не видя, согнувшись, выбрался на ощупь из шалаша.
— Боцман, догнать! Своими, вот этими руками... Догнать, слышишь? — Ратников понимал, что не то говорит, что нельзя уже догнать шкипера, сговорившегося с фашистом, неизвестно даже, в какую сторону ушли они и когда... Разумом понимал, а сердцем не мог понять. — Далеко уйти не могли...
— Рядом хотя бы осмотреть! — с ожесточением сказал Быков. Склонившись над Машей, он успокаивал ее, говорил какие-то ласковые слова, и голос у него дрожал, срывался. — Говорил тебе... Прошляпили! Что теперь, что?
— Но ведь хоть что-то в человеке должно человеческое остаться! — закричал Ратников, выходя совсем из себя. — Должно или нет, скажи?
— В человеке! — вскипел Быков. — Но в нем, в этом уголовнике, что ты увидел человеческого? Или в этом паршивом фрице?
— Как же я... доверился. Разве можно, ну разве можно было подумать?
— Слюни, старшой, детские слюни!
Ратников диковато посмотрел на него.
— Слюни, говоришь?
Маше показалось, что они кинутся сейчас друг на друга, перестреляются. Она вскочила, встала между ними, раскинув руки.
— Нет, нет, опомнитесь! — И, обхватив голову, кинулась с криком прочь.
— Вернись! — вдогонку ей прозвучал голос Ратникова. — Стой, говорю! — Но только шорох и треск кустарника доносились в ответ.
Затихло все на какое-то мгновение. Билась кровь в висках, стучал в соснах дятел, шумел прибой невдалеке, других звуков не было на земле, только эти, чистые и отчетливые до нереальности. Только эти звуки — никаких больше. Даже голос Быкова не расслышал Ратников, когда тот что-то сказал ему.
И вдруг будто разорвало криком лес:
— А-а-а! Сю-ю-да-а!
Ратников и Быков бросились на голос, срывая автоматы, не успев еще ни о чем подумать, ни о какой опасности, понимая только, что она зовет их, значит, что-то случилось с ней. Они увидели: Маша, загораживаясь руками, пятилась от куста, не спуская с него глаз, точно завороженная. И ужас метался у нее в глазах, когда они подбежали.
— Вон он, там, за кустом, — дрожащим голосом произнесла она, продолжая пятиться.
Шкипер лежал под кустом, на боку, точно спал, свернувшись калачиком. Ратникову бросился в глаза топорик, валявшийся у него за спиной. Он помнил этот легкий, удобный топорик: шкипер на всякий случай захватил его в шлюпку, когда бежали с баржи, потом рубили им ветки, когда ставили шалаш.
Удар пришелся шкиперу поперек правого плеча, ближе к шее, видно, нанесен был сзади и как-то наискось, будто топор скользнул по кости. Кровь на ране уже запеклась и на робе тоже, но еще немножко сочилась между пальцами левой руки, которой шкипер, видно, пытался зажать рану.
Ратников припал к его сердцу.
— Дышит! Тряпки, настой! — крикнул Маше. — Живо!
Молча, сосредоточенно они с Быковым обработали рану, перевязали, располосовав сатиновую юбку на куски, уложили шкипера на ветки.
— Живой пока, — вздохнул Ратников, утирая пот. И Маше: — Не плачь, возьми себя в руки. Значит, немец, этот слизняк...
Быков стал вдруг остервенело стаскивать с себя форму. Он не снимал, сдирал ее с гадливым отвращением, точно она нестерпимо жгла ему кожу, точно тело у него горело под ней. И рвал в клочья, исходя злобой, серое чужое сукно, затаптывал его в землю чужими сапогами, потом сбросил и их, остался босиком и в одном белье, рассматривая в руках автомат, будто впервые увидел.
Казалось, он вот-вот хватит его о дерево, разнесет вдребезги.
— Ну, наплясался, и будет, — сказал Ратников, хмуро наблюдавший за ним. — Автомат оставь, пригодится, от него иудским потом не несет: железо. — И аккуратно влил немножко самогона шкиперу в рот, заросший дремучей бородищей.
— Крови утекло много, — боязливо подойдя, сказала Маша. — Помрет, наверно.
— Пожалела? — зло бросил Быков, облачаясь в свою прежнюю одежду. — Кого жалеешь? За такие дела к стенке ставят!
— Обороты сбавь! — оборвал его Ратников. — Время нашел.
— Сниматься надо отсюда, старшой. Сейчас же.
— Надо. — Ратников положил шкиперу на лоб влажную тряпицу. — Испарина пошла, отойдет.
— Наверно, шум на селе этот гад поднял. Обработал их обоих, сначала шкипера, потом Апполонова — и на село, — предположил Быков. — С минуты на минуту жди гостей.
— Может, на хутор подался. Если в село, там не только про старосту заговорили бы.
— Похоже. Но как же он их, а? Ведь связал его шкипер.
— Теперь какая разница. Давайте уходить. Арифметика простая: слева — село, справа — хутор, перед нами — море. Дорога, выходит, одна.
— В леса надо уходить. Со шлюпкой-то как?
— Спрячем понадежней. Апполонова бы похоронить.
— Не тот час. Мертвому любой дом подходит.
— Нехорошо, человек ведь.
— Да они и Федосеева из могилы выковырнут. Ты же видишь, чего только один фашист наделал. Идиоты мы, старшой, свет таких не видывал: гадали, сомневались, как с ним быть? А он не гадал, не сомневался.
— Ладно, время идет, — виновато произнес Ратников. — Шалаши завалим, продукты, воду с собой. Носилки быстренько сварганим.
— На себе этого типа тащить? Ну, знаешь....
— Не ожесточайся, боцман. Так черт знает, до чего докатишься. Может, он и не виноват.
— Не районная прокуратура. Следствие, что ли, наводить будем? Оступились раз — хватит!
Ратников понимал, что Быкова лучше не сердить сейчас.
— Мы им, боцман, такой карнавал закатим! Мыслишка пришла мне кой-какая... Ну а теперь поторопимся. Апполонов простит нас. Вернемся сюда, и Федосеева перезахороним, поближе к лесу. Рядышком обоих положим: рядом воевали, рядом и положим.
— Собак не пустили бы следом, — обеспокоился Быков. — Тогда...
— Кукушка нам долгую жизнь накуковала...
К шкиперу понемногу возвращалась жизнь. Когда Ратников и Быков подошли к нему с готовыми носилками, сплетенными из веток, он лежал уже с полуоткрытыми глазами, хотя еще, видно, и не понимал происходящего. Маша сидела рядом, утирала ему лицо влажной тряпицей, причитала потихоньку:
— Сашка, Сашка, как же это ты, бедолага?
Но шкипер лежал, не видя ее и не слыша, смотрел не мигая на неподвижно застывшие кроны деревьев, точно наклеенные на синеватом фоне неба. Его осторожно уложили на носилки, с трудом подняли, даже березовые важины прогнулись, пружиня.
— Тяжелый, дьявол, — сердито бросил Быков, и они тронулись в лес.
Маша шла рядом, несла канистру с водой, заглядывая шкиперу в лицо. И он точно почувствовал на себе ее взгляд, как будто она разбудила его, слабо шевельнул губами:
— Воды... пить.
Ему дали немного воды, взгляд его слегка прояснился, видно было, что он пытается сообразить, что же с ним происходит. Потом, видимо, понял, что его куда-то несут, и беспокойством тронуло его лицо, и пальцы, темно-бурые от запекшейся крови, нетерпеливо зашевелились.
— Не надо, — захрипел он. — Положите.
— Лежи, пока несут! — не оборачиваясь, буркнул Быков. — Бросить бы тебя к чертовой матери.
— Перестань! — оборвал Ратников.
— Как же это тебя, Сашка? — всхлипывала Маша, шагая рядом с носилками.
— Чемодан с вами? — вдруг спросил шкипер и опять закрыл глаза.
— Нету чемодана, — спохватилась Маша, растерявшись.
— Вернись и возьми. У Апполонова в головах. Пропадете без него.
— Мертвый ведь Апполонов. Зарезанный. — Маша вся сжалась. — Я боюсь.
— Значит, и его...
Шкипер опять забылся, умолк.
— На тот свет идет, а все о барахле думает, — чертыхнулся Быков, когда они вошли в лес и опустили носилки.
— Надо забрать чемодан, — сказал Ратников, — дорого стоит, может пригодиться. Сходи-ка сам.
Быков нехотя ушел. Вернулся злой, покосился на шкипера.
— Поговорил бы я с тобой в другой раз. — И на вопросительный взгляд Ратникова сердито отмахнулся: — Ни черта там нет!
— И чемодан тоже... И Апполонова, и чемодан... — выдохнул шкипер, не открывая глаз.
— Куда немец ушел: на хутор или на село? — спросил Ратников осторожно.
Голова шкипера откинулась на сторону.
— Сзади, топором меня... и все.
Лесом идти было свободней, но пот катился с лиц Ратникова и Быкова — с каждым шагом, казалось, тяжелел шкипер. Наконец Ратников остановился.
— Все, шабаш! Далеко от моря уходить не стоит. Будет нужда — шлюпкой воспользуемся.
Они сидели около носилок на теплой траве, измученные переходом, восстанавливали потраченные силы, молча смотрели на шкипера. Он то ненадолго приходил в себя, то сознание у него опять проваливалось, губы беззвучно шевелились, — будто с кем-то и о чем-то говорил он, — и нервным тиком подергивалась щека, полуприжатая к разрубленному, замотанному тряпками плечу.
Маша не отходила от него ни на минуту, поила, смачивала лицо, протирала отваром плечо и рану по краям — знать, пробудилась в ней женская жалость к раненому, позабылось на это время все, что вынесла от этого человека, и все проклятья, которые слала ему за свои горькие обиды и унижения, отошли теперь в сторону. Наверное, такое свойственно лишь русской женщине, всегда готовой простить, разделить беду с человеком, которого еще вчера ненавидела за причиненные страдания и которого, быть может, возненавидит опять, когда беда пройдет, когда помощь ее уже не будет нужна, но сейчас, в трудную минуту, она не оставит его — не позволит ей это сделать сердобольность, чистота души и чуткое сердце...
— Вот мыслишка-то какая пришла мне, — сказал Ратников, отойдя с Быковым в сторону. — Если говорить напрямую, а кривить нам с тобой — без дела, всыпались мы порядком. Куда бы ни подался пленный фриц — о нас не позабудет.
— Значит, облава?
— Никуда не денешься. А я вот что думаю: не в молчанку нам играть надо, а в барабаны бить.
— Зачем же? — не понял Быков.
— В лес все равно не уйдем — затравят нас собаками, как зверей. А если наоборот — не уходить, а нападать? Прикинь-ка, боцман. — Ратников загадочно прищурился. — Челночная система! Только силы нужны для этого. Лосями нам надо стать. Послушай, вот он, челнок: вечером мы с тобой нападаем на село, кое-что делаем — дым там коромыслом, а мы тем временем на хутор, и там дым коромыслом. Для чего? Во-первых — действие, во-вторых — не могут нас наши не услышать, если они здесь есть.
— Да есть, старшой! Староста, аптекарь — ни с неба же все взялось, — загорелся Быков. — Сердцем чую!
— Вот он челнок: село — хутор, хутор — село. Значит, принято? Иначе крышка нам, боцман... Когда, говоришь, новый наряд к водохранилищу идет?
— Перед закатом почти.
— Поспеем?
— Если поспешим.
— Тогда по куску на дорогу — и на полные обороты. Маша за шкипером приглядит.
— Толковый ты парень, старшой, а вот мягкий, как девка. Только не сердись. Я бы этого шкипера... Ведь он все прошляпил...
— Чего спросишь с него сейчас... А жестокость никогда к добру не приводила. И не приведет.
— Справедливая жестокость приводит! — не согласился Быков. — Был бы пожестче, не влипли бы в эту историю. Может, берлогу нашу уже обкладывают... Хотел бы я поглядеть, как фашисты с тобой цацкаться станут.
— Ладно, — примирительно сказал Ратников, — пошли. Со шкипером потом разберемся.
Они взяли на дорогу по ломтю хлеба, с разомлевшим от духоты желтоватым салом, наказали Маше ждать на месте, сколько бы ни пришлось, проверили автоматы, попрощались с ней, пообещав возвратиться поскорее, и быстро скрылись в чаще.
Маша смотрела им вслед и потихоньку плакала.
Больше всего на свете она боялась одиночества. С самых детских лет, как только стала что-то понимать в этом огромном мире, чувствовать в нем себя, она, не зная сама почему, ни на минуту не хотела оставаться дома одна, ревмя ревела, стоило матери захлопнуть за собой дверь. И не было с ней никакого сладу. Мать, занятая постоянными хлопотами, хитрила, сажала в кроватку к Машеньке добрую кошку Мурку, и девочка уже не чувствовала себя одинокой. Ей было важно, чтобы рядом непременно находился кто-то живой.
На всю жизнь сохранился у нее страх от июльской грозы, заставшей их однажды с соседским мальчишкой Ванюшкой в лесу. Лет по двенадцать им было тогда, возвращались со станции лесной дорогой, — посылали их матери за баранками в магазин. Какой же радостью были те баранки, какой сладостью! Словно великаньими бусами, обвешавшись связками, всю обратную дорогу Маша с Ванюшкой шли, веселясь и уминая за обе щеки баранки, и были счастливы, как сказочные принц и принцесса, которые могут есть, что захотят и сколько захотят... Но в самой глубине леса, как наказание за эти счастливые минуты, налетела гроза. Разом все потемнело, неба не стало видно, только вверху, над самой головой, бесились раскаленные молнии, будто их высекало громом, дрожала земля и все кругом, а деревья шумели, мотали космами, и такой ливень хлынул, точно речка пролилась с неба. Потерялся в этом вздрагивающем, гудящем, вспыхивающем лесу Ванюшка, а может, Маша сама потерялась от него — в двух шагах не разобрать, не услышать ничего — и она упала вниз лицом в мокрую лесную траву и перестала дышать. «Мамонька, миленькая, спаси, помоги!» — шептала она, крепко зажмурив глаза, но слезы все равно выжимало наружу, и они текли по щекам, солоноватые, и дождь почему-то никак не мог их смыть. А Маша все лежала, прижимаясь к земле, и все билась худеньким, беззащитным тельцем... С того дня она стала легонько заикаться, а Ванюшка стал дразнить ее заикой, хотя и сам из лесу вернулся побледневшим от испуга.
Еще не раз она испытывала чувство страха, оставаясь одна, но оно уже становилось как бы облегченным, полуправдошным, потому что детство отступило, а пришла взрослость. В последний раз, месяца два назад, Маша опять почти обезумела от одиночества, хотя рядом и находились люди. Но она была одинока среди них, не знала, что делать, даже не кричала, просто испытывала какое-то дикое отупение, потому что оставалась одна во всем мире — рядом, под обломками дома, разрушенного фашистской бомбой, вместе с другими погибшими людьми была погребена ее мать. И никто не отрывал погибших, не пытался спасти, потому что в городишко уже входили с лязгом и грохотом фашистские танки...
И вот теперь вновь лесное одиночество, неизвестность.
— Пить... воды... — простонал слабым голосом шкипер.
Совсем позабыв о нем на какое-то время, уйдя в прошлое, Маша вздрогнула, подумав сразу же, что оно, это прошлое, только несколько позднее, связано и с ним, Сашкой, ее мужем или не мужем, — не понять и самой.
Маша напоила его, даже попыталась покормить немножко, но он сказал глазами, что есть не станет, не может. И вдруг она увидела, почувствовала в его обычно дерзких, прохладных глазах тихое смирение, что-то похожее на мольбу, и жалостью обдало ее сердце.
— Умираю, вот, Машка, — с трудом сглатывая слюну, произнес шкипер. — Все, туши лампу...
— Нет, нет! — встрепенулась Маша. — Ты поправишься, я выхожу тебя.
— Глупая... дурочка... Тебе задушить меня надо, а ты «выхожу».
— Забудь, не надо. Про все забудь.
— Сволочь я, Машка, знаю. Ты и не прощай меня, не надо. Не знаешь ты...
— Знаю, все знаю, — поторопилась успокоить его Маша.
— Я не про то, что ты знаешь... — На лице у шкипера скользнула чуть приметная улыбка. — Добрая ты, в церкви тебе молиться.
— Ничего не надо, не говори ничего, успокойся.
— Нет, слушай. Ведь я старшого уговаривал оставить тебя одну... На барже, в море. Одну бросить.
— Что ты, бредишь, что ли?
— А он — человек... Сегодня я понял, когда несли меня. Все слышал, понимал, а сказать не мог ничего, язык не шевелился. Прав Быков: к стенке меня за такое... Все завалил...
— Как же это ты?
— Овечкой этот гад прикинулся. «Гитлер капут» и всякая дребедень. Если выживу, да нет, не выживу... дай еще попить.
— Успокойся. Попей вот.
— Ты ведь знаешь, на каких только подлецов я не нагляделся. Но чтобы... живого человека топором. Развязал я его, как вы ушли. Доверился, дурак. Шалаш стал расширять, чего, думаю, зря ему сидеть... Ну, он меня сзади и ахнул. И все, ничего больше не помню. Выходит, пистолет, финку, чемодан — все, паскуда, прихватил. Апполонова... И Апполонова из-за меня. Как же теперь? — Шкипер нетерпеливо зашевелился, закрыл глаза. — Хорошо хоть сдохну, а то как жить... Они же меня на носилках несли, падаль такую... Мерзну, укрой. Плеча-то нет у меня, что ли? Боль одна, а место, вроде, пустое.
— Цело плечо, заживет, — говорила Маша, укрывая его. — Поправишься.
— Куда они ушли?
— На село. Шум, должно, теперь стоит по всему побережью: на хуторе старосту убили, да ты знаешь, и немец твой убежал.
— Мой немец, — в голосе шкипера горькая усмешка послышалась, — приведет карателей сюда.
— Оттого и в лес перешли, подальше.
— Найдут. Ты вот что, подложи-ка мне под руку этот топорик, а сама уходи.
— Куда? — с обидой и страхом вскрикнула Маша. — Куда я от тебя, такого?
— Куда хочешь. Только уходи поскорее. А топорик подложи, так им не дамся.
— Командир велел здесь ждать.
— Темнеет уже. Уходи, пропадешь со мной. — Шкипер стал путать слова, у него начинался бред и последнее, что Маша разобрала, было почти невнятное: — ...и за Курта прости... сволочь я, Машка, какая же я сволочь...
— Сашка! Погоди, Сашка! — закричала она, зажимая ладонью рот. — Не надо, слышишь, не надо!
Но возглас ее, напуганный, умоляющий, остался без ответа, и она упала на траву, прижимаясь к земле, как тогда в детстве во время грозы, словно искала у нее защиты. А земля уже помаленьку остывала от дневной жары, предвечерне угрюмела, готовясь к ночи, и в лесу становилось все сумрачней, потаенней, и сторожкая тишина стояла кругом.
6
Ратников и Быков добрались до тропы в том месте, где она спускалась по пологому склону к самому водохранилищу. Хорошо, точно вышли — глаз у Быкова верный. Лежали, затаившись в кустах, прислушиваясь, отдыхая после быстрой ходьбы. На деревянной вышке с другой стороны водоема все так же четко вырисовывалась фигура часового. Только теперь он не стоял неподвижно на месте, а нетерпеливо ходил из угла в угол: три-четыре шага вперед, столько же назад — видно, дожидался смены и стоять на посту ему смертельно надоело. Из караулки вышел еще немец, в майке, с полотенцем, подоткнутым за пояс. Что-то крикнул, смеясь, часовому, ополоснулся водой с настила, растерся до поясницы и юркнул назад, в дверь.
— Побрился, сокол ясный, — сказал Ратников, — потирая заросшие щетиной щеки и бороду. — Ну, ну. — И попытался представить себя после бани и парикмахерской — вымытым, стриженым, гладко выбритым, чуть спрыснутым одеколоном. Хмыкнул разочарованно.
— Ты чего это? — взглянул на него Быков.
— Так, немец, говорю, побрился.
— Эх, была у меня бритва, старшой. Отец еще с той германской войны привез.
— В плену, что ли, был?
— Помыкался... А бритва на катере утонула. Огонь была бритва!
Покойно было кругом, тихая вода, тихий лес, смотревшийся в зеркало водоема — все застыло в вечернем тускнеющем закате, и только чуть слышно проплескивалась вода, гладко стекавшая с низенькой плотины.
— А теперь вот что, — сказал Ратников. — Теперь начнем наш челнок, боцман: или мы их замотаем, или они нас.
— Я везучий. Оба мы везучие...
— Новый наряд здесь встретишь. Четверо их, говоришь? Значит, и там, в караулке, столько же. Подпусти на десяток шагов — и очередью. Мгновение! Чтобы не пикнул ни один. А я — к караулке. Услышу тебя — там ударю.
— До села метров триста. Мигом прибегут. Бой примем?
— Нет. Тихо и быстро уходить. Вот здесь как раз лосиное сердце и понадобится. Встречаемся сразу же вон у той поваленной сосны, видишь? И пять километров до стоянки — на полных оборотах.
— А хутор?
— Ночью одни дорогу не найдем. А утром и там устроим заваруху. Пускай думают, что две группы действуют. Надвое раздерем их. Есть наши поблизости — услышат, подойдут. А теперь главное — здесь дело сделать. И уйти.
— А если погоня?
— В сторону забирать будем, на стоянку наводить нельзя — погубим Машу со шкипером. В общем, по обстановке... — Ратников положил руку на плечо Быкову, приободряя и одновременно прощаясь, улыбнулся: — Ну, боцман, покажем, какие мы с тобой лоси. Зря, что ли, хлеб с салом дорогой ели, а?
— И кукушка не зря глотку драла, — засмеялся Быков. — Ну, пора тебе, а то скоро наряд притопает.
— Вот еще что: не жадничай, как повалишь эту четверку. Гранаты подвернутся под руку — не брезгуй. Но больше одного автомата не хватай: тяжело будет, замотает на полном ходу. Все, пошел я.
Через несколько минут Ратников уже лежал в густых зарослях кустарника, затаившись, наблюдая за караулкой и за часовым на вышке. Шагов двадцать было до него, не больше, и Ратников отчетливо видел его лицо, загорелое и упитанное. И вдруг со стороны тропы услышал короткую злую очередь, потом еще одну, чуть покороче первой. И все смолкло, будто показалось. Часовой на вышке заорал что-то пронзительным голосом, кинулся по лестнице вниз, как с детской горки покатился. Ратников расчетливо подхватил его на мушку, успев подумать, что вот наконец-то до настоящего дела руки дошли, и снял одиночным выстрелом.
Дверь караулки тут же распахнулась, и в проеме показался немец в нательной рубахе, с автоматом. «Тот, что умываться выходил после бритья, — признал Ратников, но стрелять не стал: другие там, внутри, отступят в глубину помещения, запрутся, выкури их тогда! Выждал мгновение (скользнул взглядом по свежему, выбритому подбородку), когда и другие, гомоня, вытолкнулись наружу, и, почти не целясь, с каким-то брезгливым ожесточением хлестанул по ним, всем сразу, беря чуть выше пояса. Пожалуй, этого, выбритого, он все же не разом уложил: выронив автомат, схватившись руками за живот, переломившись в поясе, тот шмыгнул в кусты. — Черт с тобой, подыхай там», — подумал Ратников.
Гранат у них не было, он пожалел об этом, подхватил автомат и бросился за деревья, туда, к поваленной сосне, где должен был ждать Быков.
— Порядок? — спросил впопыхах Ратников, когда они уже бежали рядом. У Быкова за спиной тоже висел трофейный автомат. — К берегу давай, наверняка кинутся искать в лес. Есть гранаты?
— Нету. А так порядок. Один, может, только не окочурился. Отполз. Ну, я по нему саданул короткой. Не знаю.
— Так и у меня. Ничего, пускай землю нашу понюхает напоследок.
Они и впрямь неслись лесом, как лоси, все удаляясь от водохранилища, забирая ближе к морю. Расчет у Ратникова был прост: «Нет, не могут немцы и подумать, что мы кинемся к открытой прибрежной полосе, которая к тому же, как показал пленный немец, контролировалась сторожевым катером. Не могут же они подумать, что мы сумасшедшие; в лес метнутся искать...»
— Собак бы только не пустили, — забеспокоился Быков, оглядываясь на бегу.
И, словно в ответ на его слова, над селом взмыла ракета.
Поздновато хватились: минут пятнадцать прошло. Ратников был доволен: почему-то фашисты замешкались. Но, конечно, легко уйти они не дадут. «Наверно, они как-то связывают это нападение с убийством старосты на хуторе, — подумалось ему, — не могут не связывать. Арестованный аптекарь, слухи о партизанах-моряках — да тут для них целый ворох загадок! Пускай помечутся, нам этого только и надо. Откликнутся же наши, если они здесь есть... Прав, прав Быков: только бы собак не пустили, остальное обойдется. Ну сколько их, в конце концов? На селе да на хуторе вместе человек пятьдесят, не больше. Считай минус восемь, которых мы только что...»
— Давай, старшой, давай! — поторапливал Быков. — Не слышно пока хвоста. А сработали ничего, дуплетом, а?
— Чисто, боцман. — Ратников и сам немножко удивился, как ловко и скоро им удалось все обделать. «Если бы немцы не чувствовали себя так вольготно, черта с два удалось бы, — размышлял он, ни на шаг не отставая от напористо бегущего Быкова. — А то как дома устроились, подлюки, как на курорт приехали».
Выбежали на невысокий, но крутой спуск к морю. Разом посветлело после леса от необъятной шири. Но вечер пришел уже и сюда — и здесь, на распахнутом просторе, стали сгущаться сумерки. Осыпая за собой комья земли, окутываясь клубами пыли, с ходу скатились вниз. До берега оставалось еще метров сто, но тут уже шел кустарник, и они бежали теперь сквозь него, словно обрезанные им по пояс. Ратникову не по себе стало от такой обнаженности, точно по открытому полю неслись: заметь их немцы сейчас из лесу, как зайцев снимут, проведут стрельбу как на учениях по движущимся мишеням. Так и хочется голову в плечи втянуть, будто они бронированные... Но вот и могила лейтенанта Федосеева показалась, значит, рядом и прежняя стоянка, а там надо левее забирать, опять в лес, и еще километра два до места.
Они на минутку приостановились чуть в стороне от разваленных шалашей, ближе к тому, в котором лежал заваленный ветками Апполонов.
— Ему уж ничего не нужно, — тихо сказал Ратников как бы в оправдание.
— Не пойму, почему немец никого не привел сюда, — Быков пожал плечами.
— Может, уж и приводил.
— Да нет вроде, все как есть.
— А если так: пришли, нас уже нет. И как приманку оставили: мол, может, клюнут. — Ратников замер на полуслове, прислушался. — Слышишь? Катер, кажется.
— Мотор работает. Давай ходу в лес.
Еще с четверть часа они бежали без передышки, потом пошли скорым шагом — оставалось недалеко до новой стоянки.
— Чемодан-то немец, может, не зря прихватил, — говорил на ходу Ратников. — Детишкам на молочишко в нем было. Черт их поймет: взял да и мотанул с ним. На всякую войну наплевал...
— Вряд ли: дисциплина у них железная.
— Ржавое железо. Со шкипером на барже охранники плавали. Знаешь, чем занимались? Воровством и спекуляцией — муку продавали. А тут — перед глазами блестит, хватай только...
— Шкипер тоже руки нагрел? Локти небось кусает: вор у вора дубинку упер.
— Если жив, может, и жалеет.
— По мне, лучше бы немец сразу его...
— Напрасно ты, — поморщился Ратников.
— За что ты защищаешь его, никак не пойму. Может, это я загубил все? Или ты?
— Да дался он мне, твой шкипер! — рассердился Ратников. — За что, спрашиваешь? Не его, сволочугу рыжую, жалею, — Машу!
Быков притих, шел молча, что-то, видимо, обдумывая, затем сумрачно произнес:
— Знаю, все равно Апполонов не выжил бы. Может, и лучше, что отмучился... А как простишь?..
— Будет об этом, — сказал Ратников. — О другом надо думать. Ракета над селом, катер в дозор вышел — услышали, значит, нас немцы. Это уж точно.
В лесу уже совсем стемнело. Сзади, за спиной было чуть серее — свет исходил от моря, и оттуда же все отчетливей доносилось шмелиное гудение двигателя; вдоль побережья шел сторожевой катер. Но Ратникова и Быкова теперь это не беспокоило — слишком далеко ушли они от берега, углубились в лес. Теперь, на ночь глядя, немцы вряд ли рискнут устраивать погоню. Усилят посты, охрану, приведут все в готовность, но ночью в лес не сунутся — слишком опасная это затея, да и безнадежная почти. А уж утром зато все кругом прочистят, ни кустика не пропустят.
Через несколько минут впереди, чуть слева, раздался легкий шорох и следом осторожный голос Маши:
— Товарищ командир! Это вы идете, товарищ командир?
— Мы, Машенька, мы, — ответил Ратников, обрадовавшись, что так удачно вышли к стоянке. Сказал счастливо Быкову: — Ну, боцман, тебе бы флагманским штурманом быть: надо же, как на маяк вывел.
— Я уже целую неделю в этих джунглях, — засмеялся устало Быков. — Освоился...
— Как вы здесь? — спросил Ратников, угадывая Машу в темноте и подходя к ней. — Что шкипер?
— Помирает. Знобит его, все укрыть просит. Костер бы.
— Нельзя костер, опасно.
— Нельзя, — согласилась она. — По-моему кто-то приходил на нашу прежнюю стоянку, к шалашам. Будто бы различала я голоса. И выстрелы я слышала, там, где село. Только тихие, как игрушечные.
— Это мы там немножко поработали. Где шкипер? Темнотища, ничего не разглядишь.
Маша подвела их к кусту, под которым лежал шкипер, укрытый тряпьем. Ратников склонился над ним, позвал потихоньку, но тот не отозвался.
— В беспамятстве, должно быть, — зябко произнесла Маша. — Холодно. Я уже все собрала, что можно, даже ноги ему травой завалила. Все потеплее.
Небо над лесом висело совсем черное, слитое с ночью. Ни единой звездочки не проглядывалось. Только время от времени вдали, над морем, появлялся расплывчатый луч прожектора, шарил в вышине, точно пытался отыскать что-то среди облаков, и опять пропадал.
— С катера прожектор, — заметил Быков. — Теперь до утра не угомонятся... А знаешь, старшой, все-таки немцы приходили на стоянку, — сказал он неожиданно.
— С чего ты взял? — насторожился Ратников.
— Лаз в шалаш вроде бы немножко расширен был. По-моему, они пошарили-пошарили поблизости и ушли.
— Чего же ты там молчал?
— Сомневался. Беспокойство не хотел вносить. А вот как Маша сказала, что голоса вроде слышала, так я сразу и понял: были. И еще одно точно понял: собак у них нет.
— Похоже, — раздумчиво согласился Ратников. — Так, за здорово живешь, не отцепятся, конечно...
— Господи, и так столько напастей, — с отчаянием проговорила Маша, — а тут еще дождик начинается.
— Это уж действительно ни к чему! — расстроился Быков. — Все шишки на голову. Черт те что!
Дождик поначалу легонько, как бы ощупью пошелестел в листве, потом зашумел настойчивей, сердитей. Пронесся по лесу ветер, раскачивая деревья, подвывая в намокших ветвях, сшибая с них опадающие ливнем холодные капли. Вскоре и ветер и дождь загудели плотнее, вместе набирая силу, точно взбесились, все стало тут же мокро, похолодало разом, и негде было укрыться, найти спасение от напористого, пронизывающего ветра, хлестких потоков дождя.
Шкипер лежал на носилках ничем не защищенный, и Ратников, сам вмиг промокший до нитки и озябший, представил, как по лицу его хлещут дождевые струи, ручейками стекает вода и обессиленное тело немеет под мокрым насквозь тряпьем.
В сплошной темноте ничего нельзя было разобрать, как ни приглядывайся, но и стоять так, без действия, без движения под холодным ливнем становилось нестерпимо.
— Маша, где топор? Давай скорее топор! — крикнул он, и когда она подала ему, он вздрогнул, ощутив скользкое топорище на ладони: «Вот им немец и ахнул шкипера...» И, обозлившись, бросил в темноту: — Боцман, надо навес, иначе закоченеем до утра. Как при всемирном потопе хлещет!
Кое-как, почти на ощупь, они соорудили нечто наподобие навеса, затащили под него шкипера, залезли сами, дрожа от холода, тесно прижавшись друг к другу. Но капли стали тут же просачиваться, падать сверху все чаще и чаще, потом сразу в нескольких местах полило, и Ратников стянул с себя прилипшую, отяжелевшую рубашку и укрыл шкипера. Он чувствовал ладонями, как вздрагивают Машины плечи, — она приткнулась к нему, словно ребенок, ищущий защиты, — растирал их, стараясь угреть, и этими движениями обогревался и сам.
— В такой ливень немцы не сунутся на поиски, — сказал Быков. — Так что объявляется отбой, всем отойти ко сну. — Пошутил: — Только перекройте, пожалуйста, душ.
Ратников понял: Быков сказал это для Маши, чтобы хоть об этом не беспокоилась она, и был ему благодарен за такую заботу.
— До отбоя полагается вечерний чай, — в тон ему пошутил Ратников. Достал из мешка еду, на ощупь влил шкиперу в рот глоток самогона, Машу заставил капельку отглотнуть, понемножку приложились и с Быковым. Разломил хлеб, сало топором тронуть не решился, но больше разрезать было нечем, и он рвал его на части пальцами.
Так они сидели, прижавшись мокрыми телами, отдавая друг другу тепло и молча прислушиваясь к шуму дождя и леса, ели раскисший хлеб с салом. Казалось, не будет конца этой долгой ненастной ночи и солнце уже никогда больше не взойдет и не нагреет насквозь продрогшую землю.
— Не выберемся мы отсюда, — всхлипнула тихонько Маша. — Немцы кругом... и этот холод. Не выберемся, товарищ командир, пропадем.
Ратников почувствовал, как она еще доверчивей прильнула к нему, точно эта гибель уже подступала к ней, и, чтобы хоть как-то успокоить ее, ободрить, сказал:
— Ничего, Машенька, выкрутимся. Я в такой переплет попал недавно, и сейчас не пойму, как вывернулся. Но вот живой же, даже не раненный ни разу. А с танками сойтись пришлось — не с этими курортниками. И ничего. — Ратников, успокаивая ее, убаюкивая чуть раскачивающимися движениями, и сам не заметил, как стал рассказывать о себе. Он как бы заново переживал те недолгие часы, когда удерживал плацдарм со своими ребятами, их гибель и гибель Панченко, те самые горькие минуты, когда его тащили за танком со связанными руками, а потом, точно сквозь строй, прогнали через толпу гогочущих немцев, высыпавших поглумиться над ним... — А потом — плен, концлагерь, ну и ваша баржа-спасительница, — заключил он. — Но ведь выкрутился.
— Страх-то какой! — ужаснулась Маша. — Как же такое можно вынести? — Но голос у нее был уже полусонный, покойный, и Ратников, усыпляя ее совсем, обнадеживающе произнес:
— А уж отсюда вырвемся, не беспокойся. Вот солнышко, выйдет утром, обогреемся, дело пойдет.
Шумел, понемножку обессилевая, дождь, скатывались с навеса холодные капли. Ветер притих уже, не буянил в ночном лесу. Тихо стонал шкипер в полубреду. Они, трое, сидели на промокшей насквозь земле, отогревая друг друга собой и дыханием. Наконец задремали и уснули, когда дождь уже совсем перестал и на иссиня-черном небе стали проглядываться поздние звезды.
Разбудили их еще не созревшие, чуть теплые лучи солнца, которые неожиданно ярко пробились после такой холодной ливневой ночи. И это казалось чудом, предвестником доброго дня, удачи.
Быков первым ощутил на лице тепло, открыл глаза, удивленно огляделся, точно не веря увиденному, и, передернувшись от озноба, судорожно зевая, удивленным голосом произнес:
— Подъем! Глядите, солнца-то сколько!
Лес ожил. Радуясь солнечному утру и теплу, заливались птицы, птичий гомон стоял кругом, на листьях, траве сияли, вспыхивали, переливаясь, капли росы. Все оставалось еще мокрым от ночного дождя, но уже пригрелось на солнышке и дышало парным теплом.
— А я, представляете, дома побывал! — весело говорил Быков, с удовольствием разминаясь, приседая, горяча иззябшее тело. — Во сон! Заходим это мы с Апполоновым ко мне, жена с сынишкой в комнате. А мы грязные, драные, как черти, ну вот как сейчас, даже пройти неловко — наследим. И жена не может почему-то идти, как к полу прибитая. А сынишка — полгода ему, ходить еще не может — бежит ко мне и ручонкой гладит по щеке меня. А другой Апполонова. Проснулся: солнышко щеку-то пригрело. Надо же, дома побывал! — не переставал радоваться Быков. — Ну, теперь вроде и легче!
Ратников и Маша молча смотрели на него, разбирая навес. Быкову и в голову не пришло, что своей радостью он не порадовал их, не мог порадовать. Не подумал как-то, что нет у них ни дома, ни семьи, ни родных, никого и ничего нет на всем свете, что чем оба они живы и богаты сейчас — все при них, с ними в этом чужом лесу.
— Ну, побывал — и хорошо, — угрюмо сказал Ратников. — Часов восемь уже, перебрали со сном. — Поднял свою рубашку, которой укрывал шкипера, выжал ее, повесил на сук. — Теперь так теплее ему, на солнышке.
Шкипер зашевелился, застонал. Маша кинулась к нему.
— Сашка, Сашка, слышишь меня?
Ратников дал ему глоток самогона.
— Ну как, живой? Так, еще чуточку глотни. Вот и хорошо. Это как в топку угля подбросить, живо раскочегарит.
Шкипер совсем пришел в себя. Мокрое тряпье на нем парило под солнечным теплом. Маша разбросала его, развесила на кустах. Напоила шкипера, и он даже немного поел, молча наблюдая, как Ратников и Быков собираются в дорогу, проверяют автоматы.
— Дожидайтесь нас здесь, — сказал Ратников Маше. — Что бы ни случилось, мы придем за вами. Мы вернемся. Ты поняла, Маша? — Последнее он сказал скорее для ее успокоения, потому что и так было ясно: куда же она денется с умирающим шкипером? Но его тревожило и другое: немцы обязательно начнут облаву, может, уже и начали, могут наткнуться на Машу и шкипера. Сами они с Быковым кое-чего стоят, а вот ребятам деться некуда. Оставалось надеяться на счастливую случайность: может, все-таки не найдут? Но тут уж, Ратников знал, себя хочется обмануть, а это никуда не годится. Правда, была и еще одна надежда: на хуторе они устроят шумиху — немцы кинутся туда. Тогда надо уходить к селу, дать короткий бой там. И опять быстро уходить. Что будет дальше, он и сам не представлял. Только сказал не очень уверенно: — Если, случаем, наши из леса подойдут на шумок, уходите с ними, мы догоним...
— А есть такие? — безнадежно спросил шкипер.
— Должны быть.
— Поработали вы вчера с Быковым, вижу, — сказал шкипер. — Оставь автомат. Вам трех хватит.
— Лежи спокойно, — нагнулся Ратников, видя, что шкипер пытается приподнять голову.
— На всякий случай оставь, старшой. Прислони спиной к сосне, лежать не могу.
Его осторожно подтащили к дереву, устроили поудобнее, полулежа, подложив под голову и спину набитый свежей, пахучей травой мешок. Ратников положил рядом, под руку ему, автомат и ободряюще кивнул:
— Порядок, все будет как надо.
— А я вот... все, кранты.
— Вытянешь, держись.
Почему-то Ратников вдруг почувствовал неладное, тревогой обдало сердце, щемящая тоска подкатила под самое горло, но он все же сумел улыбнуться Маше, и она ответила ему тоже улыбкой. Легонько тронул ее на прощание за плечо.
— Ну, мы пошли.
Отыскать хутор оказалось непросто. Ратников и Быков долго плутали по лесу, останавливались, прислушивались, пытались уловить запахи жилья. Даже выходили к побережью, значительно западнее прежней своей стоянки. Но все точно вымерло в округе. И только уже за полдень набрели на большое картофельное поле на опушке леса. С самого края картофель был подкопан, валялась вырванная ботва, мелкие клубни, но дальше стоял густым, нетронутым, знать, дозревал последние дни.
Солнце опять пекло по-летнему жарко, даже не верилось, что ночью прошел такой холодный ливень и пришлось дрожать под навесом. На дальней стороне поле сразу примыкало к лесу, вроде обрывалось — похоже, отсекалось оврагом или неказистой лесной речушкой. И в самом деле, когда Ратников и Быков обогнули поле лесной обочиной, перед ними открылся длинный, глухой овраг, заросший кустарником и крапивой. На дальнем конце его, в широком раскрыве они и увидели хутор — десятка полтора дворов, стоявших без всякого порядка, вразброс. Какие-то люди — отсюда и не разглядеть — сновали возле домов, перебегали, сбивались кучками, и в этом торопливом, беспорядочном движении угадывалась встревоженность.
— Что-то там происходит, — сказал Ратников. — Давай оврагом.
Дремучий был овраг, непролазный, сыростью и гнилью несло снизу, как из зацветшего старого колодца, и пока они перебрались на другой край, прошло, должно быть, не менее получаса. Отсюда до хутора оставалось метров двести. Через скошенное поле хорошо стало видно, как десятка полтора немецких солдат сгоняли людей к ближнему дому.
— Эх, самое время подобраться и ударить! — сказал Быков. — Такой тарарам стоит, ни черта не разберешь. Под шумок и чесануть, а?
— Зачем же людей сгоняют? — пытался догадаться Ратников.
— На торжественный митинг! — сдерживаясь, зло ответил Быков. — Вишь, сколько фрицев? Из села подкинули. Выходит, нужда есть.
— Место открытое. Полем придется ползти. А отсюда опасно бить: своих заденешь.
— Давай, старшой. Момент — лучше не придумаешь. Поздно будет!
Горячность Быкова передалась и Ратникову, да и видел он: момент действительно подходящий.
— Отходить придется — тогда сюда, к оврагу.
— Не придется, старшой. Пошли!
Они уж поднялись было из зарослей, как кусты левее, метрах в двадцати вдруг ожили и над ними показалось бородатое лицо старика. Он повертел головой, настороженно осматриваясь, из-под ладони глянул в сторону хутора.
— Эй, дядя! — тихонько окликнул Ратников. — Хуторской, что ли? А ну, топай сюда.
Старик остолбенел.
— Давай, давай, не бойся. Да голову-то пригни, пулей проткнут.
Старик оказался не один, с ним был еще мужичонка, пощуплее, одноглазый.
— С хутора? — спросил Ратников, когда они, остерегаясь, подошли.
— Аж из самой Москвы, — с хитроватой ухмылкой ответил старик. — А вы чьи будете?
— У нас автоматы, у вас — колье, вам первым и отвечать.
— Резон, — заметил одноглазый. — Ну, спрашивай в таком разе.
— Что на хуторе? За старосту, что ли?
— За него, поганца. Из села карателей подослали.
— Кто его шлепнул?
— Может, и вы, кто вас знает, — поосторожничал старик. — Народ, гляжу, нездешний.
— Не хитри, батя, времени нет.
— А может, партизаны. Кто знает?
— А есть они здесь? Видел сам? — нетерпеливо спросил Быков.
— Сам не видал, а слухи ползут. Говорят, с неделю назад бой тут недалеко был, на море. Наши германский пароход утопили. И сами вроде подорвались. Кой-кто выплыл, будто партизанят теперь.
— Не вы, случаем? — спросил осторожно одноглазый.
— Может, и мы, — в тон старику ответил Ратников. — Вы скажите, кто старосту шлепнул? Сопоставить все надо, для ясности. Понимаете?
— Хуже фрицев поганых этот староста был, житья не давал, — заговорил одноглазый. — Еще в тридцатом году при раскулачивании на ножах с ним сходились... А немцы пришли — он и кум королю. Показал опять кулацкие клыки. Ну, мы с Устином и решились... А теперь со вчерашнего вечера в овраге вот. Ливень-то ночью прошел какой.
— Прошел. — Ратников поежился, вспомнив прошедшую ночь. — А каратели что?
— Вчерась еще явились. Да дело нашлось поважнее — не до нас было.
— Какое же?
— Посыльного утром послали с сообщением о старосте-то: связи с селом на хуторе нету. Хотели было мы его перехватить, да не поспели.
— Чудаки вы, честное слово! — покачал головой Ратников. — Вы что же, вдвоем воевать собрались? С кольями?
— А что станешь делать? — вздохнул одноглазый. — Припрет, с кулаками полезешь.
— Посыльный-то за полдень вернулся на хутор, не дошел до села, — пояснил Устин. — Вроде, партизаны перехватили. Говорят, убег от них.
— От нас бы не убег! — убежденно сказал одноглазый. — Каратели все же явились, как-то пронюхали. Базарный день вчерась был, молва, должно, докатилась. Ну, сунулись искать партизан, немец-то, что от них сбег, указал место, да уж там, слава богу, никого, только мертвый моряк в шалаше будто. Не из ваших?
— Ну, такая вышла завязка, — подхватил Устин, — тут рот не разевай. В одночасье свернулись мы с Егором — и в лес. Может, гадаем, партизан встретим.
— Про полуостров ничего не слыхали? — спросил Быков. — Моряки там у Волчьей балки прорвались. А?
— Э-э, милый, до него, до твово полуострова, больше ста верст сушей. Глушь-то какая, разве услышишь...
— Вот что, мужики. — Ратников помолчал, сопоставляя услышанное от них с тем, что произошло за последнюю неделю, за последние сутки и здесь, на побережье, и с горечью понял, что никаких партизан-моряков в этих краях нет и не могло быть. Кроме них самих. Судя по всему, об этом думал в эту минуту и сразу же помрачневший Быков. Значит, рассуждал Ратников, рассчитывать надо только на себя. — Вот что, мужики, — сказал он, внимательно оглядывая их. — Я понимаю так: возврата вам на хутор нет, и дорога у вас одна — к партизанам.
— Нету, нету другой дороги, товарищ! — заволновался одноглазый Егор. — Укажи ее, подмогни.
— А что Устин скажет?
— Что ж, тут куда ни кинь — везде клин.
— Тогда так, — у Ратникова моментально созрел план, он тут же стал прикидывать, насколько возможно его осуществить, но четкого ответа не было, да сразу и не могло быть. Ясно было пока только главное — тут не оставалось никаких сомнений. — Места вам знакомые. Хуторов много здесь?
— Есть маленько. Раскиданы верст на десять — пятнадцать друг от дружки. Ну и еще кроме Семеновского три больших села в округе.
— А у Семеновского вчерашним вечером не ваши, случаем, пошумели? — спросил Егор. — Слушок докатился, будто немцев там пощипали малость.
— Наши, — Ратников переглянулся с Быковым.
— Выходит, силенки есть? — Устин, приободрившись, посмотрел на него. — Значит, вы из тех, что пароход потопили?
— Значит, так, батя, — ответил Быков.
— Много вас? — Егор одобрительно поглядывал единственным глазом на трофейные автоматы в руках Ратникова и Быкова, кивнул на тот, третий, что висел еще у Быкова за спиной: — Не одолжите ненароком? Все одно лишний.
— С этим пока погоди, — остановил его Ратников. — Будет и оружие, все будет.
— Пиши в свой отряд! — твердо сказал Егор. — Пиши и к делу пристраивай.
— А дело вот какое. На хуторе вас уже хватились. Видите, какой аврал там идет? Может, это и лучше: немцы поняли, что старосту ухлопали вы, других не станут карать. А вас — ищи-свищи.
— Станут, — тяжело вздохнул Устин. — Пойди мы сейчас с Егором, дайся им в руки — все одно станут.
— Дело сделано — не поправишь, — сказал Ратников. — Уходите подальше от побережья, в глушь, надежное место подберите. Есть на примете?
— Лучше Соленого озера не подобрать, — сразу же определил Егор. — Зверь не проползет, такая чащоба. Верст двенадцать отсюда.
— Вот и хорошо. Идите туда и умно так, не нахрапом, дайте знать на хутора, что, мол, партизанский отряд есть, действует уже. Кто не может неволю терпеть, лютый на немца, кто за нашу власть советскую сражаться хочет, пускай идет к нам, на Соленое. Поняли?
— Чего ж не понять? — согласился Устин. — Только ничего ведь нету. А людям что говорить: какой отряд, кто командир? Спросят ведь.
— Спросят, — подтвердил Ратников. — Отряд, говорите, небольшой пока, будет расти, оружия, сами видите, немного есть. Еще добудем. Укрепимся, наберем силу, с Большой землей связь наладим. Оттуда помогут. А главное, фрицев лупить здесь, в тылу будем, чтобы под ногами у них горело.
— Святое дело толкуешь. Ну, а командир-то кто?
— Скажешь: командир отряда — моряк, по кличке «Старшой», — ответил Быков, взглянув на Ратникова.
— Это ты, что ли? Или он?
— Там разберемся. Скажи-ка, как до этого Соленого добраться?
— От моря ровнехонько на север, — пояснил Егор. — Вот оврагом вглубь, выйдете из него и не сворачивай, напропалую дуй. Отщелкаете двенадцать верст — и дома. Большое озеро, богатое, вода только малость солоноватая, оттого и прозвище — Соленое.
— Вот и условились обо всем, — сказал Ратников. — Прямо сейчас и идите. Только осторожнее: немцы из Семеновского облаву наверняка выслали — не напоритесь. Вчера мы их потревожили — искать будут.
— Когда сами-то на озеро явитесь?
— Завтра, должно. Приведем кой-кого еще из наших.
— Вот и добре. Свистните трижды, встретим.
— Ну, счастливо, мужики. Идите, народ поднимайте. Скоро увидимся.
— И то пора. Не ровен час, — заторопился Устин.
Оба они тепло и с надеждой пожали руки Ратникову с Быковым, попросили особо не задерживаться. Егор с завистью посмотрел еще раз на лишний автомат за спиной у Быкова, и они, поклонившись в сторону хутора, неслышно скрылись в зарослях.
— Значит, мы и есть партизаны, старшой, в этих краях? — сказал Быков, наблюдая за хутором.
— Значит, мы, боцман. Пока, выходит, одни. А раз так, план наш меняется. — Ратников тоже не отрывал глаз от хутора. — Наших здесь нет, и нет смысла нам метаться между хутором и селом: кроме немцев, никто нас не слышит. По-моему, надо уходить на Соленое озеро, сколачивать отряд. Мужики поддержат. Хорошее дело, боцман, затеять можно. С размахом.
— Есть смысл, — согласился Быков. — А с хутором как? Уйти, что ли, бросить все? Они же сами на мушку просятся. Поле голое перед нами, полезут — хорошая встреча произойдет.
— И все-таки лучше уйти незаметно, — с сожалением вздохнул Ратников. — Сядут на хвост, не уйдешь. Если бы налегке, еще ведь Маша со шкипером.
С хутора между тем доносились тревожные женские голоса.
Немцы с автоматами на изготовку охватывали кольцом толпу.
— Кажется, пожар затевают, — сказал Быков. — Гляди!
К ближней хате под соломенной крышей, отделившись от кольца автоматчиков, не спеша направился солдат с факелом в руке. Толпа, словно бы еще не веря в происходящее, замерев, следила за ним. Отсюда пламя было едва приметно в ярком солнечном свете. Солдату оставалось не больше десяти шагов. Толпа опять заволновалась, заголосила.
— Что делают, а? — взвинтился Быков. — Нет, ты видишь, что эти сволочи хотят сделать!
И вдруг сзади затрещали кусты, раздался за спиной приглушенный выкрик Устина:
— Милые, родные, не дайте! Снимите паразита!
Устин подбежал, упал рядом с Быковым, взмолился:
— Вовек не забуду! Кровная хата... Не дай запалить, не дай!
— Ты что, старик, очумел? — обернулся Ратников. — Засекут, все пропадем!
— Сними, сними поджигателя. До смерти не забуду! — не слушая его, умолял Устин.
Быков почувствовал, как загудело в голове от напряжения. Он слышал голос Ратникова, но не понимал, что тот говорит, хотя ясно различал все от слова до слова. Он еще не знал, не решил, что станет делать, а палец уже сам лег на спуск.
— Сынок! Христом богом молю, — теребил Устин. — Стрельни! Запалит сейчас, пропадет хата.
— Уходи, старик! Уходи, слышишь?
— Да это ж все одно что кровь живую пустить. На колени встану: не дай!
«Нельзя же, нельзя стрелять!» — лихорадочно думал Быков, а сам целился в факельщика. Тому оставалось три-четыре шага. Через поле долетали пронзительные, истошные голоса женщин. Быков краем глаза уловил страдальческий, нетерпеливый взгляд Устина, прошептал:
— Нельзя, понимаешь! — И рванул спусковой крючок.
Прозвучал выстрел. Ратникову показалось, будто из корабельного орудия ударили. Солдат с факелом замер, точно споткнувшись обо что-то, попятился назад, к толпе и, неуклюже взмахнув руками, опрокинулся навзничь. К нему кинулись двое.
— Теперь один черт! — обозлившись, крикнул Ратников. — Давай!
Они ударили оба. Но было непонятно: то ли немцы успели залечь, то ли пули достали их. Резкая автоматная очередь прострекотала в ответ. Толпа с криками рассеялась, хутор мигом опустел.
— Выручил, родной! Какое же спасибо тебе сказать? — ликовал Устин, благодаря Быкова. — Поклон хоть низкий прими.
— Какого черта! Зачем вы вернулись?! — Быков обжег его таким взглядом, что старик отшатнулся.
— Оглянулись, а он с факелом... К моей хате, — оправдывался Устин. — Да нешто можно...
— Все равно сожгут!
— Знамо дело, — растерянно согласился Устин. — Да ведь на глазах-то. Разве стерпишь: сколько сил в нее вложено.
— А твоя хата которая? — сдерживаясь, спросил Быков у Егора. — Может, и твою...
— Следом стоит, соседи мы, — виновато ответил Егор. — Соседями жили, соседями сгорим, соседями, может, и в землю ляжем. Не гневись.
— Вот что, мужики, — с досадой произнес Ратников. — Бестолково вышло, да сделанного не поправишь. — И уже тоном приказа произнес: — Все! Жмите во всю на Соленое. Мы, как и условились, завтра придем. А сейчас, — кивнул на уже появившихся за огородами немцев, — эти курортники сюда полезут. Жарко будет. Прикроем вас. Ну, счастливо!
— А может, нам того, с вами? — засомневался Егор.
— Идите!
— Ну, значит, до завтраго, — виновато-покорно кивнули мужики и тут же скрылись — лишь кустарник ворохнулся следом.
— Чепуха получилась, боцман, — сердито сказал Ратников, зорко следя за полем. — Один черт хутор спалят. Как же ты?
— Будто не я выстрелил, — оправдывался Быков. — Не соображал ничего.
— Ну, теперь осталось одно, другого нет: дадим бой сейчас, хороший бой! А потом — на стоянку. Заберем Машу со шкипером — и к Соленому озеру.
— Принято, старшой. Ты уж прости, погорячился я... Ишь как крадутся, согнулись в три погибели и перебежками. Ну, идите, идите. — Быков нетерпеливо заерзал, прилаживаясь поудобнее. — Метров восемьдесят осталось. Пора. А то повернут назад — подумают, никого здесь нет. Упустим.
— Не повернут, — отозвался Ратников. — Никуда теперь не денутся. Тринадцать гавриков лезут. Сосчитал?
— Число интересное... Может, не дадим хутор спалить — теперь чего уж там. А, старшой? Пора, пожалуй.
Ратников не отрывал глаз от поля. Оно было совершенно открытым, без единой копешки, и он слегка волновался от предчувствия удачного боя. Почему-то ему хотелось непременно разглядеть среди наступавших гитлеровцев того, которого взяли в плен вчерашним утром. И первую пулю всадить в него. Он уже довольно четко различал лица солдат, но того так и не приметил. «Черт с ними! Все они на одно лицо!» — подумал, закипая от ненависти. И выждав, когда передняя цепочка оказалась метрах в тридцати, возбужденно сказал Быкову:
— Вот теперь, боцман, самая пора. Огонь!
7
Уже. с четверть часа Маша слышала глуховатый, дробный перестук автоматных очередей. Они доносились с той стороны, куда ушли утром Ратников и Быков. Потом выстрелы затихли, тишина повисла над чистым, пронизанным солнечными снопами лесом, но она не успокаивала, напротив, пугала своей немотой, неизвестностью, будто затаилась, чтобы в любой миг обернуться бедой. Нет, никак Маша не умела выносить одиночества и, наверное, никогда уж, всю жизнь не привыкнуть к нему. Что кроется за этим солнечным безмолвием? Что означают эти выстрелы и это внезапное молчание?
— Сашка, Сашка, я не могу! — вскрикнула она, опустившись рядом со шкипером. — Что там с ними?
Шкипер лежал, привалившись головой к сосне, неуклюже прилаживал автомат правой рукой. Левая отказала совсем, и он лишь беспомощно шевелил пальцами.
В это мгновение совсем недалеко прозвучала новая очередь, послышались неясные голоса. И опять все смолкло.
— Беги, Машка! — прохрипел шкипер. — Туда беги, в глушь.
— Я не могу одна! — взмолилась Маша, с болью и страхом глядя на него. — Куда же я без вас?
— Беги, скорей! Пропадешь! — прохрипел он опять. — Ну!
Боясь выстрелов, которые вновь раздались неподалеку, боясь Сашкиного голоса и страшного его взгляда, Маша кинулась в чащу, ничего не помня, не соображая от надвинувшейся вдруг безысходности. Ей даже на ум не приходило, как же это она одна, без них, будет спасаться и для чего. Она бежала, не понимая, зачем это делает, а когда неожиданно поняла, что убегает от них, оставляя их в беде одних, остановилась: будь что будет! Теперь ей стало все безразлично. Выстрелы, крики уже не пугали — все это вроде уже не имело к ней самой отношения, и она в отчаянии бросилась назад, боясь только одного — опоздать.
Ратников и Быков чуть не наткнулись на нее. Она не могла, не хотела в эту минуту понимать, что произошло, знала лишь, чувствовала, что случилась беда, и как только увидела их, у нее сразу же отлегло от сердца: раз они рядом, значит, все хорошо, все будет как надо.
— Маша, беги в глушь! — крикнул Ратников. Левый рукав у него был весь в крови. — Нас преследуют. К Соленому озеру беги, там партизаны. Скорей!
Она не поняла его слов, ей стало просто легко и счастливо от того, что они опять рядом и не прогонят ее, как Сашка, и она опять будет с ними. Но почему у командира весь рукав в крови? И зачем он, добрый и заботливый человек, так на нее кричит? Разве она сделала что-то не так, не по его?
— Ты что, не в себе? — Ратников больно тряхнул ее за руку, повернул лицом к лесной глуши. — Туда беги, Маша, туда. Немцы рядом! К Соленому озеру беги, там найдешь партизан...
— Я не могу одна. И Сашка там. Вон он, рядом.
— Беги, тебе говорю! Мы следом. Заберем Сашку — и следом!
В это время из глубины леса ударили выстрелы, и почти одновременно — справа.
— Все, боцман, обложили! — торопливо осматриваясь, сказал Ратников. — Из села подошли, сволочи. К озеру не пробиться теперь! — Он с силой подтолкнул Машу к ближайшему кустарнику, буквально затолкал ее в самую гущу. — Не дыши, слышишь?!
— К морю давай, старшой! — крикнул Быков, и оба они бросились вниз, в сторону побережья.
Маша видела: на какое-то мгновение Ратников за: держался возле Сашки, бросил на него охапку веток, что-то второпях сказал ему. Потом она еще несколько секунд различала, как Ратников и Быков мелькали за деревьями, удаляясь, но вскоре потеряла их из виду.
Выстрелы раздавались теперь с трех сторон, и только оттуда, куда побежали Ратников и Быков, не стреляли. Маша пришла наконец в себя, сжалась от страха, затаилась в гуще кустарника.
Совсем рядом, в нескольких метрах от нее, послышались чужие торопливые голоса, топот ног, плеснула автоматная очередь. Кто-то крикнул гортанно и властно, мимо замелькали солдаты в сером, забухали сапожищи по непросохшей еще земле.
«Туда понеслись, за ними, — с ужасом подумала Маша. — Что же теперь будет, господи!»
И вдруг сквозь густые сплетения кустарника Маша увидела Сашку. Не его даже увидела, а лишь то, как шевельнулись ветки, которыми на бегу прикрыл его Ратников. Маша чуть было не закричала, чтобы Сашка не шевелился — может, пробегут немцы мимо, не заметят. Но Сашка, к ее ужасу, сбросил с себя ветки и выпустил очередь навстречу подбегавшим немцам. У него не хватило сил поднять автомат: пули взрывали землю почти у самых ног. И все же каким-то чудом, на одно лишь мгновение он сумел приподнять автомат, и еще одна очередь прошлась верхом, сшибая ветки с деревьев, и они опадали тут же, рядом, словно пытались укрыть его собой. Затем Сашкина рука обессилела, откинулась на сторону.
И только теперь Маша обмерла от неожиданной догадки: «Ведь он же впустую стреляет, даже не видит куда — лишь бы задержать немцев...» — И жаркой благодарностью плеснулась у нее в сердце кровь.
При первых же выстрелах немцы будто на невидимую стену наткнулись, бросились, как по команде, на землю. Они, видно, не могли определить, что же происходит и, не решаясь подняться, беспорядочно стреляли. А автомат продолжал биться в Сашкиной беспомощной руке, не принося им никакого вреда. И бился до тех пор, пока не вышли патроны.
Выждав минуту-другую, немцы поднялись и осторожно приблизились к Сашке. По-видимому, они пришли в ярость, увидев перед собой раненого, умирающего человека, поняв, что он не из тех беглецов, которых они преследовали. Что-то резко выкрикнул ближний к Сашке солдат, вскидывая автомат. Маша не расслышала, сказал ли им что-нибудь Сашка. Она только услышала короткую очередь.
Фашисты — их было человек восемь — что-то горячо, торопливо обсуждали возле Сашкиной сосны, показывая руками в разные стороны. Маша перестала дышать, наблюдая за ними из кустарника. Как же хотелось ей, чтобы они побежали не туда, где скрылись Ратников и Быков! Но они, посовещавшись, кинулись именно в ту сторону. Она подумала: хорошо, что у них нет собак, быть может, командиру с боцманом удастся скрыться. За эти десять — пятнадцать минут, на которые задержал немцев Сашка, они успеют добежать чуть ли не до старой стоянки. А там и до берега рукой подать. Почему-то Маше казалось, что если Ратников и Быков сумеют добраться до шлюпки и уйти в море, то все окончится благополучно. Она очень надеялась на море, спасение видела сейчас только в нем — может быть, потому, что оно два дня назад укрыло их при побеге.
Погони уже не стало слышно. Маша выбралась из кустарника, постояла, прислушиваясь к шуму леса, не зная, что делать.
«Командир велел бежать к Соленому озеру, там партизаны, — в растерянности подумала она. — Но зачем мне теперь Соленое озеро? Кому я там нужна?»
Зачем шла, торопилась она вслед за Ратниковым и Быковым, Маша не сумела бы сказать и сама. Ей не верилось, не хотелось верить, что с ними что-то случится, она еще надеялась, что, может быть, все как-нибудь обойдется, они найдут выход из этого положения, вернутся к ней, чтобы опять быть вместе, и уж тогда она пойдет с ними на Соленое озеро.
Маша выбежала к обрыву, тревожным взглядом окинула распахнувшийся перед ней простор и сразу же почувствовала, как облегченно, ликующе забилось сердце. Над морем, над самой поверхностью белым гигантским покрывалом висел плотный туман. И в него уходила, удалялась, точно таяла на глазах, знакомая шлюпка. Отсюда, с высокого обрыва, еще можно было различить в ней силуэты двух человек: один сидел на веслах, другой на корме.
«Слава богу, поспели! — Маша заплаканными, счастливыми глазами глядела им вслед, жалея только о том, что она не с ними. И вдруг подумала с испугом: «Найдут ли приют теперь? Где? У какого берега? А если опять приплывут к чужому?..»
Немцы на берегу стрелять перестали: снизу, от кромки воды, окунувшуюся в густой туман шлюпку они, наверное, уже не видели. Просто сидели на валунах, курили, громко переговаривались, посмеивались беззаботно. Ей показалась странной их успокоенность, не верилось, чтобы они так просто отказались от погони. Но ведь им и на самом деле ничего больше не остается делать. Тогда почему они не уходят? Может, устали, отдыхают? Но что-то в этом покое тревожило Машу. Она слегка отступила в глубину кустарника, сказав себе, что станет ждать до тех пор, пока немцы не уйдут отсюда, пока не наступит ночь и шлюпка не окажется в безопасности.
А шлюпка между тем пропала в тумане. Сумерки стали сгущаться. Маша совсем уж было успокоилась, даже стала потихоньку думать и о себе: что теперь делать? куда идти? Кроме Соленого озера, которое еще неизвестно как разыскать, ничего не приходило на ум. Не пойдешь же в село Семеновское или на хутор, — там теперь немцы вовсю рыскают. Значит, только на озеро. Надо идти, как командир велел. И еще ей хотелось знать, куда поплывут Ратников и Быков — в открытое море или вдоль берега? Лучше бы вдоль берега. Тогда они смогут ночью пристать в другом месте, подальше, и тоже, как и она, добраться до Соленого озера, к партизанам. Там и встретились бы...
До ломоты в глазах она вглядывалась в укутанное туманом и сумерками море, но разглядеть ничего не удавалось. И вдруг Маша с ужасом поняла, почему немцы не уходят с берега, чего дожидаются: справа, со стороны села и водохранилища, долетел слабый звук мотора. «Катер, — догадалась она, с замирающим сердцем прислушиваясь к нарастающему шуму. — Значит, они вызвали сюда катер. Как же теперь? Что будет со шлюпкой?»
Позабыв обо всем, — об опасности, о себе, о том что ее могут заметить снизу и снять одним выстрелом, — Маша вышла из кустарника на самую кромку обрыва и стояла так, замерев, глядя в ту сторону, откуда доносился все усиливающийся шум мотора. Вот поверху, над слоем тумана, заскользила мачта сторожевого катера. Она двигалась быстро вдоль берега, не приближаясь и не удаляясь, — будто разрезала плотную молочную пелену. Но самого корпуса не было видно: верхушка мачты казалась отсеченной. Разорвав тишину, взвыла на катере сирена, нестерпимо пронзительный ее голос эхом заметался над берегом, над обрывом.
Немцы вскочили с валунов, что-то крича, забегали вдоль прибоя. Почти тут же от них в море, в ту сторону, куда ушла шлюпка, полетела ракета. Она сразу же побледнела в белом тумане, удаляясь, и растаяла совсем.
Маша увидела, как мачта катера, описав полукруг, стала быстро уходить от берега. Она еще надеялась, что немцам не удастся отыскать шлюпку в тумане, в сгущающихся сумерках. Но на катере вспыхнул вдруг прожектор, сильный луч света торопливо зашарил по поверхности. Маша похолодела. «Все, теперь конец, не спастись».
Она сжалась, следя за хищным лучом, который, словно жало, все глубже и глубже впивался в серую вязкую стену тумана.
Вскоре луч прожектора перестал метаться, присмирел, замер на месте. «Нащупали, окаянные, нащупали!» — Маша чуть не закричала в отчаянии, тщетно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. И в тот же миг с моря донеслись слабые отзвуки автоматных очередей. Потом в тумане тускло вспыхнуло далекое пламя, точно спичкой чиркнули, прогремел орудийный выстрел. Следом еще один. И все смолкло. Луч прожектора некоторое время подержался на месте, словно разглядывал, что там наделали эти выстрелы, затем ликующе взмыл ввысь, уперся в вечернее, уже потемневшее небо и погас.
Немцы на берегу громко засмеялись, потоптались еще несколько минут и, посвечивая карманными фонариками, пошли в сторону села. Отошли метров двести, остановились, как угадывала Маша, возле могилы лейтенанта Федосеева, скучив на ней несколько пучков света сразу. Послышался хохот, они тронулись дальше и вскоре пропали.
«Негодяи! — Маша опустилась на жесткую, иссушенную морскими ветрами траву. — Ненавижу, не могу... Будьте вы прокляты!»
Она сидела не шелохнувшись, как изваяние, закрыв ладонями лицо, точно хотела отгородиться от этого жестокого мира, с которым оставалась наедине и из которого, казалось, не было никакого выхода. Кругом, в какую сторону ни пойди, — всюду фашисты, как саранча налетела проклятая, повсюду слезы да кровь, и нет спасения человеку на своей же на родной русской земле. Да что же это такое! Неужто нет на них никакой управы?..
Все отчетливей доносился рев моторов — сторожевой катер возвращался назад. Скользил над укутанной туманом поверхностью моря клотиковый огонь. Тяжело накатывался на берег прибой. Но Маша не слышала ни рева моторов, ни скорбных вздохов прибоя, не замечала, как неожиданно резко похолодало, как быстро надвигается тревожная ночь. Она бросилась ничком на холодную, неприютную землю, прижалась к ней, словно искала спасения, и, как когда-то в далеком детстве во время грозы, заставшей ее в лесу, забилась, зашлась в беззвучных рыданиях. Беззащитная, безучастная ко всему на свете, Маша лежала на крутом обрыве, укрытом зябким туманом, не думая, не зная, что станет делать дальше, сегодня или завтра, как и зачем будет жить и будет ли жить вообще...
Она не знала, что сулит ей будущее, лишь смутно сознавала, что надо идти на Соленое озеро к партизанам, как велел командир... Не могла знать она и о том, что партизан там пока никаких нет, кроме двоих хуторских мужиков — Устина и Егора, что партизанский отряд у Соленого озера по-настоящему сформируется и начнет действовать еще не скоро...
И уж совсем не могла Маша в этот горький вечер подумать о том, что спустя много лет после войны, когда в газетах станут помещать объявления о розыске пропавших без вести в военное лихолетье, она, как тысячи несчастных матерей и жен, с глубокой болью и робкой надеждой будет вчитываться в те скорбные строки, за каждой из которых кроется никем не разгаданная тайна... Нет, к великой печали своей, она не сможет вспомнить фамилий командира, боцмана, загубленного пленным фашистом полуслепого радиста с обожженным лицом — ведь пройдет столько долгих лет, а она находилась вместе с ними всего лишь два дня... Она не сможет сказать, кто они были и откуда, потому что сама этого не знала. Но Маша расскажет людям, какими они были, как воевали и как погибли безвестными...
С чистым сердцем она сможет рассказать и о Сашке-шкипере...
Но все это будет уже в каком-то другом, далеком и неправдоподобно счастливом времени, когда люди многое перезабудут, отойдут сердцем, когда у них зарубцуются военные раны и высохнут слезы.
Через много-много лет придет такое время...
А сейчас были обрыв у моря, окутанный холодным туманом, надвигающаяся, полная неизвестности черная ночь и невыносимо горькое ощущение одиночества. Шел еще только третий месяц войны...
Анатолий ГОЛУБЕВ
ПЛОМБА
1
В практике Алексея Воронова это был первый случай, когда преступник обращался за помощью к нему, инспектору МУРа, а о том, что это был преступник, звонивший сказал сам, хрипловато пророкотав в телефонную трубку:
— Вас беспокоит расхититель социалистической собственности.
И вот перед ним сидит сам «расхититель» — крепко сбитый парень со скуластым, загорелым, мало привлекательным (отметил про себя Воронов) лицом, на котором особенно выделяются неприятные глаза — они, словно гвоздики, почти бесцветными зрачками прокалывают лицо собеседника, рыщут по сторонам, обшаривая стены кабинета, и, казалось, стараются добраться до того, что должно находиться за ними.
Когда Виктор Мишенев, как звали парня, чуть охрипшим голосом попросил о встрече, Воронов в первую минуту подумал, что это розыгрыш Стукова. Но старшего следователя, во-первых, не было в городе. Во-вторых, так неподдельно тревожно звучал голос парня и просил он так настойчиво, что Воронов заказал пропуск.
И вот они сидят друг против друга.
Воронов не торопил посетителя с рассказом. Видно было, что и тому нелегко начать разговор.
Руки парня, лежавшие на полированной крышке стола, все время нервно сжимались — он явно не знал куда их деть — первый признак, что человек не привык находиться в обществе незнакомых людей.
Алексей обратил внимание на пальцы — узловатые, с темной, в мелких черных трещинках кожей, как у человека, постоянно имеющего дело с машинным маслом и железом. Короткая стрижка делала парня похожим на недавно вернувшегося из заключения. Воронов подобное предположение не отмел и вовсе насторожился.
Первые слова посетителя удивили Алексея, хотя он внутренне с нетерпением ожидал рассказа о причине, приведшей к нему.
— А знаете, я бы, пожалуй, вас не узнал. Хоть и месяца не прошло. В кабинете вы как-то по другому выглядите...
— Не припоминаю, чтобы мы раньше с вами встречались, — медленно протянул Алексей, пытаясь вспомнить, где судьба сводила его с этим странным парнем. Но не мог припомнить.
— Вы у нас на стенде «Локомотив» частенько бывали... Я немножко стендовой стрельбой увлекаюсь... А тут такая неожиданная смерть Мамлеева! И Мельников...
Поскольку расследование причин трагической смерти Дмитрия Мамлеева было столь недавним и практически первым успешным делом неудачливого инспектора, подумывавшего было о смене профессии, каждое напоминание о нем доставляло ему трудно скрываемое удовольствие. Плохо удалось это, наверно, и сейчас, но сидевший напротив был слишком погружен в свои собственные тревоги.
Тем не менее, чтобы скрыть свои чувства, Воронов, неоправданно раздраженно сказал:
— Да, хорошая у вас память...
— Память обычная. Шоферская. Крутишь баранку — по сторонам смотришь. Раз по дороге проедешь — на всю жизнь запоминаешь. По два раза дорогу переспрашивать себе не позволишь — без премиальных останешься. Иными словами, профессия у нас такая: чем зорче глаз да тверже рука, тем жирнее прогрессивка!
«Глупо, — подумал Воронов, — Он что, не понимает, каким рвачом себя рисует? Так к своей просьбе не очень-то сочувствие вызовешь. А может, играет в откровенность?»
— Итак, значит, крутите баранку?
— Кручу. Правда, уж и не знаю, как сейчас, а прежде делал это с большим удовольствием. Любил свою работу. Теперь же хоть лопату в руки да землекопом... И это с моим-то первым классом!
— Ой-ой! Что так невесело. Может, все-таки расскажете — зачем ко мне обратились? Что вас привело именно ко мне?
— Вот именно, привело! Уж будьте спокойны — знаю, что в этот дом по собственному желанию не ходят.
— Зря так считаете! К нам и по собственному ходят. Охотно и спокойно. У кого, конечно, совесть чиста.
Парень пропустил замечание Воронова, словно самим пренебрежительным отношением подчеркнув, что оно к нему не имеет никакого отношения.
— Право, даже не знаю с чего начать...
— А вы начните с начала...
— С начала начнешь — неизвестно, доберешься ли до конца, — прибауткой на прибаутку ответил тот.
— Виктор, лучше все же начинать с начала, — упрямо повторил Воронов.
— Я работаю шофером в Дальтрансе. Есть такая контора. С виду дело вроде серьезное, а вот что-то порядком в деле не пахнет. Знаете, такие большие серебряные фургоны по дорогам коптят, частников на «Жигулях» пугают? У вас нет своих «Жигулей»?
— Нет, — сказал Воронов и усмехнулся, представив себе огромный фургон рядом с крохотным «Жигуленком».
— Вот то-то! Была бы своя автомашина, с нами, шоферами, поближе бы познакомились. Честно говоря, автомобильной любительской шушеры столько развелось, что скоро профессионалам работать нельзя будет. Накупили колес, а сами малейшего представления, как надлежит на дороге стоять, не имели и иметь не будут. Это, знаете, как несовместимость групп крови — так и некоторые с шоферским делом несовместимы!
«Эге, — прикинул Алексей, — а парень не такой простоватый, как кажется на вид».
— Да что это вы, Виктор, на всех злы? Так уж вам окружающие мешают жить? Обижают?
— Обидишься тут... Порой как проклятый по двадцать часов в день баранку крутишь, стараешься план привезти, а приезжаешь, тебе вместо спасибо — актик! Видишь ли, товаров на полторы тысячи у тебя недостача! И хотя на заработки жаловаться не приходится, но кому охота своими рублями чужие грехи покрывать?
— Не совсем понимаю, — сказал Воронов, постукивая ножом для разрезки бумаги по столу — новая, невесть как появившаяся за лето привычка. — Почему именно вы должны платить такие большие деньги и куда на самом деле исчез товар?
— Вы хоть приблизительно представляете себе, как организованы дальние автоперевозки?
— Честно? Не очень...
— Так вот. Приблизительная схема — приезжаешь в нужный город, подаешь машину под погрузку, хозяин-отправитель товар наваливает, пломбу на дверцу вешает... Твое дело — пломбу целой принял и гони по адресу, — он вздохнул. — Вот тут-то и начинаются расхождения с приблизительной схемой. Ежели пломбы на месте не окажется, — а за дальнюю поездку всякое может случиться — и поесть надо, и поспать, — то вся недостача из твоего кармана. Как бы автоматически жуликом становишься! И попробуй докажи, что ты не рыжий!
— А если весь товар налицо?!
— Тогда никаких проблем нет, — неохотно пояснил Мишенев. Недовольство это Воронов отнес на свой счет — дескать, инспектор, а разумения не больше, чем у начинающего слесаря.
— За последнее время в Дальтрансе что-то слишком часто стал виноват наш брат шофер...
И Мишенев принялся вновь толковать и подробно рассказывать, как организованы перевозки, и как они, шоферы, работают, не покладая рук, и как дирекция зажимает премиальные... И многое другое. Из рассказанного, однако, вытекало, что нечистая сила существует: именно она срывает пломбы, крадет товар и заставляет кристально честных шоферов расплачиваться за несовершенные преступления.
Воронов сделал несколько записей по ходу рассказа, но, как ни странно, чем больше Мишенев говорил, тем неопределеннее мнение складывалось у Алексея о посетителе.
2
Проводив Мишенева, Алексей налил себе стакан газированной воды. Задумавшись о том, что бы мог означать приход шофера, он неосторожно нажал на спуск сифона, и перегретая газировка ударила из стакана. Это как бы вернуло его к задаче насущной — как поступать дальше?
«Формально я должен писать рапорт. И уж Стуков потешится от души, если все изложенное тут Мишеневым, окажется липой чистой воды. Наверно, правильнее все-таки проверить сначала, что к чему. Хуже другое: я так и не понял, зачем приходил Мишенев и что это в действительности за личность? Пожалуй, с этого и надо начинать».
Воронов встал, прошелся по кабинету и вышел в коридор. Он невольно взглянул в сторону двери, за которой работал Стуков, хотя знал, что тот в отпуске и будет лишь через неделю.
— Галочка, шеф у себя? — спросил он секретаршу в приемной.
— Нет. На совещании в министерстве. Иван Петрович у себя.
Идти к заместителю начальника отдела Кириченко Алексею страсть как не хотелось, но тот внезапно сам вышел из кабинета и, увидев Воронова, спросил:
— Ко мне?
Алексею ничего не оставалось, как ответить:
— На две минуты, товарищ подполковник, если можно. Посоветоваться.
Когда Алексей вошел следом за Кириченко в кабинет, тот уже сидел в своем кресле, будто его туда занесло от двери каким-то неведомым попутным ветром.
Воронов, присев к столу, сжато, по-деловому, как любил Кириченко, передал суть беседы с Мишеневым.
Лицо Ивана Петровича осталось совершенно бесстрастным. Дослушав Воронова, он молча протянул руку к тумбочке стола и положил перед Вороновым папку, на которой стоял номер 0613.
— Это называется — на ловца и зверь бежит. Вам разбираться... — Кириченко кивнул на папку. — Здесь кое-какие документы к делу о хищениях в системе Дальтранса. Ваш Мишенев — так, кажется, его фамилия? — в этом произведении едва ли не главное действующее лицо.
— Тем более визит кажется странным, зачем ему надо было являться ко мне? Он не мог знать о решении передать дело мне. И вряд ли Мишенев вообще знал о существовании этой папки.
— О последнем он как раз мог догадываться. А что к вам она попадет, это точно, не знал. Мы с Виктором Ивановичем лишь сегодня вечером собирались решить вопрос, кому поручить Дальтранс.
— Видите... А чтобы главный герой к нам являлся сам, упреждая события, таких случаев я что-то не припоминаю, — чистосердечно признался Воронов, скорее рассуждая вслух сам с собой, чем обращаясь к Кириченко. И сейчас же был наказан за неуместную откровенность. Кириченко оборвал довольно грубо:
— А вам еще и вспоминать нечего! С мое в органах послужите, поймете, что жизнь наша по кругу идет. Только аналогию в прошлом найди да с собственного следа не сбейся. К пенсии лишь осознаешь, что было все и всякое.
Воронов обидчиво поджал губы и решил от дальнейших рассуждений вслух воздержаться.
— Разрешите идти?
— Идите. И как следует встряхните этого Мишенева. Видно, тот еще гусь! Ну, впрочем, вы достаточно лихо делаете из псевдобелого черное... Так и надо. Не доверяйте душевным порывам людей, нечистых на руку...
И хотя это был явный намек на мамлеевское дело, Кириченко умудрился и его исказить и сделать такой странный вывод, который и в голову никогда не мог прийти Воронову.
Алексей ответил:
— Буду стараться.
Он встал и направился к двери. У самого порога его окликнул Кириченко.
— Кстати, Алексей Дмитриевич, а когда вы собираетесь в отпуск?
— За этот год или за прошлый?
— Вы разве не отдыхали в прошлом году?
— Нет. Только собрался — началось дело Мамлеева...
Воронов был доволен, что сумел отыграть хотя бы один шар, подставленный Кириченко в минуту откровенности. Иван Петрович очень любил проявлять душевную заботу о быте подчиненных, гордился тем, что умеет так составить график отпусков, что все сотрудники отдела остаются довольными. А тут конфуз — забыть про отпуск молодого инспектора.
Кириченко покраснел. Воронов счел наилучшим выходом как можно быстрее удалиться.
3
Признаться откровенно, основываясь на рассказе Мишенева, Алексей предполагал увидеть захолустное транспортное заведение со всеми сопутствующими атрибутами — полуповаленным забором, когда проходная существует лишь формально, давая охраннику право получать зарплату, бессмысленной суетой вокруг старых испорченных колымаг, стынущими под открытым небом тяжелыми и грязными (мойка, конечно, не работает) машинами...
Увиденное совсем не походило на то, что рисовалось его воображению.
Воронова долго, несмотря на удостоверение МУРа, слишком долго, что вызвало у него невольное раздражение, продержали в проходной, пока оформлялся пропуск. Он даже с некоторой неприязнью смотрел на электронные вертушки, пропускавшие туда и сюда десятки озабоченных людей. Огромные современные окна проходной — стекло и алюминий — открывали вид на пустой и чистый двор. Только одинокий фургон стоял в уголке и возле него спокойно о чем-то беседовали двое.
Воронова поразили огромные ворота — три этаких всепоглощающих зева. Они занимали всю стену красивого розоватого здания с ажурным куполом, от которого исходило мерное жужжание. Только запах был по-настоящему гаражный — стойкий бензиновый, с легким чадом от горящей при экстренном торможении резины.
Спросив у стоявших возле фургона, где находится дирекция, и взглянув в указанном направлении на светлое кирпичное здание, ладно встроенное между высоким забором и стеной гаража, Воронов не удержался и завернул к зданию под куполом. За воротами открылось залитое светом огромное круглое помещение, нечто вроде зимнего стадиона, в котором тихо и аккуратно, как кроватки в яслях, дремали все те же серебристые, сверкающие чистотой машины с ярко-красной надписью по бортам: «Дальтранс».
«Вот тебе и «контора», — подумал Воронов, вспомнив рассказ пришедшего шофера. — Да тут, считай, образцово-показательное автохозяйство! Пожалуй, с таким порядком трудно ужиться людям вроде Мишенева. А может, я зря про него так?..»
Но, даже шагая по лестнице административного корпуса, Воронов никак не мог настроиться на предстоящий разговор с директором — мешало почти физическое ощущение несовместимости такого типа человека, как Мишенев, и современного ухоженного гаража.
— Извините, товарищ Воронов, — почему-то улыбаясь, словно дарила Алексею счастливую весть, пропела секретарша, — директора срочно вызвали в управление. Он приносит извинения и просит вас дождаться его прихода. Если есть желание, пройдите к главному диспетчеру — он как раз сейчас не очень загружен. Когда он машины выпускает на линию, к нему и не подступишься.
Выслушав эту длинную, вежливую по форме, но не по существу тираду, Воронов сначала огорчился, но потом подумал, что, может быть, все и к лучшему.
«До директора добраться всегда сумею. А вот хотя бы в общих чертах с организацией дела познакомиться не мешает. Диспетчер, наверно, ближе знает людей. После этого и с директором говорить легче».
Воронов, с трудом выдавив ответную улыбку, как можно любезнее сказал:
— Понимаю. Работа есть работа. Что касается моего времени, то не хотелось бы его терять зря. Где мне найти главного диспетчера?
— Я вас провожу, — манерно произнесла секретарша и, виляя бедрами в узкой короткой юбке, прошла вперед.
«Ну и цыпа! Где только такие произрастают и почему безошибочно попадают именно в секретарши? Наверно, потому, что ничего делать не умеют и не хотят».
Воронов понимал, что несправедлив. Он уже успел убедиться не раз, что хороший секретарь — полначальника, а в иных случаях и заменить может легко и безболезненно для дела. Но сегодня Алексея раздражало все. Виной тому, пожалуй, поразившее его противоречие между обликом Мишенева и видом современного ухоженного хозяйства. Даже себе он не захотел признаться, что раздражение зиждилось на слишком долгом ожидании в проходной да еще поспешной отлучке директора. Слишком бросались в глаза эти два факта, чтобы оба их можно было считать случайными.
— Станислав Антонович, — Воронов не сразу заметил, к кому обращается секретарша, когда они вошли в просторный кабинет. Потом заметил — мужчина средних лет покачивался в кресле из стороны в сторону, и, закатив глаза, бросал в микрофон селекторной связи казавшиеся Алексею совершенно бессмысленными обрывки фраз. — К вам... — многозначительно произнесла секретарша, — товарищ из уголовного розыска.
Сообщение не произвело на мужчину никакого впечатления. Он привычно кивнул головой на ряд стульев вдоль стены, словно инспектора МУРа забегают к нему, по крайней мере, дважды в день.
— Мотя! Путевой 19-64 закройте, как договорились... Степан Степанович, если не выпустишь 16-32 к обеду, расстанешься с квартальной... Отправьте четыре тачки колбасникам...
Воронов уселся на один из стульев и, поблагодарив секретаршу, принялся исподволь разглядывать главного диспетчера. Было ему немногим более за сорок. Но красивая проседь на висках делала его старше своих лет, а сочетание с отличным цветом лица и моложавой, спортивной фигурой придавало ему обаяние. Одет он был неброско, но когда Воронов пригляделся, заметил, что добротно и со вкусом. Единственное, что бросалось в глаза — излишняя артистичность в работе, основывавшаяся на опыте и умении Станислава Антоновича видеть из своего кресла все, что делается в любом уголке хозяйства. Да еще, пожалуй, музыкальность, с которой он щелкал кнопками селектора.
— Городецкий...
Воронов не сразу услышал среди коротких произносимых диспетчером фраз эту фамилию, хотя она была крупно выгравирована на мелкой дощечке у входной двери. Станиславу Антоновичу пришлось дважды повторить «Городецкий», прежде чем Алексей понял, что главный диспетчер отключился, наконец, от своих прямых обязанностей и представляется ему.
Алексей поспешно, даже ощутив некоторую неловкость за свою поспешность, ответил:
— Воронов Алексей Дмитриевич, инспектор МУРа.
Титул Воронова вновь не произвел на Станислава Антоновича никакого впечатления, будто он разговаривал с хорошо ему знакомой Мотей. Алексей отметил это как положительное качество и почему-то сразу почувствовал расположение к собеседнику.
— Чем могу служить? — спросил Станислав Антонович и, переключив селектор только на прием, откинулся в кресле. Главный диспетчер, хотя и обращался к нему, продолжал вслушиваться в хаос приглушенных фраз, летевших из динамика. Однажды он даже попытался вторгнуться в него своим замечанием, но сдержался.
«Да они тут, кажется, все незаменимые! Директор в управление исчезает, хотя была предварительная договоренность. Этот Городецкий от селектора оторваться не может, как ребенок от красивой игрушки. Свое рабочее время высоко ценят, а чужое!»
— Станислав Антонович, простите, что оторвал вас от дел. Вижу, у вас тут горячая точка...
— Есть немножко, — снисходительно согласился Городецкий, — и тем не менее, чем могу служить?
Это было сказано таким тоном, что и дурак бы понял: «У меня нет времени говорить с вами, но ничего не поделаешь — представителя такой организации надо уважать».
Столь подчеркнуто незаинтересованное поведение Городецкого показало, что на душевность беседы рассчитывать не приходится. Максимум — скупая рабочая информация...
— Я по жалобе Мишенева... У вас ведь работает такой водитель?
— Пока работает. И, к сожалению, у нас. А он еще на что-то жалуется в МУР? Неужели прямо к вам приходил? Вот уж, поистине, наглость пределов не знает.
— Такой плохой работник?
Городецкий пожал плечами, как это обычно делают взрослые, услышав от ребенка уж совсем наивный вопрос.
— Близко с ним не знаком. Но с проделками его знаком предостаточно.
— Чем же он так знаменит?
— Рвач и горлопан. А в нашей горластой шоферской братии выделиться подобными качествами, сами понимаете, можно только при недюжинных способностях, — словно отрубил, произнес Городецкий. — И, как показал опыт, нечист на руку. Я бы на его месте улицу Петровку обходил за версту.
— Что же у него случилось?
— Вы, имеете в виду последнюю недостачу? Как сказать... Если исходить из миллионных цифр объема перевозок, осуществляемых Дальтрансом, то сущий пустяк. Если каждый случай даже малейшей недостачи рассматривать как хищение, а именно так и должны мы, руководители, рассуждать, — это преступление. Мишенев, конечно, говорил, что ничего не брал? Я уж, честно признаться, и не помню, в какой сумме у него выразилась недостача...
— Полторы тысячи рублей...
— Солидно. Хотя и шоферов понять можно. Народ они разномастный. Особый народ. Ценности огромные прямо под боком... — Станислав Антонович рассмеялся. — Если быть точным, то за спиной. Смотришь, один, другой, чаще из молодых, устоять перед соблазном не могут. Приходится взыскивать. Или по обоюдному согласию, или судом. Было дело, попадались с поличным. Но, как говорится, горбатого могила исправит. К числу таких относится, по-моему, и Мишенев.
— Простите, а что позволяет вам так сурово судить о Мишеневе? Какие факты — не припомните?
— Он не дает о них слишком надолго забывать. Раз в неделю, если не в рейсе, то дома, здесь, в гараже, что-нибудь да сотворит. Опоздания на работу регулярны. Сваливает чаще всего на загруженность в вечерней школе. Мол, комсомол требует учиться, вот я и иду ему навстречу, а вы, несознательные, еще требуете, чтобы я вовремя приходил на работу. Было у него и две аварии... — Городецкий начал перечислять проступки Мишенева, словно специально готовился к беседе.
— И всех своих шоферов вы так хорошо знаете? — не удержался от не совсем тактичного вопроса Воронов.
— Почти, — опять снисходительно улыбнулся Городецкий. Он умел это делать царственно. — Служба требует знать все. Особенно, когда дело касается нашего стабильного контингента.
— Похвально, — Воронов даже не ожидал, что у него вырвется такое неудачное слово. Он увидел, как в глазах Городецкого мелькнул отблеск едва скрываемого гнева, несвойственного столь спокойному человеку, каким он казался Воронову до сих пор.
Алексей был не прав, следовало извиниться, но что-то удержало его от этого шага. Вместо извинения он спросил:
— Ваше личное мнение — вы считаете Мишенева виновным?
— Видите ли, товарищ Воронов (в последних словах Алексей отчетливо ощутил реакцию на свое неосторожное слово), решение о виновности выносит суд. И даже не вы. Ваше дело собирать улики, мое — дать вам посильную информацию. Ничем иным я вам служить не могу. Акты проверок можете взять в бухгалтерии. — И, не дожидаясь дальнейших расспросов Воронова, Станислав Антонович включил селектор: — Мотя, не вижу готовности трех «татр»...
Далекая и невидимая Мотя что-то говорила в свое оправдание, и Станислав Антонович слушал, глядя мимо Воронова.
— Даю пять минут, и не секундой больше. Где главный механик? Резервную машину на линию...
Выходя из кабинета Городецкого, Алексей продолжал слышать его четкий требовательный голос и невольно улыбнулся.
«По сути дела, он ведь прав в своей обиде. Но это так похоже на мальчишество. Артист, и только. С этим человеком надо непременно помириться».
4
Из проходной Дальтранса Воронов вышел с одним лишь убеждением — походить сюда придется не день и не два, но не ему, а скорее парням из ОБХСС. Единственным звеном, связывавшим Воронова с этим делом, виделся лишь визит Мишенева. Для руководства этого будет явно недостаточно, и дело придется передать. Он же, Воронов, сможет вынести на оперативку свое глубокое убеждение, строящееся скорее на интуиции, чем на фактах, что разобраться в проблемах первоклассного автохозяйства будет нелегко.
Придя к такому выводу, Воронов даже испытал некоторое чувство облегчения — не придется мириться с заносчивым Городецким.
Алексей заглянул в кафе самообслуживания и, перехватив пару мясных пирожков с бульоном, решил позвонить Ларисе. Ему следовало это сделать еще час назад. Как и положено по закону пакости, первый телефон-автомат не подал ни малейших признаков жизни, второй, не сказав спасибо, также молча съел единственную двухкопеечную монету. Когда Алексей разменял деньги, наконец, нашел работающий таксофон, условленное время безнадежно прошло, и он позвонил скорее просто так, на авось.
Ответила Лариса.
— Как? Ты все-таки позвонил? А я думала, ты продолжаешь бежать по следу убийцы. И поскольку наши следы с ним не пересекаются, то меня ты можешь найти совершенно в другом месте, куда я отбываю ровно через две секунды.
— Могу спросить, куда?
— Можешь даже получить ответ. Но последний. Попробуй опоздать еще и туда. Я поехала купаться...
В трубке раздались короткие гудки. Но, собственно, спрашивать было больше и нечего. Оставалось только решить — ехать или не ехать? Он посмотрел на часы. Было четверть третьего.
«Купание в служебное время даже человеку моей профессии трудно спасать на превратности службы, как недостачу водки завмагу списать на мышей. Но, с другой стороны, будет еще труднее что-либо потом объяснить Ларисе. Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Намеченное на сегодня вроде сделано, побалую себя, может быть, последним купанием в этом сезоне».
Он взял такси и поехал на пляж.
Воронов оказался на конечной остановке троллейбуса раньше Ларисы. Когда она приехала, он спрятался за табачный киоск, решив посмотреть, как она будет себя вести, не найдя его на обычном месте свидания. Быстро осмотревшись и не увидев Алексея, Лариса направилась к троллейбусу, собираясь уехать.
Алексей поморщился.
За год знакомства он не помнил, чтобы она хоть раз пришла в назначенный срок. Но как-то устроила ему настоящий скандал, когда он задержался на работе на четверть часа.
— А как же будешь ждать, когда поженимся? — сказал ей тогда Алексей. — Ведь знаешь, какая у меня служба? Себе не принадлежу...
— Кто тебе сказал, что мы поженимся? Сам решил? — был ответ. — Ну так сам и женись и сам себя жди! Очень удобно для нас обоих!
Слова Ларисы тогда здорово задели его. Он вдруг представил себе, что за жизнь может ждать его с этой женщиной, если таким образом она ведет себя уже сейчас, до замужества. Вопрос о свадьбе так и повис в воздухе.
Выскочив из-за киоска, Алексей должен был крикнуть: «Лора!», чтобы она не исчезла в дверях подошедшего троллейбуса.
Увидев его, она решительно направилась навстречу.
— Опять эти глупые шуточки! Сколько раз говорила — я не подследственный объект и подглядывать за мной из засады нелепо.
— Ну хорошо, больше не буду, — примирительно протянул Алексей. — Просто захотелось узнать, как надолго у тебя хватит терпения ждать. Ты же задержалась на двадцать минут.
— Алексей, я женщина. Если хочешь равноправия — надевай юбку и тогда можешь опаздывать хоть на полчаса.
— Странное понятие о равноправии.
— Да, в твои любимые статьи уголовного кодекса не совсем укладывается. Но мне нравится...
— Опять начала, — Алексей попытался погасить спор в самом начале. — Давай хотя бы сегодня искупаемся мирно, как люди!
Они свернули на тропу, которая вела по задворкам дач, сквозь густые заросли жасмина.
Пляж длинной песчаной лентой вился по излучине реки. С того берега наступала тень огромных деревьев соснового бора, с вкрапленными зелеными крышами больших дач и купальнями, приютившимися под обрывом.
Воронов разделся и пошел к воде. Проплыв кролем метров сто, он выбрался на берег и с наслаждением растянулся на теплом ласковом песке. Лариса еще долго лениво плескалась у берега, бросая воду в лицо полными пригоршнями. Потом томно улеглась рядом с ним.
Воронов косил глазом, всматриваясь в близкий профиль ее лица. Курносый, в меру, нос, большие, как бы всегда раскрытые от удивления глаза, длинный хвост рыжеватых волос и грациозная посадка головы, сохранившаяся еще со времен, когда она занималась спортивной гимнастикой.
— Хорошо! В такие минуты кажется, что больше ничего на свете и не надо. Если еще только такую жену, как ты!
Воронов положил ей руку на спину. Лариса передернула плечами:
— Не мешай загорать. И учти: мужчина, у которого есть все, имеет меньше, если у него есть еще и жена!
— Это не страшно. Самое страшное, когда тебе приходится делать глупое дело. Подумаешь, какой-то Мишенев свалял дурака, а ты копайся в пустяках.
— Кажется, опять начал вести расследование? Как же с мирным купанием?
— Вернемся к мирному купанию.
5
Воронов находился в кабинете директора Дальтранса и только начал с ним разговор, как в комнату шумно и без предупреждения вошел полноватый, холеный мужчина. Чувствовалось, что в этом кабинете он свой человек. Настолько свой, что Дмитрий Петрович даже смутился и поспешил представить их друг другу.
— Дмитрий Кириллович Столбов. Директор Киевской трикотажной фабрики. Один из наших постоянных клиентов. А это товарищ Воронов Алексей Дмитриевич, сотрудник уголовного розыска.
Столбов радостно, словно всю жизнь только и мечтал познакомиться с инспектором МУРа, крепко пожал руку Воронова и пробасил:
— Весело живешь, тезка: с утра МУР в гостях! Так сказать, полная охранность обеспечена. Ну не буду мешать. Дмитрий Петрович, как ты просил, привез тебе точный акт ревизии по случаю с Хромовым. У нас полный порядок.
— Спасибо, Дмитрий Кириллович. И ты уж извини, но нам с товарищем поговорить часика полтора нужно. Дело, понимаешь, неотложное. А потом заходи — весь в твоем распоряжении.
— Понимаю, понимаю, — еще раз уже от двери пробасил Столбов. И, улыбнувшись Воронову на прощание, исчез за дверью.
— А что за случай с Хромовым? — спросил Воронов.
Лукьянов поморщился.
— То же самое, что и с Мишеневым. Сразу два случая. Правда, у того с коврами, а у Хромова с трикотажем накладка. Значительная: около тысячи — да, 975 рублей недостача.
Сегодня Воронов был дотошен в своих вопросах до предела, словно испытывал угрызения совести за ту половину рабочего дня, которую прокупался с Ларисой. Пытаясь окончательно убедить себя в том, что дело следует передать в ОБХСС, Воронов решил после разговора с директором обшарить каждый уголок автохозяйства и, главное, просмотреть документацию аналогичных случаев, которую отдал приказ подготовить Дмитрий Петрович.
Уже после двух разговоров с руководителями и вчерашней экскурсии по территории Воронов начал под всем этим блеском нового нащупывать довольно типичные трудности организационного характера.
Дмитрий Петрович рассказывал о своем хозяйстве увлеченно, горячо. Чувствовался не только опыт, но и ум солидного руководителя, мыслящего в условиях современной научно-технической революции аналитически и свежо.
Директор Дальтранса был крайне озабочен хищениями.
— Тут не в одном Мишеневе дело. Просматривается для меня какая-то совершенно непонятная тенденция. Не берусь утверждать точно, но за последние год-два, по-моему, слишком участились недостачи у шоферов. Но я больше строительством занимался. Видите, какой красавец гараж отгрохали? А сами знаете, как у нас строить: то кирпича нет, то с железобетонными конструкциями затор... Честно говоря, работу с людьми немножко запустил. Хотя у меня секретарь парткома — мужик деловой, опытный, с шоферской братией, как с первоклассниками ладить умеет. Но свой, хозяйский глаз тоже не помешает.
— Скажите, Дмитрий Петрович, если у вас нет точных данных, почему вы считаете, что столь явно проявляется тенденция роста числа краж?
— Я же на гаражном деле больше четверти века сижу. Механиком работал, начальником автоколонны, диспетчером... Без эхолота все скрытые процессы собственной шкурой ощущаю. А вообще, если документальное подтверждение иметь захотите, то в бумагах, которые для вас подготовят, все проследить как на ладони можно.
— У вас тут опытные специалисты собрались. Имею в виду вашего главного диспетчера.
— Да, Станислав Антонович — человек опытный. Моя правая рука. С таким работать приятно, — довольно охотно, с нескрываемой любовью в голосе сказал Лукьянов.
— Ну а насчет личности Мишенева что сказать можете?
— Что сказать? — как бы разговаривая сам с собой, переспросил Лукьянов. — Шофер как шофер. Честно говоря, когда мне принесли документы о недостаче, я не очень-то удивился, потому как за ним грешки мелкие водились. Характер у него шаткий. А где шатается, там и провалиться может легко. И все-таки насторожило меня происшествие. Дело в том, что месяца два назад Мишенев новую двухкомнатную квартиру получил. Обставлять надо. Коврики постелить...
— Не думаю, — возразил Воронов, — что он до такой глупости дойдет — крадеными вещами собственную квартиру украшать.
— И я тоже думаю, что крадеными негоже, Так ведь ковер — штука дефицитная. Его и на мебелишку обменять можно, а то и ковер на ковер махнуть...
— Ну, а Хромов?
— Этот другого типа. Кулачок. Все к себе тянет. Но никогда за ним ничего по мелочам не водилось. Если только желание побазарить на собрании... — Лукьянов, видно, без всякого удовольствия вспомнил одно из последних выступлений Хромова и, потерев подбородок, сказал: — Старик кроет, не глядя не только на лица, но и действительности в глаза. Из тех незаменимых опытных шоферов, которые считают, что количество проезженных в жизни километров позволяет им безапелляционно судить обо всем. Не будь я директором, человеком, который должен осторожнее относиться к оценкам, тем более, что они увязаны, как у нас говорят, с критикой снизу, назвал бы я Хромова сквалыгой.
Всю вторую половину дня Воронов просидел в кабинете заместителя директора, который находился в отъезде, и просматривал финансовые документы. Он сделал страничек пятнадцать различных выписок: о заработках, премиях, накатанных километрах, характеристиках, и кажется, сумел бы теперь не хуже Станислава Антоновича разобраться в общих вопросах хозяйственной деятельности Дальтранса.
Когда к концу рабочего дня Воронов, уходя, пересекал гаражный двор, рядом пыхнул тормозами фургон, и, перекрывая шум мотора, человек из-за руля, полуоткрыв дверь, спросил:
— Вы, что ли, из милиции?
Воронов остановился. Кивнул головой. Водитель вышел из кабины, не выключая двигателя.
Это был старик, а может, очень пожилой мужчина, — угадать возраст мешало морщинистое лицо и крючковатая, но крепкая фигура. Настороженные глаза на плутоватом лице, хранившем явные признаки пристрастия к спиртному, ощупали Воронова.
— Вы, товарищ, извините, что побеспокоил, — сказал он голосом, который звучал нетвердо, словно говоривший еще обдумывал, стоит ли начинать разговор. — С вами, никак, Мишенев беседовал?
— Со мной беседовал, — как можно приветливее ответил Воронов.
— Так вот. И мне охота кое-что от себя добавить. Вы уходите или еще у нас побудете?
— Домой собрался.
— Жаль, а то бы тут, по соседству, машину под попутный груз отогнал, и поговорили бы...
— Я уж сегодня наговорился, — перспектива неопределенного ожидания была Воронову не по душе. — Может, завтра можно?
— Можно и завтра. После обеда из рейса вернусь, и, если опять домой торопиться не будете, встретимся, — не очень любезно сказал старик.
— А вы кто хоть будете? — спросил Воронов.
— Хромов моя фамилия. Василий Петрович. Шофер вот с этой телеги...
— Ну, раз Хромов, то можете не сомневаться, что встретимся. Беседа с вами у меня на самое ближайшее время запланирована.
Пока они говорили, дошли до проходной. Хромов сунул в открытое окошечко путевой лист и произнес:
— Мотя, шлепни кругляшку, выкатываться пора.
Воронов не удержался и заглянул в окошечко, чтобы посмотреть на Мотю, с которой так строго разговаривал Станислав Антонович.
Пока Мотя, полнощекая девица с простоватым русским лицом, совершенно исчезнувшим под аляповатой раскраской всеми возможными косметическими средствами, отмечала путевку, Хромов повторил:
— Так завтра, значит, товарищ, после обеда и поговорим. Есть у меня соображения кое-какие насчет происходящего у нас. А то начальство больше заботится, чтобы пыль в глаза пустить. Гараж хороший — дело хорошее, но и начинка в хорошем доме достойной должна быть.
Замечание Хромова отвечало где-то внутреннему выводу Воронова, и он поддакнул:
— Правы вы, Василий Петрович, содержание забывать не следует — в нем ведь смысл нашего труда.
Воронов проводил глазами раскачивающуюся по-флотски из стороны в сторону сутулую фигуру Хромова, потом — отъезжавший тяжелый голубой фургон.
«Ох дед, чувствую, помотает мне душу своими откровениями. Как его назвал Дмитрий Петрович? Сквалыгой? Наверное, прав директор. Во всяком случае, с таким соседом в коммунальной квартире жить ни за что бы не согласился. Уж лучше на улице ночевать».
6
Оперативка у начальника отдела была назначена на десять. Когда Воронов, по обычаю едва не опоздав, вошел в кабинет начальника, его встретил радостный взгляд Стукова. Лицо Петра Петровича сияло тем бронзовым загаром, который может дать человеку только беззаботный отпускной воздух на берегу Черного моря.
— Здорово, негр, — шепнул Воронов.
— Великому следопыту от черноморских аборигенов муровский привет! — прошипел Стуков. — Говорят, сегодня докладываешь?
— Уже настучали? Докладывать-то нечего.
— Эй, сороки-балаболки, понимаю, что соскучились, но позвольте нам приступить к делу! Сегодня у нас три главных вопроса... — Полковник Жигулев говорил сжато и точно. Картина была ясна даже тем, кто не имел к названным делам никакого отношения.
— А что у нас слышно по Дальтрансу? — спросил он наконец Воронова.
Тот встал, оправил пиджак, словно китель, и начал:
— У меня сложилось впечатление, что Дальтрансом надлежит заниматься не нам. Это сложное хозяйство, и положение в нем не однозначно. — Рассказав кратко, что успел узнать в Дальтрансе, Воронов закончил: — Я бы передал дело в ОБХСС. Думается, это, скорее, по их профилю. При аналогичных обстоятельствах подобными делами занимались они. По мнению руководства хозяйством, вина обоих шоферов неопровержима.
Жигулев слушал молча, не задавая никаких вопросов, но взгляд полковника Воронову не понравился. Он стушевался.
— Вот и все, — закончил он, хотя подводить итог было положено отнюдь не ему, а ведущему совещание. Кривая усмешка подполковника Кириченко подтвердила, что последние слова Воронова прозвучали действительно не к месту. Но Жигулев согласился.
— Пусть будет пока «все». Товарищи свободны. А вы, Алексей Дмитриевич, задержитесь.
Уже в дверях Стуков оглянулся. Встретившись глазами с Вороновым, он покачал головой — это означало, что и Петр Петрович оценивает ситуацию как весьма неблагоприятную.
Начальник отдела сел к своему рабочему столу. Обычно с сотрудниками он разговаривал за общим длинным столом для оперативок, поставленным перпендикулярно большому, массивному письменному столу дореволюционной работы. Едва ли не самому старому во всем управлении. Полковник Жигулев любил старинную мебель, видя в ней нечто капитальное, то есть соответствующее его отношению к делу, людям и, наверно, жизни вообще.
Поведение полковника Воронов также расценил как признак неблагоприятствия. И ошибся. В голосе начальника отдела не было ничего, кроме плохо скрытой озабоченности.
— Так говорите, следует передать соседям? — он в упор посмотрел на Воронова. — Докладывали вы, Алексей Дмитриевич, логично, но логика жизни всегда глубже логики наших версий...
— Плохо понимаю, Виктор Иванович... — растерянно произнес Воронов, ожидавший явно не такого разговора.
— Думаете, я больше понимаю? За десять минут до оперативки мне дали сводку. Как вы там говорили, фамилия второго шофера, замешанного в кражах?
— Хромов...
— Точно, Хромов, — полковник поднял глаза на Воронова от оперативной сводки и сказал: — Сегодня утром в 8.25 Хромов Василий Петрович, шофер из Дальтранса, погиб в автомобильной катастрофе на 112-м километре Симферопольского шоссе.
— Этого не может быть! — воскликнул Воронов, почувствовав, как уходит из-под него стул.
— Почему? — резко спросил начальник отдела.
— Я вчера перед концом рабочего дня разговаривал с ним.. — это был, конечно, не довод, оправдывающий такое горячее восклицание, и Жигулев этого не мог не заметить.
— И чем же закончился ваш разговор?
Воронов почувствовал, как он краснеет, краснеет неудержимо, краснеет так, что, кажется, жаром наполняется голова.
Жигулев смотрел удивленно, но выжидающе.
«Говорить или нет?»
Воронов сомневался только какое-то мгновение. Если бы Жигулев не проявил столь свойственного ему терпения, а еще раз переспросил о чем-нибудь, Воронов и сам не смог сказать, признался ли бы он...
— Товарищ полковник, я допустил страшнейшую ошибку... Хромов вчера хотел со мной о чем-то поговорить. Я уже уходил. Голова трещала от цифр, выписанных вот здесь, — Воронов тряхнул блокнотом — И потом директор комбината назвал его сквалыгой, и мне показалось, что определение довольно точно... Одним словом, мы договорились увидеться сегодня после обеда, когда он вернется из рейса.
Жигулев достал сигареты и закурил. Он курил молча, пуская перед собой толстые кольца дыма, не обращая внимания на Воронова, словно того и не существовало.
— Кто из посторонних присутствовал при вашем разговоре?
— Возле машины, товарищ полковник, не было никого. Потом он, правда, еще раз сказал о том, что хочет поговорить со мной, когда стояли возле проходной. Да, точно, это было у окошечка, в котором он отмечал путевку. Слышать могла только Мотя... — сказал Воронов, уловив ход мыслей начальника отдела.
— Какая еще Мотя? — раздраженно переспросил Жигулев.
— Мотя... Я не знаю ее фамилии, но, в общем, это не проблема. Мотя — диспетчер первой колонны.
— Узнайте все о Моте. И немедленно поезжайте на трассу. Там сейчас работают товарищи из ГАИ. Посмотрите и вы, что к чему. В оперативке сказано, что обстоятельства смерти не совсем ясны.
— Слушаюсь.
— Опросите автоинспекторов перед местом аварии — не заметили ли они что-нибудь необычное с машиной или водителем.
— Слушаюсь.
— Возьмите под контроль ход и результаты патолого-анатомического исследования.
— Слушаюсь.
— Что вы заладили «слушаюсь, слушаюсь». Слушаться надо было, когда Хромов вам хотел что-то сказать. Людей надо слушать всегда, Воронов. Это главное в нашей работе. Впрочем, откуда вы могли знать...
— Нет, товарищ полковник, я должен был знать. Какую глупость я сделал!
— Ладно. Самоуничижением делу не поможешь. Теперь осталось измерить цену вашей ошибки. Боюсь, что она поглотит немало наших общих усилий. Ну да ладно. Поезжайте. Вечером зайдете и доложите лично.
В приемной секретарша сказала Воронову:
— Машина оперативная 12-24.
И Воронов понял, что Жигулев уже побеспокоился о транспорте.
Алексей заглянул в комнату к Стукову, тот корпел над бумажным листом, разглядывая самодельный чертеж то слева, то справа.
Он поднял голову, но Воронов упредил вопрос.
— Не спрашивай, Петр Петрович. Сегодня я, как никогда, соответствую своей фамилии — столько проворонил, что и не знаю, удастся ли наверстать!
7
Пока машина не вынеслась на Симферопольское шоссе, Воронов еще следил за дорогой. Он приказал водителю включить сирену и мигалку.
На Каширской развилке постовой, разбиравшийся с нарушителем, замешкался и не заметил «оперативки». Водителю пришлось под носом тяжелого самосвала проскочить на левую сторону дороги. К счастью, пронесло.
Машина пошла по шоссе, не снижая скорости, — под сто сорок. Все светофоры горели зеленым светом — посты передавали по цепи о приближении специальной машины, и Воронов успокоился.
«Теперь недолго осталось. Приезжать к шапочному разбору никакого смысла нет. Впрочем, главное я уже не успел. Эх, Воронов Алексей Дмитриевич, как же ты так мог человека, стоящего под подозрением, не выслушать? А если он хотел сказать что-то такое, что бы все сразу на свои места поставило? Стоп! А если ничего подобного? Кто сказал, что Хромов хотел сообщить нечто важное? А если это только совпадение во времени — желание поговорить и авария?»
Это была очень жиденькая соломинка, но Воронов ухватился за нее в полном соответствии с известной пословицей.
«Действительно, старик был чем-то недоволен и решил представителю власти пожаловаться в очередной раз на начальство, которое спрашивает с него за дело, а не за пустословие. Вот и все. К тому же последние слова шефа уж слишком эмоциональны: «А вы говорите, дело передать соседям? Если убийство, то сам бог велел нам его копать». Вот именно, «если». Обстоятельства смерти в аварии неясны, это тем более ничего не проясняет. Авария как авария. Не Хромов первый гибнет на дорогах...»
Воронов усмехнулся.
«Еще немножко, и я дам себя уговорить, что ничего не произошло. Но ведь это не так, Воронов. Во-первых, ты сделал ошибку тактическую, отложив разговор с Хромовым, даже если ему и нечего было сказать. Но что ему нечего сказать, надо было узнать точно. Во-вторых, ты упорствуешь, покрывая эту ошибку, хотя каждой клеточкой своего мозга убежден, что ошибка серьезная. Оправдания нет и быть не может. Ах, как я опростоволосился! Будь на месте Виктора Ивановича, я бы уж всыпал инспектору Воронову по первое число. Единственное обстоятельство, объясняющее доброту шефа, — всыпать мне он всегда успеет».
Место аварии было видно издалека — не стоило считать километровые столбы. На обочине стояло несколько грузовых и легковых автомобилей, водители и пассажиры которых сгрудились на обочине и смотрели, как внизу, под обрывом, возле лежащего на боку фургона, работали люди в милицейской форме. Кабина была смята начисто — видно, на большой скорости водитель не справился с рулем, растерявшись от неожиданности...
Когда Воронов вышел из машины, он услышал в толпе голос разряженной дамочки: «Неужели водитель погиб? И больше там никого не было? Пьян, наверное, был...»
Протокол составляли капитан и лейтенант. В стороне стоял майор и, словно наблюдатель, в работу не вмешивался. Можно было подумать, что он появился здесь отнюдь не в связи с происшествием, да еще таким, как гибель человека.
Воронов представился. Майор сказал:
— Хорошо, что приехали. Давайте поразмыслим вдвоем. Концы с концами не здорово сходятся — не вырисовывается занос машины. Притом пока никаких свидетелей. Маловероятно, чтобы виновник, ехавший навстречу, скажем, при обгоне, не остановился. Ведь есть еще свидетель. Тот, кого обгоняли. А так получается, что пострадавший сам направил машину в этот столб и под откос.
— Где пострадавший?
— Отправили в тульский морг. «Скорая» засвидетельствовала смерть. Тут же. Впрочем, мы прибыли через десять минут...
— Откуда такая точность?
— Инспектор мой проезжал здесь за четверть часа до нашего прибытия по вызову — ничего не было. Стал возвращаться от перекрестка к своему посту, смотрит, лежит фургон. Еще колеса крутятся...
— А вы пострадавшего видели?
— При мне вытаскивали. Вот это-то и второе, что смущает. Странно лежал в машине. От удара об столб должен был на баранку навалиться, а он как бы ее и не трогал вовсе...
Подошедший с протоколом капитан чуть насмешливо слушал своего начальника, и Воронов спросил:
— Вам тоже происшедшее кажется загадочным?
— Честно говоря, не вижу ничего особенного. Обычная авария. Произошла по вине шофера. Это факт. Раннее утро. Неизвестно, когда выехал из гаража. Ну, предположим, это установим. Но как он провел ночь? Может, и не ложился. Вот вам и причина, — потряс протоколом капитан. — Заснул, так мне кажется.
— Правильно, капитан, — не то в шутку, не то всерьез согласился майор. — Четкую версию всегда выгоднее иметь, чем предположение, которое еще проверять надо. Это все равно что купить какую-нибудь штуковину с ручкой: когда-нибудь, а носить придется. — И, обидчиво повернувшись, пошел к машине. Воронов двинулся за ним — всезнающий капитан не внушал ему доверия, хотя и рассуждения майора ничего для прояснения проблемы не добавляли.
— Сколько километров до морга? — спросил Воронов, когда они обошли перевернутую машину и остановились позади фургона.
— Километров семьдесят пять. До самой Тулы ехать надо...
Воронов подошел к задней двери фургона и осторожно потрогал маленький свинцовый кружок на проволочке.
«Вот так, от кабины ничего не осталось, а пломба цела. А прошлый раз все было наоборот. В кабине все цело, а вот пломбочка того...» — Воронов присвистнул, и майор с удивлением посмотрел на него.
— Я, пожалуй, проеду в морг. Хочу осмотреть вещи и познакомиться с результатами вскрытия. А как вам позвонить? Меня очень заинтересовали ваши сомнения.
Майор дал координаты и назвал свою фамилию: Хромов.
— Знаете, а ведь у шофера фамилия такая же...
— Знаю, — буркнул майор. — Редкой нашу фамилию не назовешь.
Но все-таки Воронову показалось, что совпадение фамилий майору было не очень приятно.
Вскрытие уже закончили, а патологоанатом заполнял протокол, когда в ординаторскую вошел Воронов. На его вопрос ответил определенно.
— Раздробление основания черепа... Типичная причина смерти в автомобильных авариях. Странно только, что без рваной раны. Обычно, когда шофер ложится грудью на руль при ударе, готова попадает между рулем и верхней кромкой ветрового стекла. А тут... — Он развел руками. — Хотя, судя по протоколу, кабину так измяло, что любая рана правомерна.
— Доктор, пока я осмотрю вещи, у меня к вам личная просьба: проверьте все внимательно еще раз. И все сомнения, которые есть, я подчеркиваю, сомнения, изложите письменно. Боюсь, что в этом деле каждая мелочь будет играть решающую роль.
— Вы что, за ним давно следили? — полюбопытствовал хирург.
Воронов только улыбнулся в ответ.
— Понял, — поспешно согласился хирург, — профессиональная тайна.
— Нет же... — признался Воронов. — Просто мы сами еще ничего не знаем. Вот только нужен нам был Василий Петрович живым, ой как нужен был...
Осмотр вещей не дал ничего интересного: в карманах была найдена начатая пачка сигарет «Столичные», семь рублей, не считая мелочи, ключи на самодельном брелоке, моток медной проволоки, словно сорванный с трансформатора, да небольшое карманное надтреснутое зеркальце.
И не о чем было бы докладывать начальнику отдела вечером, если бы не патологоанатом. Окончательный вывод экспертизы звучал парадоксально. Воронов твердил эту фразу до самой Москвы, словно старался раскусить твердый, не поддающийся на зуб орех фундука, и понять, что скрыто за ее ничего не значащей и одновременно такой многообещающей скорлупой:
«Смерть наступила в результате перелома основания черепа, вызванного ударом тупым предметом сзади».
А это значит, с Хромовым был кто-то еще. Но кто? Оставалась пока только Мотя...
8
— Это ты?
Звонила Лариса.
— Инспектор Воронов, — официально ответил Алексей, делая вид, что не узнал ее голоса.
— Ты прикидываешься, что не узнал, потому, что забыл выполнить мою просьбу, — фыркнула Лариса.
И тут только Воронов вспомнил о своем обещании достать билеты на премьеру нового балета. Почему Ларисе захотелось пойти именно на этот спектакль, пожалуй, не смогла бы ответить и она сама. Так, по крайней мере, считал Воронов.
— Ты, как всегда, думаешь обо мне хуже, чем я есть. Представь, заказал два билета на ближайший же спектакль. Но предупредили — желающих слишком много. Какой-то невероятный ажиотаж, — соврал Воронов, понимая, что, если спектакль не моден, Лариса вряд ли на него пойдет. И, словно в подтверждение догадки, трубка милостиво произнесла:
— Ходить на заурядные постановки у меня просто нет времени...
— Знаю, потому вечером перезвоню — мне скажут: будут билеты или нет.
— То есть как нет? Может твоя знаменитая красная книжечка принести нам малейшую пользу в виде двух билетов вне очереди?
— Зарплату ты, конечно, в число полезных вещей не включаешь!
Воронову хотелось бросить трубку, но близкая перспектива очередной ссоры казалась ему малоприятной, и он решил отпарировать:
— Это все-таки лучше, чем стипендия вечного аспиранта.
— Считай, что ты меня уколол, — раздалось на другом конце провода. — И прощение получишь, лишь принеся в клювике два билета. До вечера.
Короткие гудки в трубке закончили довольно нелепый разговор.
Вечером Лариса позвонила неожиданно, как делала это всегда.
Глаза у Воронова слипались, и не хотелось даже протянуть руку, чтобы пододвинуть аппарат к себе. Разговор обещал быть долгим и острым.
— Так рано спать? — Тембр голоса Ларисы не предвещал ничего хорошего. — Где же великий Нат Пинкертон, который бдит, не зная личной жизни? Алешенька, я вас не узнаю! Вы — и спать! Вы, который даже не удосужился доложить мне о билетах! Не просиди я полвечера у телефона, так бы никогда и не услышала голоса великого сыщика.
Алексей поморщился.
— Лорочка, сколько раз я просил, не называть меня сыщиком. Я — инспектор уголовного розыска.
— Не улавливаю разницы! Скажу по секрету: «сыщик» мне нравится больше! В этом, если хочешь, есть что-то собачье...
— Ну, знаешь... — он даже поперхнулся. Но Лариса, предвосхищая продолжение его реплики, сказала:
— Ладно, не сердись. Хочу сообщить тебе новость — у меня намечается свободная суббота, и я готова посвятить ее работнику МУРа.
Воронов молчал слишком долго, гораздо дольше, чем, по представлению Ларисы, следовало молчать после столь заманчивого предложения.
— Видишь ли... Я некоторым образом работаю. С утра надо поехать на один объект...
Лариса рассмеялась, и смех ее звучал совсем плохо.
— Несчастный! И ты мнишь, что, губя жизнь, я свяжу свою судьбу с человеком, который будет вечно занят по субботам и воскресеньям? Ты ошибаешься. Найди себе садовницу, которая бы в дни, когда ты занят, бегала по любовникам и выращивала у тебя на лысине ветвистые рога...
— У меня нет лысины...
— Так будет. С такой работой у тебя не только лысина будет, но и грыжа! Я тебе обещаю.
— Лора, это чрезвычайный случай!
— Глупо.
В трубке зазвучали короткие гудки. Ничего не оставалось, как набрать номер Ларисы. Она откликнулась сразу.
— Если погулять со мной времени нет, хоть телефон свой почини, чтобы на расстоянии общаться было можно...
— Да, — поспешно поддакнул Алексей, — действительно, аппарат что-то барахлит. То не соединяет, то никак не отключишься после разговора.
— А ты чего, собственно, звонишь?
— Мы же не договорились...
— Как не договорились? Ты в субботу работаешь, А я с приятелем поеду за город. Бабье лето на носу все-таки. А это значит, мое времечко...
— Я завтра вечером тебе позвоню...
— Звони. Может быть, вечером и буду дома...
Она зло швырнула трубку, и у Воронова не было никакого желания звонить ей еще раз. Но, когда он все-таки попытался набрать ее номер, он оказался занятым.
С горьким осадком на душе после нелепого разговора он заснул. С ним и проснулся.
9
Мотя ревела. Она не ответила толком ни на один вопрос Воронова. Так была перепугана вызовом в МУР, что не только дара речи лишилась, но и, похоже, способности воспринимать вопросы. А Воронова интересовало одно: кому она сообщила о том, что Хромов собирался разговаривать с Вороновым? Все, что Алексей успел узнать о диспетчере Кругловой, выводило ее из-под подозрения. Впрочем, скорее, «почти» выводило.
В ответ на все вопросы Мотя только ревела.
Третий стакан воды, налитый Вороновым, был наполовину пуст. На его тонких стенках жирно алели следы губной помады, а остатки воды помутнели от слез, капавших в стакан с накрашенных щек.
— Мотя, поймите, слезами тут не поможешь. Всю жизнь проплакать вам не удастся. Надо отвечать. Это очень важно. — Воронов говорил вкрадчиво, даже немного утрируя произношение, как это иногда делают, подстраиваясь под речь иностранца, плохо знающего язык.
Но Мотя ревела. Навзрыд. Иногда затихала, и тогда молча, уставившись взглядом в стену, сопела, изредка размазывая по грязному лицу остатки туши.
Прошло не менее получаса, прежде чем она пришла в себя. Воронов уже отчаялся добиться от нее толку. И впрямь, когда она заговорила, то, с его точки зрения, уж лучше бы молчала или ревела беспробудно.
— Я никому... Ничего... Не говорила... Я ничего не знаю... Ничего не слышала... Тогда очень торопилась на свидание... У меня... Клянусь, я не слышала ни слова, о чем вы говорили... Только отметила путевку... Даже в лицо не взглянула Василию Петровичу... — при упоминании имени и отчества погибшего она зарыдала вновь, и Воронов, заставив выпить еще стакан воды, отпустил ее, сказав уже у дверей:
— Смотрите, Мотя. Это было очень важно. И если вы обманули, вам придется отвечать по всей строгости закона.
Воронов вернулся за свой стол и, сняв пиджак, повесил его на спинку стула. Слова полковника Жигулева, сказанные им утром на оперативке, вместо того, чтобы стимулировать работу мысли, отбирали, как у заведомого труса, последние силы. А были эти слова, в общем-то, обычные и закономерные: «Ну, Алексей Дмитриевич, сами дров наломали, сами и в поленницы складывайте».
«Выслушай я тогда Хромова, половина, если не все, куда яснее виделась бы. А сейчас и подступиться не знаешь с какого конца. Из каждой ситуации минимум два выхода. Да и дела два: кража и убийство. Предполагаемое убийство, — уточнил Воронов. — Впрочем, и предполагаемая кража. Надо не только доказать, что это так, но и найти связь между двумя линиями. Не знаю почему, может быть, это похоже на самоистязание грешника, но мне кажется, что связь несомненна и что связующим звеном был Хромов. Но каким?»
Зазвонил телефон.
— Воронов слушает...
— Товарищ лейтенант, тут в проходной вас спрашивает гражданин один. Фамилия — Мишенев. Очень настойчив. Ждет уже долго...
Воронов обрадовался даже не самому приходу Мишенева, а любой возможности двинуться хоть куда-либо с той мертвой точки, на которой находилось дознание.
Мишенев вошел мрачный и, ни слова не говоря, уселся на стул напротив. Воронов терпеливо ждал. Мишенев молчал. Глаза его смотрели настороженно, словно он внутренне готовился к признанию в чем-то очень важном и решающем.
— Если вы пришли, то, наверно, хотели мне что-то сказать? — первым начал Воронов и почувствовал, что начал неважно. — Я собрался к вам в гараж... Непременно хотел с вами серьезно поговорить.
— Видел вас... Вы начальство наше обхаживали...
— И почему не подошли?
— Каждый свою баранку крутит, — неопределенно ответил Мишенев.
Только сейчас Воронов обратил внимание на довольно грязный, в глине, мишеневский костюм, спешно и неаккуратно подчищенный. Особенно грязными выглядели широкие отвороты брюк. Черные импортные туфли были по-шоферски ополоснуты водой, очевидно, из лужи и пошли бурыми разводами.
— Я ездил на аварию, — наконец произнес Мишенев. — Все это вранье про несчастный случай. Такого быть не могло.
— Однако было.
— Смерть была, — упрямо повторил Мишенев. — Но Хромов здесь ни при чем. Старик слишком хорошо водил машину, чтобы ни с того ни с сего столько напахать.
— Ему могло стать плохо, — опять вмешался Воронов, интуитивно почувствовав: самое лучшее, что он может сделать — раззадорить Мишенева.
— А вы в отдел кадров загляните! — зло пробурчал Виктор. — Если найдете за последние десять лет хоть один больничный Хромова, я вам свою квартальную премию на блюдечке с голубой каемочкой принесу прямо сюда.
— Это зачтется как взятка. Сидеть будем оба, — Воронов попытался шуткой завести Мишенева.
— Сидеть буду я — типичный представитель ворья! — он криво усмехнулся. — Но не о моей сиделке речь. Нынче это вторым делом стало. Дяди Василия нет... — он дернул носом, почти как Мотя. — Это сейчас главное. Вот вам чем заниматься надо!
— Ну, знаете, — Воронов возмутился. — Уж как-нибудь без вас разберемся, чем нам заниматься!
— И то верно, — охотно согласился Мишенев. — Это, так сказать, мое личное мнение.
— На чем же оно зиждется?
— Чего-чего? — переспросил Мишенев.
— Я спрашиваю, на чем основывается ваше личное мнение, что нам следует заниматься аварией Хромова, а не кражей, совершенной водителем Мишеневым?
Виктор стиснул руки так, что пальцы у него побелели.
— Дядю Василия убрали, — глухо повторил Мишенев.
— Это такое же необоснованное предположение, даже менее обоснованное, чем кража Мишеневым государственных ценностей на сумму более полутора тысяч рублей.
Мишенев растерялся. Он искал выхода из тупика, в который загонял его Воронов. Алексей чувствовал, что в столь критическом положении тот должен будет или замкнуться или рассказать правду.
— Дядя Василий сказал мне, что должен был наутро с вами встретиться.
«Вот оно, — сердце Воронова захолонуло. — Как же я это не сообразил, что кроме слышавших нас и сам Василий Петрович мог рассказать кому-то о своих завтрашних планах».
— Да, это посерьезней кражи из фургона, — тихо сказал Воронов, стараясь поймать взгляд Мишенева, но тот упрямо смотрел в пол. — Вот что, Виктор, давайте-ка спокойно, начистоту и до конца рассказывайте все, что знаете. Вы единственный, — схитрил Воронов, — человек, который знал, что Хромов собирался встретиться со мной для очень важного разговора. Если вы предполагаете, что его убрали, то, простите, подозрение прежде всего падает на вас.
Вот когда Мишенев поднял свои глаза. И было в них столько искренней боли и ненависти к нему, что Алексею стало не по себе.
«Этот парень, пожалуй, может пойти на все. Уж не прав ли Станислав Антонович, что наглость его пределов не имеет...»
Взгляд Мишенева потух так же быстро, как и вспыхнул. Словно Воронову лишь почудилось мерцание в нем ярости.
— В тот вечер я после работы с дядей Василием пил пиво. И он сказал, что имеет кое-какие соображения насчет того, кто на нас поклеп в краже возводит.
— Он вам сказал, какие соображения?
— Нет, — помотал головой Мишенев, — только собирался, но тут подошла моя очередь брать пиво. А еще в две кружки недолили, ну дядек и завелся. Пиво уже выпили, а он все успокоиться не мог...
— И вы больше ни разу не поинтересовались, что он мне хотел рассказать? — недоверчиво переспросил Воронов.
— Поинтересовался... — Мишенев отмахнулся. — Дядя Василий балагур, но, сколько бы ни трепался, если не захочет, из него нужного клещами не вытянешь. Всегда может скрыться за словами, которые не встречаются в словарях. Да, честно говоря, мое настроение тоже ни к черту было! И потому интереса особого не проявил... Мало ли у меня самого соображений имеется! Не было бы, не пришел к вам прошлый раз.
— Какие у вас были отношения с Хромовым? — в упор спросил Воронов.
Мишенев помолчал, пожал плечами, словно прежде всего мысленно отвечал самому себе, и сказал:
— Обыкновенные. Он меня шоферить учил. Когда я в гараж нанимался, он преподавал на курсах. Машину знал отменно, но пуще всего езду разумел. У него я наслушался тогда правил, которыми до сих пор пользуюсь.
— А именно? — неизвестно почему полюбопытствовал Воронов.
— Ездил дядя Василий грамотно — скорость свыше ста километров не признавал, но под сотню держал так плотно, что мышь не проскочит. Не как некоторые сопляки — раскочегарят до ста двадцати, а потом зависнут на сорока. И так дергаются всю дорогу, ни себе, ни людям езды не давая. Потом три золотых правила было у дяди Василия... Следи за третьей впереди идущей машиной, а не за той, которая перед тобой, только тогда успеешь среагировать на внезапную остановку. Старайся ездить так, чтобы тормозами не пользоваться — не тормозишь, значит, режим скорости верный. Нос машины старайся держать всегда в пустоту, чтобы впереди идущего в зад не поцеловать. Расчетливым хозяином, говорил дядя Василий, себя на дороге в любую минуту чувствовать надо, а больше всего, говорил, опасайся пижона в зеленой шляпе за рулем вчера только купленной «Волги» с любительскими правами, полученными с пятого захода...
— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо остановил Мишеневский монолог Воронов. — Ну, а вы, Виктор, как считаете, кому Хромов мешал?
— Ну, мешал-то он с его острым язычком многим. Начальству был как прыщ на заднице. Меня они тоже не жалуют особой любовью. Но, признаться, меня и любить не за что — характер уж больно неустойчивый, как выражается директор. А дядя Василий — человек! Он свой шоферский хомут тянет не только грамотно, но и с лихостью, присущей старым работягам. Думаю, мешал он тем же, кому и раньше мешал и кто меня и его кражей под удар поставил... Чтобы избавиться...
— Считаете, что оба вы — жертвы определенного заговора? Прошлый раз вы мне этого не говорили...
— Все думки сразу даже верблюд выплюнуть не сможет, — насупился Мишенев. — Кто знает, правильно ли я сделал, что вообще к вам пришел. Пусть бы себе обычным порядком тянулось. Вот только локомотивовская история меня попутала. И еще дядя Василий, с которым посоветовался, не отговорил. Правда, особой веры в вас тоже не высказал...
— Почему же сам потом решил прийти?
— Всякое случается... Значит, мнение свое изменил...
— Хорошо, Виктор. Как вы считаете, с чего мне надо начать? — Воронов доброжелательно посмотрел на Мишенева. Но тот не ответил тем же. Наоборот, колюче бросил:
— Дело ваше. Вам за то деньги платят. А только ни я, ни Хромов ничего из кузова не брали и пломб не срывали. На то даем наше общее честное слово. За себя говорю и за Хромова тоже.
Воронову показалось, что клятва Мишенева прозвучала несколько фальшиво и выспренно.
— Ладно, — коротко подвел итог Воронов. — К вам просьба: изложите письменно все, что считаете нужным, в доказательство вашего утверждения неслучайности происшедшей аварии. И про кражу можете тоже...
Воронов показал на соседний стол, на котором лежали бумага и ручки:
— Пишите спокойно, обстоятельно, скоро вернусь.
Он запер сейф и прошел в комнату Стукова. Петра Петровича не было. С ним он столкнулся уже в дверях, когда выходил.
— Как дела? — спросил Стуков, но по тону вопроса Алексей понял, что у самого Стукова дел по горло, и решил с дальтрансовскими заботами не лезть.
— Корпим помаленьку...
— А мне полковник подарочек подкинул — самострел сторожа. Твои-то автофургоны все бегают?
— Где-то бегают, — рассеянно сказал Воронов. — Ну, пока. Освободишься — позови, хоть расскажешь, как пузо жарил под южным солнцем. Что лысина загорела, я и так вижу.
Взяв у Мишенева две страницы, — на создание большего тот был явно не способен, — исписанных, к удивлению Алексея, ровным, как бы законсервированным со времен изучения каллиграфии почерком, Воронов отпустил шофера и погрузился в анализ его сочинения. Потом, прихватив папку с документами, поехал в ГАИ. Ему не терпелось свести мнение майора Хромова и шофера Мишенева воедино, но на базе профессионального инспекторского разговора. Нужен был абсолютно определенный ответ: авария случайная или нет?
10
В воскресное утро Воронов решил поработать с бумагами, хотя свободного времени оставалось немного: свидание с Ларисой было назначено на двенадцать. Едва он сел за стол, вошел Стуков. Воронов понял, что надежда поработать тщетна, и, вздохнув, настроился на курортные воспоминания. Но Стуков, поправив очки, словно угадал мысли Алексея.
— Мешать не буду. Немножко в курсе твоих дел. Один дружеский совет — Мишенева надо разрабатывать основательно. И потому я бы на твоем месте прокатился с ним в какой-нибудь город. Во-первых, узнаешь, почем кусок шоферского хлеба. Во-вторых, чем черт не шутит, может быть, сойдешься с Мишеневым поближе — дальняя дорога тому способствует: много разного народа вокруг будет. Глядишь, просочится информация, которой тебе недостает...
— Мишенев считает, что Хромова убрали. А сам еще далеко не чист. Никакого алиби по делу о краже. Только голословное утверждение. Похоже, от своей персоны отвлечь внимание намерен. Так и сказал: «Нынче мое дело вторым стало».
— А если кто-то захочет убрать и Мишенева? — внезапно спросил Стуков.
— Ну, Петрович, так можно договориться и до существования мафии!
— Для существования мафии, — словно читая лекцию, произнес Стуков, — в нашей стране нет социальных корней. А вот три тесно сплотившихся головореза перед угрозой разоблачения могут не одного человека с дороги убрать...
— Преувеличиваешь, — резюмировал Воронов.
Стуков пожал плечами.
— Проповедь в церкви не делает громоотвод над ней бесполезней... Совет дармовой — платить не надо. Следовать тоже... Как знаешь.
— Не обижайся. Ничего-то я не знаю, потому и спорю. Одно, пожалуй, знаю — никогда себе не прощу, что Хромова в тот вечер не выслушал...
— Ладно терзаться угрызениями совести... Вывод сделал, и хорошо. Самокритика чем сильна — у нее слишком много союзников в стане критики.
— Что поделаешь, если моя основная работа — заваливать элементарные дела! Скажи-ка лучше, как отдыхал.
— Ты же поработать пришел в выходной день, а не байки слушать? Твоя Лариса, наверно, тебе живописнее про курорты рассказывала?..
— Фу ты, зануда! Можешь человеку, озабоченному твоим здоровьем, ответить, как ты от-ды-хал? — по слогам протянул Воронов.
— Отменно отдыхал. Отдыхать — не работать. Лучше всего, конечно, в таких отпусках — теплое ласковое море. Загульность курортную не люблю, а вот водичку бархатную очень одобряю. Знаешь, чем старше становлюсь, тем яснее понимаю: если в море не окунулся, в отпуске не побывал.
— От жизни следует требовать услуг по возможностям, а не по нашим желаниям, — согласился Воронов.
Они помолчали. Каждый отчетливо понимал, что разговор об отпуске — так, дань дружеской вежливости. И если они сегодня, в день, когда надлежит отдыхать, пришли сюда, значит, в том есть нужда.
— Ну, что, Алеша, тяжко? — спросил вдруг Стуков, и в тоне его Воронов неожиданно уловил так много общего с голосом матери, спрашивавшей, бывало, когда работал и учился, если не теми же словами, то таким же участливым тоном.
— Тяжко, Петр Петрович. Смерть как не люблю делать ошибки...
— Кто их любит делать? Важнее другое — любишь ли ты их исправлять!
— Я вот тут пытаюсь проецировать кое-что на дело Мамлеева...
Стуков перебил его, даже не дав закончить фразы.
— Это и есть твоя следующая ошибка. Новое дело проецировать непосредственно на старое — самое последнее, что позволительно делать нашему брату. Прямые аналогии противопоказаны. Только опосредствованно, через опыт, через какие-то аналитические формы, — Стуков говорил резко. — Пойми, такая проекция, как шоры для лошадей, — кроме того, чем задался, ничего больше не видишь!
— Признаться честно, — примирительно сказал Воронов, — я и сейчас ничего иного не вижу. Более того, заданности определить не могу. Не улавливаю связи между недостачей Мишенева и смертью Хромова.
— Это тебе хочется, чтобы не было, — и, успокаивающе подняв ладонь, поскольку Воронов хотел возразить, Петр Петрович продолжал: — И это естественно. Но ты, на мой взгляд, должен сейчас сделать главное — собрать максимум информации. И любое сомнение должно быть не более чем проявлением бдительности, иначе оно станет опасным. Скажу по совести, мне очень не нравится смерть Хромова. И не только потому, что по-человечески жалко Василия Петровича, а потому, как уж слишком решительной реакцией на сгустившиеся для кого-то тучки выглядит все это. А коли так, то ветвистый сорняк растет... Логический вывод — много народу, много следят, ищи следы глазом и ухом.
Воронов с интересом смотрел на Стукова, который разговорился с несвойственной ему многословностью. Старший следователь был прав. Алексей и сам осознавал неслучайность смерти Хромова, но боялся признаться себе в этом: сделанная им ошибка росла, будто на дрожжах, и принимала размеры почти катастрофы.
— Смотри, — Стуков неожиданно прервал свой монолог. — Вот схема твоего поиска...
Он взял красный карандаш, и жирная линия легла на лист бумаги.
— Одна точка ясна — это база Дальтранса. Чем дальше от нее, тем труднее. Точка загрузки... Адресов уже много... — Стуков объединил их в большое красное кольцо. — И вот эта прямая. Как ты помнишь, геометрия учит нас, что прямая всего лишь выстроенные точки, числом до бесконечности, — довольно произвольно сформулировал аксиому Стуков. — Где-то в этом море точек и лежит твоя разгадка. Похоже, надо идти методом исключения. Сначала проверь, как разгружают. Предположим, ты это уже знаешь.
— Ты рассуждаешь так, словно мне позволят целую вечность заниматься Дальтрансом. Да еще в одиночку!
— Считай, что тебе уже не дали вечности и тем более действовать в одиночку.
— Как прикажешь понимать?
— Разъясняю последнее, — Стуков улыбнулся. — Решением руководства старший следователь Петр Петрович Стуков придается для совместной работы инспектору МУРа товарищу Воронову Алексею Дмитриевичу, если только тот сочтет нужным...
— Шутишь, старик. Не по чину это...
— Чинами сочтемся, когда на пенсию выходить будем... А если серьезно — буду рад помочь. Дерзай!
11
— Я где-то читал, что в день рождества одна из тусканских газет печатает только хорошие новости, какие бы дурные события ни происходили, — Воронов шел рядом с Ларисой, держа ее крепко под руку, словно боясь, что после восстановленного с таким трудом мира одно неловкое выражение может поломать все. — Почему бы нам при встрече не руководствоваться этим славным примером тусканской газеты, а, Лорочка? Будь ты, наконец, обыкновенной женщиной!
— А что такое обыкновенная женщина? Которая сидит на телефоне дольше, чем на диете? — Лариса фыркнула.
Они проходили мимо зоопарка. Воспользовавшись отличным воскресным днем, казалось, город собрал всех своих маленьких жителей к распахнутым воротам.
— И тебе не мешает почаще ходить сюда — найдешь многих предков тех типов, с которыми так любишь встречаться, — назидательно произнесла Лариса. — Да и себя, думаю, увидишь иногда, глядя в клетку!
— Можешь не сомневаться, — в тон ей произнес Воронов. — Подберем и тебе соответствующий подвид.
— А слабо́?! — Лариса остановилась и, прищурив глаза, озорно взглянула на Воронова. Вот такой ее взгляд Алексей любил. Он означал бесшабашность и нежность, близкую теплоту и веселую мудрость. Лариса с таким взглядом совсем не походила на Ларису, невыносимую своей язвительностью.
Воронов решительно протолкался к кассе.
Они пошли вдоль ряда сетчатых клеток, молча рассматривая вяло дремлющих или мечущихся от стенки к стенке обитателей. Им обоим, Алексей чувствовал это безошибочно, было хорошо. Но самое смешное, что так хорошо им было в зоопарке. Воронов хотел сказать это Ларисе, но не решился, боясь, что за очередной пикировкой пропадет то обостренное чувство контакта, который так трудно установить, но так легко потерять. Особенно с их несносными характерами.
Алексей обнял Ларису. Она прижалась к нему плечом:
— Это неприлично, Алексей. Люди приходят сюда рассматривать зверюшек, а мы с тобой почти в любви объясняемся.
— Во-первых, не почти. И во-вторых, не почти. А в третьих, мне действительно хочется объясниться в любви. Тебе не кажется, Лорочка, что мы слишком долго играем в игру, за которой есть еще более интересная игра — целая жизнь вдвоем!
Лариса ничего не сказала, но по тому, как задрожало ее плечо, Алексей почувствовал, что Лариса всхлипнула.
— Что ты, Лоронька, что ты? Кругом же люди!
— И звери, — сквозь слезы пошутила Лариса. Она вытерла слезы и сказала: — Вот мы с тобой и объяснились! Чудо! В зоопарке! Если я скажу об этом моей мамочке, она упадет в обморок.
— А мы ей нальем холодной водички, она и очнется от обморока.
Лариса печально вздохнула.
— Все ты, сыщик, знаешь, все ты видел, все ты слышал...
Алексей обнял ее за плечи, и они пошли по лабиринту узких переулочков зоопарка, сталкиваясь со встречными, обходя малышей и почти забыв, где находятся.
Алексей ловил себя на мысли, что никак не может решиться выйти из зоопарка — было страшно, что за его воротами все сложится как-то иначе, неуклюже...
Словно читая мысли Воронова, Лариса спросила:
— Боишься из зоопарка выйти? Думаешь, наш мир с тобой только среди этих клеток и существовать может?
— Боюсь, — чистосердечно признался Алексей.
— Вечно здесь бродить будем? А как же ловля представителей преступного мира?
— Пошли они!..
Воронов остановился возле бойкой лотошницы и купил два слегка расплывшихся от тепла «эскимо». Порций как раз хватило на дорогу до станции метро. Спустившись на перрон, они, с интересом переглядываясь и многозначительно улыбаясь друг другу, слушали, как разновозрастные дети, каждый по-своему, обсуждали увиденное в зоопарке.
Воронов не расслышал, о чем спросила Лариса, не понял и когда она недовольно что-то переспросила. Он, не отрываясь, забыв о детях, смотрел сквозь два стекла переходных дверей между вагонами. Там, в соседнем вагоне, прижавшись спиной к двери, стоял мужчина, и боком, склонившись к нему и что-то страстно выговаривая, стояла Мотя Круглова. Когда до сознания Воронова дошло, кого он видит, какая-то ассоциативная связь узнавания точно подсказала ему и фамилию собеседника. По плечам, по характерному, несколько капризному наклону головы, он догадался, что мужчина — Виктор Мишенев.
Лариса, проследив взглядом, куда смотрел Алексей, саркастически поджала губы:
— Не надолго хватило твоей любви, Воронов! Увидел кудлатую девчонку — и размяк весь!
— Размяк, — машинально повторил Воронов. — Да-да, размяк... Ой, да что я говорю! — он прижался губами к уху Ларисы. — Ты знаешь, кто эта женщина? Диспетчер Мотя, из моего гаража...
Лариса хмыкнула.
— И что тебя так к ней тянет? Версия?
— Версия! Интересна не сама Мотя! Важно, с кем она!
— А с кем?
— То-то и оно! Провалиться мне на этом месте, если широкая спина не принадлежит Виктору Мишеневу. Эх, хотя бы краешком уха услышать, о чем они там воркуют! О чем?
Но шум трясущихся вагонов и толстые стекла дверей превращали разговор в сцену из немого кино.
12
— Так я за вами заеду, — словно уже все решил сам, твердо сказал Мишенев.
— Это, Виктор, ни к чему. Скажите, когда выезд, и я буду в гараже...
— Бросьте! Выезжать будем в три утра. Почти затемно. Надо за Калинин выбраться до того, как малокаботажники свои телеги на дорогу выгонят!
— Всегда так рано выезжаете? — как бы молчаливо соглашаясь с предложением Мишенева, спросил Воронов.
— Не-е, — протянул Виктор. — Это больше от маршрута зависит. По какой дороге едешь. Если по Симферопольке, да еще в курортный сезон, то вылетать, как материковой кряковой утке, надо пораньше, затемно. Иначе полдня потеряешь.
Алексей написал на клочке бумаги свой домашний адрес, и Мишенев удовлетворенно буркнул:
— Знакомое местечко. Совсем по дороге. Буду точно. Не проспите.
Когда полусонный Воронов спустился вниз, в прохладный воздух едва-едва нарождающегося утра, фургон Мишенева глухо урчал у самого подъезда, а водитель стоял на асфальте посреди улицы и, закинув голову кверху, считал этажи — видно, проверял, не спит ли еще пассажир.
— Думал, будить придется, — проворчал он, здороваясь за руку с Вороновым.
Фургон лихо покатил по пустынной улице. Воронов, несмотря на полусонное состояние, успел заметить, что за рулем Мишенев как бы преобразился. И Алексей затих, присматриваясь, в чем это выражается и почему это произошло.
На Мишеневе ловко сидела застиранная ковбойка из шотландки, поверх которой, облегая ладный торс, белела отделочным мехом безрукавка, тоже видавшая виды, на голове цепко держалась маленькая чистенькая кепочка из зеленоватого брезента.
«Ну, конечно, в этой привычной одежде он как бы в своей тарелке. И это само собой разумеется, — рассуждал Воронов, время от времени отрывая взгляд от пустующего впереди блеклого полотна дороги и поглядывая искоса на Мишенева. — Нет, здесь что-то иное. Как он садился на свой облучок, как помог забраться мне! Да, именно в этот момент Виктор показался мне другим».
Воронов мучительно пытался уловить это ускользавшее определение, и Мишенев будто догадался о его муках.
— Особо не спешите о деле думать, — нараспев сказал он, не поворачиваясь от дороги. — У нас с вами времени хватит. Досыта наговоримся — путь предстоит неблизкий...
В эту секунду Воронов четко сформулировал долго ускользавшее определение — просто Мишенев был самим собой. Здесь он жил, здесь работал, и кабина тяжелого трейлера была его домом. Каждое движение подчинено строгой логике целесообразности, выверено до предела, скупо и эффективно.
В манере Виктора вести машину Воронову почудилось нечто, от красивости работы главного диспетчера, только мишеневская работа была более искренней, а потому и более впечатляющей.
Алексей устроился поудобнее на широком сиденье просторной кабины. Она убаюкивающе покачивалась на высокой скорости, словно плыла по легкой зыби.
Засмотревшись на пустую дорогу и думая о своем, совсем не причастном к мишеневскому делу, — о вчерашнем объяснении с Ларисой в зоопарке, — Воронов задремал. Проснулся, кажется, сразу. Но это «сразу» было именно кажущимся.
Во все ветровое стекло машины сияло солнце, стоявшее высоко над левой кромкой леса. Фургон тоже стоял — в очереди перед закрытым железнодорожным переездом. А за рулем сидела только половина Мишенева... Виктор высунулся в окно и беззлобно переругивался с водителем, вышедшим размять ноги из приткнувшегося где-то под капотом «Жигуленка». Воронов его поначалу даже не заметил...
— Вам какой двигатель ни ставь, вы все равно будете при обгонах висеть, как сопли, — говорил Мишенев, и спина его агрессивно дыбилась, хотя в тоне не чувствовалось злобы — скорее легкое презрение. — Не притормози я на том подъеме, сидел бы ты под самосвалом! А знаешь, сколько мне потом горбатиться пришлось, чтобы раскачать эту махину в гору? То-то! А вам что, вы только себя на дорогах и уважаете! И то не очень!
Видно почувствовав, что Воронов,проснулся, он обернулся и, улыбаясь, сказал:
— С добрым утром, Алексей Дмитриевич! Ну и спать вы здоровы! Я тут одного «Жигуленка» чуть не придавил, а вы даже и ухом не повели, — но, заметив смущение Воронова, весело добавил: — Это правильно, что поспали. Одна беда в том — водителю соблазнительно, когда пассажир рядом дрыхнет.
Мишенев был в прекрасном настроении и тому, похоже, не в малой степени способствовала погода: теплый, солнечный, сияющий день.
За переездом пробка быстро рассосалась. Скоростные легковушки ушли вперед. Удрали и газующие нещадно новые лихачевские самосвалы. Они вновь остались на дороге одни. Впрочем, теперь уже не надолго. Нет-нет да из-за спины выскакивали «Волги» или они сами доставали какой-то местный малокаботажный рыдван. Только здесь, в кабине трейлера, Воронов, привыкший ездить в стремительных, ничему не подчиняющихся оперативных машинах, ощутил давлеющее воздействие фактора постоянности скорости.
Чем дольше ехал Воронов, тем больше укреплялось в нем ощущение прямой параллели с кораблем. Размеренно, будто и независимо от воли кормчего, плыл тяжелый фургон то в разливе предосенних убранных полей, то вдоль прихваченной желтизной стены густого смешанного леса, подступавшего к самой дороге. Постепенно, но заметно для глаза, берез и осин становилось все меньше, а островерхие пики разлапистых елей подступали к дороге все ближе и ближе. Время от времени они проплывали сквозь деревни, мимо словно в солдатских шеренгах застывших одинаково окрашенных, по заказу, домов, с ярко полыхающими на солнце новыми крышами из оцинкованного железа.
В глухом лесу Виктор притормозил, завел машину в боковую аллею, и Воронов только сейчас заметил веселую вывеску русского ресторана. На поляне, где стоял теремок, отдыхало несколько фургонов. Все они смотрели задними дверьми в сторону ресторана. Мишенев тоже долго мудрил, гоняя громоздкую машину по тесной площадке, пока не поставил так, как хотел, и, довольно хмыкнув, предложил:
— Перекусим. Голод — плохой попутчик в дороге.
Они сделали заказ: русскую похлебку и мясо по-домашнему в горшочках. Воронов спросил:
— Ставите фургон так специально?
— А как же... Приходится хитрить. Дороги дальние, люди разные... Чтоб к вам лишний раз не заглядывать, еще и не то готов делать...
— Ну, а в туалет вышел или отвлекся с официанткой?
Мишенев засмеялся.
— Честное слово, вы говорите так, будто в фургон забраться что спички из кармана вытянуть. С ним повозишься. К тому же присмотритесь, — он одними глазами показал на соседние столики, где, беззаботно болтая, шумно ели водители других фургонов. Присмотревшись, Алексей заметил, что они будто несли коллективную службу дозора, временами поглядывая на машины. Стороннему человеку могло показаться, что они еще не налюбовались мощью своих трейлеров.
— Не всегда, конечно, такое идеальное место выпадает. Бывает, в сутолоке машину воткнешь, в сутолоке ешь, и мимо машины разный люд шмыгает. Но за долгие годы не доводилось видеть, чтобы кто-то с пломбами шалил в обеденное время. Чужой среди наших машин слишком заметен опытному глазу.
После обеда Мишенев поболтал с водителями идущих навстречу машин, порасспрашивал о дороге, вспомнил с кем-то совместную ночевку на юге, отказал пассажиру, просившемуся в попутчики, хотя Алексей легко мог потесниться и его поместить.
Потом, поведя плечами, как бы сбрасывая тяжесть обеда и проделанной дороги, сказал:
— В путь? — И сам себе ответил: — Трогаем.
«Странная привычка у этого малого — задавать самому себе вопросы и тут же отвечать на них. Не очень-то вежливо по отношению к собеседнику. Но, наверно, я тут не справедлив к нему. Характер, как он сам говорит, диктуется обстоятельствами. Сидя в кабине, чаще всего в одиночку, волей-неволей научишься самого себя спрашивать и самому себе отвечать».
13
Это только со стороны, да такому непросвещенному в шоферском деле человеку, как Воронов, казалось, что они катятся сами по себе да еще и по воле судьбы. Только когда они на третьи сутки прибыли на базу, расположенную в Таллинском пригороде с певучим названием Меривялья, точно к открытию, Воронов понял, что Мишенев рассчитал маршрут не только по часам, но и по минутам. И неспешную одиночную ночевку возле речушки, в которую они перед сном окунулись, а потом забрались на кровати: Воронову Виктор уступил верхнюю, подвесную, а сам устроился на сиденье. Понял Алексей и суть озабоченных взглядов на часы, и сегодняшнего поспешного подъема, словно они проспали положенное время отправления.
На базе Воронов был совершенно лишний. Собственно, разгрузка его мало интересовала. Он познакомился с ней на базах Москвы. Только удивился, как Мишенев, не зная эстонского языка, так споро договаривается с парнем, знающим русский не лучше.
Машину поставили к пакгаузу, акт о приемке нетронутой пломбы Мишенев послюнявил и, сложив вчетверо, сунул в пухлый бумажник.
— Ну, пошли с городом знакомиться. В Таллине бывать не приходилось?
Воронов отрицательно покачал головой.
— Занятный городок. Улочки малые — не по мне. А вот запах, как в никаком другом городе! Кисло-сладкий какой-то! Говорят, от сланцев, горящих в печах. Не знаю. Но щемит в душе от его привкуса, и снова, когда вспомнишь где-нибудь далеко, этот таллинский воздух вдохнуть хочется.
— А как же с машиной?
Мишенев махнул рукой:
— Это дело их. Разгрузят и здесь же другой товар поместят. Под вечер пломбу проверим и айда в обратный. Не рейс, а прогулочка!
Видно, Воронов и впрямь с интересом осматривал город, потому что только после обеда, сытного и вкусного, в маленьком затемненном кафе Мишенев решился предложить:
— Не знаю, может, вам и ни к чему, только мне бы хотелось очень... Тут первенство страны по мотогонкам... Потому и народу в городе раз-два — и обчелся! Все там, кто свободен.
— Увлекаетесь мотоспортом?
— Не сказал бы. Просто выступает здесь один наш парень, Петька Чуев, мастер спорта. Грозился без «золота» в гараж не возвращаться.
— Он работает в Дальтрансе?
— Как сказать... «Работает» — не совсем точное выражение. Правильное было бы — «числится». Зарплату получает регулярно, а дел у него — только с мотоциклом! Тут, конечно, не белоштанный теннис и, пока машину приготовишь к соревнованиям, всякой работы — от сварщика до электрика — наделаешься. Чуев — наша штатная слава. Да мы не в обиде. Для миллионного оборота Дальтранса его зарплата нипочем. Выдюжим! А славы Дальтрансу спортивной не занимать! Вам не довелось до наших клубных боксов добраться?
— Нет. А что, и такие есть?
— Есть! — не без гордости сказал Мишенев. — Директор сам лично распорядился старые мастерские отдать спортсменам. Человек тридцать этим самым мотоспортом у нас балуются. И я немножко... Месяца три назад свой кроссовый заложил. С полгодика придется доводить машину...
— Кто-нибудь еще, кроме Чуева, такую же зарплату получает?
— Нет, конечно, — раздраженный непонятливостью Воронова, сказал Виктор. — Он ведь ас, знаменитость! Понимать надо! Инструктором как бы считается. А настоящим-то инструктором Хромов был. Тот на своем старом «цундапе» будто король ездил. Он и Чуева в люди вывел. Да вот в последнее время что-то разошлись они. Очень не нравилось Хромову, что работает в секции он, а деньги Чуев загребает. И не от зависти, не от жадности. Нет! Просто начал Петька уж очень нос воротить! Куда там — в чемпионы прорезается!
— А что, это очень интересно! Ехать-то далеко надо?
Мишенев облегченно вздохнул и, не скрывая радости, сказал:
— Недалеко, если в автобус попадем. Мне тут несколько раз доводилось быть, да и Петька все расписал.
Они сели в старый, тяжелый красный автобус, и тот скоро вылетел за город, к морю, и понесся вперед, словно торопился до захода солнца обежать его — уходящее в дымку тихое серебристое зеркало.
Последние километра два пришлось идти пешком. Навстречу тек людской поток, и Воронов понял, почему они так легко сели в автобус: время было позднее, и зрители уже начали возвращаться в город. Мишенев шел уверенно, словно много раз ходил этой дорогой. Они постояли до конца заезда на повороте, носившем название «Пирита». Поворот был этак градусов на сто двадцать, с желтыми мешками, обнимавшими стволы сосен, с белой предупредительной лентой и канатами, удерживавшими кричащих людей, так и норовивших вылезти на иссеченный черными полосами резины асфальт.
После заезда перебежали кольцо и лесными тропами вышли на поляну, уставленную пестрыми палатками и машинами всех цветов и марок. Словно восточный базар, шумел мотоциклетный лагерь. На траве отдыхали парни в кожаных брюках и куртках. Диковинными грибами красовались брошенные на траву шлемы.
Воронов давно бы потерялся в этом ералаше, но Мишенев чувствовал себя как рыба в воде. Уже через минуту он притянул его к группе ребят, среди которых выделялся высокий, стройный блондин, державший в руках пачку американских сигарет. Одет он был в изящный черный кожаный костюм и яркую малиновую рубашку, видневшуюся из-за расстегнутой молнии.
— Здорово, Петро! — радостно сказал Мишенев.
— А-а, Колумб наших дорог! Здорово. Новую партию кальсон привез? — под хохот присутствующих сострил блондин.
— Никак, тебе уже новые штаны понадобились? — с притворным испугом, под еще более дружный хохот, отпарировал Мишенев.
Блондин смутился.
— Скажешь ты, Витька!
— Точно. У меня не залежится! — примирительно протянул Мишенев. — Так как, Петро?
— Пока третье место есть... Но завтра второй заезд. Считай так, что почти ничего и нету!
— Хватит плакаться, не в карты играешь! — ободряюще сказал Виктор. — Как машина?
— Вроде выдержала. Посмотрим, что завтра будет.
— Сломается, бери мою! — засмеялся Мишенев. — Она хоть и серийная, зато помощнее твоей...
— Если ты фургон имеешь в виду...
— Ну-у?! — хихикнул Мишенев.
— С товаром гоняться опасно! Еще потеряешь что-нибудь, за сосну зацепившись...
Чуева отозвал эстонец в форменном пиджаке, очевидно, кто-то из организаторов. Они отошли к сосне и принялись вместе рассматривать принесенную эстонцем бумагу.
«Красивый парень, этот Чуев! А Виктор-то, Виктор! Оказывается, ему палец в рот не клади — отхватит!»
Они посмотрели последний заезд в классе до 175 кубических сантиметров. «Тарахтелки», как пренебрежительно назвал их Мишенев. Но Воронову понравилось. Зрелище было действительно захватывающее. Темные фигурки, казалось, лежали не на баках своих машин, а прямо на асфальте. Они вырывались из-за частокола сосен, и, взвыв мотором, выносились из поворота, почти касаясь дороги коленом. Сначала мотоциклы виделись Воронову все одинаковыми. Но, наблюдая, как они проходят круг за кругом, вновь и вновь, Алексей стал отличать и посадку гонщика, и мастерство, с которым вписывались в поворот, и определенный почерк ведения машины. Возвращаясь в забитом людьми автобусе, Воронов, однако, продолжал думать не о гонках, хотя был возбужден и страшно доволен тем, что довелось увидеть. Он думал о том, как Виктор представил его Чуеву.
— Твой новый напарник? — спросил Чуев, протягивая крупную, пахнущую маслом и бензином руку.
— Нет, — неуверенно протянул Мишенев, — приятель просто. Со мной решил прокатиться.
— А-а, — протянул тот и посмотрел на Воронова странным, оценивающим взглядом.
«Почему он так?» — думал Воронов, стараясь подставить разгоряченное лицо жиденькой струе свежего воздуха, едва пробивавшейся из приоткрытого окна автобуса.
14
Когда отправлялись назад после загрузки, Воронов невольно сам взялся за пломбу, проверив ее целостность. Мишенев усмехнулся:
— Не доверяете? А мы вот доверяем! Правда, с оглядкой. Я ее, подлую, насквозь вижу, как посажена.
Стоявшая рядом девушка-эстонка, опломбировавшая фургон, не очень уловив смысл разговора, переспросила:
— Пломба плохо почему?
— Нет, милочка, все в порядке! — успокоил ее Мишенев. — Мой товарищ по неопытности думает, что ты плохо тиснула своими клещиками...
И, повернувшись к Воронову, добавил:
— Давайте трогаться. Гостиницы сегодня не будет. Ночевка на Ягале. Река такая недалеко от города. Там наш брат свой шоферский отель имеет. Думаю, для вас любопытно.
К Ягале подъехали засветло. Река тихо плыла в тенистых берегах, но вода ее была коричневой и не от тени. Мишенев пояснил.
— Тут только мыться можно. Пить опасно. Химкомбинат всю речку загадил. А бывало, некоторые наши рыболовы, что спиннинги с собой таскают, еще пару щук на уху прихватывать вечерком успевали.
Они поздоровались с шоферами, сидевшими на поваленной березе у старого костровища, и направились к реке.
— Мы рано прибыли. Минут через сорок начнется большой сбор.
— В каком смысле? — переспросил Воронов, не очень понимая, что имеет в виду Мишенев.
— А в том, что на ночевку собираться начнут корабли. И посмотрите, здесь будет веселее, чем в любой гостинице.
Они прошли к реке и развалились на крутом берегу. Мишенев, кидая камешки в воду, поглядывал на большой современный мост метрах в двухстах, подле которого один за другим сворачивали на стоянку тяжелые машины. При виде одной из них он помрачнел.
— А, черт! Значит, не ошибся. Именно Хвата видел на улице. Собственной персоной пожаловал.
— Кто такой Хват?
— Рвач есть в нашей системе. Почти корешами одно время были. Такая гнида. Морской волк на суше, — Мишенев сплюнул и, поднявшись, пошел к машине.
За время, которое они провели у тихой воды, место на старом костровище преобразилось. Две женщины в нейлоновых куртках, лопоча между собой, поставили на огонь большие ведра, а смазливый парнишка, махнув корзиной, крикнул:
— Эй, туристы! Жрать со всеми будете или отдельно сервировать?
— Со всеми, — буркнул Мишенев и полез в кабину. Он достал оттуда сверток и, не разворачивая, кинул парню в корзину. Проверив содержимое, парень удовлетворенно хмыкнул.
— Годится! С таким харчем из гостей в хозяев сразу переводят! Держи, девки, придачу на закуску!
Воронов растерянно посмотрел на Мишенева:
— А с меня что же?
— Потом сочтемся, — он недобро поглядывал на успокоившийся, наконец, голубой фургон. Из него вышел плотный парень цыганского типа, с курчавыми черными волосами, скуластый, с тускло белеющим шрамом по правой щеке.
— Привет, земляк! — поздоровался он только с Виктором.
— Привет, — нехотя ответил Мишенев.
— Что кислый? Аль хороший левачок с крючка сошел? Так не печалься — завтра подсечешь! — Он кивнул остальным небрежно, но по тому, как почтительно поздоровались с ним, Воронов догадался, что Хвата хорошо знают на дорогах и что он, наверно, не зря носит эту хлесткую кличку. Хват между тем, бросив в общий котел большого потрошеного гуся, хлопнул по заду одну из поварих.
— А ты, Цветик, все кухаришь?
— Кухарю, Хват, кухарю, — скрипучим голосом согласилась та, совсем не реагируя на его фамильярный жест. — Ты же, поспав, все равно жрать захочешь? Вот и кухарю...
— Брось врать! Твоя забота не о нас! Сначала о себе забота! Ладно, ладно! Не дуйся! Я ведь не в обиде. Так, правды ради...
Хват насторожился и уставился в сторону подходившего трейлора, который еще и было-то плохо видно. Огонь костра делал наступавшие блеклые балтийские сумерки непривычно густыми.
Пока Хват балаганил, шоферы сидели молчком, не ввязываясь в разговор. Чувствовалось, что они недолюбливают или побаиваются Хвата.
«Силен! Как же он смог такой авторитет нажить в шоферской компании? И почему мой Мишенев сразу помрачнел? Не очень-то они любят друг друга. Хотя Хват виду не подает. Но не потому, что иначе относится, — силу свою чувствует».
Из отпарковавшегося трейлора выскочила молодая женщина с яркой сумкой и, размахивая ею, подлетела к костру.
— Здрасте, люди добрые! И злые тоже здрасте! — но ее веселье как рукой сняло, когда она увидела Хвата. Он смотрел на нее насмешливо, запустив руки глубоко в карманы. Мишенев, помогавший кухаркам снимать с костра ведро, только искоса бросал взгляды на эту немую сцену. Наконец, Хват тихо произнес:
— А ну, Катерина, шагай в машину!
Та понуро побрела к машине, но не к той, в которой приехала, а к хватовской. Привезший Катерину шофер еще возился возле фургона, доставая свою долю к общему котлу, и не видел этой сцены.
Хват молча пошел за Катериной. Молодой парень, что собирал харчи, крикнул:
— Гуся-то своего захвати! Пригодится!
— За мое здоровье почавкаешь, — огрызнулся Хват. Мотор его фургона взревел и натужно вырвал машину из сомкнутого строя.
Катин шофер проводил фургон безропотным взглядом и растерянно подсел к костру.
Разговор не клеился. Ели молча. Мишенев от водки отказался.
— Неудачный вечер, — пробормотал он. — Надо идти спать. Паскуда! Все своими грязными руками залапал...
Пока укладывались, Воронов спросил:
— Кто эта девица, что Хват увез?
— Катя-то? Да так... Ее на всех дорогах знают — от Симферополя до Калининграда.
— А почему у Хвата такие особые права на нее?
— Любовь, говорят, была... Он за нее, верно ли, нет, одного инспектора «уговорил». Правда, копались ваши ребята, ничего толком доказать не смогли. А по слухам, прижал он инспектора, который ему на горло наступил с левым рейсом, на крутом вираже и под откос отправил. Может, и брехня все. Но с Катькой у него серьезно было... Потом расклеилось. Говорят, она после того инспектора с ним жить отказалась.
— Сейчас же поехала?
— Поедешь! С Хватом шутки плохи. — Мишенев тяжело вздохнул.
Воронов дорого бы отдал, чтобы узнать причину Мишеневского вздоха.
15
Виктор не ожидал такого поворота событий. Профсоюзное собрание началось, как обычное собрание, и вдруг заговорили один за другим. Говорили, что им совестно работать рядом с человеком, запятнавшим себя кражей, а потом еще отправившимся в милицию, чтобы свалить с себя вину на других... Что он совсем не думает о чести родного коллектива... И так далее, и тому подобное. Больше всего удивило, что громче других кричал Хват: и о честности, и о долге каждого члена коллектива. Это было так на него не похоже, что Мишенев совершенно растерялся и даже не воспользовался своим полным правом посоветовать Хвату взглянуть на себя.
Мишенев все полтора часа сидел молча, опустив голову, мучительно соображая, кто же может стоять за такой «организованной» стихийностью. Но так толком ничего и не придумал.
О собрании, принявшем решение ходатайствовать перед администрацией об увольнении Мишенева, — естественно, после того, как он внесет необходимую сумму в погашение похищенных товаров, — Виктор рассказал Воронову по телефону в конце рабочего дня. Алексей слушал внимательно. В голосе Виктора звучала искренняя растерянность, и сам он ощущал тоже нечто похожее. Удар был слишком неожиданным. Тем более со стороны Хвата, с которым Алексей успел так наскоро познакомиться во время ночевки на Ягале. Конечно, Хват — нахал. Но ни с его поведением, ни с его образом не вязался переход от действия к словам. Больно это не в духе таких людей, как Хват.
«Дать в морду, — рассуждал Воронов, — это средство годится. А чтобы словом, да еще стыдящим, со ссылкой на высокие морально-нравственные принципы... Это слишком. Тут Мишенев, если не хитрит, прав. Кто-то иной стоит за организацией такого бунта. Его надо искать именно в Дальтрансе. Пожалуй, этот некто невольно допустил ошибку, слишком сузив границы нашего поиска. Пожалуй, этот некто поспешил».
Вывод Воронова, когда он, положив трубку, задумался над сообщением Мишенева, был, скорее, не логическим, а как бы защитным — рейс в Таллин, кроме общей информации о характере мишеневской работы, мало что дал. Конечно, он, Воронов, присмотрелся к горячим точкам, где могла быть совершена кража, но, к сожалению, чувство раздвоенности в отношении к Виктору у него не только не исчезло, а, наоборот, утвердилось. Мишенев показался ему более стоящим и симпатичным. Хотя, может быть, некоторые черты его характера, подавляемые волей, что тоже, кстати, было одним из небольших открытий, могли наводить на грустные мысли.
Но, с другой стороны, он не увидел возможности кражи, если в ней не заинтересован лично шофер. Ночевки подобными цыганскими таборами не позволят подойти чужому и, что самое главное, не позволят соседу «случайно» перепутать машины. Украсть может только сам шофер и только по дороге. Пока нет другой альтернативы.
«Хорошо, Воронов. А теперь давай спокойно порассуждаем, зачем нужен Мишеневу весь этот маскарад. Есть ли в содеянном Виктором хоть какой-то коэффициент полезного действия? Думаю, если есть, то неизмеримо ниже, чем у паровоза. Ведь если бы Мишенев захотел погасить задолженность — а заработки позволяют это сделать, — он бы, украв, не поднимал такой бучи. Надеется на списание? Вряд ли. Тогда зачем Мишеневу весь этот цирк?
Пожалуй, это очень важно, что произошло сегодня. Я все-таки рискну сделать вывод — есть этот «кто-то», кого не знаю я, кого не знает Мишенев, но кого, наверно, знал старик Хромов. Я бы мог понять этот сегодняшний демарш, как продолжение игры Мишенева: вот, мол, как меня обижают?! Защищайте! Но где к. п. д., где? Французы советуют в таких случаях: «Ищите женщину!» Но ее искать не надо — кроме Моти, в поле зрения ни одна не попала. Да и Мотя, думаю, мало причастна к дальтрансовским происшествиям».
Воронов остро ощущал голод. Фактологический голод. Не хватало пищи для размышлений. Довольно туманные, неопределенные предположения обрывались в пустоту. И Воронов чувствовал: чтобы наполнить эту пустоту, потребуется немало сил и времени.
Алексей взял «Советский спорт» и тут только вспомнил, что утром не успел его даже просмотреть — сразу вызвали к Кириченко. Он развернул газету и наткнулся на броский заголовок: «Мир скорости: Пирита — Козе — Клостриметса». Под ним шел бойкий репортаж с первенства страны по мотоциклетному спорту. О Чуеве говорилось целым абзацем:
«Молодой водитель треста Дальтранс Петр Чуев проявил высокое мастерство и, главное, мужество, показав во второй попытке лучшее время прохождения круга. Только обидная неисправность машины, когда уже было пройдено более половины дистанции, отбросила его на восьмое место, лишив возможности на равных бороться за победу с известными советскими гонщиками».
Воронов внимательно прочитал отчет, ставший куда зримее и говоривший ему куда больше, после того как он сам побывал на гонках. Сейчас Воронов как бы вновь ощутил своеобразный кисло-сладкий запах Таллина и запах хвои, настоенной на прогоревшем масле среди сосен, окружавших трассу.
«Чуев? Если верить словам Мишенева, то какой он там, к дьяволу, водитель! Лихач, и только! Стоит задуматься над тем, кто и за чей счет так меценатствует? Кому и для чего нужна знаменитость, поедающая, наверно, половину всего бюджета, отпускаемого на развитие спортивной работы в автохозяйстве?»
Воронов открыл ящик стола и среди бумаг увидел листок, на котором красовался жирный стуковский чертеж: точка, кружок и прямая. Он был прост, этот чертеж, и столь же молчалив. Машинально взяв перо, Алексей зачеркнул крестом пункт отправки и прямую линию следования. Оставалась точка разгрузки. Но точкой разгрузки в мишеневском деле являлся Дальтранс... Налицо было прямое нарушение законов геометрии — прямая замыкалась...
16
Воронов извлек из своего блокнота шесть фамилий шоферов, на которых за последние два года были составлены акты о недостаче, и с утра решил начать опрос. Троих на месте не оказалось — ушли в рейс и должны были вернуться в разное время. Воронов записал, когда. А пока он отыскал в аккумуляторной мастерской Сергея Егорова. Тот встретил его совсем не ласково.
— Ну и что? Было. С тем делом давно покончено, — Егоров разговаривал, почти не глядя на Воронова. Он макал указательный палец в банку с солидолом и щедро мазал свинцовые клеммы аккумулятора.
— А я и не собираюсь начинать его сызнова, — Воронов старался понять, что кроется за столь открытой враждебностью. Его это даже забавляло. Он был подчеркнуто вежлив. — Я хотел только выяснить, когда вы обнаружили, что сорвана пломба?
— Обнаружил здесь, в гараже. Сразу и актик об этом приготовили.
— Допустим, я неточно сформулировал вопрос. А кто мог, по-вашему, ее сорвать?
— Знал бы — голову свернул! — хмуро сказал Егоров и так посмотрел на Воронова, что тот поверил в реальность угрозы и даже порадовался: как хорошо, что не он срывал пломбу!
— Да, — Воронов почесал в затылке, — тогда с другой стороны зайдем... Нет ли у вас предположения, кто бы мог это сделать?
— Слушайте, товарищ! Неужели вы думаете, что я с большим удовольствием платил свои кровные денежки? А-а! — он махнул рукой. — Дело прошлое...
— Не такое уж и прошлое, — перебил Воронов. — Вот у Мишенева неприятности... И у Хромова были тоже.
— Ну, Хромов свое заплатил... А Мишенев... Разные люди, — неопределенно сказал Егоров. — И вообще, товарищ, зря мы разговор с вами завели. Тогда не разобрались, а сейчас, после давней драки, кулаками махать мне и вовсе неохота. Даже супружница моя о тех денежках плакать перестала!
Егоров крякнул, схватив в охапку черное тело аккумулятора, и, почти оттеснив плечом Воронова с прохода, вышел из мастерской. Аккумуляторщик, похожий на девочку парень в щеголеватом халате, с хитроватой усмешкой взглянул на Воронова:
— Егорыч у нас мужик с характером!
«И без тебя вижу», — Воронов кивнул парню и вышел следом за Егоровым. Долго смотрел, как тот молча, словно и не было никакого разговора, перетаскивал мимо него ящики и нырял по пояс в люк, видно, монтируя провода.
Воронов решил, что продолжать с ним разговор — дело дохлое.
Николая Коржикова нашел в курилке — тот рассказывал веселый анекдот двум своим приятелям. С анекдотной веселостью и отвечал:
— Это когда платить пришлось? Да черт его знает, что произошло! Прежде никогда подобного не случалось, а тут... Приехал — и вот тебе сюрприз. А я тогда точно помню, пропился до тельняшки. Спасибо ребятам — с шапкой пошел, собрал и отдал. Хотел судиться, а потом подумал — себе дороже будет.
— Это у вас был единственный случай или приходилось еще платить?
— Так, по мелочам, — он неопределенно покрутил в воздухе рукой. — А с другой стороны — считай, что и не было...
— Предположить, кто сорвал пломбу и забрался в кузов, в голову не приходило?
— Не приходило, — так же весело согласился Коржиков и, тряхнув своими кудрями, пояснил: — В голову не приходило, что кто-то забраться мог. Когда пломбы не оказалось, я со смехом смотрел — присутствовал, значит, как товар считали. А когда подсчитали — прослезился! — Он опять неопределенно покрутил рукой.
— Спасибо за беседу, — Воронов заглянул в блокнот и спросил: — Где мне Юрия Чернова найти, не знаете?
— Чего его искать? — удивленно воскликнул Коржиков.
— Надо, — раздраженно буркнул Воронов, злясь в душе на весельчака, который так легкомысленно шагает по жизни и невесть еще до чего дошагает.
— Я не об этом, что не надо, — впервые, может быть, серьезно ответил кудрявый Коржиков, — Чернов-то вот он стоит, — и указал рукой на своего собеседника.
Чернов вопросов ждать не стал. Заговорил сам.
— Слышал, чем интересуетесь. Но добавить к Колькиному ничего не могу. Со мной было дважды. Уверен — подонок какой-то промышляет. Третий раз сунется, башку отверну. Ей-ей! Вот потом меня в милиции и допрашивайте.
Он демонстративно отвернулся, как бы ставя точку в этом разговоре.
Когда Воронов, усевшись на бульварной скамье, попытался проанализировать полученную информацию, выходило, что анализировать-то и нечего. Здорово огорчало такое отношение водителей к своим пропажам...
«Неужели они действительно берут, а потом ждут — авось пронесет? Но еще не было случая, чтобы кому-то простили недостачу. Или компенсируют деньгами? Но дефицитный груз хоть и исчезает в товарном количестве, однако, слишком малыми партиями, чтобы можно нажиться на простой разнице в ценах. Главная загвоздка — зачем они это делают? Или, как говорят в Одессе: «Что они с этого имеют?» И потом, это повальное нежелание говорить о прошлом. Словно стесняются. Хотя и по-разному, как показывает опыт, себя ведут. Есть в этом нечто от обреченности. Пожалуй, следует копать в другом месте. Но где? Там, где грузят? А почему бы нет?! Все надо проверять — от и до. Хотя пломбу поставили, и дело с концом! Остальное отправителя не касается. Вот тебе и ларчик — без крышки!»
17
Звонил Станислав Антонович.
— Товарищ Воронов? Должен вас проинформировать, что поступил сигнал из ГАИ. Мишенева вчера по дороге из Курска задержали с левым грузом. Вел себя вызывающе. Ума не приложим, что с ним делать! Коллектив требует увольнения, администрация — возмещения денег, а он продолжает как ни в чем не бывало...
— С чем задержан? — переспросил Воронов, нарушая мерный поток диспетчерской речи.
— Яблоки. Две тонны яблок вез с отклонением от маршрута. Понимаете, машин у нас позарез, план огромный, и я должен подписывать ему новый маршрутный лист, но рука не поднимается. На меня наорал, сказал, что пойдет к вам. Вы уж меня извините, но как-то нездорово получается... Мишенев стал все время угрожать, прикрываясь вашим именем. Вообще, плюет на все порядки. Мы, конечно, вас уважаем, но должны будем принять и свои меры.
— Какие? — неохотно спросил Воронов.
— В короткий срок потребуем внесения денег через суд. И потом уволим как злостного нарушителя трудовой дисциплины.
— Понимаете, Станислав Антонович, я не в свое оправдание, но здесь дело, по-моему, не такое простое. И не в одном Мишеневе...
Станислав Антонович не понял или не захотел понять.
— Конечно. В том-то вся и загвоздка! Какой пример он подает другим! Коллектив работает с предельным напряжением, план сами знаете...
— Я бы попросил вас не горячиться. Он придет ко мне. Поговорим...
— Извините, товарищ Воронов. Все это похоже на потакание Мишеневу. Боюсь, что вынуждены будем проинформировать о сложившейся обстановке ваше начальство...
— Хотите сказать, Станислав Антонович, что пожалуетесь на меня моему начальству?
— Не скрою от вас, — как можно любезнее произнес Станислав Антонович. — Не столько хочу, сколько обязан это сделать. Хотя я сам с большим уважением отношусь к любому труду, кроме такого, в основе которого лежит критика чужого труда.
— Поступайте, как считаете нужным.
Алексей не успел положить трубку, телефон зазвонил вновь. Это был Мишенев. Через пять минут он сидел в том же кресле, в котором сидел в день их первого знакомства. Только сегодня Мишенев выглядел еще более растерянным. Воронов решил сделать вид, что ничего не знает.
— Случилось что? — равнодушно спросил он.
— Случилось... Меня задержали с левым товаром...
— Каким?
— Да! — Мишенев махнул рукой. — Две тонны яблок одному деду подкинул. И на пункте том ни разу не останавливали, а тут — словно специально ждали. Такой зануда инспектор попался! Всю машину осмотрел. Увидел, что пломбы нет, аж позеленел весь. Говорит, открывай машину для досмотра и деда из кабины зови.
— А пломбы почему нет? Пустой шел?
— Нет. Но груза всего тонны две было. Наши ребята часто догружают, коль левый груз подвернется...
— А пломба?
— Что пломба? Приедут — все сошлось, и баста!
— Вот почему они платят так охотно... — вслух подумал Воронов.
— Что-что? — переспросил Мишенев.
— Так, ничего... Значит, сняли сами пломбу, загрузили машину, а потом пришли ко мне жаловаться, что вас обижают?
— Я этим никогда не баловал. Если только порожняком кого подкинешь... А с пломбой — никогда в жизни. Тут жалость к деду разобрала. Сидит у дороги вторые сутки. Сам измаялся и урожай вот-вот компотом на дорогу польется...
— Значит, урожай жалко стало? — не без иронии сказал Алексей. Но Мишенев иронии не уловил.
— Добро ведь государственное. Что моя машина, что яблоки... В один карман идет.
— Сколько?
— Что сколько?
— Сколько в свой карман положили? — резко спросил Воронов.
Мишенев опешил. Лицо налилось кровью. Потом сразу же побелело.
— Я ни копейки с деда не взял...
— Кто этот дед, конечно, не знаете?
— Почему не знаю? Это и в протоколе записано. Зануда-инспектор чуть ли не как дедову бабку зовут записал. Вот его адрес. Чтоб ему, деду... — он хотел выругаться, но сдержался. И не потому, что постеснялся Воронова, как показалось Алексею, а потому, что, видно, спохватился: деда-то ругать не за что.
Алексей записал фамилию, имя, отчество и адрес деда.
— Проверять будете? — впервые за все время разговора зло спросил Мишенев.
Воронов посмотрел ему прямо в глаза, сверкавшие недобрым блеском, и столь же зло ответил:
— Буду. И немедленно. А вас попрошу моей фамилией своих делишек на работе впредь не прикрывать! Негоже это. Не забывайте, Мишенев, мы стоим с вами на разных позициях.
— Ясно, — протянул Мишенев. Он тяжело встал. И только сейчас сорвавшийся Воронов почувствовал, как жестоко обидел этого человека. Хотя и виноват он... Слова Станислава Антоновича все время вертелись на уме.
Мишенев вышел не попрощавшись. Воронов его задерживать не стал. Он позвонил Кириченко и объяснил ситуацию.
— Какое это имеет значение, брал деньги с деда или нет?! Товар левый налицо. В срыве пломбы тоже сознался. Похоже, кончать надо с этим Мишеневым. Переключайтесь-ка на Хромова...
— Слушаюсь, Иван Петрович. Однако с дедом хочу встретиться. Это очень важно для меня лично.
— Опять психологические опыты? — но, почувствовав, что Воронов все равно не отступит, милостиво согласился. — Ладно, я позвоню, чтобы дали машину.
Мишенев, несмотря на приказ инспектора сгрузить яблоки, сделать это отказался и довез деда до рынка. Теперь предстояло его найти среди шумной торгующей братии. Обращаться за помощью к Мишеневу Алексей, разумеется, не мог и, если хотел провести проверку серьезно, должен был сделать это как можно быстрее, чтобы исключить сговор Мишенева и деда.
Загнав машины под «кирпич», частники стояли, словно знаков для них не существовало.
«Или рынок так разлагающе действует», — подумал Воронов, вступая под высокую крышу современного здания. Вдоль рядов, заваленных красной южной редиской, желтыми грушами, перламутровым виноградом — обильными дарами щедрой осени, — Воронов прошел в дирекцию. По квитанции об уплате налога за место и инвентарь нашли торговый номер деда — 85. Администратор предложил проводить Воронова, но тот отказался.
— Спасибо, я сам. Подскажите только, где искать.
— Во дворе, на лотках, под навесом, второе место в третьем ряду...
Воронов обнаружил деда еще до того, как сверил квитанционный номер. Среди продавщиц — ядреных, озабоченных торгом колхозниц, одетых словно по особой форме — в стеганки, дед выделялся шумным характером. Был щуплым и балагуристым — ни дать ни взять дед Щукарь. К нему стояла очередь — человек пять, и он успевал не только отвешивать яблоки, но и с каждым поговорить.
— Разве это яблочки? Это не яблочки! Это солнышкины дети! Бочки́-то посмотрите какие — светятся! Аж лучики играют!
Воронов остановился в стороне, наблюдая за дедом. Работал тот не только шумно, но и с искренней радостью. То ли от того, что добрые яблоки все-таки не пропали и он выполнил ответственное поручение колхоза, то ли с детства привык к труду и всегда получал от него удовольствие.
«Скорее последнее, — решил Воронов. — Так искренне играть в радость невозможно. А дед — артист! Станислав Антонович в своем деле».
При воспоминании о Станиславе Антоновиче настроение сразу испортилось. Воронов представил, как тот напевает в трубку Ивану Петровичу, а Кириченко кивает и поддакивает...
Когда отошел последний покупатель, Воронов окликнул деда.
— Федор Федорович, можно вас на минутку отвлечь от яблочек?
Дед нисколько не удивился, что незнакомый человек называет его по имени и отчеству, вытер руки о передник и пошел к концу прилавка, не забыв крикнуть соседке:
— Пелагея, за моим товаром присмотри...
Воронов представился.
Дед сразу посерьезнел, как серьезнеют только люди сельские, к организациям относящиеся куда с большим уважением, чем привыкшие ко всему горожане.
— Хотелось бы знать, сколько вы заплатили шоферу, который вас сюда подвез? Это имеет чисто теоретическое значение. Нам важно проверить — правильную ли сумму назвал водитель, — слукавил Воронов.
— Помилуй, человек дорогой! Да ничего он с меня не взял. Я ему денег... — отказался наотрез. Яблок ящик давал. Наотрез. Одно только и взял яблочко, о пиджак протер, да и куснул... Уже здесь на рынке... Хороши, говорит, дедуся, век бы себе не простил, если бы пропали. Опять неприятности у него? Тот злыдень душу парню мотал на контрольном пункте... Да вы еще... — дед искренне обиделся. — Такому парню беды накликал! Пропади они, яблоки, пропадом! Не первые бы пропали! Да ведь человек он, — дед схватил Воронова за пуговицу и привстал, стараясь заглянуть в глаза. — Он че-ло-век! Не мог старика оставить на дороге... Я уж извелся... Только один лихач остановился, да такую цену заломил, что всеми яблоками не оправдаешь. Этот — «давай дедуся, товар жалко...» Я бы, конечно, его отблагодарил. Так нет, ни в жисть не взял, хотя пришлось ему и грузить помогать — силенок у меня не густо...
Дед еще что-то говорил, но Алексей не слушал. Все пело в нем, будто очень близкий человек оправдал доверие и сделал хорошее, доброе дело. И главное — не солгал.
«Не солгал... Не солгал. Не солгал! — билось в душе Воронова. — А это значит, что не должен он лгать и в большом. Если человек лжет в большом, то в малом он делает это уже машинально».
18
Станислав Антонович начальству не пожаловался.
Но от этого оперативное совещание не прошло менее остро. Доклад Воронова к сведению приняли, но даже полковник Жигулев сказал, что дело идет слишком медленно и что он, Воронов, кажется, забыл — дело не только в хищении определенной суммы, но и в убийстве... Вывод — следует включать новые, более мощные силы.
— Кстати, а что дала ваша туристская поездка в Таллин? — в унисон полковнику Жигулеву, только тоном выше, спросил Кириченко. — Если так дело пойдет, на нас жаловаться будут, что мы ничего не делаем.
Воронов взглянул на Кириченко — не Станислав Антонович ли тут все-таки поработал? Но Кириченко к своей мысли отнесся довольно небрежно.
— У вас есть, Иван Петрович, какие-нибудь предложения? — Жигулев даже поморщился от слова «туристская», а Воронов только вздохнул — это прозвучало резко, но по сути справедливо.
— Есть. Предлагаю от несколько партизанских действий товарища Воронова — в чем есть доля и моей вины, как одного из руководителей отдела, — перейти к серьезной работе специальной группой. Предлагаю в несколько рейсов послать за Мишеневым нашу машину и присмотреться повнимательнее.
— Не думаю, что в его нынешнем положении... — возразил полковник Жигулев, — он рискнет снова забраться в фургон.
— Простите, Виктор Иванович, я не успел доложить. Перед самым совещанием позвонили из Дальтранса. По результатам предварительной проверки, у Мишенева снова недостача на сумму около тысячи рублей...
Воронов даже привстал.
— Тем более поздно, — повторил Жигулев. — Хорошая идея — хороша вовремя.
— Может, рискнем, Виктор Иванович? — нажал Кириченко. — Даже если не поймаем с поличным, то, может, какие-то связи удастся проследить. Одно дело, когда наш человек едет с водителем в кабине, другое — когда Мишенев не будет подозревать о наблюдении...
— Что думаете вы, товарищ Воронов? — спросил Жигулев.
— Наверное, есть смысл. Я бы занялся вплотную Дальтрансом, — Воронов не очень уверенно взял сторону Кириченко, и вышло это скорее помимо его воли. Сидевший напротив Петр Петрович Стуков закатил глаза к потолку, тем самым выражая чувство полнейшего неудовольствия.
— Пусть будет по-вашему. Подготовить план работы группы к вечеру.
Воронов почти два часа согласовывал с руководством Дальтранса точные маршруты ездок Мишенева. Две любопытные детали значительно улучшили настроение Воронова — недостача Мишенева не подтвердилась, хотя пломба и была сорвана, и Станислав Антонович ни словом, ни делом не напомнил о том резком разговоре, который состоялся у них тогда по телефону.
На широком гаражном дворе Воронов внезапно столкнулся с Мотей. Он приветливо улыбнулся и остановился:
— Добрый вечер, Мотя. Как поживаете?
— Здрасте, — чересчур поспешно бросила та в ответ и, виновато нагнув голову, проскользнула мимо Алексея к двери в диспетчерскую.
Воронов смотрел ей в спину, ожидая, когда она обернется. И она действительно обернулась, но так, что сердце Воронова зашлось в тревоге. Это был взгляд затравленного зверька.
Алексей вошел в диспетчерскую, когда Мотя уже склонилась над бумагами. Но Воронов видел, что она ничего не пишет и поняла, кто вошел.
Мотя порывисто встала и, отскочив к окну, почти крикнула:
— Что, что вы от меня хотите? Воронов улыбнулся.
— Что с вами, Мотя? Я просто хотел поздороваться... Мне кажется, я вас ничем не обидел...
Мотя стояла, прислонившись к раме, и глядела на Воронова поверх кулаков, закрывавших лицо. С каждым мгновением она как бы оседала и через минуту при абсолютном обоюдном молчании тихо опустилась на подоконник. Тряхнув головой, внезапно произнесла:
— О Хромове спрашивал Чуев... До последнего слова выспрашивал, что он вам тогда сказал. Это в тот же вечер было... — она облегченно вздохнула, словно неимоверная тяжесть, которую она несла, упала с плеч.
— Почему же вы мне раньше ничего не сказали?.. Эх, Мотя, Мотя...
— Какое это теперь имеет значение, — она тихо всхлипнула, но говорила четко, даже не пытаясь утереть слезы, катившиеся по нарумяненным щекам. — Мне было страшно. Мне и сейчас страшно...
— Вас Чуев запугивал?
Она покачала головой.
— Нет. Не за себя боялась. За Чуева... Совсем не то... У меня ведь ребенок от Петра...
— Но ведь у него, если не ошибаюсь, есть жена, Людмила? — и тут только Воронов понял, что говорит глупость.
Но Мотя уже не слушала его, она уткнулась в руки, и полные плечи ее затряслись от рыданий.
— Успокойтесь, Мотя. И признайтесь, почему вы все-таки решили сказать об этом?
Не поднимая головы, она прошептала:
— Не могла больше... Не могла... Это как камень... Василия Петровича укор вижу... И говорю это, потому как считаю странным расспрос Петра.
— Спасибо, Мотя. То, что вы сказали, очень важно...
19
Алексей решил немедленно ехать к Чуеву. Но перед этим позвонил из автомата Стукову.
— Петр Петрович, минутку мне уделишь? Слушай, это потрясающе! Мотя, помнишь та диспетчерша, только что сказала, будто о старике Хромове вечером перед его смертью расспрашивал Петр Чуев... Кто такой? Ах, да. Это у них парень из спортивного клуба, мотогонщик. Я познакомился с ним в Таллине. Хочу немедленно продолжить знакомство дома...
Стуков слушал не перебивая, но под конец не удержался.
— Будь осторожен. Не подставь Мотю...
Воронов даже растерялся. Он вдруг почувствовал, как почва уходит из-под ног.
— Если я не скажу о Моте, то о чем же будет разговор? Перво-наперво, он спросит, почему я явился именно к нему!
— Ты прав. Но все-таки придумай что-нибудь. Скажем, оказался свидетель их разговора, который случайно...
— Шито белыми нитками, — протянул Воронов.
— Будем считать, что эти белые нитки специально прострочены. Так сказать, отделочные нитки. А вообще, не лучше ли пригласить его к нам?
— Нет. Хочу видеть его дома. В доме даже вещи рассказывают о хозяине...
— Ну-ну, — одобрительно произнес Стуков, — ни пуха...
— Бывай.
Воронов повесил трубку. Адрес Чуева был довольно громок — он жил в знаменитом высотном доме послевоенной постройки, с тяжелой лепкой, колоннами и шпилем.
На звонок открыла тихая, неприметная женщина с почти неуловимыми движениями. Может быть, их скрадывал полумрак коридора.
— Здесь живет Петр Чуев?
— Здесь, — равнодушно ответила она.
— Можно его видеть?
— А вы кто?
— Человек, — смеясь, ответил Воронов, но женщина шутки не приняла, крикнула в комнату: — Петя к тебе человек! — И скрылась в боковой двери, за которой виднелась кухонная плита.
Воронов вошел в комнату. Ему показалось, что он попал в антикварный магазин, закрытый на переучет. На всех плоскостях разностильной, но одинаково дорогой мебели, с инкрустацией и бронзовым под золото окладом, стояли хрустальные вазы немыслимых размеров и форм. Стены укрывали тяжелые ковры, наполовину скрытые за мебелью.
Притулившись к могучему буфету, на венском стуле сидел, положив волосатые ноги на такой же стул, Петр Чуев. Воронов узнал его скорее по чубу, чем по лицу, — так изменяла Чуева одежда. Если можно было назвать одеждой синие полинялые трусы и обвисшую майку на его крепком мускулистом теле. Воронов словно впервые увидел этого человека — он весь был покрыт синей татуировкой, словно подделывался под ажурный рисунок расставленного в комнате хрусталя..
Чуев был навеселе. Неохотно оторвал взгляд от голубого экрана, по которому двигалась, изгибаясь, эстрадная дива.
— Садись, — буркнул он и снова уставился на экран.
Воронов не понял, узнал ли его Чуев. Ситуация складывалась забавной.
— Из газеты, что ли? Спортивной? — спросил Чуев, не отрываясь от телевизора. — Так я уже дал интервью «Комсомолке». Дважды выступать не хочу... — Он зевнул. — И вообще, вы, борзописцы, правду все равно не опубликуете.
— Я не из газеты, — как можно вкрадчивее произнес Воронов. — Я из уголовного розыска...
Воронов впервые видел, чтобы вот так, на глазах, трезвел человек. Чуев сбросил ноги и, глядя на Алексея прищуренными глазами, словно только теперь осознал, что он в комнате не один, буркнул:
— Ну?!
«Тот еще интеллект! — подумал Воронов. — Ломброзо бы отнес его к явно немыслящим типам. Надо же — такой узкий лоб скрывался под роскошным чубом. А там, в таллинском лесу, он смотрелся. Неужели мастер спорта Чуев меня так и не узнает? А может, это и к лучшему!»
Но Чуев узнал, хотя и не так, как ожидал Воронов.
— Это вы у нас в гараже следствие ведете?
— Я, — подтвердил Воронов. — Побеспокою вас с одним вопросом.
— Один — это можно, — Чуев явно приходил в себя и старался напустить лихость подвыпившего человека, что получалось, впрочем, неважно.
— Скажите, — Воронов решил поставить вопрос прямо. — С какой целью вы выпытывали у Моти содержание нашего с Хромовым разговора вечером накануне гибели Василия Петровича?
— Брешет Мотя... — вяло протянул он, но по глазам его и демонстративному зевку Воронов понял, что Чуева очень беспокоит, как много знает спрашивающий. — Брешет Мотя, — еще раз повторил он.
— Почему вы думаете, что мне сказала Мотя?
— Кто ж еще?
— Оказался свидетелем вашего разговора... — Воронов сразу понял, что допустил ошибку. Чуев впервые открыто улыбнулся, и золотые фиксы полыхнули во рту.
— Не было никакого свидетеля. Не было никакого пытания у Моти... Дура-баба натрепала вам. Никак простить не может, что не удалось охмурить меня тогда и чужого ребенка, где-то прижитого, за моего выдать... Мстит...
Версия, выдвигаемая Чуевым, сколачивалась крепко. И Воронов решил зайти с другой стороны.
— Скажите, а что вы делали в день смерти Хромова? Особенно утром?
Чуев пожал плечами.
— Это уже, правда, другой вопрос, но отвечу. И утром и после обеда все там же был — в мастерских...
— Есть свидетели?
— Сколько угодно... Всех перечислить или десятка хватит? — Чуев спрашивал не без издевки.
— Десятка хватит...
Воронов записал названные фамилии, большинство из которых было ему уже знакомо. Если они подтвердят, что Чуев неотлучно находился в мастерских — алиби железное. Но ведь Чуев мог служить лишь информатором... Воронов едва успел об этом подумать, как Чуев еще раз с нажимом повторил:
— Что касается разговора с Мотей — брешет баба. Совсем совесть потаскуха потеряла. Впрочем, что тут удивительного? Вон Людмилка о ней еще и не такое рассказать может, — он кивнул в сторону двери. Воронов оглянулся. В дверях, и, очевидно, давно, прислонившись к притолоке и скрестив руки на груди, молча стояла встретившая Воронова женщина.
«Так это и есть жена Чуева!»
Но Людмилка не стала ничего подтверждать. Она так и осталась стоять молча.
Воронов простился с Чуевым, чтобы не показаться ему слишком настойчивым, а свой визит свести к обычной, не бог весть что значащей проверке Мотиного или свидетельского сообщения. Чуев удерживать не стал.
Уже уходя, Воронов кивнул на обстановку, сказал:
— Богато, однако, живете...
— Не жалуюсь. Если насчет хрусталя да ковров спрашиваете — это призы. Спортивные трофеи, так сказать...
Все названные Чуевым подтвердили, что он никуда не уходил из гаража в тот день, даже обедал вместе с ребятами, что вообще случалось с ним крайне редко. Все в один голос подтвердили, что целый день перебирали мотор на чуевском мотоцикле.
Воронов был в растерянности — Мотя врать не могла.
20
Докладную записку о работе специальной группы Алексей перечитал несколько раз. Начальник отдела прав — сеть забрасывали в заведомо пустых водах. По логике вещей выходило, что наблюдение можно было бы вести еще не одну неделю — не каждый же рейс происходят такие ЧП, как недостача и срыв пломбы! Другой довод был еще серьезнее — если действовала хорошо организованная группа или группка, то в сложившейся ситуации было бы естественно предположить, что они затаятся.
А может, действует один Мишенев, который создает волну — дескать, я уже вам известен и не дурак, чтобы на виду делать вещи, за которые бьют и бьют больно, следовательно, все это делаю не я, что и следовало бы вам, товарищ из МУРа, доказать и доказать быстрее. Похоже, что полковник Жигулев не даст долго прохлаждаться и снимет почти бессмысленное наружное наблюдение.
Воронов и сам не очень понимал, почему тогда поддержал предложение Кириченко. Потом, продумав все тщательнее, понял, что сделал это скорее от ощущения бессилия и необходимости предпринять хоть что-то, чтобы найти хвостик, за который можно было уцепиться.
Хуже обстояло дело с Мотей. Наведя справки, Алексей убедился, что Чуев прав. У них действительно был роман, шумный, на виду всего гаража. Немало посудачили и когда Петр почему-то внезапно женился на никому в гараже не известной девчонке. Для Моти это была трагедия, тем более, что вскоре родился сын.
Если бы суд решал вопрос об отцовстве по внешнему виду, то в данном случае не было бы никаких сомнений. Когда Алексей увидел в детском саду мальчонку, он даже вздрогнул — вылитый Чуев, с его низким лбом, насупленными бровями под белым пышным чубом. И черты лица, и чуб были, бесспорно, чуевские, только меньшего калибра.
А это означало, что верить показаниям Моти нельзя. Она, движимая чувством ненависти, могла оговорить парня. Во время первой встречи в кабинете Воронова она ничего не сказала. Позднее, видно вдумавшись в существо его вопросов, решила расплатиться с Петром за прошлое.
Воронов встал, прошелся по кабинету.
«Надо подробно допросить Мотю, как проходил разговор с Чуевым, где, когда... И сделать это неоднократно. Не думаю, что Мотя относится к числу людей с блестящей памятью, способных однажды выученную роль по-актерски сыграть необходимое количество раз. Трудно лгать, когда речь идет о смерти человека. Эх, Василий Петрович! Все больше и больше убеждаюсь я, что было нам о чем поговорить. Не поплатись ты жизнью за факты, о которых знал, многое бы распутывалось легче».
Вспомнив про Василия Петровича, Воронов вернулся к столу и набрал номер ГАИ.
— Майора Хромова, пожалуйста.
Услышав знакомый, окающий говор, обрадовался.
— Добрый день. Воронов из уголовного розыска...
— Алексей Дмитриевич! Здравствуйте! Собрался вам звонить...
— Есть что-нибудь определенное?
— Скорее, любопытное. Во-первых, на баранке обнаружены отпечатки пальцев только двух людей. Как выяснилось, водитель, однофамилец мой, был педантом и любил чистоту. Возможно, баранку протирал перед самым выездом. Одни отпечатки, естественно, хромовские, а вот другие — неизвестно чьи. Во всяком случае, наследил другой на руле многовато для случайного касания. Я тут пару вечеров покумекал над схемой расположения отпечатков, и сложилось впечатление, что выполняли эти руки именно тот поворот, который привел машину под откос. Выходит, имитация аварии...
Воронов слушал, затаив дыхание.
— Как же выскочил этот, второй? Ведь я машину видел — она отделана знаменито.
— Ну, благодаря моему капитану, который сразу все понял, мы прошлепали возможность поискать кругом. Хотя допускаю, что и не нашли бы ничего определенного. Одним словом, можно предположить, что второй, крутивший баранку и — рискну утверждать — убивший Хромова, парень ловкий, успевший выскочить на ходу.
— Пришлите отпечатки пальцев к нам, мы проверим по картотеке.
— Уже, — кашлянув, сказал Хромов, — уже послали. Сегодня будут у вас. Проверьте, конечно. А я вот тут провернул с десяток пачек наших актов за последнее время. Пытался поискать, не случалось ли чего-нибудь подобного с фургонами. Вроде нет. Кроме одной глупости — какой-то мастер спорта, мотогонщик, не так давно цеплялся крюком за фургон, чтобы прокатиться на буксире. Видите ли, бензина у него до заправочной колонки не хватило. Да еще один дурачок машину оставил без огней на полигоне...
— Простите, — перебил Воронов. — Как вы сказали? Мастер спорта, мотогонщик? А как его фамилия?
— Не помню фамилии. Да глупости все это. Делать нечего дежурному инспектору было, как писать такую докладную...
— Можно установить фамилию мотогонщика? — переспросил Воронов срывающимся голосом.
— Можно, — недовольно ответил майор.
В трубке раздался приглушенный щелчок селектора, и снова прозвучал голос Хромова:
— Капитан, посмотрите, пожалуйста, как фамилия того чудака, который цеплялся за фургон. Мы еще над инспектором смеялись. Как? Чуев Петр Константинович?
Селектор выключился.
— Можете не говорить ничего, товарищ майор, я слышал. Вы даже не представляете, как это важно. Немедленно еду к вам!
Воронов почти бросил трубку и забежал к Стукову.
— Петр Петрович, опять Чуев попал в поле зрения, но совершенно с другой стороны. Недавно пытался зацепиться за фургон крюком, был остановлен инспектором, сказал, что не хватает бензина до колонки. Не проще ли было остановить машину и одолжить пяток литров? Хватило бы по горло...
Стуков встал из-за стола со словами:
— Тише, тише, кот на крыше... — и потом резко переменил тон. — Что собираешься предпринять?
Воронов выжидающе смотрел на Стукова. Он знал, что в такие минуты лучше не лезть. Петр Петрович сам перемалывает, как шахматист, тысячи и тысячи возможных вариантов.
Потом Стуков как бы успокоился и сказал:
— Присядь.
Воронов сел, хотя свободного времени не было — не терпелось скорее добраться до майора Хромова.
— Первое, возьми все, что касается этой истории. До последней буквы запомни. Второе, сразу же проверь в Дальтрансе, не случалось ли чего в тот день по их данным...
— Понял. Предполагаешь... — протянул Воронов.
Стуков отрицательно покачал головой.
— Ничего не предполагаю. Но проверить такую возможность необходимо. Совпадение маловероятно и потому многообещающе...
От майора Хромова Воронов вернулся с полной сетью. Стуков выехал на объект, поделиться радостью улова было не с кем. К начальству идти, не проанализировав все до конца, не хотелось. А подумать было над чем.
Воронов даже не сразу поверил в удачу — дата задержки Чуева и дата недостачи у Хромова совпадали.
Инспектора ГАИ найти, правда, не смогли, он был на участке, но докладная его была подробна. Воронов, однако, пометил себе, что надлежит обязательно переговорить с инспектором. В докладной не был указан ни номер фургона, ни фамилия водителя, очевидно, инспектор задержал только мотоциклиста. Объяснение Чуевым поступка показалось странным как инспектору — за строками угадывался довольно крупный разговор с Петром, — так и Воронову, читавшему записку. Вывод «хулиганство на дороге» мало устраивал Воронова, но, наверно, устроил Чуева. Почему? Таких новых вопросов теперь нагромождалась целая пирамида.
21
Лариса позвонила к концу работы.
— Добрый вечер, дорогой сыщик! Спешу поделиться с тобой радостью...
— Ты защитилась? — съязвил Воронов.
— Больше чем защитилась. Мне удалось защитить тебя.
— Неужели я в этом нуждаюсь?
— Еще как. Но моя мамочка снизошла до того, что согласилась принять в своем доме обыкновенного сыщика!
— Я ей очень признателен. Настолько признателен, что готов отказаться от приглашения.
— Можешь отказываться сразу и от меня.
— Этот вариант меня устраивает меньше.
— Тогда заезжай в полседьмого за мной на работу, и поедем пить чай.
— Лучше я приеду домой к тебе в семь, мне нужно переодеться в штатское, иначе можно напугать мамочку.
— Разумно. Тогда в штатском, но все равно в полседьмого.
— Я же на работе...
— Освободись. Скажи своему начальству, что не каждый день впервые идешь к своей будущей теще.
— Довод неотразим. Начальство уже рыдает от умиления.
Когда он заехал за Ларисой на работу, она внимательно осмотрела его с головы до ног и осталась довольна.
— Скромно, но со вкусом. Мамочке понравится.
— А ты не считаешь, что мне нужно организовать курносый нос? Может, мамочке не по вкусу с горбинкой?
— Бесспорно, курносый ей больше по душе, но на безрыбье и рак — рыба...
— Мерси.
— Взаимно.
«Мамочка» оказалась очень милой женщиной с больным сердцем. Воронов определил это по синим мешкам под живыми, по-молодому, глазами.
Она представилась по фамилии и говорила очень вежливо и тихо. Вся их большая комната с маленькой прихожей — квартирка в коммунальной квартире — дышала стариной.
Мамочка рассказывала о гимназии баронессы Геды, в которой училась до революции ее старшая сестра, о войне, о муже, ослепшем в 1943 году, и как было трудно жить только на ее зарплату, и как умер муж...
Лариса не выдержала и перебила:
— Не надо об этом, мамочка. Никому не интересно, кроме нас.
— Как неинтересно? Ведь нам было очень трудно!
Воронов ел пироги под одобрительные взгляды мамочки и понял, что понравился ей хотя бы двумя вещами — умением слушать и умением есть.
Прощались в двенадцатом часу. Мамочка была все так же оживлена. И, расставаясь, очень сердечно произнесла:
— Дорогой Алексей Дмитриевич! Заходите к нам почаще. Буду рада угостить вас чем-нибудь русским. Как вы относитесь к расстегаям?
— С большим уважением, — смиренно ответил Воронов.
Лариса пошла проводить его до лифта и, целуя на прощание, прошептала:
— Поздравляю, ты, кажется, очень понравился мамочке. Задача лишь в одном — найти достойный синоним слову «сыщик».
22
Утром все собрались у Жигулева. Вырисовывалась довольно ясная перспектива — разобравшись со смертью Хромова, ролью Мишенева в хищениях, они становились на главную тропу, ведшую к тем, кто действительно брал товары. Версия принадлежала полковнику Жигулеву. Он высказал ее так убежденно и доказательно, она была так естественна, будто лежала на поверхности зеркально спокойного пруда, что Воронов даже застонал от злости на себя, а Стуков восторженно развел руками.
— Обратите внимание, стоит только — условно, Чуеву — сорвать пломбу, как автоматически виновником становится водитель...
— При условии, — вставил Кириченко, — что не хватает товара. Мне думается, даже такому ловкому человеку, как Чуев, с его навыками мотогонщика, невозможно открыть на ходу дверь и уж совсем невозможно утащить ковров на тысячу пятьсот рублей.
Кириченко довольно хохотнул.
— Вы совершенно правы, Иван Петрович, — охотно, с нескрываемым удовольствием поддержал его Жигулев. — Чуеву и нет надобности тащить. Достаточно отправителю недоложить необходимый груз...
— Но если пломба на месте, виноват отправитель?
— Это «если» и возлагалось условно на Чуева...
— Но это значит, Виктор Иванович, что замешана большая группа людей?
— Думаю, да. Я уже попросил УБХСС дать справки по отправителям. Когда сложится общая картина, думаю, будут видны и параллели.
— Товарищ полковник, — не удержался Воронов. — Квартира Чуева напоминает антикварный склад. Хрусталя больше, чем во всех городских специализированных магазинах. Мимоходом спросил откуда, он ответил, что это призы. Наверно, стоит проверить, где и когда успел их завоевать мастер спорта Чуев.
— Разумно. И не откладывайте. Только осторожно. Хорошим доводом может оказаться при допросе, — согласился начальник отдела. — Пока же предлагаю провести следственный эксперимент — как срывал пломбу Чуев? Это раз. И второе, не откладывайте разговор с инспектором, который составлял протокол. Мелочи могут играть решающую роль.
Следующие два часа Воронов занимался организационными вопросами: заказывал машины, искал людей. За руль фургона, копия мишеневского, посадили своего, милицейского шофера. Пригласили и мотогонщика, тоже мастера спорта, динамовского, работавшего в отделении у Хромова. Майор с нескрываемым интересом отнесся к идее эксперимента, организовал все блестяще, даже перекрыл движение на напряженном отрезке дороги.
Водитель фургона своей задачи не знал — он должен был только вести, и притом внимательно, машину на крейсерской скорости, стараясь заметить как можно больше. Зато лейтенанта, выполнявшего роль Чуева, проинструктировали полностью. Он трижды подряд сорвал пломбу с фургона на полном ходу, а водитель так ничего и не заметил. Правда, первый раз, оборвав проволочку, он оставил пломбу висевшей на обрывке. Но это дела не меняло — дверь была распечатана.
После эксперимента довольно шумно обсуждали его результаты в кабинете у Хромова.
Воронов поблагодарил майора:
— Спасибо вам особое! Не наткнись вы на эту докладную о задержании Чуева, ей-богу, концов бы не нашли...
— Нашли бы... Концы, они всегда есть, — Хромов улыбнулся. — Вот только в службе нашей суетной порой не всегда хватает времени покопаться. Шерлоку Холмсу было хорошо, его сроками прокурорский надзор не сковывал. Да и процент нераскрытых преступлений мало волновал. Свободный художник, одним словом, а у нас... Вчера опять две аварии со смертельным исходом на «Жигулях». Быстрая, отличная машина. Требует хорошего глазомера и твердой руки. Опасная машина... И все-таки однофамильца своего забыть не могу...
Воронов сообщил:
— Проверка показала, что в картотеке таких отпечатков пальцев нет. Во время допроса постараемся взять у Чуева. Похоже, что именно он доводил дело до конца. Может, старик Хромов его засек. Судя по всему, отпущенный инспектором Чуев дело свое сделал — пломбы на месте не оказалось.
— Буду ждать известий с нетерпением, — майор признался как мальчишка, искренне и горячо: — Нет покоя, пока не уясню...
Он иронически взглянул на своего капитана, и тот, покраснев, опустил глаза. Воронов представил себя на месте капитана, и ему стало неуютно; так же чувствовал себя он сам, признаваясь полковнику Жигулеву, что отложил разговор со старым шофером.
Уже когда отъехали километров сорок от отделения Хромова, Воронов вспомнил, что хотел повидаться с инспектором, составлявшим протокол, но забыл это сделать. Предложение пригласить его на эксперимент полковник Жигулев отклонил, логично заявив, что круг посвященных лиц желательно не расширять.
«Ладно. Завтра обязательно встречусь с ним. Интересно, вспомнит ли он лицо Чуева? Надо подготовить портрет. И вообще, вспомнит ли он подробности того случая? Ведь у него вон сколько хлопот каждый день на участке. Со смертями...»
Но поговорить с инспектором назавтра не удалось. Полковник Жигулев предложил срочно провести допрос Чуева. Разработку ведения допроса закончили почти в два ночи. Чтобы не настораживать его преждевременно, — неизвестно, что даст допрос, может быть, Чуев станет в позу отрицающего все и вся, — решили ведение допроса поручить одному Воронову.
23
По согласованию с начальством Алексей назначил явку Чуеву на десять утра. Тот пришел точно в десять. Вошел в комнату аккуратно выбритым, причесанным, в нарядном костюме, и Алексей отметил про себя, что это, наверное, ужасно, когда костюм так меняет человека. Перед его глазами встала фигура в майке и трусах, с волосатыми ногами и полупьяным лицом.
Сейчас перед Вороновым сидел совершенно другой, нормальный человек.
Алексей ожидал встретить как бы сохранившееся с прошлого разговора нагловато-независимое отношение. Но то ли новая обстановка, то ли какие-то другие причины заставили Чуева изменить линию поведения. И Воронову, настроенному слишком агрессивно, пришлось свой боевой пыл несколько охладить.
Чуев сидел сдержанно-вежливо — само внимание.
— Я хочу вас предупредить, Петр Константинович, что в отличие от прошлого разговора у вас дома эта встреча официальная, протоколируется, записывается на магнитофонной пленке, и потому прошу быть в ваших же интересах очень внимательным с ответами и правдивым.
— И то и другое меня устраивает. Как гонщик, я привык всегда быть внимательным. Что касается правдивости, думаю, вы уже имели возможность в этом убедиться, проверив...
— Проверили... — перебил Воронов. — И потому, чтобы не пришлось мне вас больше прерывать, хочу попросить отвечать только тогда и на те вопросы, которые я вам задаю.
— Это что, допрос? — слегка побледнев, спросил Чуев.
— Да, — как можно жестче ответил Воронов.
Формальности, связанные с открытием протокола, фамилия, данные и прочее, они выполнили во все накалявшейся атмосфере. Воронов видел, что Чуев боится. Но чего? Надо было вести разговор, стараясь как можно дольше продержать его в этом тревожном состоянии. Страх за содеянное, если оно было, должен заставить его проговориться.
Алексей подумал, что там, в кабинете начальника отдела, где полковник Жигулев и старший следователь Стуков внимательно слушают, как он ведет допрос, не очень-то одобрят такую линию его поведения. Полковник Жигулев не любил психологического нажима — только факты.
— Итак, вы не разговаривали с диспетчером Мотей о нашей с Хромовым встрече. Вы подтверждаете это ваше заявление сейчас?
Чуев пожал плечами.
— Естественно.
— По-прежнему считаете, что Мотя решила вам отомстить за то, что отказались на ней жениться?
— Не совсем так, но приблизительно.
— Уточните, пожалуйста, как вы формулируете эту мысль.
— Естественно, обиженная баба меня ненавидит с того дня, как я женился на Людмиле, а не на ней. Вот и все. Она готова съесть меня с потрохами.
— И вы не знали о том, что Хромов договорился встретиться со мной на следующий день?
— Не знал. Мне это, поверьте, совершенно безразлично как сейчас, так и было тогда.
— Расскажите, что вы делали в то утро, когда погиб Хромов.
— Я вам уже говорил. Перебирал мотор. Или свидетелей мало?
Воронов сдержался.
— Свидетелей даже больше, чем нужно. Но поподробнее, пожалуйста. Вот вы миновали проходную и...
Чуев сел на стуле поудобней. Опять недоуменно пожал плечами — дескать, если вам нечего делать, я готов вспоминать...
— Прошел в мастерскую...
— Ни с кем не разговаривая по дороге?
— Ни с кем... — твердо ответил Чуев, но Воронову почудилась какая-то трещинка в его твердости. Он помолчал, видя, как борется Чуев, пытаясь взять себя в руки. И Воронов решил временно ослабить нажим. Недоговоренность всегда многозначительна.
— Вам знаком этот предмет? — Воронов положил на стол стоявший рядом с тумбой длинный крючок из десятимиллиметровой проволоки. Он заметил его вчера в гараже среди общего хлама, висевшего на стеллажах. Спрашивал ребят, и никто не мог объяснить толком, зачем нужен этот крюк и кто его сюда принес. Но таким или почти таким проводился следственный эксперимент. Воронов, оформив изъятие протоколом, взял его так, на всякий случай...
Эффект превзошел все ожидания. Чуев откинулся назад и замер. Потом, сообразив, что выдает себя, быстро сказал:
— Да. Это мой буксировочный крюк. Иногда приходится таскать на нем мотоцикл.
— Вы можете объяснить, как он применяется?
Чуев совершенно растерялся.
— Обыкновенно. Цепляю за свою машину одним концом, за другую — другим.
— Ручка столь узка, что не цепляется ни за одну переднюю или заднюю деталь мотоцикла, годную для буксировки...
— Я могу вам показать это на практике...
— Обязательно попрошу вас об этом. А теперь скажите, не этим ли крюком воспользовались вы однажды, цепляясь за фургон Хромова?
Надо отдать должное Чуеву, он сумел достойно принять удар.
— А-а, вот откуда ветер! Было такое. Идиот инспектор попался. Долго душу мотал... Не этим крюком цеплялся — тогда какая-то проволока подвернулась. У меня, помнится, бензин кончился.
— Вы можете мне рассказать, куда и откуда вы ехали?
— Могу.
Чуев принялся подробно рассказывать. Воронов не перебивал, давая ему выговориться. Чуев все более живописал о своих планах и о стычке с инспектором.
— Скажите, Чуев, о чем вы говорили с Хромовым в то утро, когда он погиб...
— Так... Ни о чем...
— Но полчаса назад вы показали, что ни с кем не разговаривали...
— Как-то запамятовал... Действительно, я поздоровался со стариком.
— Вы садились к нему в машину?
— Вроде стал на ступеньку... — глухо сказал Чуев.
— В кабине не были?
— Как будто нет, — и по глазам Чуева Алексей понял, что тот действительно не уверен и пытается лихорадочно вспомнить.
— Чуев, вам знакомо такое слово — дактилоскопия?
— Пальцы, что ли? — с тревогой в голосе переспросил Чуев.
— Пальцы, — согласился Воронов. — Точнее, отпечатки пальцев.
— Угу, — соглашаясь с уточнением, пробурчал Чуев.
— Так вот... По закону они являются неоспоримой уликой. Отпечатки пальцев — не слова. Ими жонглировать невозможно.
— Угу, — опять буркнул Чуев.
— На руле погибшего Хромова, неслучайность смерти которого доказана медицинской экспертизой, обнаружены отпечатки пальцев...
— Но я мог коснуться руля в кабине... Когда сел... Или нет... — Чуев заметался. — Не помню, может...
— Я вас предупреждал, Чуев, о внимательности и правдивости. Пока нет ни того, ни другого. Мы разберемся потом, что делали вы, цепляясь за фургон Хромова...
— Я не знал, что это фургон Хромова...
— Допустим... Но теперь-то вы должны знать, что отпечатки пальцев на руле отчетливо показали, что их владелец выполнил маневр, приведший к аварии машины, но не к смерти Хромова. Его перед этим убили тяжелым предметом по голове... Сбоку. В висок... И подозрение, естественно ложится на того...
— Я не убивал Хромова, — глухо сказал Чуев.
— Готов вам поверить, Петр Константинович. Тем более, что я этого и не утверждаю. Хочу лишь, чтобы вы поняли, что ждет человека, оставившего отпечатки пальцев на руле.
— Понимаю... — Чуев сидел, подавленно опустив голову, руки его мелко дрожали, так что, казалось, налившиеся вены пульсируют со стуком, слышным не только ему, Воронову, но и там, в кабинете начальника отдела.
— Тогда, Петр Константинович, начинайте рассказывать все и по порядку. Это единственная ваша возможность. Вам надо разъяснять почему, или вы уже успели осознать это сами?
Чуев с минуту молчал и вдруг проговорил:
— Хромова убирал Гришка Демин.
— Хват?!
— Да. Мотя сказала мне о вашем разговоре, и я передал его Хвату...
Полковник Жигулев оторвался от динамика.
— Немедленно опергруппу в Дальтранс. Снять отпечатки пальцев Хвата, но так, чтобы ему и в голову не пришло! Пулей, — почему-то шепотом закончил полковник и кивнул Стукову: дескать, выполняйте.
— За что Хват убил Хромова, и почему это интересовало вас?
— Меня это не очень интересовало...
— А кого?
— Станислава Антоновича...
— Кого, кого?! — воскликнул Воронов.
Полковник Жигулев поморщился: «Мальчишка! Надо держать себя в руках!»
— Станислава Антоновича Городецкого, нашего главного диспетчера.
— Давайте по порядку, Петр Константинович, слушаю вас...
— Я действительно срывал пломбы с фургонов, приводя тем самым к ответу шоферов. Не помню сколько раз, но делал это по просьбе Городецкого. Первый раз это было года два назад, точно — в мае. Мы обедали в ресторане «Архангельское». Он предложил мне принять участие в одной операции. Городецкий всегда поддерживал меня. Вы знаете, я ведь не шоферю уже давно, а деньги капают. Директор несколько раз пытался прикрыть лавочку, но Городецкий, он большой любитель спорта, отстаивал. Только потом я узнал, какой он любитель... Станислав Антонович сказал, что дело пустяковое, и предложил плату, от которой у меня голова пошла кругом. Ты, говорит, ничего знать не будешь. Я тебе скажу, с какого фургона надо сорвать на ходу пломбу, и приходи за расчетом. Остальное тебя не касается, лишь бы никто не видел! Дело-то действительно плевое, — Чуев запнулся. — Потом, когда произошло несколько скандалов в нашей конторе, понял, зачем нужна была сорванная пломба. Состоялся крупный разговор с Городецким. Чуть не набил ему морду... Но он убедил меня, что назад дороги нет. Он умеет убеждать...
Воронов слушал Чуева, прикрыв глаза рукой. Боялся малейшим движением спугнуть откровенность говорившего. Перед его мысленным взором разбегались десятки тропинок, в конце которых стояли, улыбаясь, изображая из себя честных советских людей, обыкновенные жулики. Начальник отдела прав. Это шайка. И в ней замешаны отправители. Значит, предстоит еще огромная следственная работа. Воронов не боялся, что опустит что-то из показаний Чуева — магнитофонная кассета крутилась, и ему еще не раз доведется вслушиваться в безнадежно усталый голос Чуева.
А тот рассказывал о механизме информации, о передаче крупных сумм денег, и щупальца, расходившиеся от Городецкого, становились все толще и многочисленнее.
— Я ничего не говорил Хвату. Сообщил о предполагаемой вашей встрече Городецкому в тот же вечер. Дело в том, что Хромов, кажется, раскусил механизм срыва пломбы. То ли кто-то видел меня из шоферов другой конторы и сообщил ему, то ли сам заметил. Однажды он мне сказал: «Ну, сука, ты скоро за все ответишь!» Это было в день, когда Мишенев пришел к вам... Городецкий рассвирепел. При мне он тут же сказал Хвату, который с нами ужинал: «Займешься завтра же!»
Допрос шел уже третий час, и когда Воронов собрался сделать перерыв, видя, что Чуев с непривычки совершенно измучен столь долгим монологом, в комнату неожиданно вошел полковник Жигулев.
Воронов встал. Так же поспешно поднялся и Чуев.
— Сидите, сидите! — Жигулев подошел к столу, глядя на Чуева сверху вниз.
— Вы сказали правду, Чуев. Экспертиза подтвердила, что на руле отпечатки пальцев Демина. Вы, судя по всему, невиновны в убийстве Хромова. Непосредственно не убивали... Но, надеюсь, понимаете, что ваши действия привели к гибели человека. Не говоря уже о хищениях, о том, что вы оклеветали десятки порядочных людей, работавших не за деньги, а за совесть, украли у государства...
— Я понимаю, понимаю, — поспешно произнес Чуев.
— И хорошо. Давайте договоримся... Вы поможете нам и дальше. Мы, конечно, обойдемся и этой вашей информацией. Но, думается, что Городецкий запутал не только вас. И если не пригвоздить его неопровержимой уликой, он будет крутиться долго. И кто знает, не погибнет ли еще один Хромов...
— Согласен, — угрюмо сказал Чуев. — Что надо делать?
— Прежде всего молчать о нашей договоренности. Вы встретитесь со Станиславом Антоновичем и скажете, что Мишенева надо додавить. Объясните, что здесь, в МУРе, клюнули на него, Мишенева возьмут, и все кончится. О Хромове ни звука.
— Не поверит, — упрямо повторил Чуев.
— Убедите. Эта помощь может рассматриваться судом как часть платы за содеянное вами лично. Убежден, что и это вам понятно.
Чуев молча кивнул головой, и Воронову показалось, что он всхлипнул.
— Остальное предоставьте нам. Подождите здесь, Петр Константинович, а вы, товарищ Воронов, пройдемте со мной.
24
В операции Воронов не участвовал, потому что он был слишком хорошо известен Городецкому и еще потому, что в тщательно разработанной операции делать ему было просто нечего. Разговор Чуева с Городецким в ресторане «Арагви» прошел успешно — в отделе весь следующий день внимательно изучали чуевский отчет.
Чуев сыграл свою роль старательно. Может быть, излишне волновался, но, наверное, это было естественно в его положении, и волнение, похоже, еще больше убедило Городецкого в искренности Чуева.
Впрочем, Воронов, несколько обиженный таким отношением, получил особое задание: продолжать вести работу своим чередом. Позвонить Городецкому и задать несколько пустяковых вопросов. Например, сколько суток обычно проводят шоферы в рейсах. И тому подобное. Продефилировать пару раз по территории Дальтранса и заодно посмотреть, как чувствует себя Мотя. Заглянуть в мастерские спортклуба. И, наконец, завершить давно задуманное — встретиться с инспектором, задержавшим Чуева, чтобы узнать от него как можно больше подробностей. Они могли пригодиться, когда Чуев будет выполнять свою операцию по срыву пломбы.
Это происходило прежде всего по воле Городецкого. Но теперь Станислав Антонович, за которым было решено даже не устанавливать наблюдение, шел на поводу событий. Ключ — обязательный рейс Мишенева. Виктор должен отправиться по старому хромовскому маршруту на ковровый комбинат. Чтобы подыграть, Мишенев по совету Воронова явился к Городецкому, чтобы отказаться от рейса, и попросил вообще отстранить его от работы впредь до закрытия дела. Городецкий накричал на Мишенева, потом потребовал в административном порядке непременно выполнить рейс. Это была серьезная, сверх предусмотренного, ошибка Городецкого.
Обо всем этом думал Воронов в машине, увозившей его в отделение майора Хромова. Инспектор Какурин Константин Степанович должен был ждать его там. И он действительно ждал.
Воронов предполагал увидеть молодого, педантичного, требовательно-вежливого из желания как можно лучше выполнить свой долг молодого инспектора, а перед ним стоял, смущенно представившись, старшина весьма преклонных лет. Он смотрел на Алексея чудаковатыми добрыми глазами. И Воронов подумал:
«Форма-то на деде сидит, как на чучеле. В его возрасте на бахче арбузы бы караулить, а не на таком насыщенном участке дежурить. Майор, судя по всему, в деде души не чает. Интересно, оправданно ли?»
— Вы помните тот случай, с мотоциклистом? — спросил Воронов, озадаченный настолько, что не знал, как начать разговор.
— Товарищ майор говорил... И так что, считай, помнил...
— Где это произошло, показать сможете?
Дед обидчиво засопел.
— Я на этом перекрестке восемнадцать лет стою. Как же не могу...
— Проедем туда?
— Пожалуйста, — дед кивнул на мотоцикл с коляской, такой же старый, как и сам хозяин, но сверкавший аккуратно подправленной желтой краской.
Когда мотоцикл рванулся с места, Воронов заметил, что дед еще силен. Чувствовалось полное слияние с машиной, будто все лошадиные силы, гудевшие в моторе, переливались и в хозяина.
Какурин заглушил мотор и откатил мотоцикл на обочину.
— Тут и было. У меня тогда с мотором что-то случилось — едва завел. А то бы я лихача еще издали заметил. Вон на том повороте. Когда голову поднял, он уже на этом вираже свои номера выкидывать начал. Как проехал, я за ним и припустился. Останавливать на месте не с руки было — за фургоном он бы меня и не увидел. Да и остановился ли — тоже вопрос.
Какурин рассказывал чрезвычайно подробно, словно мысленно прокручивал перед собой ленту, зафиксировавшую совершенно заурядный в жизни дежурного инспектора эпизод.
«Вот на таких, как Какурин да Стуков, и держится наша служба. Ну что ему до этих мелочей?! А в работе нашей и впрямь их не бывает. Пройди он мимо чуевского «хулиганства», не оставь свой рапорт, пусть и не очень грамотный, но толковый по сути, неизвестно, где бы мы еще плелись со своим расследованием. Умница дед. А старость что — она случается с каждым, кто долго проживет».
Какурин объяснил, демонстрируя наглядно, как все было.
Воронов стал с ним прощаться.
— Спасибо, Константин Степанович. Вы даже не догадываетесь, как нам помогли...
— Что, хорош гусь оказался? — лукаво спросил Какурин.
— Еще как хорош! — Воронов развел руками, как бы показывая, что о дальнейшем поведать не волен. — Обещаю вам недельки через две лично все изложить. Вместе попереживаем и порадуемся победе. А сейчас бы в отделение вернуться — мне уже в город пора!
— В город? Так чего же назад крутить? Сейчас я вас славно устрою.
Он шагнул с обочины на асфальт и поднял свой полосатый жезл, висевший на руке. Красный «Москвич» послушно замер прямо у его ног.
— До города? — вежливо спросил Какурин. — А-а, товарищ художник? — водитель, очевидно, оказался старым знакомым. И, наклонившись, Какурин попросил: — Товарища лейтенанта с собой не прихватите?
— Коль разрешите с неограниченной скоростью ехать, возьму! — смеясь, ответил водитель — молодой, усатый парень с копной черных волос.
— Я те дам, с неограниченной! — притворно сердито погрозил палкой Какурин.
Не успели отъехать, парень охотно заговорил.
— Батя у нас хорош. Но строг — спасу нет. Я от него две дырки в талоне имею. Только с трудом уговорил на неделю срок одной перенести. Критическое положение создавалось, — парень прибавил газу, словно и впрямь получил разрешение Какурина.
Воронов взглянул на спидометр. Скорость была за восемьдесят, а пробег — пять тысяч семьсот сорок километров.
— Не много ли две дырки за такой короткий пробег? — скорее из вежливости спросил Воронов.
— Еще как много! Да ведь у Бати не выкрутишься. Он эту проклятую скорость без спидометра с точностью до ста метров чувствует...
Под этот восторженный дифирамб Какурину Воронов и задремал. Он не заметил, сколько проехали и где находились, только очнулся от ощущения того, что машина плывет. Подняв голову, бросил взгляд на панель приборов и увидел стрелку спидометра, стоящую на делении «65». За ветровым стеклом тянулась слегка мокрая от дождя лента шоссе. Навстречу, где-то в километре, шел грузовик. А их машина плыла по дороге боком.
Алексей не успел принять никакого решения. Оно пришло само — по-спортивному быстро, скорее инстинктивно, Алексей успел сжаться, повернуться боком, упереться в торпедо правой рукой, а левую закинуть за спинку. Наверно, это было все одновременно. Во всяком случае, он успел это сделать, пока взревевший мотором, — растерявшийся водитель вместо педали тормоза нажал на газ, — «Москвич» не прыгнул с трехметрового обрыва. Потом обрушился грохот, как будто заработала камнедробилка. И он, Воронов, уперся в белый-белый с мелкими дырочками потолок машины. И еще в пол... Потом удар. Все затихло так же стремительно, как начало грохотать.
Он лежал на плечах, ногами кверху, между передним и задним сиденьями. На месте левой двери зияла дыра, в которую Алексей и вывалился. Встав на ноги, осмотрелся. Нет, скорее прислушался: тихо-тихо наигрывал приемник, прижатый к полу, да громко, как бывает лишь в детективных фильмах, капал бензин из свернутой горловины бака. Потом увидел лежащий кверху колесами «Москвич», щедрую россыпь выбитых деталей позади и свои разорванные, окровавленные брюки, пробитые до белой кости ноги и вспухшие, в кровяной пене руки...
— Парень! Эй, парень! — громко позвал Алексей. — Обойдя машину и совсем не думая о себе, он увидел водителя, лежавшего на спине.
Грузовик, бежавший навстречу, со скрежетом затормозил, и водитель бросился к нему.
— Давай, бери парня! — сказал Воронов. — Больница далеко здесь?
— Километров пятнадцать... В Сельцах! — он кивнул в сторону, откуда они ехали.
— Скажешь по дороге инспектору Какурину, пусть приедет...
— Бате?! Скажу! — водитель бросил в кузов вырванное во время переворотов сиденье и помог положить на него художника. Тот хрипел...
— Гони, гони быстрее! — крикнул ему Воронов, но крик получился слабым.
— Вы-то как? — спросил водитель уже из кабины.
— Нормально. Гони!
На дороге подходили и останавливались машины, а Воронов будто и не видел этих людей — он смотрел на свои все отекающие руки в кровавых, лопавшихся от вздутия струпах, и никак не укладывалось у него в голове, что пострадавший — это он.
Какурин соскочил с мотоцикла почти на ходу. Он засеменил к Воронову. У Алексея, наверно, был такой страшный вид, что Батя растерянно спросил:
— А вы откуда, товарищ лейтенант?
Воронов кивнул головой в сторону лежавшего метрах в двадцати под склоном измятого и перевернутого кверху колесами «Москвича».
— Это невозможно, — еще более растерянно произнес Батя, но на этом, к счастью, его растерянность и кончилась... Воронов потерял сознание.
25
Первый раз Алексей очнулся еще в машине. Он лежал на носилках в «Скорой помощи». Или это ему только показалось, что он очнулся. Второй раз пришел в себя, когда она резко затормозила, и услышал слова встречавшего врача — пожилой полной женщины, участливо сказавшей грудным голосом:
— Ну и слава богу, что очнулся!
— Что, автогонщик? — голос принадлежал соседу по палате, возлежавшему на сооружении, лишь отдаленно напоминавшем кровать: широкая доска была положена прямо на козлы. Спрашивавший не шевелился, только глаза его смотрели на Воронова косо и насмешливо. — Прибыл, значит, в наш лагерь? Где тебя гробануло? На «Жигулях» небось?
— Не я был за рулем, — словно это могло служить оправданием, сказал Воронов.
— А-а... — протянул парень.
Вошла врач и прикрикнула на говорившего:
— Сидоров! Помолчите хоть немножко!
— Ну, как дела? — спросила она, присаживаясь на койку. — А ты в рубашке родился. Теперь сто лет жить будешь. Чудо какое-то — тридцать семь дырок и ни одной трещинки, ни одного перелома! Какурин сказал, что от машины лепешка кукурузная осталась. Судьба, голубчик. — Она как маленького погладила его по голове. — Тут к тебе приходили. Из Москвы. Но я не пустила. До завтра лежи тихонько и старайся не двигаться. Кто знает, какой силы сотрясение!
Первым наутро, после завтрака, вместе с врачом в палату вошел инспектор Какурин. В белом халате, накинутом прямо на мундир, Константин Степанович напоминал побитого пса, настолько виноватым было выражение его лица.
Воронов ободряюще улыбнулся ему.
— Ах, старый хрен! Моя вина! — запричитал он. — Две дырки ведь паршивцу сделал, а вас к нему посадил. Надо же!
— Глупости! Тут не угадаешь. Лучше скажите, что произошло? — Воронова не столько интересовали причины аварии, сколько он хотел отвлечь Какурина от причитаний. И тот клюнул. Сел на предложенный стул и начал:
— Так вот. Научили дитятю богу молиться, он и лоб расшиб. В шоферской профессии нос задирают, прости господи, раньше, чем успевают высморкаться. Так вот. Сказали, держись правой стороны, а он аж к обочине жался, так правила соблюдал. Ну и завалился передним правым колесом на глину. Когда в испуге руль крутанул, бетон и попридержал то колесико. Остальное — как волчком. Шесть раз вы крутанулись.
Вслед за Какуриным заявилась Лариса. Она прошла к кровати тихо и, увидев смеющиеся глаза Алексея, заревела навзрыд. Никакие уговоры, никакие попытки вызвать к жизни Ларискино саркастическое отношение ко всему не помогали. Отревевшись — Алексей терпеливо ждал, — она спросила:
— Аварию подстроили, да, покушение?
— Увы, обыкновенная случайность. И никакой романтики. Сыщик Воронов чуть не погиб, упав с горшка...
В шутке Воронова Лариса уяснила себе лишь слова «чуть не погиб» и вновь заревела.
— Ну, Лора! — не выдержал Алексей. — Хватит реветь. Я же...
Вошла врач, словно дежурившая у двери.
— Милочка, так не пойдет! Я вас пустила настроение ему поднимать, а реветь мы тут сами мастера. — Она взяла ее за плечи и повела к двери.
Лорка, своенравная, капризная Лорка, позволяла незнакомой женщине обращаться с ней, как с ребенком. Это было что-то новое.
— Я вернусь...
— Завтра, завтра... — проворчала врач. — Раньше не пущу... Слезы по мужу выплачешь дома...
А потом чередой шли проведовавшие, Лариса навещала каждый день. И больше не ревела, только молча смотрела на исхудавшее, осунувшееся лицо Воронова, на резкие складки, углом легшие возле рта. Шли сослуживцы. Дважды звонил Стуков, передавал привет от полковника Жигулева, всех ребят, но о деле молчал, и Алексей понимал, что спрашивать еще нельзя. Для этого в палате было слишком много народу, а встать — не позволяли врачи.
К исходу третьего дня он чувствовал себя уже совершенно здоровым, но эту его точку зрения совершенно не разделяла врач, которую он мысленно прозвал «квочкой» — так заботливо и неутомимо сновала она по палатам, опекая всех и всякого.
— Нет, голубчик, — говорила она в ответ на просьбу Воронова выписать поскорее. — Коль попал к нам — отлежишь свое! В следующую катастрофу попасть еще успеешь! Да и гарантий нет, что так же легко отделаешься.
На том и порешили.
Еще два дня он пролежал, отсыпаясь, как на курорте. Просыпался, кажется, только для того, чтобы поесть, принять друзей да послушать бесконечные шоферские рассказы соседа, лежавшего уже второй месяц на доске с тяжелым переломом позвоночника.
Воронов не знал, что сонливость была ответной реакцией организма, как пояснила потом врач, на тяжелую встряску. А пока каждый час без сна становился для него все мучительнее — не давали покоя мысли, как у них там, с мишеневским рейсом...
26
Забирал его из больницы Стуков. В машине Воронов спросил:
— Как операция? Не томи душу! Едва дождался выписки, чтоб ей провалиться, этой больничной жизни!
Стуков согласился:
— Что есть, то есть! Да ты не горюй — в следующий раз не скоро попадешь. А насчет дела, инспектор Воронов, оно почти закончено. Все нити привели к Станиславу Антоновичу. Силен тип. Давно такого монстра не видел. Сначала было в позу, но ребята наши фильм сняли, как Чуев действует, и как товар недоложили, и как договаривались... Тут сразу мудрость Станислава Антоновича как бы не в то горло пошла. Все рассказал. Сознательный гражданин. Только отпирается, что давал указание Хвату убрать Хромова. Божится, что тот инициативу проявил. Будучи знаком с уголовным кодексом, я бы на его месте тоже божился... Хват сперва на случайность валил, а потом начал на Городецкого. И похоже, правду говорит. Так что, ты еще наслушаешься информации от следователя, которому поручено вести дело...
— А кому? — спросил Воронов, прекрасно зная ответ.
— Угадал, — и Стуков ударил себя кулаком в грудь.
Они рассмеялись.
Машина плавно вписывалась в повороты, подчиняясь твердой руке опытного водителя, но Воронов нет-нет да и поглядывал опасливо на дорогу.
— Боишься скорости?
— Честно говоря, да.
— Ничего. Ощущение здоровья приходит через болезни, — выдал очередной афоризм Стуков.
— А как Чуев?
— Обыкновенно. Ждет суда, надеется на смягчение. Много ему, наверно, не дадут. Да, знаешь, а ведь ты был прав с призами. Девяносто процентов хрустальных ваз он сам себе купил и выгравировать отдал. Дескать, награда. А на самом деле и состязаний таких не было.
— А что Мотя?
— С Мотей плохо. Стесняется происшедшего ужасно. Подала заявление об уходе. Собирается уехать в Сибирь.
— Ну и напрасно. Надо будет отговорить. Ей-то стесняться нечего. Пусть Чуев стесняется...
— Ты прав, Алексей, Мотя неудачница, и только. Жертва сердцееда Чуева. Помочь ей стоит.
— Скажи, а в Дальтрансе кто-нибудь еще замешан?
— Вроде пока нет. Правда, директор по партийной линии ответственность понесет за то, что пригрел таких, как Городецкий, Хват и Чуев... Новые стены хороши, когда в них старых щелей нет. А так... Я у шоферов был — прекрасные ребята. Впрочем, хватит о деле. Дай хоть дыхание перевести. Остальное послезавтра в управлении узнаешь.
— Завтра, — поправил Воронов.
— Будь по-твоему. Завтра, — согласился Стуков.
РАССКАЗЫ
Валерий ОСИПОВ
ДНЕВНИК ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ
 1
1
Забой — ноль метров. Подготовка к забурке. Осмотр инструмента, ремонт дизеля. Состав бригады — прежний. Бурильщик первой вахты Гаранин.
Забой — ноль метров. Подготовка к забурке. Опять кругом тайга, тишина, глушь. Виталька, спасибо за дизель. Пуск насоса, проба шлангов. Бурильщик второй вахты Вальцов.
Забой — сто десять метров. Забурились сегодня в пять сорок утра. Удельный вес раствора — тридцать пять. Ремонт роторной цепи. Бурильщик первой вахты Гаранин.
Забой — двести сорок метров. В скважину добавляли воду. Виталька, спасибо за ротор. Вязкость раствора — тридцать семь единиц. Бурильщик второй вахты Вальцов.
307 метров. Подсчет длины инструмента: 24 × 12 + 19. Замена сальников. Подтягивание гайки вертлюга. Гаранин.
362 метра. Привезли новую повариху. Симпатичная. Виталька, спасибо за вертлюг. Готовлю спуск инструмента. Вальцов.
384. Спуск инструмента. 24 × 15 + 8 + 16. Крепление штанги. Промыв скважины. Гаранин.
419. Подъем инструмента. Сварочные работы. Виталька, а повариха-то, а? О-го... Подготовительные работы к спуску кондуктора. Вальцов.
419. Спуск кондуктора. Забивка. Цементаж. Гаранин.
419. Оборудование устья. Разные работы. Виталька, а повариха-то? О-го-го! Затаскивание турбобура на мостки. Вальцов.
Забой — 774. Регулировка тяги скоростей. (8 + 764 + 2.) Промывка скважины. Гаранин.
835. Осмотр компрессора. Сшивка цепей. Виталька, ты чего мне ни одного слова не напишешь? Ведь что получается: я сплю — ты работаешь, ты спишь — я на буровой. Смена задвижки на выкиде. Вальцов.
Бурильщику второй вахты Вальцову. Буровой журнал существует не для лирики, а для дела. Посторонние записи требую прекратить. Буровой мастер Заботин.
2
— Здравствуйте, Леля.
— Здравствуйте, Виталий.
— А вот и ошиблись. Это Гаранина Виталием зовут. А я Виктор. Вальцов Виктор.
— Очень приятно.
— И мне очень приятно. Прогуляться решили?
— Жарко все время на кухне, около плиты.
— Это конечно. Ну, как вам тут у нас, нравится?
— Места красивые.
— Красивые — не то слово. Богатые — вот это правильно будет. Здесь на каждом шагу нефть. Ткни пальцем под любым кустом — и сразу фонтан ударит.
— Так сразу и ударит?
— Ну, не сразу, конечно. Сперва дырку сверлить надо, бурить то есть.
— А бурить вы умеете, да?
— Мы-то? Да у нас знаете какая бригада? Ансамбль песни и пляски, а не бригада.
— Я знаю.
— Леля, а вы грибы собирать любите?
— Люблю.
— Может, сходим за грибами? Когда погода хорошая будет?
— Можно сходить.
— Я вам тогда накануне скажу, чтобы приготовиться. Договорились?
— Договорились.
3
— Здравствуйте, Виктор.
— Здравствуйте, Леля. Только я не Виктор, а Виталий. Гаранин Виталий. А Виктором Вальцова зовут, сменщика моего.
— Извините.
— Пожалуйста. Ну, как вам тут у нас, нравится?
— А вас действительно легко с вашим сменщиком перепутать.
— Почему?
— Вопросы одни и те же задаете.
— Это по привычке. Мы с ним давно дружим.
— Вы даже похожи друг на друга...
— Чем же?
— Голоса одинаковые.
— Первый раз слышу.
— Я сначала подумала, что вы родственники какие-нибудь. Братья, например.
— Нет, просто друзья.
— Так бывает иногда. Когда люди работают или живут вместе долго.
— Наверное.
— А вы смешной...
— Я не смешной, я просто не выспался.
— Виталий, а вы грибы собирать любите?
— Люблю, а что?
— Меня ваш друг грибы собирать пригласил. А я вас приглашаю...
4
Забой — 1067 метров. Сбивка сальника... Витек, ты что это каждые полчаса на кухню бегаешь? Разбор турбины. Замена штуцеров. Гаранин.
Забой — 1213. Товарищ Гаранин, а вам-то какое дело, куда я хожу в свободное от вахты время? Смена клапанов. Долив скважины. Вальцов.
1344. Витек, в свободное от вахты время нужно спать, а не сидеть на кухне. Подъем инструмента. Осмотр турбобура. Гаранин.
Забой — 1372. Виталька, ну, занятная баба, наша повариха! Чего она мне только вчера не рассказывала! Где она только не побывала!.. А мы тут сидим около своей нефти. Замена грязевого шланга. Разные работы. Вальцов.
Внимание обеих вахт! Сколько можно говорить, чтобы не писали в буровой журнал о своих козлиных делах? Ведь это же документ, а не ха-ха... На среду назначаю производственное собрание. Обеим вахтам явка обязательна. Повестка: принятие обязательств. Буровой мастер Заботин.
5
— Здорово, Витек!
— Виталька!.. Здорово!
— Курить есть?
— Держи.
— Болгарские?
— Югославские.
— Крепкие...
— Слушай, что это наш старик бодаться начал?
— Мастер-то?
— Ну?.. Козлиные дела, журнал не ха-ха...
— Завидно стало.
— Мне про него рассказывали... Он сам-то в молодые годы ба-альшой ходок был по разным адресам.
— Витек, а как Леля-повариха?
— Да ладно тебе!
— А чего? Деваха она подходящая. Все при ней.
— Не в этом дело. Странная она какая-то. И на повариху вроде не похожа...
— Все они одинаковые.
— Культурная...
— А мы что — деревня, если в тайге живем?
— Почему это деревня?
— Ну и все дела!
6
— Здравствуйте, Леля!
— Здравствуйте, Виктор.
— Отдыхаете?
— Посидеть на воздух вышла.
— Воздух у нас хороший. Север.
— За грибами скоро пойдем?
— Вот будет погода получше, и пойдем.
— Погоду ждать — все грибы прозевать можно.
— Не прозеваем. Завтра у нас собрание — мастеру приспичило обязательства брать.
— Мастер здесь, я смотрю, никому спуску не дает.
— Мастер есть мастер. Ему план давай, перевыполнение, новые резервы.
— А с виду не скажешь, что строгий. Веселый такой старикашечка.
— Строгим каждый дурак может быть. Дело не в этом.
— А в чем дело?
— А что это мы все о работе да о работе?
— А я люблю о работе. Только, чтобы интересно было... Говорят, Гаранин ваш автомат какой-то изобретает?
— Чертит там чего-то.
— А что это за автомат?
— Да нет еще ничего. Одни фантазии.
— Ну а все-таки?
— Без людей бурить будет.
— Без людей? А как же это?
— А вот так. Людей не будет, одни кнопки будут. Нажал кнопку — пошло долото вниз. Нажал вторую — трубы сами нарастились. Нажал третью — фонтан ударил. И ни одного человека на буровой нету, ни одной живой души. Все автомат делает.
— А щи вам тоже будет автомат варить?
— А это ты у него спроси.
— У кого? У автомата?
— Не, у Витальки Гаранина.
— Да ну его... Мрачный какой-то ходит, нахмуренный.
7
— ...Объемы работ по глубокому бурению у нас в этом году непрерывно растут. Поэтому мы должны использовать сейчас все наши резервы — и видимые и, главное дело, невидимые. Потому что такой резерв, который наверху лежит, он всем заметный и понятный. В нем большого секрета нету, его и дурак использует. А ты мне найди такой резерв, который затаился, который только тебе одному видно. Вот тогда я тебе спасибо скажу. И от имени руководства низко в ножки поклонюсь. Потому что наше рабочее дело, ребята, теперь такое — не только бери больше, неси дальше, но и головой надо думать... Как буровой мастер, многие годы работающий по нефти, я вам, ребята, скажу так: обязательства вы взяли крепкие, настоящие мужские обязательства. И я надеюсь, что они будут выполненные, а может, даже и перевыполненные. Что мы — хуже других, что ли? Вы только в газеты поглядите — ведь вся страна сейчас старается, каждый рабочий человек все свое самое лучшее в общий котел бросает... Да что я вас тут буравлю, чего агитирую — будто вы неграмотные, сами не понимаете? Дадим план досрочно, и сами с копейкой будем! Собрание объявляется закрытым. Вопросы есть?
— Есть!
— Давай, Вальцов.
— Иван Михайлович, когда вертолет в город будет?
— Во, видали? Я ему про ударный труд, а он в город собрался. А зачем тебе в город?
— Мне в магазин надо, Иван Михайлович...
8
Забой — 1409 метров. Развальцовка устья. Замена поршней и цилиндров. Сократить время простоя на вахту до одного часа. Бурильщик первой вахты Гаранин.
Забой — 1467. Виталька, выходит, мы с тобой опять соревнуемся, а? Ну, держись, киноартист!.. Смена дизелей. Уборка на буровой. Простой — пятьдесят четыре минуты. Бурильщик второй вахты Вальцов.
1546. Витек, не надорвись — пупок развяжется... Крепление фланца. Проработка скважины в интервале одна тысяча триста — одна тысяча пятьсот метров. Простоев за смену — сорок восемь минут. Гаранин.
1588. Изготовление направления на ходовой конец... Виталька, а помнишь, как мы с тобой в прошлом году в Сочи, в ресторане на горе Ахун гужевались, а? Законно все было, а? Подтяг верхних сальников. Ремонт пульта. Простой за смену — сорок минут. Вальцов.
1634. Подъем инструмента. Затрата времени — 1 ч. 15 мин. Смена долота — 20 мин. Профилактика — 12 мин. Спуск инструмента — 1 ч. 45 мин. Остальное время — чистое бурение. Простоев за смену — 37 мин. Гаранин.
1710. Подъем инструмента. Затрата времени — 1 ч. 10 мин. Смена долота — 15 мин., профилактика — 8 мин. Спуск инструмента — 1 ч. 35 мин. Простой за смену — 22 мин. Вальцов.
Внимание бурильщиков обеих вахт! Ребята, ну куда вы бросились сломя голову? Очень быстро гоняете трубы взад-назад. Особенно к Вальцову относится. Виктор, ты что, в Сочи на такси торопишься? На гору Ахун опоздать боишься?.. Так дальше не пойдет. Требую наряду с выполнением обязательств соблюдать технические правила и нормы. Вгоним буровую в аварию — кому мы будем нужны с нашими обязательствами? Буровой мастер Заботин... Нам наше дело, ребята, надо с умом вести. Резерв — он не в суете, не в беготне, а в голове, рядом с мозгами. Я уже говорил об этом... К примеру, взять дизеля. Душат они нас — сами знаете. Без ножа режут. Здесь главный корень, главный вопрос. А как его решить? Надо думать. Всем вместе думать и каждому отдельно. А то, что простоев стало меньше — за это спасибо. Это вы молодцы. Заботин.
9
— Здравствуйте, Леля... Что это вас давно не видно?
— Почему же давно? Я вам сегодня утром обед на буровую приносила.
— Ах да... Верно. Забегались мы совсем с этим соревнованием.
— Виктор, можно у вас спросить?
— Конечно.
— Вы не обиделись на меня?
— За что?
— За то, что я Виталия позвала тогда с нами грибы собирать?
— А-а... Нет, не обиделся. Он же мне друг.
— Я так и знала... А друг у вас симпатичный. На киноартиста похож. И грибы хорошо собирает...
10
— Виталька, поговорить надо...
— Говори.
— Ты на повариху виды имеешь?
— В каком смысле?
— В известном.
— . . . . . . . . . .
— Ты дурочку не валяй! Говори прямо — да или нет?
— Дурак ты, Витек, вот что я тебе скажу.
— Да или нет?
— Нет.
11
— Здравствуйте, Виталий!
— Здравствуйте, Леля.
— Вкусно я вас сегодня накормила?
— Терпимо.
— Виталий, можно вас называть на «ты»?
— Можно.
— Виталий, можно тебя попросить об одном деле?
— Можно.
— Сделай мне, пожалуйста, душ.
— Душ? Какой душ?
— Ну, обыкновенный, в котором моются.
— Есть же душ.
— Это общий. В нем мужчины моются. А мне бы отдельный, женский. Другой раз подольше хочется помыться, голову как следует промыть, волосы расчесать. Да и постирать мне иногда надо кое-что свое, из белья, чтоб никто не видел.
— Может... Может, Витьку Вальцова попросить? Он это... Он по плотницкому делу мастак.
— Нет, я хочу, чтобы ты сделал. Лично ты.
12
Забой — 1733. Ремонт оборудования. Промыв скважины — 40 мин. Долив скважины — 40 мин. Проба турбины. Гаранин.
1742. Ремонт оборудования. Промыв скважины — 35 мин. Долив скважины — 35 мин. Вальцов.
1769. Подготовительные работы. Промыв скважины — 30 мин. Долив скважины — 30 мин. Гаранин.
1792. Подготовительные работы. Промыв скважины — 25 мин. Долив скважины — 25 мин. Вальцов.
13
— Виталий, спасибо за душ.
— Пожалуйста, Леля...
— Гулять сегодня вечером в лес пойдешь?
— Пойду...
— В десять? Около родника?
— Да.
14
— Здравствуйте, Леля...
— А-а, Виктор. Приветик.
— Погулять не хотите? В тайге сейчас хорошо.
— Нет, Витенька, времени совсем нету. Ужин надо готовить, картошку на завтра чистить, компот варить.
— Минут на двадцать, на тридцать, а?
— Я же сказала, Виктор, — некогда. Для вас же стараюсь...
15
Приказ №... по буровой №... Объявляю благодарность бурильщику первой вахты Гаранину Виталию за рацпредложение по новой системе эксплуатации дизелей. Ходатайствую перед руководством о выдаче тов. Гаранину В. денежного вознаграждения. Буровой мастер Заботин.
1818. Разрыв шланга грязевого насоса. Замена поршней. Подъем грунтоноски. Сращивание каната — объем работ три тысячи метров. Время — один час. Вальцов.
1844. Пуск турбобура. Закачка раствора. Гаранин.
1867. Поломка элеватора. Ремонт элеватора. Набивка сальников. Выравнивание уровня. Неожиданно ударили заморозки. Что-то рано в этом году. Отогрев ключа. Вальцов.
1893. Очередная партия труб поступила в разных кондициях. Вынужден использовать старые трубы. Резьбовые соединения труб укреплены сваркой. Гаранин.
Приказ №... по буровой №... Объявить благодарность бурильщику Гаранину Виталию за проявленную инициативу при ликвидации простоя из-за поступления на буровую труб разной кондиции. Заботин.
16
— Иван Михайлович, разговор есть.
— Давай, Гаранин, давай свой разговор.
— Михалыч, какая у нас скорость при отборе образцов?
— Очень плохая скорость. Два метра в секунду.
— А почему?
— А потому, что мощность турбины малая. Сам, что ли, не знаешь?
— Знаю, Михалыч. А если нам свое устройство для отбора образцов изготовить?
— Как это свое? На какие шиши?
— Очень просто. Вместо долота пустить секционный турбобур.
— А где же его взять?
— Я сделаю.
— Из чего?
— Возьму два старых долота и один секционный бур, из них соберу.
— Постой, постой... А ведь это мысль! Ну, Виталий, у тебя не голова, а целый институт. Давай, действуй!
17
Приказ №... по буровой №... Бурильщик первой вахты тов. Гаранин применил оригинальное устройство при отборе образцов из забоя. Сделанный секционный колонковый турбобур позволил в два с половиной раза увеличить скорость бурения. Ходатайствую перед руководством о награждении бурильщика Гаранина месячным окладом. Буровой мастер Заботин.
18
— Что с тобой происходит, Вальцов?
— Ничего, Иван Михайлович, со мной не происходит.
— А вчера? Ведь была же угроза обрыва инструмента. Под аварию мог буровую подвести.
— Мог, да не подвел.
— Какая тебя муха укусила, Виктор? Рассказал бы.
— Нечего мне рассказывать.
— А все-таки?
— Эх, Иван Михайлович, сами, что ли, не видите?
— Вижу, не слепой. Глаза у всех есть... Может, поговорить мне с ним? Или с ней?
— Слова тут ни при чем.
— Это верно... Слушай, Виктор, а может, тебе зажать сейчас себя в кулак, а? Нашего брата от этой музыки только работа лечит — я по себе знаю. Попробуй, Витя! Надо взять себя в руки. Нельзя позволять, чтобы эта чертовщина поперек души гуляла. На свете много хороших женщин есть, да не каждая для тебя приготовлена. Я по себе это знаю. Обидно, конечно, но что поделаешь.
19
— Поговорим?
— Поговорим.
— Считаешь, что я виноват перед тобой?
— Теперь уже не в этом дело, Гаранин.
— А в чем теперь дело?
— Жениться на ней собираешься?
— А почему ты меня об этом спрашиваешь?
— Да или нет?
— Нет.
— Ах, вот ты какой!
— Какой?
— Себе на уме!
— А ты первый раз меня увидел?
— Новатор, рационализатор, герой труда, а нутро-то у тебя, оказывается, волчье?
— Что, что?
— Откусил и бежать?
— Ты чего мелешь?
— Зачем душ ей сделал?
— Она сама попросила.
— Врешь!
— Да пошел ты!..
— Ну, вот что, Гаранин! С этого дня...
— Ты только меня не пугай!
— Я тебя тогда как друга спросил...
— Не спрашивают об этом!
— ...да или нет? Ты сказал — нет...
— Да кто об этом заранее знать может? Кто?
20
Забой — 1916 метров. Отогрев воздушных шлангов. Смена штока поршня крамбуксы. Промывка скважины. Гаранин.
Забой — 1928. Отогрев шлангов. Съем тормозных лент. Вальцов.
1929. Отогрев воздушных шлангов. Центровка вышки. Ремонт цепей. Установка муфты. Гаранин.
Забой — 1957. Укрепление болтов хомута для каната. Отогрев оборудования. Закачка скважины. Вальцов.
21
— Как хорошо здесь, Виталик, правда? Лес, ручей, звезды между деревьями видны...
— Леля...
— Нет, нет, ничего сейчас не говори. Мне давно так хорошо не было, как сегодня.
— Леля...
— Я когда ехала к вам сюда, боялась, что все опять по-старому будет. Мужики приставать начнут... А вот встретила тебя.
— Леля...
— А может, ты мое счастье, Виталик? Может, ты мне на роду написан?.. Ну, чего ж молчишь?
— Уезжать тебе надо отсюда...
— Уезжать? Как уезжать?! Куда уезжать?
— На другую буровую. А лучше — в другую экспедицию.
— Виталик, что с тобой? На тебе лица нет... Что случилось?
— Ничего не случилось. Кончать надо все это.
— Господи, что со мной? Виталик, подожди, не уходи...
— Да никуда я не ухожу!
— . . . . . . . . .
— Леля, не плачь...
— Давай уедем отсюда, Виталик! Вместе. Бросим все и уедем.
— С ума сошла? Куда я от бригады поеду?
— Другую бригаду найдем!
— А Витек?
— Что Витек? Ну что Витек?!
— Тихо, не кричи на весь лес...
— Витек, Витек... Ты еще о всей бригаде спроси. О них побеспокойся!
— Бригада и так из-за нас сыплется...
— Ах, вот оно что? Бригаду свою спасаешь? Новый резерв для производства нашел, да?
— Леля!
— Ладно, Гаранин! Хватит! Молод ты еще! Землю бурить научился, а об остальном только догадываешься... Белый свет на тебе клином не сошелся!
— Леля!!!
— Целуйся тут со своей бригадой!
22
Забой — 1987 метров. В скважине повысилось давление. Угроза аварийного фонтана. Подготовка аварийного оборудования. Противопожарные меры. Вальцов.
1993. Давление повышается. Ремонт пожарных шлангов. Проба мотопомпы. Разные работы. Гаранин.
Вниманию бурильщиков! Причина увеличения давления объясняется тем, что скважина встретила случайный пласт (вернее, пропласток) с повышенным сопротивлением буровому инструменту. Строго соблюдать график закачки раствора! Буровой мастер Заботин.
Забой — 1997. Давление — сверхнормальное. Монтаж аварийной арматуры. Готовность к пожару — номер один. Гаранин.
Забой — 2001 метр. Давление снизилось. Осмотр инструмента. Ремонтные и сварочные работы. Смена шлангов. Вальцов.
Вниманию обеих вахт. Пропласток пройден. Давление вошло в норму. Бурение продолжать в режиме до 1987 метра. Следить за креплением переводников верхних секций. Заботин.
23
— Уезжаете, Леля?
— Уезжаю, Виктор. Счастливо оставаться.
— А почему?
— Так лучше для всех будет.
— Только не для меня...
— И для тебя тоже.
— Ладно, не обо мне разговор... Устроились на новом месте?
— Да, все в порядке. Телеграмму прислали. Ждут.
— Леля, можно вас спросить?
— Спрашивайте.
— Обещайте мне, как приедете, письмо сюда написать. С обратным адресом...
— Нет, не обещаю.
24
— Уезжаешь, Леля?
— Уезжаю, Иван Михайлович.
— Не поторопилась с заявлением?
— Нет, не поторопилась. Все правильно.
— Ну, не поминай лихом...
— Иван Михайлович, а что в жизни главнее — любовь или работа?
— Каждый человек на это по-своему отвечает...
— Мне, говорит, с ним еще пахать и пахать...
— Зеленый он еще...
25
— Прощай, Виталий.
— Прощай, Леля.
— Спасибо тебе...
— За что?
— За науку. И вообще...
— . . . . . . . .
— Жестокий ты все-таки парень, Виталий.
— С вами по-другому нельзя.
— . . . . . . . .
— Не плачь, Леля.
— А я и не плачу...
— А у самой слезы текут.
— Это они сами... Ты, Виталик, знай — я ни о чем не жалею. Как было, так было. Я сердце свое послушала — может, напрасно.
— . . . . . . . .
— Вертолет идет... Дай поцелую на прощанье.
— Лучше не надо.
— Ох, какой ты, Гаранин. Совсем без сердца...
26
— Улетела?
— Улетела.
— Виталька, зачем ты ее прогнал?
— Никто ее не прогонял. Сама уволилась.
— Не ври! Она мне все рассказала!
— Мало ли чего она расскажет.
— Значит, меня пожалел?
— . . . . . . . .
— Ну, чего ж молчишь?
— Себя пожалел.
— А мне твоей жалости не надо, понял?
— Чего орешь? Кто тебя слышит?
— Я как-нибудь и без твоей жалости проживу!
— А пошел бы ты!..
— Я за ней полечу. Я жить без нее не могу! Она мне, может быть, дороже всех на свете!
— Подбери слюни. А то наступишь, поскользнешься...
— А ты... А ты!.. Пень, полено тупое! У тебя сердце человеческое есть?
— Есть! Есть! Есть!
— . . . . . . . .
— . . . . . . . .
27
2028. Ремонт лебедки. Установка щитов. Замена трансформатора. Спуск инструмента. Вальцов.
2052. Смена грязевых сальников. Промывка скважины. Долив. Бурение. Гаранин.
2068. Замена разрядника. Промер кабеля. Заглушка на выкиде. Бурение. Вальцов.
2075. Крепление шланга. Сращивание каната. Гаранин.
2089. Промывка скважины. Долив. Бурение. Вальцов.
2097. Промывка скважины. Долив. Бурение. Гаранин.
2149. Подъем инструмента. Спуск. Бурение. Вальцов.
2242. Подъем инструмента. Спуск. Бурение. Гаранин.
2369. Проработка скважины. Вальцов.
2841. Проработка скважины. Подготовка к спуску обсадной колонны. Гаранин.
28
— Курить есть?
— Держи.
— Болгарские?
— Югославские.
— Крепкие...
— Сейчас махорочки бы. Горлодеру.
— А гаванскую сигару?
— Тоже неплохо.
— Я чего-то устал сегодня...
— Давление растет?
— Растет. Добурились опять до самого дьявола...
— Пощекотали ему долотом в ноздре...
— Михалыч-то наш вроде дернул вчера втихаря.
— Где-то у него бутылка припрятана.
— Переживает старик. Аварии боится.
— А помнишь, как на двух тысячах лебедка полетела? Я хватаюсь за тормоз и чувствую — пустота. У меня в глазах потемнело...
— А как на двух ста дизеля заискрили? Газу вокруг полно, а тут искры летят... Я думаю, ну все — сейчас взлетим на воздух...
— А как насос отказал на двух триста? И поперло все назад, и поперло. Я смотрю — обратно раствор идет. Ну, думаю...
— А помнишь, как шланг разорвало? Как он мне даст, зараза, по спине!
— А кабель? Два дня обрыв искали, а он вот он, рядом, под самым носом...
— Теперь бы только на испытаниях не прозевать.
— Не прозеваем.
29
2841. Подготовка к спуску обсадной колонны. Затаскивание колонны на мостки. Вальцов.
2841. Спуск обсадной колонны. Цементаж. Гаранин.
2841. Продолжение цементажа. Вальцов.
2841. Выбросить вертлюг и шурф. Опрессовка колонны. Гаранин.
2841. Оттаскивание вертлюга от мостков. Продолжение опрессовки колонны. Вальцов.
2841. Подготовка скважины к испытаниям. Гаранин.
Заключение по испытаниям. Буровые работы окончены на семь дней раньше против принятых обязательств. При испытании скважина дала нефтяной фонтан. Суточный дебит — четыреста кубометров. Журнал глубокого бурения в период проходки скважины бурильщиками тт. Гараниным и Вальцовым заполнялся в основном правильно. К сему буровой мастер Заботин И. М.
30
Забой — ноль метров. Переехали на новое место. Подготовка к забурке. И опять вокруг тайга, тишина, глушь. Пуск насоса, проба шлангов. Бурильщик второй вахты Вальцов.
Забой — ноль метров. Подготовка к забурке. Осмотр инструмента, ремонт дизеля. Состав бригады — прежний. Бурильщик первой вахты Гаранин.
Забой — 137 метров. Забурились сегодня в четыре двадцать утра. Виталька, спасибо за дизель. Все опять идет как тогда. Только Лели с нами нет. Жалко... Бурильщик второй вахты Вальцов.
Эдуард ХРУЦКИЙ
ОДИН ШАНС ИЗ СТА
...Над Москвой повисло солнце. Казалось, что оно медленно подтягивается к земле, зацепившись за деревья, крыши, карнизы домов.
Николай только что вернулся с пробежки. Он немного устал. Все-таки тяжело бежать пять километров по такой жаре. Даже холодный душ не освежает.
— После завтрака сразу на речку, — решил Королев, — ох, и хорошо же будет поваляться на песочке.
Николай включил приемник. Женский голос, вкрадчиво просивший чайку отнести привет милому другу, внезапно замолчал, не кончив песни.
— Ну что ты будешь делать, опять сопротивление перегорело, — Николай встал из-за стола, подошел к приемнику.
Нет, вроде все в порядке. Так почему же?.. И вдруг комнату наполнил знакомый голос Левитана:
«К гражданам Советского Союза...»
Война!
Уже несколько часов дерутся пограничные заставы. Немецкие бомбардировщики сбросили свой смертоносный груз на Минск и Киев.
Война! С внезапностью урагана ворвалась она в по-воскресному тихую Москву. И сразу же будто погасло солнце.
Николай бросился к письменному столу. Вот паспорт, вот военный билет, вот удостоверение мастера спорта.
Скорее. Скорее в военкомат. Николай выбежал на улицу. Тоже солнце, тот же мягкий асфальт...
Как же так. Ведь всего неделю назад он боролся за звание абсолютного чемпиона Москвы. Его противник — средневес Иван Ганыкин — славился как лучший боец-темповик. Готовясь к бою, Королев решил лишить его этого преимущества. Сам в первом раунде завязал острый, быстрый бой. В результате — победа и звание абсолютного чемпиона Москвы.
Как же это было давно. Совсем в другой, мирной жизни... Будет ли когда-нибудь ринг, крики болельщиков, радостное чувство победы...
Во дворе военкомата толпа. Конечно, это добровольцы пришли. Говорят мало, только курят, курят.
Наконец, перед ним распахнулась дверь с табличкой: «Военком».
В кабинете военный с тремя шпалами на петлицах. Он взял билет, полистал.
— Не могу, товарищ Королев, — подполковник встал из-за стола, — не могу. Я понимаю вас, Николай Федорович, мне и самому хочется на фронт. Но на вас распространяется броня.
— Но ведь я...
— Знаете что, поезжайте завтра в горвоенкомат.
Хорошо ему говорить — завтра. А как прожить этот день? Как?!
Три дня он ходил из кабинета в кабинет. Три дня усталые, невыспавшиеся работники военкомата с сожалением разводили руками и твердо отказывали.
Наконец, один капитан заговорщически шепнул в коридоре, что на стадионе «Динамо» формируется из спортсменов специальная бригада.
Около Белорусского вокзала троллейбус остановился. По Ленинградскому шоссе шли войска. Печатая шаг, проходили мимо окон роты красноармейцев. Молодые румяные лица, новенькие гимнастерки, еще неразношенные сапоги.
— Ох, горе-то какое, — вздохнула немолодая женщина. — Ведь дети совсем. Вот и мой вчера ушел добровольцем.
И внезапно Николаю стало мучительно стыдно. Стыдно за то, что он, здоровый парень с чемпионским значком на груди, до сих пор не надел военную форму.
«Не возьмут, — со злостью подумал Николай, — уеду сам».
На стадионе Николай сразу попал в толпу знакомых. Здесь почти все московские мастера спорта. Сразу на сердце стало легче. Пришла уверенность. Все будет в порядке.
А через несколько часов надел абсолютный чемпион страны по боксу Николай Королев гимнастерку с синими петлицами.
Утром над лагерем пел горнист. Голос трубы, требовательный и резкий, врывался в палатки, выбрасывал бойцов из постелей.
Спортивный лагерь на станции «Строитель» превратился в воинский учебный пункт.
Физзарядка, пробежка, завтрак.
И снова труба. Пора на занятия.
Строевая, политинформация, матчасть оружия.
А мимо станции идут эшелоны. «На запад, на запад», — стучат колеса. Из открытых дверей выплескивается на перрон песня.
Идут, идут эшелоны. Теплушки, командирские вагоны, платформы с техникой. На Западе тяжело дышит фронт. На Западе идут бои. На Восток везут раненых.
А здесь!
— Боец Королев!
— Я!
— Перечислите основные части пулемета «максим».
— Слушаюсь!
А лицо у сержанта-инструктора совсем другое, не такое, как вчера. Глаза грустные. В перерыве он подходит к бойцам.
— Слыхали, ребята, Киев оставили? У меня там мать и братишка. И рапорт третий командир бригады мне вернул. Не пускает на фронт.
Раз! Раз! Раз, два, три!
Раз! Раз! Раз, два, три!
Рота, ногу!
Старшина молодой, туго в талии перехвачен ремнем. Гимнастерка на нем как влитая, сапоги хромовые блестят, глядеть больно. Зверь, а не старшина.
А вчера ночью немецкие самолеты бомбили Москву. А сводки все мрачнее и мрачнее.
— Рота! Стой! Плохо, нет настоящего строевого шага!
Идет вдоль строя старшина. Щеголеватый, ладный, словно картинка из строевого устава. Далась ему эта маршировка.
— На-пра-во! Шагом мар-ш!
И опять целый день тактика; ползают бойцы по-пластунски, рассыпаются.
— Рота, в атаку! Вперед!
Привычно винтовку на руку.
— Ура-а-а!
Теперь гранату, штыком, прикладом...
— Рота-а-а-а! Стой! Перекур.
Валяются на земле исколотые штыками куклы. Валяются неразорвавшиеся деревянные гранаты. Сегодня здесь они опять победили. А там?
— Товарищ полковник, разрешите обратиться?
— Слушаю вас, боец Королев.
— Прошу отправить меня на фронт.
— На фронт? — командир бригады встает, поскрипывая ремнями. — На фронт поедем только после приказа командования. Ясно? Идите.
В прицеле автомата прыгает силуэт в рогатой каске. Он режется по пояс. Николай тихо подводит мушку. «Ну, подожди, подожди». Плавно давит на спусковой крючок.
Та-та-та-та!
Автомат дрогнул.
— Вот ты опять. Получай.
Та-та-та!
Брызжет огнем и ненавистью срезанный ствол.
— Прекратить огонь! Осмотреть мишени!
— Молодец, Королев, — улыбается ротный, — пять пробоин.
Ночами поднимают по тревоге. Повзводно, бесшумно и быстро бойцы усаживаются в машины. Где-то впереди Москва. Спортсмены едут на патрулирование.
Темные пустые улицы. Здесь шаги особенно гулкие. Из-за поворота человек навстречу. Метнулся луч фонаря.
— Стой! Документы! Можете идти.
И опять улицы, гулкие и пустые.
А сводки с каждым днем тревожнее, враг все ближе и ближе к Москве.
А рапорты опять остаются без ответа.
В это утро они стреляли из ручного пулемета. На стрельбище кисло пахло порохом. Сизоватый дымок курился над стволами «дегтярей». Николай только что отстрелялся и уходил с огневой. Вдруг кто-то хлопнул его по спине.
— Димка!
Рядом, широко улыбаясь, стоял его ученик — боксер Дима Староверов.
— Здорово, Коля! Как жив, старик?
— Паршиво.
— Вот тебе раз. Почему?
— На фронт не пускают.
— Знаешь что, — Староверов оглянулся и перешел на шепот, — я тут о тебе говорил кое с кем. Понял?
— Нет пока.
— Потом поймешь. Жди.
— Чего?
— Увидишь. — Дима таинственно подмигнул и побежал догонять группу автоматчиков.
«Увидишь, узнаешь. Черт его знает, Димку. Тайны. Прямо пещера Лейхтвеса. А может быть, не трепется? А вдруг?»
Прошло еще несколько дней. Наступила осень. Она особенно остро чувствовалась в палаточном городке. Ночами ветер безжалостно тряс ветви деревьев. А утром дневальным приходилось разметать желтые листья на передней линейке. Днем, в перерыве между занятиями, Николай уходил в соседнюю рощу. Прозрачная тишина, запах прелых листьев на какое-то время успокаивали, позволяли хоть на несколько минут забыться.
Шли дни, а от Димы ни слуху ни духу. Николай начал уже забывать их разговор. В сердцах окрестил Староверова трепачом.
— Боец Королев!
— Я!
— Срочно в штаб.
— Есть!
Он бежит мимо палаток, мимо дощатых каптерок и ружпарков. Вот и знакомый кабинет командира бригады. За столом полковник, рядом Дима Староверов.
«Неужели повезло?»
— Товарищ полковник, боец Королев прибыл по вашему приказанию.
— Собирайтесь, Королев, вы откомандировываетесь в распоряжение полковника Медведева.
И снова какая-то тайна. Кто этот Медведев? Где он находится?
— Дима, ты мне расскажи, в чем дело, куда нам ехать?
— Медведев, Коля, командует специальным чекистским отрядом, мы уходим в тыл к фашистам. Партизанить будем.
— Вот здорово... Ну, а кто же все-таки Медведев?
Сегодня имя Героя Советского Союза полковника Дмитрия Николаевича Медведева, автора книги «Это было под Ровно» знает любой мальчишка. Но в 1941 году только начинался славный боевой путь его отряда, о котором через несколько лет рассказывали легенды.
Отряд они нашли в Подольске. Медведевцы срочно выезжали на фронт.
В пассажирском зале вокзала темно. Староверов включил фонарик. Слабый луч его вырвал из темноты деревянные лавки с клеймом «НКПС», спящих вповалку людей.
— Товарищ полковник, — тихо позвал Староверов.
— Я, кто здесь? — Голос чуть хриплый спросонок.
— Это я.
— А, Дима. Ну, привез своего друга?
— Так точно.
— Давай его сюда.
Они разговаривают в темноте. Только иногда слабый огонек папиросы освещает твердый подбородок Медведева.
Что ж, старый чекист знает, как говорить с людьми. Немало он видел их за свою многотрудную жизнь. Из отдельных фраз, из деталей разговора Медведев собрал представление о своем собеседнике. Ему понравилось, что этот здоровый парень, чье имя гремело на рингах страны, просит принять его в отряд голосом, срывающимся от волнения.
— Ну, а если не приму, — усмехнулся в темноте полковник.
— Сам уйду, — твердо ответил Николай.
— Сам. Шустряк. Ну что ж. Комиссар, а комиссар, слышал?
— Слышал.
— Ну как считаешь, возьмем чемпиона по боксу?
— Возьмем.
— И я думаю, возьмем. Товарищ Королев, — голос Медведева изменился, стал твердым, — зачисляю вас в разведку отряда. Идите.
— Слушаюсь, товарищ полковник.
Осенью дни короткие. Это особенно заметно в лесу. Темнота здесь наступает сразу, без видимого перехода, который, как нигде, заметен в городе. Еще несколько минут назад было светло, и вдруг темнота, плотная, хоть рукой пробуй. Ночью в лесу особенно неуютно и особенно холодно.
Где-то в нескольких километрах фронт. Его ощущаешь каждой клеткой, каждым нервом. Он не спит, вздыхает тяжело и отрывисто орудийными залпами, подмигивает всполохами огня у горизонта.
Приказ короток и строг: «Не курить, не разводить костров».
Они не курят и не разводят костров. Они мерзнут и ругаются сквозь зубы. Через несколько часов армейские разведчики проведут отряд в «окно».
Через несколько часов — вражеский тыл.
Николай стоял, прислонившись к дереву. Вот начался самый главный экзамен в его жизни. Ошибиться нельзя, оценки за него ставят пулями. Почему-то вдруг вспомнился вокзал в Берлине. Там несколько часов стоял поезд с нашей сборной, ехавшей на олимпиаду в Антверпен. Хищный орел прилип к фронтону вокзала, лающий репродуктор, люди в черных фуражках с черепом на околышке...
— Творогов, ко мне! — зовет Медведев начальника разведки.
Значит, скоро.
Николай поднялся, удобнее приспособил автомат, подтянул пояс с пистолетом.
Точно, пора.
Командиры вполголоса отдают команды.
Вперед!
В голове колонны Медведев с армейскими разведчиками. Где-то совсем рядом ухнули разрывы мин, лопнули в стороне ракеты. Но это в стороне, там, отвлекая врага, начал ночной бой стрелковый батальон. Молодые ребята, ровесники Николая, бегут к вражеским окопам. Там, на левом фланге, ради них гибнут люди. Значит, надо пройти. Любой ценой.
Наконец захлестали ветки по лицу, ударил в нос горьковатый запах осенних листьев. Вот он, вражеский тыл — Брянский лес.
Солнце мячиком выпрыгнуло из-за верхушек елей. Разломало свои лучи в тумане. Он оседал медленно, неохотно. Цеплялся за кусты, опускался меж корней и уползал на дно оврага.
Отряд выстроился на поляне.
— Товарищи, — голос Медведева холодный и ломкий, — мы в тылу фашистов. Но помните, что мы на своей земле. Советская власть на Брянщине — это мы. Каждый из нас. Вы все добровольцы, все коммунисты и комсомольцы. Я не собираюсь учить вас, как нужно вести себя. Трусость, мародерство и... — Командир хлопнул по кобуре маузера. — Я думаю, вам все ясно. В путь, товарищи.
Двигались осторожно. Впереди и по бокам разведка. Опушки обходили. Нужно как можно дальше углубиться во вражеский тыл.
Это случилось на следующий день. Отряд подошел к проселочной дороге. Только собрались переходить, как где-то вдалеке запели моторы.
— К бою!
Рассыпались в кустах. А голоса машин все ближе, все басовитее.
Николай лежал на прелой листве, прижавшись щекой к прикладу автомата.
Вот сейчас случится то, чего он так давно ждал.
По спине пробежал озноб.
«Неужели испугался? Нет!»
Он еще плотнее прижал к плечу автомат. Холодная сталь вернула уверенность.
Машины уже совсем рядом. Вот-вот покажутся из-за поворота. В лесной тишине особенно сильно гудят двигатели. Сейчас!
Первым вырывается из-за поворота сверкающий лаком «оппель-капитан». На крыле флажок, на нем двумя молниями буквы СС. Следом за ним — мотоцикл.
Медведев поднимается и бросает гранату.
— Огонь!
Взрывом «оппель», отшвырнуло в кювет. Посредине дороги горит мотоцикл.
Из-за поворота выскочила крытая машина. Она пытается тормозить, из кузова выскакивают солдаты.
Вот один совсем рядом с Николаем.
Та-та-та!
И снова силуэт в автоматной прорези. Как на стрельбище.
Бьется в руках автомат. Отсчитывает очередями вражеские жизни.
Стрельба затихает. Горят на дороге останки машин. Валяются на земле трупы в серо-зеленых шинелях.
Бой длился всего несколько минут. Но они буквально преобразили окружающий мир. Желтые листья покрыты жирной гарью, нет запаха прелой травы, вместо него сладковато и резко пахнет порохом.
Николай шагнул через кювет, вышел на дорогу.
Разведчики собирали документы, вынимали карты из офицерских планшетов.
К Королеву подошел Староверов, протянул пачку фотографий.
— Смотри, Коля.
Лицо Димы было какое-то необычное. Всегда веселые, добрые глаза смотрели холодно и зло.
Николай взял карточки. Виселицы, виселицы, люди у рва, люди у стены. А рядом — довольные, улыбающиеся лица в эсэсовской форме.
«Нет, страшна не война. Страшен фашизм, породивший ее. Заставивший нас взять автоматы и убивать. Но ведь, если уничтожаешь змею, это же не убийство. Это акт милосердия по отношению к тем, кому она угрожает своим ядовитым жалом. Значит, убив фашиста, ты совершаешь то же самое».
Через пятнадцать минут отряд чекистов ушел с дороги, оставив на ней горящие машины и трупы врагов. Отряд открыл боевой счет.
И снова путь сквозь лесную чащу все глубже и глубже во вражеский тыл.
В деревнях Брянщины приветливо встречали разведчиков, по мере сил снабжали продуктами, теплой одеждой, ну и, конечно, выкладывали все, что накопилось на душе.
Однажды Николая вызвал Медведев.
— Королев, возьмешь двух разведчиков, пойдешь в деревню, туда приехал пьянствовать к куму начальник полиции из Людинова. Помни — это не человек, это предатель, зверь и садист. Вот приговор, вынесенный нашим трибуналом. Ты должен привести его в исполнение.
О начальнике людиновской полиции в отряде достаточно наслышались. Слух о его зверствах прокатился по всей Брянщине. Бывший пожарник отсиживался в лесу, скрываясь от мобилизации, объявив себя чуть ли не сектантом. Но как только в Людиново пришли фашисты, он сразу же предложил свои услуги. На его совести были десятки жизней советских людей.
До деревни километров пять. Расстояние, конечно, пустячное, если идти днем и по сухой дороге. А здесь все пока наоборот. Под ногами чавкает грязь. Сапоги скользят, на них налипли комья глины.
Часа в два ночи наконец добрались до деревни. В крайней хате, у самого леса, жил связной — неторопливый, степенный лесник Иван Егорович. Трижды, как условлено, стукнули в окно. Дом ожил, сквозь щели ставни показался желтый зайчик света, со звоном покатилось ведро в сенях.
Распахнулась входная дверь. На пороге хозяин.
— Кого носит?
— Свои, дядя Иван.
— Много здесь своих, а ну, подойди-ка ближе.
Николай шагнул вперед.
— А! Это ты, кудрявый, — усмехнулся старик, — ну что стоишь, хату выстудишь. Заходи.
Они поднялись на крыльцо, вошли в душноватую темноту дома.
Большая горница, печь вполкомнаты, иконы на стене, деревянный стол, лавки. Хозяин десятый год живет бобылем.
Сели, положив рядом с собой автоматы.
— Нужно подождать маленько, ребята. Подождем, пока они напьются. Я с часок назад мимо их хаты шел, видно, гуляют еще, песни орут.
Иван. Егорович гасит лампу. Темнота. Кажется, что за бревенчатыми стенами остановилось время. Темнота, только красными звездочками вспыхивают цигарки.
Пора. Старик встает. В деревне тишина. Даже собак не слышно, видно, загнал их дождик по конурам. Разведчики идут вдоль плетней.
— Здесь, — шепчет связной, — в этом доме кум его проживает, старостой он у нас теперь.
— Собаки есть?
— Есть один кобель, злющий, но ничего, он меня знает, так что я его тихо...
Чуть слышно скрипнула калитка. Иван Егорович растаял в темноте. А дождь стучит и стучит по крышам, по земле, по деревьям. Монотонно и гулко. Зарычала собака, потом чуть взвизгнула, узнав. И опять тихо.
Зачавкали шаги, подошел Иван Егорович.
— Все, пошли, я пса в конуре бочкой прикрыл.
Сквозь ставни пробивается свет. Николай тихонько влез на завалинку, заглянул в щель.
Комната, стол полон бутылок, спиной к окну человек, уронивший на стол голову. Больше ничего не видно.
Королев повернулся к леснику:
— Давай, Иван Егорыч!
Старик поднялся на крыльцо, стукнул в дверь. Нет, не слышат. Теперь он со всей силы бьет кулаком по двери.
В сенях завозились.
— Кого там носит, — давится матерщиной хозяин.
— Я, Семеныч, Иван-лесник, отвори, дело есть.
— Да что за дела по ночам?
— Спешное. Ко мне солдат советский зашел, говорит, из плена бежал.
— Постой, постой, сейчас.
Гремит в сенях щеколда.
Один из разведчиков встал у самой двери, в руке тускло блеснул кинжал.
Дверь распахнулась, и хозяин мягко осел на пол. Путь свободен. Теперь в дом... За столом трое.
Один потянулся к поясу с кобурой, валявшемуся на стуле.
— Кто такие? В чем дело? Да, знаете, кто я?..
Так вот он какой, предатель. Остекленевшие глаза, пьяный мокрый рот, красная рожа.
— Руки на стол, сволочи!
Полицейские начали медленно трезветь. Наконец-то они поняли, с кем имеют дело.
Королев достает приговор.
«Именем советского народа...»
Он вскинул автомат, увидел глаза, полные животного ужаса, разорванный криком рот. Палец сам нажал на спусковой крючок.
В отряд вернулись на рассвете. Николай вошел в палатку командира, положил взятые у изменников документы, оружие.
— Товарищ командир, приговор приведен в исполнение.
Приближалась зима. Ветер становится злым, колючим. По утрам лужи подернуты льдом. Все покрыто инеем — палатки, шинели, приклады автоматов. Трудно в лесу зимой. Тем более, что постоянного лагеря у медведевцев не было. Они кочевали с места на место. За ним по пятам шли каратели.
Однажды разведчики, вернувшись с очередного задания, принесли в отряд объявление, которое гитлеровцы расклеивали в деревнях. В нем черным по белому было написано, что отряд, действовавший на Брянщине, уничтожен карателями.
— Вот видишь, комиссар, — Медведев усмехнулся, — оказывается, нас-то уже нет. Похоронили нас господа фашисты. Ну что ж, мы им о себе напомним. Николай, зови командиров.
К Хотимску подошли в сумерках. Город, охваченный трещинами противотанковых рвов, лежал перед ними тихий и темный. Только ветер стучал железом на крышах да иногда слышался отрывистый собачий лай.
Наконец совсем стемнело. Партизаны ждали разведчиков, которые должны были перерезать телефонные провода.
Вот и они.
После лесных тропинок непривычно шагать по городским улицам, кажется, что стук сапог далеко разносится в тишине.
— Скорее, скорее!
Медведев почти бежит, зажав в руке тяжелый маузер.
Еще один поворот, а там городская площадь.
Еще немного...
Ударил вдоль улицы пулемет. Ему отвечают автоматы. Где-то впереди раз, другой, третий рванули гранаты. Это группа захвата ворвалась на площадь с другой стороны.
Николай, прижавшись к земле, короткими очередями бил по пулеметным вспышкам.
Рядом сухо щелкал маузер командира.
А пулемет не унимался. Плел и плел смертельную строчку, поливал улицы и дома горячим металлом. Каждая минута решала исход боя.
— Николай, — Медведев повернулся к адъютанту, — уничтожь.
— Есть.
Королев сбросил тяжелую шинель, остался в одной меховой безрукавке. Гранаты в карманы, автомат на шею и бегом, вдоль забора.
Вон, кажется, та самая хата. Не доходя до нее дома два, Николай плечом выдавил доску забора, пролез во двор.
Из будки, молча, без лая, бросилась большая лохматая дворняжка. Он на ходу пнул ее сапогом, ломая плетень, выскочил на огороды. Вот наконец и нужный дом.
Николай проверил запалы в гранатах. До дверей несколько метров. Теперь некогда маскироваться. Рывком, ожидая очереди из окна, пересек двор. Вот крыльцо, ступеньки.
Навстречу человек без шинели и каски. Мундир расстегнут, в руках парабеллум.
Николай не видел его глаз, не видел лица. Только рука и вскинутый пистолет. Словно на ринге, ушел нырком под эту руку. Над головой брызнул смертью девятимиллиметровый ствол.
Левой в челюсть!
Раз.
Нокаут.
Перепрыгнул через него. К дверям. Скорее. Пахнущая пороховой вонью темнота. Широко размахнувшись, бросил гранату. Дрогнул пол, тяжело заскрипели стены, горячий воздух на минуту ударил в уши. И сразу же тишина.
Потом внутрь дома, в темноту, веером из автомата полдиска. При свете вспышек увидел пулемет, задравший к нему тупое рыло, трое на полу — мертвые.
— Ура-а-а!
Мимо бегут свои.
На площади горит комендатура. Стоят, подняв руки, пленные. Все. Хотимск взят.
Собрать документы, повалить телеграфные столбы, расклеить по городу листовки — дело получаса.
И опять отряд уходит в лес. Его провожает зарево над городом. Горят тюрьма, комендатура, полиция.
С каждым днем отряд доставлял все больше и больше неприятностей оккупантам. Взлетали мосты, летели под откос эшелоны, горели на дорогах десятки вражеских машин.
Вражеское командование не на шутку было обеспокоено действиями отряда Медведева. Особенно после того, как партизанам удалось взорвать железнодорожный мост на линии Брянск — Сухиничи. В результате образовалась пробка, наша авиация, предупрежденная заранее, в щепки разнесла несколько вражеских эшелонов с техникой и живой силой. Важная стратегическая артерия гитлеровцев была надолго перерезана.
В ту ночь мела пурга. Снег бешено крутился вокруг деревьев, наметал сугробы, закидывал костры. Партизаны почти не спали. Ночь тянулась удивительно долго. Ближе к рассвету ветер утих. Тишина. Только слышно, как трещат на морозе деревья. Задымились костры. Повара начали готовить немудреный завтрак.
Николай стоял у заснеженной сосны и слушал лес. Он жил какой-то своей особой, «штатской» жизнью. Казалось, никакой войны нет. Просто есть тишина, синий предрассветный снег, стук дятла и треск коры.
Взрыв гранаты был неожиданным. Он гулко раскатился в лесной тишине. И сейчас же ему ответили автоматы, зло и сердито.
— Отряд, в ружье! Тревога!
К Медведеву подбежал боец из секрета.
— Товарищ командир! Немцы! Каратели! Окружают!
— Николай! За мной! — скомандовал Медведев и побежал, на ходу расстегивая крышку маузера.
Увязая в снегу, они добрались до гребня оврага, залегли за стволы поваленных деревьев.
На этот раз бой будет тяжелым. Но ничего, приходилось бывать в переделках и пострашнее.
Внезапно Дмитрий Николаевич толкнул его в бок. Николай поднял голову. Вот они!
На другой стороне оврага появились черные шинели. Впереди офицер.
Щелкает маузер командира. Эсэсовец катится на дно оврага. И сразу же взметнулся снег, прошитый автоматными очередями. Рассыпавшись цепью, в рост, прижав к животу прыгающие автоматы, идут фашисты. Летит снег, падают срубленные свинцом ветки.
Сзади заговорили отрядные пулеметы, автоматы, винтовки. Королев, плотно прижав приклад к щеке, ловил на мушку фигурки врагов. Странное ощущение, все время кажется, что он стреляет мимо. Все время в прорези люди в длинных черных шинелях. Но ничего, патронов хватит...
Отряд постепенно начал отходить.
Внезапно совсем рядом лопнула мина. Потом целый букет. Осколки били по деревьям, срезая кору.
Королев осторожно выглянул из-за ствола дерева. Немцы совсем рядом, человек семь ползут по снегу. Он вскочил назло пулям, осколкам, смерти, бросил гранату. Все семеро ткнулись головами в снег.
А фашисты идут и идут.
— Уходите, Дмитрий Николаевич, — повернулся Николай к командиру, — я прикрою.
Перебежками, огрызаясь, уходили они в глубь леса. Бежали рядом — он и командир. Вдруг Медведев охнул и опустился на снег.
— Ранен, товарищ командир?
— Уходи, Коля! Уходи, приказываю! Двоим нам не выбраться. Я их задержу.
Дмитрий Николаевич вытер снег с маузера.
— Ну, что стоишь? — повернул он искаженное болью лицо. — Уходи!
Николай молча наклонился, поднял командира.
— Или вместе выйдем, или вместе умрем, командир.
Автоматы стегают по деревьям, пули шипят в снегу. Он бежал, проваливаясь по колено. Сердце стучало, рубашка стала мокрой, пот заливал глаза. Но он бежал. Били по ногам гранаты, спрятанные в карманах, прыгал на груди автомат.
Вот, наконец, под ногами твердый наст. Николай прибавил скорость. Еще совсем немного.
Поляна. Тупое рыло пулемета. Немцы. Человек пять. Как же быть?
Он опустил командира на землю.
— Ну что, Коля? Кажется, все? — Медведев сморщился от боли.
Нет, не все. Есть всего один выход. И это может сделать только он. Только он, потому что он — боксер.
Но ведь это чертовски опасно. Один шанс из ста. Николай встал во весь рост, поднял руки и пошел. Пошел сдаваться немцам.
— Стой, — сзади хриплый, словно чужой, голос Медведева.
«Неужели он выстрелит в спину? Тогда все, тогда конец». Николай шел медленно, все ближе и ближе к вражескому дзоту. Навстречу бежали немцы. Вот они совсем рядом.
Один снимает с него автомат.
Офицер улыбается, хлопает по плечу.
— Рус, партизан, гут, гут.
Николая подвели к дзоту, офицер и два солдата спустились вниз, видимо к рации. Остались двое. Они спокойны. Стоят совсем близко.
Ну, пора. Вот этот ближе. Всю тяжесть тела в удар. Раз. И сразу же еще. Раз. Двое лежат на снегу. Гранату из кармана. Тяжело ухнул взрыв. Осел бревенчатый накат.
Из блиндажа закурился синеватый дымок. Он схватил упавший на снег автомат — две длинные очереди. Теперь все, путь свободен.
— Молодец, Коля. А я сначала решил...
— Что, Дмитрий Николаевич?
— Да нет, ничего.
Через полчаса их встретили разведчики. Отряд прорвал кольцо. Ушел буквально из рук смерти. А ночью по рации был получен приказ:
«Возвращаться в Москву».
Линию фронта перешли в районе Сухиничей ночью. Потом погрузились на машины, поехали в город на вокзал. Кончился четырехмесячный поход.
Поезд медленно подходит к перрону.
— Здравствуй, столица!
Николай бежал по знакомым улицам. Прохожие изумленно оглядывались на него. Еще бы, бежит здоровенный, бородатый парень с красно-зеленой лентой на шапке. Эдакий кинематографический партизан.
Вот и знакомый подъезд. Несколько ступенек вверх. Дверь. Звонок. Такие шаги могут быть лишь у одного человека. Щелкнул замок. Он обнял мать.
А потом был Кремль. И добрые глаза Михаила Ивановича Калинина. Николай Королев осторожно жмет ему руку. Калинин поздравляет его, вручает маленькую коробочку. В ней орден Красного Знамени.
Борис ВОРОБЬЕВ
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Звонок в начале шестого утра мог означать только одно — срочный вызов.
Звонил оперативный дежурный. Он передал капитан-лейтенанту Рябову приказание комдива немедленно прибыть в штаб.
На улице было ветрено, темно и скользко. Рябов поднял воротник, глубже надвинул шапку и по привычке сунул руку в карман реглана, но фонарика там не оказалось. Видно, он еще с вечера переложил его куда-нибудь в другое место, а может, этим распорядилась жена, когда сушила реглан. Так или иначе, но возвращаться и отыскивать фонарик уже было некогда. С грехом пополам одолев полтораста метров, отделявших дом от штаба, Рябов козырнул часовому и толкнул тяжелую, обитую войлоком дверь.
Капитан второго ранга Ваганов был у себя. Комнату еще не успели натопить, и Ваганов сидел за столом в шинели и шапке.
Рябов доложил о прибытии.
— Здравствуй, Николай Федорович, — сказал Ваганов. Отложив в сторону бумагу, которую держал в руке, он встал и вышел из-за стола. — Получена радиограмма, Николай Федорович, у мыса Барьерного замечено неизвестное судно. — Комдив подошел к большой, вполстены, карте района и раздвинул шторки. — Кстати, на днях мне, видимо, о нем же говорили рыбаки. У них там невода стоят.
Рябов подошел к карте. Рядом с низкорослым комдивом он казался еще выше и массивнее, чем был на самом деле, а огромные яловые сапоги и реглан еще сильнее подчеркивали это.
Слушая комдива, Рябов без особого удовольствия вспомнил место, о котором тот говорил: обрывистый, гудящий от наката берег, мрачные кекуры с воротниками желтой пены, узкую, длинную отмель-банку вдоль самой границы.
— Судно замечено в пять ноль-ноль, — продолжал комдив. — Сейчас пять двадцать. Через десять минут, Николай Федорович, жду твоего доклада о готовности к выходу. На корабль я уже сообщил, так что задерживаться, полагаю, не станешь. Посты предупреждены, можешь идти напрямую. Прогноз — шесть-семь баллов. Норд-ост с переходом во второй половине на ост. Вопросы есть?
— Судно военное?
— Судя по первым сообщениям — нет. Уточнишь на месте, и если что... Словом, действуй по обстановке.
У трапа Рябова встретил вахтенный. Рябов прошел на корабль и поднялся в рубку. Там уже дожидались штурман и рулевой.
— Готовьте прокладку, лейтенант, — велел Рябов штурману. — Идем к Барьерному. — И скомандовал: — По местам стоять, со швартовов сниматься!
Дробный топот ног по палубе известил Рябова, что его команда подхвачена, что люди встали по местам и ждут дальнейших приказаний.
— Отдать носовые!
Луч прожектора резко метнулся вниз, выхватив из темноты фигуры матросов баковой команды. Как мельничный жернов, загрохотал брашпиль, наматывая на барабан сброшенные с палов швартовы.
— Отдать кормовые! Вперед малый!
За кормой забурлила вода. «Охотник» вздрогнул, плавно отвалил от пирса и медленно двинулся к выходу из ковша.
Облокотившись на станину машинного телеграфа, Рябов всматривался в темные стекла рубочных окон, прикидывая, как скоро развиднеется и успеют ли они до света выйти на траверз Барьерного, чтобы подойти к нарушителям незамеченными.
Слева, как вспышка спички, промелькнул огонь выходного створа, тяжело ухнула в борт первая волна открытого моря.
— Десять градусов влево по компасу, — приказал Рябов и перевел ручку телеграфа на «полный ход».
Недра корабля тотчас отозвались на изменение режима: даже в темноте можно было видеть, как вскипел за кормой бурун; переборки завибрировали — ветер с силой надавил на палубные надстройки.
— Так держать! — сказал Рябов и вышел на крыло мостика.
Он любил эти минуты мощного разгона, когда корабль, как живое существо, несет тебя и роднит с собой, когда реально ощущаешь скорость, бег времени и свою причастность к этим абстрагированным, математическим понятиям. Впрочем, другое волновало и тревожило сейчас Рябова. Он знал, что через сорок минут они повернут и пойдут по ветру. Корабль легкий, волны начнут перегонять его, подбрасывать корму и оголять винт. А это значит, что пол-узла они наверняка будут недобирать, и, если ветер усилится, им, чего доброго, придется сбавлять ход.
Мостик продувало, как аэродинамическую трубу, холод лез под реглан. Рябов вернулся в рубку и снова занял свое место у телеграфа. После мостика в рубке казалось необыкновенно тихо. В ушах шумело, слезились набитые ветром глаза. Рябов на минуту закрыл их, и им незаметно овладело то странное, знакомое всякому часто недосыпающему человеку состояние, когда сон и явь причудливо переплетаются между собой, когда слышишь и чувствуешь все вокруг и, однако, спишь. И лишь одно сразу выводит человека из этого состояния — изменение привычного, заданного ритма, толчок извне, сигнализирующий мозгу об этом изменении. Для Рябова таким толчком явилось почти незаметное усиление шума работающих на полную мощность машин. Он открыл глаза, увидел открытую дверь, а в ней — штурмана.
— Товарищ командир, вышли в точку поворота.
Рябов кивнул.
— Право двадцать, — приказал он.
— Есть право двадцать! — без паузы откликнулся рулевой.
Волны перестали бить в борт, настал момент равновесия, когда корабль, казалось, стоит на месте; затем волны с шипением ударили в корму, притопили ее, потом подняли и вместе с собой рывком передвинули корабль. На миг он словно бы завис, бешено молотя работающим вхолостую винтом.
Рябов натянул на голову капюшон и снова пошел на мостик.
К Барьерному вышли в девятом часу утра. Рябов приказал включить эхолот и повел корабль вдоль внутренней кромки отмели. Справа за ней в каких-нибудь трех милях лежала невидимая для глаза граница, а еще дальше в сумерках зимнего утра перекатывались глянцевые нейтральные воды, ничье, по сути, море.
— Сигнальщики! — крикнул с мостика Рябов. — Смотреть в оба!
Однако проходило время, мерно щелкал эхолот, а никаких признаков судна-нарушителя не было. И только когда дошли до середины банки, до того места, где стояли колхозные невода, раздался наконец крик одного из сигнальщиков:
— Судно, справа сорок пять!
Рябов поднес к глазам бинокль. В перекрестье заплясал размытый расстоянием небольшой моторный бот. На таких обычно ловят рыбу у берегов, но, бывает, пускаются и в более далекие вояжи. Попыхивая трубой, бот резво бежал встречным курсом по нейтральной воде. Рябов опустил бинокль, и бот сразу исчез, растворился в толчее океанских вод. Лишь изредка крупная волна, поднимала его над выпуклостью океана и, подержав, снова прятала, будто, накрывала шапкой-невидимкой.
Рябов кисло усмехнулся: по закону придраться было не к чему. Однако чутье пограничника подсказывало ему, что бот, ныряющий сейчас в волнах за спасительной чертой границы, и судно, замеченное два часа назад в советских территориальных водах, — скорее всего, одно и то же действующее лицо. Слишком невелика была возможность встречи в этом же районе с другим судном: такие совпадения — в месте и во времени — следует считать редким исключением.
Рябов снова поймал в бинокль прыгающее, как поплавок, суденышко. Изменив курс, бот уходит в океан. Это лишь подтвердило подозрения Рябова: чего ради отворачивать так поспешно? Можно бы и поздороваться. Рябов сунул бинокль в чехол и задумался.
Формально инцидент можно было считать исчерпанным: нарушения нет, а если и встретили кого, так на нейтральной воде. Там ходить никому не возбраняется. Но Рябов не спешил ставить точки над i.
Еще у командира он рассудил, что шпионам нечего делать на голом каменном острове, где к тому же находится погранзастава. Невод — вот что привлекло нарушителей. Такие случаи не в диковинку. Не только рыбу — невода тащат. А здешний невод сам в руки просится, стоит — удобнее не придумаешь — у самой границы. Чуть что, заварушка какая — со всех ног в нейтральные воды. Как сейчас, например. Но уйти — не значит не вернуться. Браконьеры везде одинаковы, будут кружить, что волки, дожидаясь своего часа. Тут и нужно помочь им — исчезнуть, затаиться до поры до времени...
Рассвело совсем, и отсюда, из бухточки, где укрылся корабль, Барьерный был виден как на ладони — угрюмый, весь в трещинах и развалах шестидесятиметровый утес. Снег не держался на каменной вершине утеса, и на ней отчетливо выделялся оставшийся с войны расколотый надвое железобетонный дот. Когда-то страшный, а теперь безжизненный, дот, словно череп, смотрел перед собой пустыми черными бойницами.
Цепь заснеженных гор подпирала низкое небо; с них прямо в море сползали мокрые кучи облаков. Громадные и неповоротливые, как айсберги, они не обладали их весом и плотностью — ветер рвал, трепал и разносил во все стороны серо-белую податливую массу.
Дважды, как из-за угла, корабль «выглядывал» из-за Барьерного и оба раза возвращался в укрытие — море было пустынно. Однако Рябов не унывал: не сейчас, так ночью, но браконьеры вернутся — в этом он был совершенно уверен. Он попросил принести себе чаю и в ожидании его прохаживался по рубке, поглядывал через стекло на высунувшиеся тут и там из воды усатые нерпичьи морды. Зверей разбирало любопытство. Они плясали на волнах, стараясь занять места поудобнее.
Попить чаю Рябову не пришлось. В дверь неожиданно просунулся радист.
— Радиограмма, товарищ командир! — переводя дух, сказал он и протянул Рябову наскоро заполненный стандартный бланк.
— Час от часу не легче! — с сердцем сказал Рябов, пробежав глазами торопливые строчки, подписанные неизвестным ему человеком, судно которого терпело сейчас бедствие где-то к норд-осту от них.
Он сжал в кулак радиограмму, обдумывая сложившуюся ситуацию.
События развивались совсем не так, как бы хотелось того Рябову. Он уже не мог по-прежнему отстаиваться под защитой Барьерного — долг моряка требовал от него немедленных действий по оказанию помощи попавшим в беду людям. С другой стороны, уходя, они оставляли район на откуп браконьерам, которые могли вернуться в любую минуту и ограбить невод без риска быть пойманными. И тем не менее Рябов ни секунды не колебался в выборе решения, и оно было тем более справедливо, что в этой части океана, лежавшей в стороне от столбовых морских дорог, они были, вероятнее всего, ближе, чем кто-либо другой, к месту аварии, если не единственным кораблем вообще.
Рябов прикинул по карте расстояние. Да, он не ошибся: два часа форсированного режима понадобится машинам, чтобы перебросить корабль в ту точку океана, где борются сейчас с водой люди. И еще неизвестно, что там — будут ли они снимать только людей или возникнет необходимость тащить и само судно. В этом случае им придется туго: ветер заходит уже сейчас, и при чистом осте, который как раз подоспеет, корабль будет валять как ваньку-встаньку.
— Передайте им, — Рябов повернулся к радисту и потряс радиограммой, — идем на помощь. — Потом на обратной стороне радиограммы набросал свою.
— Эту — в базу!
Неудачник болтался на волнах, как скорлупа от семечка. Едва рассмотрев его в бинокль, Рябов присвистнул от удивления: перед ним был бот, как две капли воды похожий на тот, который они видели утром.
— Дела... — протянул Рябов. — А, помощник?
— Дела, — подтвердил тот.
И хотя еще не была ясно видна связь между событиями последних часов, Рябов помрачнел. Ему очень не понравилось такое сходство; он готов был поклясться, что за всем этим кроется какой-то подвох.
Бот приближался, Рябов без прежнего энтузиазма, с подозрительной настороженностью вглядывался в выраставшие на-глазах обводы чужого судна, словно по ним хотел уяснить себе причину охватившей его тревоги.
— Подходить правым бортом! Боцману подняться на мостик! Вот что, старшина, — сказал Рябов, когда боцман белкой взлетел по трапу, — пойдете сейчас на бот и выясните, в чем там дело. Какая нужна помощь, могут ли идти своим ходом.
— Есть, товарищ командир!
Суда сблизились. На бот полетели выброски. Там их ловко поймали, вытянули швартовы из воды и стали выбирать их по мере того, как приближался «охотник». Пятерка заросших людей в блестящих от воды штормовках и высоких сапогах стояла на тесной палубе, всматриваясь в пограничный корабль.
Взвизгнули сделанные из автомобильных покрышек кранцы. В узком пространстве между судами захлопала сжатая бортами вода — «охотник» плотно, как на присосках, пристал к скользкому пузатому телу бота.
Боцман перешагнул через леера и одним махом очутился на его палубе. От пятерки отделился один, как видно шкипер, и, кланяясь и разводя руками, принялся что-то объяснять боцману. Потом они вместе прошли на корму и, согнувшись, один за другим нырнули в узкую дверь тамбура. Минут через двадцать они вновь показались на палубе, и опять тот, второй, кланялся и разводил руками.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Рябов, когда боцман, грязный и мокрый, поднялся на мостик.
— Дырка, товарищ командир, — ответил тот. — Возле самого киля дырка. Воды в трюме по колено, помпа цедит по чайной ложке в час.
— Значит, сами не дойдут?
— Рискованно, товарищ командир. И так огрузли здорово. Только... только дырка, товарищ командир, не такая какая-то, — недоуменно сказал боцман. — Никогда не видел таких дырок, чтоб досками наружу. А эта наружу, своими руками ощупал. Вроде как бы сами себя долбанули, товарищ командир... — Рябов сжал поручни.
— Ясно! — как гвоздь забил он.
Вот оно, подозрительное сходство! Обе лайбы из одной шайки-лейки — он чувствовал это. Работают в паю: одна ворует, другая на подхвате, отвлекает. «Утром мы их спугнули, но, как говорится, коготок увяз — всей птичке пропасть. В азарт вошли. Посовещались — придумали: сами себе долбанули брюхо. Не здорово, конечно, долбанули, больше для видимости. Не рассчитывали, что проверять станем. Думали, подцепим с ходу. Молодец, боцман. С помпой тоже, конечно, трюк, качает небось за здорово живешь. А расчет прост: пока мы этих «спасаем», те без помех доделают то, что не успели ночью. А, дьявол! Ладно, не горячиться. Подумаем лучше, что можно сделать. Значит, так: два часа в загашнике у них уже есть. Да еще два, пока мы назад доберемся. Итого четыре. Дальше. Трюмы у этих посудин хоть и малы на первый взгляд, на самом деле черта вместят. На ура такой не набьешь. На такой полдня вручную угробить надо. Ну, положим, битком набивать они его не будут, поостерегутся все-таки среди бела дня, однако постараются отхватить сколько возможно. Это факт, а стало быть, резонно накинуть еще энное количество человеко-часов на жадность. Словом, если по-умному обставить дело, поспеем в самый раз. Вся загвоздка в этих. Пока они еще не догадываются, что мы раскусили их номер, проще всего было бы взять их к себе на борт. Только не пойдут ведь, бестии. Побоятся остаться без рации. Ведь если учуют что, с бота в любой момент дружкам сообщить успеют. Однако попробовать можно, попытка не пытка».
— Старшина, — повернулся Рябов к боцману, — сходите еще раз на бот и предложите этой публике перейти к нам. Объясните, что это необходимо для их безопасности. Только не усердствуйте. Не захотят — не надо.
Отправив боцмана, Рябов заглянул в рубку. Помощник был там.
— Как думаешь, лейтенант, какой ход у этих каравелл? — спросил Рябов.
— Узлов шесть, товарищ командир.
— Правильно. Я тоже так думаю... Шесть узлов да шесть узлов, — неожиданно пропел Рябов, барабаня пальцами по стеклу. — А у нас втрое больше. Так, лейтенант?
— Так точно, — ответил помощник, не догадываясь, куда клонит командир.
— Теперь смотри. — Рябов согнулся над картой. — Сейчас мы здесь. Невод — вот он. Те, на втором боте, если еще не пришли туда, то, во всяком случае, где-то на подходе. Как ты сам понимаешь, бросить этих сейчас и идти к Барьерному мы не можем. Остается что? Остается тащить. Скажем, в Убойную, благо до нее отсюда не так уж и далеко. Но вот тут, — Рябов ногтем поставил на карте крестик, — мы отдадим буксир и потопаем прямехонько к Барьерному. Эти, — он кивнул через плечо на бот, — не утонут, даю тебе гарантию. Жалко буксир, но ничего не сделаешь, обойдемся запасным. Как, лейтенант?
— Не успеем, товарищ командир. Как только бросим этих, они поймут, в чем дело, и предупредят своих у невода. А тем пройти три мили до нейтралки — раз плюнуть. Нам не поможет даже тройное преимущество в скорости. Как говорили у нас в училище, корни мнимые, и задача не имеет решения.
— А банка? Банка, лейтенант? Это ты учитываешь? Учитываешь, что через два часа начнется отлив и банка обсохнет, как миленькая? А на малой воде даже с такой осадкой, как у них, через банку не перескочишь. Так что в обход, в обход им придется, лейтенант. И не на зюйд они пойдут — невод-то ближе к нашему краю стоит, — с норда попробуют обогнуть баночку. Вот и прикинь теперь, успеем ли.
В рубку вошел боцман.
— Отказываются перейти, товарищ командир, — доложил он. — Говорят, не могут бросить судно.
— Ну, еще бы! — усмехнулся Рябов. — Ладно, не в этом сейчас соль. Давайте берите их на буксир, старшина. Помощник введет вас в курс дела...
Ветер зашел и дул теперь в левый борт «охотника». Волны захлестывали палубу, бурля, выливались через шпигаты. Буксирный трос все чаще натягивался, осаживая корабль, как вожжи норовистую лошадь.
Широко расставив ноги, Рябов балансировал на мостике, то посматривая вперед, на сумятицу гривастых волн, то оглядываясь назад, где в облаках водяной пыли, как подсадная утка, переваливался с боку на бок бот. Палуба бота была пуста, но Рябов понимал, что за ним неотрывно наблюдают сейчас из всех щелей. И старался ничем не возбудить подозрения соглядатаев.
Пока все шло по-задуманному. Правда, Рябов не знал, о чем уже дважды передавал открытым текстом бот, но успокаивал себя тем, что пока они, кажется, никакой промашки не допустили.
Минуты шли, и с каждым оборотом винта приближался момент, когда нужно будет отдать буксир. Промедление здесь не прощалось. Это Рябов сознавал, как никто другой на корабле, и с нетерпением ждал этой минуты, мысленно представляя себе назревающие события.
Каждый раз, когда Рябову приходилось попадать в сложные ситуации, ему на помощь приходил опыт — его собственный или заимствованный, чужой. Этот опыт содержал в себе бесчисленное множество способов и приемов, рассчитанных чуть ли не на все случаи жизни и помогающих выбрать оптимальное решение. Но случалось и так, что привычные схемы не помогали. Тогда приходилось искать новый ключ. Сегодняшние обстоятельства требовали именно этого.
Рябов не впервые сталкивался с браконьерами. Он и раньше ловил их. И приводил в базу. И составлял акты. И производил досмотр. Но тогда все было просто — браконьеров брали с поличным. Сегодняшний случай не был похож на все предыдущие. Пока что он напоминал известный вариант с котом в мешке, и в какие-то моменты Рябову казалось, что этот кот может оказаться простым чучелом. Чем, собственно, располагал он? Сходством судов? Но в океане плавают сотни похожих кораблей. Предположением, что авария организована с умыслом? Но ведь не обязательно садиться на камни, чтобы получить пробоину. Судно деревянное, сработанное, наверное, еще до потопа. Оборвалась сетка с грузом — вот тебе и дыра. Но интуитивно Рябов чувствовал слабость подобных возражений. Он не верил в совпадения и, подвергая сейчас сомнениям свои же собственные выкладки, этим самым хотел лишь исключить из них элемент случайности.
— Возьмите маяки, лейтенант, — приказал он штурману.
Впрочем, можно было бы и не определяться: Рябов и так знал, что не пропустит нужный момент, и, отдавая приказание, он действовал скорее в силу привычки.
— Через шесть минут будем в заданной точке, — доложил вернувшийся штурман.
— Хорошо, — сказал Рябов, берясь за рукоятку машинного телеграфа — шесть минут погоду не делали.
— Отдать буксир! — скомандовал он и толкнул рукоятку.
С разбегу «охотник» как бы осел и, сбитый затем волной, ударившей его в скулу, стал уваливать вправо. Обвисший буксир зацепился серединой за воду, срезая верхушки волн. Бот по инерции прокатился еще немного по следу «охотника» и тоже стал уваливать под волну. Дверь рубки на боте отворилась, из нее выглянули двое, третий, как чертик из табакерки, высунулся из тамбура на корме.
Рябов посмотрел на часы. И хотя с начала маневра прошла всего минута, ему казалось, что операция непозволительно затягивается.
«Копается боцман», — раздраженно подумал он и перевел взгляд на бот.
Там, по-видимому, еще ничего не поняли и продолжали спокойно наблюдать за происходящим.
— Живее на корме! — не вытерпел Рябов.
Наконец, он увидел, как буксир змеей скользнул по палубе и исчез в воде. Рябов вернул рукоятку телеграфа в первоначальное положение.
— Лево тридцать! — крикнул он рулевому в переговорную трубу.
Обернувшись, он увидел выраставший за кормой бурун, стремительно отдалявшийся бот и фигуры мечущихся по его палубе людей.
Игра в поддавки кончилась. Карты были раскрыты, и теперь выигрывал тот, кто заранее точно рассчитал все ходы.
Бот перехватили, когда он уже огибал банку. Депеша сообщников явно застала браконьеров врасплох, в спешке они даже шлюпку не успели поднять на палубу — она моталась из стороны в сторону на буксире за кормой, нагруженная широкими низкими корзинами с рыбой.
Однако бот сделал отчаянную попытку улизнуть. Не сбавляя хода, он устремился прямо на корабль, видимо рассчитывая ошеломить пограничников своей дерзостью и под носом у них проскочить к границе.
— Дудки! — весело сказал Рябов. — Допрыгались, субчики! Ракету! — приказал он.
Но на боте, как видно, собрался отпетый народ. Не обращая внимания на предупреждение, словно это была не ракета, а обыкновенная спичка, бот продолжал идти на сближение.
Рябов понял, что ракетами таких людей не остановишь.
«Что ж, — подумал он, — тем хуже для них». И, обернувшись к помощнику, негромко сказал:
— Боевая тревога!
Только тогда на боте поняли, что зарвались. Судно резко сбавило ход, потом остановилось вовсе.
«Так-то лучше, — подумал Рябов, — задним умом все крепки».
Он не пошел на бот — и так все было ясно.
Через час досмотр кончился, обе стороны подписали акт. Сдав вахту помощнику, Рябов спустился в каюту и, не раздеваясь, лег. Но и сквозь сон он слышал за тонким металлом борта сочные всплески густой зимней воды и чувствовал рывки буксира, на котором, как загарпуненный кит, прыгал с волны на волну бот браконьеров.
Эрнст МАРКИН
НАЧАЛЬНИК РО
Выстрелы загремят позже, через двадцать шесть часов пятнадцать минут, а пока Саблуков ждет отправления поезда Москва — Саранск. Саблуков не знает капитана милиции Владимира Демидова и уж никак не подозревает, что по истечении суток их жизненные пути пересекутся и капитан милиции будет стрелять в уголовного преступника Саблукова. Можно было бы начать с выстрелов, чтобы затем вернуться вспять и рассказать об этих людях, но я думаю: интереснее проследить эти их двадцать шесть часов пятнадцать минут и полюбить одного так же, как возненавидеть другого.
1. Москва — Рузаевка
Несколько часов назад Саблуков решал, в каком вагоне ехать — в общем или купированном. В общем легче затеряться, это так, но так же верно и то, что в общем едет молодая и любезная публика, больше студенты, публика нахальная, любопытная и бесцеремонная, переходящая на «ты» через пять минут дороги. Вопросы и внимательные глаза, и коллективная память, с блестящей точностью восстанавливающая перед самым неопытным работником розыска твой абсолютно верный портрет. Саблуков решает ехать купированным — здесь меньше риска быть замеченным.
И вот Саблуков с брезгливым любопытством смотрит на плачущую девушку, повисшую на высоком ладном парне, скорее всего латыше. Он гладит девушку огромной ладонью по вздрагивающим лопаткам и целует в волосы. Саблуков ненавидит эту девушку и этого парня за то, что они есть, что не прячутся и не боятся никого, как боится и прячется он, Саблуков. Он стоит в узком вагонном коридорчике, чтобы соседи по купе не заговаривали с ним, он смотрит в окно. Латыш легко, будто девушка невесома, вскидывает ее на руки и целует мокрое лицо. Саблуков крепче сжимает челюсти: у него тоже есть девушка, пусть она не ждет его, пусть она даже забыла его, он напомнит и, войдя в ее дом, вот так же вскинет ее на руки и заглушит крик твердыми губами.
Все идет как нельзя лучше: пробыв три дня в столице, он стоит теперь в вагоне поезда, который унесет его в глушь, в самую дремучую дичь, где он затеряется, исчезнет, растворится, излечится от страха.
Поезд трогается, и Саблукову хочется закричать от звериной радости свободы. Он ковыряется в своем чемодане, когда проводник собирает билеты, — можно надеяться, что старик не обратил на него внимания и, в случае чего, не сможет описать его. А вскоре Саблуков уже зарывается в чистые ломкие простыни, отворачивается к стене и имитирует усталый храп командированного. Латыш сидит внизу, под ним, рассказывает о своей девушке, о невесте. Рассказывает тридцатилетнему бородатому человеку с неприятно-пронзительными маленькими глазками. Вот таких глаз боится Саблуков — запоминающих, цепких. «Сволочь», — решает про себя Саблуков и на всякий случай плотнее натягивает на голову простыню. Латыш медленно и красиво говорит о девушке, о невесте, вот расписаться решили, да надо же — срочная командировка, третий раз свадьба откладывается. «Мне бы ваши заботы, — думает Саблуков, — мне бы ваши заботы, проклятые!» Потом он все-таки засыпает. Сон его, расслабляющий и истеричный, прерывается короткими паузами пугающей яви, и только когда он снова слышит голоса латыша и бородатого, позволяет себе перевести дыхание. К утру он все знает о своих спутниках. Латыш уже пригласил бородатого на свадьбу. За десять минут до остановки в Рузаевке Саблуков неожиданно «просыпается», закуривает, кашляя, гремит застежками чемодана и выскакивает на платформу, как только поезд останавливается.
Он знает: он прошел незамеченным в этом маршруте, и он доволен, как лиса. Он детально помнит дальнейший маршрут — сейчас ему надо идти на автобусную станцию, чтобы добраться до Саранска: если кто-то и ждет его с поезда, он обманет их.
В это же самое время капитан Демидов держит в руках ориентировку из управления. Неделю назад из колонии бежал опасный преступник Саблуков. В Невинномысске он стрелял в женщину, тяжело ее ранил. За Саблуковым числится ряд грабежей, разбойных нападений. Описание преступника: год рождения 1942-й, рост метр семьдесят шесть, телосложение атлетическое, цвет волос русый, глаза серые, навыкате, нос короткий, прямой, губы узкие, бледные, растительность на лице слабая. Особых примет не имеет. Предлагается принять все меры к задержанию преступника, который, по всей вероятности, будет стараться скрыться в глухих районах страны. Преступник вооружен.
Демидов откладывает ориентировку. Представляет себе преступника. Вот он, Саблуков. Демидов, конечно, не надеется на встречу, но чем черт не шутит.
Начинался рабочий день: доклады, звонки, посетители. На столе лежат материалы к квартальному и годовому отчетам — работа номер один. Посетители — тоже работа номер один. И отчет бригады, проведшей рейд по борьбе с самогоноварением, — тоже. Все — номер один. Такая работа. Чуть подрагивают от нетерпения руки. Хочется сделать все сразу.
Вспоминается вчерашний разговор с дочерью. Они ехали на грузовой машине, и Оля спросила:
— Папка, а где маленькая машина?
— На ремонте, а что?
— Да эта все скокает и скокает...
Да, эта «скокает». Что же делать, если «газик» в ремонте, а весь райотдел — это семнадцать человек вместе с капитаном, а район — это пятнадцать тысяч народу. Ничего, капитан, жизнь прекрасна. Он вернулся вчера домой часов в одиннадцать и, не зная что делать со своей мужской свободой, выполол сорняки в садике, починил две бочки, помог соседу поставить забор и засолил лещей с позавчерашней рыбалки.
Да, завтра пленум, и надо закончить отчет.
Читатель, хотите увидеть начальника РО, капитана Демидова Владимира Петровича, Володю, таким, каким увидел его я? Был вечер, была прекрасная сельская тишина. Я открыл калитку, под ноги тотчас подкатился лисенок, залаявший по-собачьи. Я поднялся по широкой деревянной лестнице на второй этаж, походил по комнатам — ни души. Кнопка заискивающе смотрела в глаза и выпрашивала: да погладь же меня! Я нагнулся, почесал ей брюшко и когда поднял голову, надо мной стоял парень в шерстяном тренировочном костюме — вылитый метатель молота, большой, здоровый, румяный, с короткой спортивной стрижкой, серыми добрыми глазами и очень похожий на мальчишку со стадиона. Я даже растерялся — я-то знал, что ему тридцать пять и что он капитан и начальник райотдела. В чуть растягиваемых окончаниях слов и предложениях, часто построенных как вопросительные, угадывался мордовский акцент, в варианте Демидова делающий речь музыкальной и неспешной.
Как он стал милиционером? Да обычно, как многие: после армии пошел в среднюю специальную школу милиции. После работал. Сейчас вот заканчивает высшую школу милиции.
Трудно ли? Да как? Летом и зимой — хорошо: машина, сани; весной и осенью хуже: грязь. Он же деревенский, привык тут ко всему, прирос, всех знает, его все знают.
Много ли серьезных преступлений, случается? Так пусть ему назовут преступление несерьезное, и он ответит на этот ваш праздный вопрос.
2. Рузаевка — Саранск
Что знал Саблуков о Рузаевке? Железнодорожная крупная станция неподалеку от столицы Мордовии. Знал он такие. Запах мокрого угля, серое небо над приземистыми мрачными пакгаузами. Тусклое серебро рельсов, редкие спешащие, озабоченные и угрюмые, железнодорожники. Здесь можно бродить часами, и никто тебя не заметит, особенно если ты в мятом пиджаке и дешевых брюках.
Это устраивало Саблукова, устраивала и ожидаемая толпа автобусной станции, где энергичные сельские жители с горбами мешков берут приступом занесенную грязью машину. Все это помнил Саблуков по своему далекому знобкому детству, когда постигал он науку карманных привокзальных краж.
Но вот Саблуков выходит к автобусной станции, и самый внешний вид ее неприятно бьет по глазам. Свободное стеклянное здание, умытое, кокетничающее. «Образовались, — проносится в голове, — стекляшек понастроили, паразиты». И все-таки он знает — за пять минут до отхода автобуса образуется толпа, и тогда-то он втиснется в нее, сунет кассирше скомканные деньги, а лицо спрячет за чью-нибудь широкую спину. Но сейчас надо уходить, чтобы не примелькаться.
Саблуков фланирует по Рузаевке, официально уже ставшей городом, но еще не простившейся с деревенскими деревянными уличками, просеченными двухэтажными универмагами и просторными каменными башнями. Ожидал встретить телогрейки, мешочников, а на вокзальной площади продают зарубежные журналы и моды следующего сезона. «Дальше, — шепчет Саблуков, — дальше...»
Чего надо было той бабе? Приключения, ласки? Но тогда почему же она отбивалась от него, когда он приблизился к ней... «Позвольте, я думала, вам просто негде остановиться....» — «Ты думала... брось притворяться!» — «Слушайте, я позову милиционера!» — «Я тебе позову, сука!» А рука уже нырнула за оружием, и эти ее глаза, распахнутые больше от недоумения, чем от страха. И палец нажимает на гашетку, а когда женщина лежит на полу, заливаясь кровью, лихорадочные руки шарят по комоду — всей-то добычи двенадцать рублей сорок одна копейка. Ушло три патрона, прибавился новый след. Больше в Невинномысске не появишься, и небось твои портреты уже гуляют по всей стране, и дома засада, и по дружкам засады, везде одна сплошная черная засада, и парни будут стрелять, потому что знают — он вооружен, а парни пошли суровые, промашки не дадут.
Ну, дудки, этого адреса вы не знаете, и не узнать вам его никогда!
До Саранска доехали быстро, он даже не успел подремать. Саранск Саблукову не понравился еще больше, чем Рузаевка: чистые, просторные улицы, нарядные люди, среди которых он выглядел измятым, подозрительным алкоголиком. Бутылку портвейна он выпил в подъезде, прямо из горлышка, чтобы хоть немного залить подступающую волнами злость. Побродив по закоулкам города, вернулся на автовокзал и взял билет до Кемли. Сидел на лавке мрачный, чуть опьяневший, упершись глазами в раскрытую газету.
Если бы Саблуков знал, что через девять часов выстрелы разорвут сонную утреннюю тишь, он, вероятно, поспешил бы убраться отсюда. А впрочем, куда? Тот адрес, который он повторяет про себя, последняя его надежда на жизнь...
И уж совсем не могло прийти ему в голову, что,вот сейчас и не так далеко отсюда, тот человек, который заслонит собою от людей его оружие, капитан РО Володя Демидов, лежит под перевернутой машиной, и молоденький шофер плаксиво спрашивает: «Вы живы, а? Вы живы?»
Этот шофер, мальчишка, дурачок, несмышленый, испугался шаткого мостика, который давно надо было починить. Он рванул машину вправо, на какое-то мгновение услышал холостой жуткий бег колеса, покрылся холодным потом ожидания смерти, а через секунду машина перевернулась и полетела с обрыва. Шофер ничего не успел подумать о доме и о себе, в девятнадцать лет никак не мог поверить в близкую смерть. Он просто закрыл глаза и втянул голову в плечи, а колени подтянул к груди, словно пытаясь стать неродившимся еще, надежно оберегаемым мамой-мамочкой. За секунду-другую до того, как машина перевернулась и ударилась о дно оврага, капитан вышвырнул его вон, и он отделался двумя царапинами. А потом он стоял над машиной и плаксиво спрашивал: «Вы живы, а? Вы живы?» Капитан был жив. Он боялся пошевелить торсом, зажатым сиденьем и вмятой дверью. Пошевелил пальцами рук, ног, напрягся. Болела голова, ныло колено, из-за уха капала кровь.
— Давай ключи, — сказал он шоферу.
— Какие ключи? — парень явно не оправился от шока.
— Давай ключи, пилу, что там у тебя еще есть. Будем высвобождаться своими силами.
— Да нету ключей, — сказал шофер. — Забыл. Извините.
Словом, капитан Демидов отвинтил гайки, крепившие сиденье, и выбрался из машины. На это ему понадобилось более часа, а еще через час он пришел в ближайшее село, где ему перевязали голову и попытались отвезти в больницу. Он бы, может, и лег, если бы не отчет.
Как часто знание жизни мы подменяем чужим знанием, поддаемся стереотипу и, бывает, недоумеваем, когда жизнь опрокидывает наше заемное знание. Мы сидели вчетвером на траве, глядели на молодые парочки и вспоминали молодость. Мы — это четверо: капитан Володя Демидов, прокурор Петр Петрович, главврач больницы просто Боря и я. Капитану тридцать пять, прокурору и главврачу по тридцать. Но мы говорили о молодых, которые идут на смену, которые еще моложе, и зубастей, и способней.
— Стаж — дело хорошее, — говорил главврач Боря. — Но и опасное, черт возьми! Привыкаешь к своему опыту, а он тебе рожи скалит. Чего сам не умеешь, думаешь и никто не умеет. Нет, пора на пенсию.
Мы смеялись, глядя на его грудь кузнеца, крупный ироничный рот, слушали его ворчание и я прощался с заемными представлениями о сельской интеллигенции.
Вот в эту глушь, к этим вот людям пробирался Саблуков, чтобы спрятаться и передохнуть.
Смешно, правда?..
3. Саранск — Кемля
Пожалуй, впервые после отъезда из Москвы Саблуков чувствовал себя легко. Автобус, шедший в райцентр, был не набит, не то слово — нашпигован был автобус гражданами обоих полов до самых немыслимых пределов. «Тоже, понимаешь, стекляшек настроили, цивилизаторы, — злобно радовался Саблуков, когда ему сдавили грудную клетку. — Вот вам ваша культура, сволочи!»
А все было просто: в Кемлю съезжались студенты-заочники сельскохозяйственного техникума. И в Кемли вновь почувствовал себя Саблуков неуютно, более того — скверно; он задыхался от ненависти. И с ужасом чувствовал, как слепая злоба заливает его всего, а ничего не могло быть опаснее этого — терялся контроль над собой.
Саблуков, в общем-то, именно здесь и погиб окончательно, хотя еще и не знал этого. Он будет ходить по улицам Кемли, прислушиваться к шоферам, искавшим попутчиков, он зайдет в магазин и выпьет еще две бутылки вина, а одну возьмет с собой, но он уже будет мертв, Саблуков, мертвее головы воблы, которую держала в зубах добродушная поселковая дворняга. Но и мертвый он был еще более опасен, чем живой, потому что инстинкт самосохранения исчез, и теперь это было тупое животное, разъяренное и слепое.
В двенадцать ночи, подслушав разговор двух девушек, он уразумел, что машина идет в Игнатово. Он вскочил в грузовик, последней своей хитростью сообразив, что шофер примет его за знакомого пассажиров, а пассажиры — за приятеля шофера.
А Владимир Демидов сидел над отчетом.
4. Игнатово
Саблуков спрыгнул с машины километров за семь до Игнатова, на развилке. По старой своей привычке пошел в другую сторону и, только дав изрядного крюка, развернулся и затрусил к селу. Он никогда не был здесь, но дороги знал, пожалуй, не хуже самого Демидова — так тщательно расспрашивал он о маршруте, так долго готовился к этому пути.
Он вошел в село звездной пугающей ночью. Высоко и торжественно стояла тишина. Саблуков, пригнувшись, скользил задами, к дому Киры Строговой уже подполз, заглянул в темное окно и ничего не увидел в нем. Спрятался в ботве и, набрав мелких камушков, бросил в дверь. Тишина уже звенела в перепонках и мешала дышать, но он чуть не сошел с ума, когда ее взломал рев мотора и буквально над ним пронесся вертолет. Грузнобрюхая трудяга опустилась неподалеку, в километре от околицы. Саблуков привстал — там, куда он глядел, блистали огоньки...
В Саблукове что-то оборвалось: он добирался сюда больше суток, темнил, петлял, а, оказывается, в этой глуши летают вертолеты, возят здешнюю деревенскую рвань...
Саблуков прямо по ботве, с каким-то даже наслаждением сминая зелень, пошел к крыльцу. Тихо постучал, потом забарабанил в дверь. Вскоре послышались шаги, и сонный голос спросил: «Кто там?» Голос его последней надежды, голос Кирочки Строговой, Кирки, случайной невинномысской любви.
И вот он в доме и грубо обнимает ее, неожиданно теплую, пахнущую сном, нежную, доверчивую, и, когда она пытается задать вопрос, он глушит его поцелуем. Тащит ее в горницу, не забыв накинуть крючок на дверь из сеней, а войдя в комнату, тотчас гасит свет. «Что? Что такое?» — шепчет Кира, и теплота ее уходит, она становится недоверчивой и чужой. Он в темноте тычет ей в лицо деньги и говорит поспешно, как жуют бутерброд перед поездом, какие-то слова о любви. А она не верит ни одному слову Саблукова — в то мгновение электрического ослепления она увидела дикий блеск его зрачка и поняла, что в ее дом вошло чужое, недоброе. Она бы закричала, облегчая нахлынувшую жуть, но она боится его, и от этого ей делается еще страшнее.
И еще один человек видел блеснувший на мгновение свет в окне Киры Строговой, двадцатисемилетней незамужней женщины, после смерти матери одиноко живущей в Игнатове. Капитан только что кончил составлять отчеты — годовой и квартальный — и теперь шел в свой дом, опустевший без жены и дочек. Разве что Кнопка ждала его. Кира Строгова. Что-то с ней связано такое, что капитан слышал совсем недавно. И уже подойдя к дому, вспомнил: как-то, несколько лет назад, Кира рассказывала о своей поездке в Невинномысск. Больше ничего, в памяти возникло именно это слово — Невинномысск, упомянутый в ориентировке. Он бы зашел к Кире прямо сейчас, чтобы в сердце не сидело это досадное слово — «Невинномысск». Он бы на память сказал ей черты разыскиваемого преступника, а после спокойно бы пошел спать. Но была ночь, а Кира Строгова жила одна, и это была грань, через которую Демидов перешагнул бы только в том случае, если бы очень твердо знал, что между этими двумя людьми — Строговой и Саблуковым — имеется прямая, безусловно доказанная связь. Он решил зайти к ней завтра, до работы, заодно поинтересоваться незнакомым ему городом Невинномысском. А пока он открыл дверь, дернув за дужку замка — на ключ он его не запирал — и выпустил тихо повизгивающую Кнопку, прилипшую к его ногам.
Позднее он проверит — звук разбитого стекла не мог быть им услышан на таком расстоянии. Но он услышал звук разбитого стекла и мгновенно определил, где это — в промтоварном магазине, находившемся на площади перед церковью. Когда он выскочил и побежал, в голове его опять возникло это слово «Невинномысск» и еще замкнутое красивое лицо Киры Строговой.
Впрочем, если бы начальник РО и зашел бы к женщине, он бы не застал там Саблукова. Допив вино, Саблуков так отчетливо представил себе свою гибель, так пронзительно ощутил чувство ловушки, что больше ни одной минуты не мог оставаться в этой темной комнате, рядом с этой дрожащей, чужой, ненавидящей его женщиной. Он рванул из кармана наган и, поднеся его к лицу Киры, просипел:
— Кому трепанешь, убью! Знай, что убью, мне теперь все равно! — и вылетел на улицу и помчался по огородам. Сначала он хотел спрятаться в лесу, закутаться в палую траву и выть, пока не пройдет тоска. Решение изменилось в то мгновение, когда он увидел витрину промтоварного магазина. Да ведь его же опознают по одежде все, кто видел его на шальном пути бегства! Вот и выход: ворваться в этот магазин, переодеться, забрать деньги — и бежать, бежать, пока рот хватает тугой, неподатливый воздух.
Он выдавил стекло, оно ударилось о фундамент и зазвенело, как школьный колокольчик. Через минуту он забыл и о костюме, и о деньгах: в его руках была двустволка, и он набивал карманы патронами: теперь-то он и сам понял себя — на кой черт побег, нет! нет же! — стрелять во всех, кто встанет на пути, во всех довольных и счастливых, в того латыша, в Кирку, и пробиваться в лес, где нет человеческого жилья, но нет и человека.
Саблуков успел зарядить ружье, когда в разбитом окне, в молочном утреннем свете показался чей-то силуэт. Саблуков вскинул ружье и выстрелил. Выстрелил и поспешно перезарядил ружье.
5. Начальник РО
Потом его спросят:
— Ваша реакция, когда вы увидели направленное на вас ружье?
Володя ответит:
— Сработал автоматизм. За какую-то долю секунды до выстрела, уже чувствуя его, упал на землю. И тоже выстрелил.
Впоследствии он вспоминал одно: качающееся перед самым лицом ружье, убийца в расплывчатом свете и его палец, медленно нажимающий на курок. Упав на землю, Демидов опять крикнул: «Выходи!» И тотчас же раздался второй, будто над самым ухом, гром.
Саблуков стрелял так быстро, насколько позволяла техника перезарядки ружья, а техника была хорошая. Демидов подобрался, готовясь к прыжку. Он знал, через какие-то секунды все сотрудники райотдела будут здесь. Точно, они были даже раньше, чем он рассчитал. Кто-то из них шептал: «Назад, капитан, куда же он денется...»
Я вот тоже потом спрашивал Володю:
— Упал, покатился, выстрелил — все как в детективе, не правда ли?
— Возможно. — Володя надул губы, почему его не хотят понять. — Я же не об этом. Первый раз стрелял в человека, а работаю здесь уже пять лет. Разве по этому случаю можно судить о нашей работе? Это бывает раз в пять лет, хорошо, чтобы это было раз в десять лет, хорошо, чтобы этого не было никогда.
— А что ты чувствовал, когда выстрелил?
— Ничего, кроме того, что понял — промазал. Уже после, когда Саблукова везли в больницу, он пришел в сознание и сказал: «Я, капитан, вот помру, а тебя засудят, понял!» Не боялся суда, но похолодел от другого — неужели убил? Да пусть суд, пусть любая ему кара, но знать, что на твоей совести смерть...
— А если прокрутить все сначала, тогда?..
— Постарался бы не промахнуться. Как ни охраняли мы опасную черту, он чуть не убил Сережу Лапина, девяти лет. У него со слухом плохо, у Сережи...
Сережа Лапин проснулся и побежал смотреть происшествие. Сержант кинулся на него, сбил с ног, когда над ними засвистели пули. Уже прошло два часа осады, из Саранска прибыло начальство, и полковник говорил: «Нельзя, чтобы он терроризировал население. Надо брать...»
Начальник РО выстрелил в верхний переплет окна, рассчитывая на то, что град стекла хоть сколько-нибудь напугает Саблукова, так вот — выстрелил, и тут же кинулся к магазину и, отдернувшись от взвизгнувшей пули, влетел в темное, усыпанное стеклом помещение. Подкатился под прилавок, понял — стреляют не из ружья, из нагана уже стрелял Саблуков. В какой-то момент к капитану пришло полное спокойствие. Демидов хладнокровно отсчитывал выстрелы и, отсчитав положенное, вскочил, бросился в темноту, высвеченную вдруг лезвием секача (вчера завезли, хороший товар, капусту рубить лучше некуда), сбил что-то теплое, сопротивляющееся, кусающее, ища руку с секачом.
В нагане оставалась еще одна пуля. Саблуков пустил ее в себя, когда капитан выбил из его рук секач, когда сотрудники райотдела влетали в окно, похожие на парашютистов-десантников. Нет, он не пытался покончить жизнь самоубийством, притворялся даже перед собой.
Только что, когда он был опасен, капитан стрелял в него, а теперь беспокоился — что так долго нет доктора, рана не опасная, но кровотечение же сильное, человек все-таки...
Уехал с чистым сердцем полковник, увезли Саблукова, а Демидов пошел на службу, но свернул с полпути, зашел к Кире Строговой. Она лежала на постели, одетая, охолодевшая каким-то ледниковым страхом. Капитан присел рядом и сказал:
— А все хорошо, Кира. Все позади. Ты забудь, мало ли что бывает. Считай, как паморок, налетел и исчез. Только дым остался...
Михаил БАРЫШЕВ
ПУШИЦА
Телеграмму принесли вечером. Девушка-почтальон была сдержанно-официальна. Молча указала, где расписаться, и ушла.
Я развернул телеграфный бланк и прочитал слова на бумажной ленте. Они извещали о смерти Матвея Викторовича Шульгина. Чтобы я не усомнился в этом, факт смерти был заверен подписью врача и фиолетовой расплывшейся печатью почтового отделения.
— Пап, а кто такой Шульгин?
— Шульгин? — Я положил руку на голову сына, ощутил его жесткие волосы и подумал, что нам пора сходить в парикмахерскую. — Он мне на фронте спас жизнь.
Димка свел к переносице встопорщенные, выгоревшие брови, помолчал и сказал:
— Значит, и мне спас... Если бы тебя убили, меня ведь тоже не было бы... Это далеко, Кожма?
— Далеко, за Полярным кругом. От железной дороги надо катером добираться на побережье.
— Ты был там?
— Нет.
— Теперь поедешь?
— Поеду... Ты же сказал, что Шульгин и тебе жизнь спас.
— Пап, а ты с ним вместе долго воевал?
— Одиннадцать дней...
Я уехал через несколько часов полуночным экспрессом.
Одиннадцать дней воевал я вместе с Матвеем Шульгиным. Это было в июле сорок первого года в Кольской тундре между озером Куэсме-Ярви и оленьими пастбищами в верховьях реки Туломы.
Я начал войну командиром стрелкового взвода. Восемнадцатилетним, наскоро испеченным лейтенантиком, ослепленным эмалью кубарей и скрипом ремня вишневой кожи с латунной звездой на пряжке.
Взвод держал фланг, укрепившись в недостроенном доте на берегу озера.
Отступать не пришлось. Фашистские егеря кинулись с тыла и погнали нас на запад, где уже была нацелена засада. Я остался в живых потому, что уходил за озеро последним.
Очнулся я в какой-то щели. Ныла спекшаяся ссадина на скуле, и мерзла непокрытая голова. В затылке была разлита тягучая боль. Перед глазами снова встал желтый всплеск разрыва и бездонная, темная яма, куда я невыносимо долго падал...
Над головой сияло солнце, разливая мягко притененный облаками ровный свет. Где-то капала вода. Крупная щебенка противно скрипела при каждом движении.
Шинель была разорвана, в нагане осталось три патрона.
Я был уверен, что цепи автоматчиков и патрули прочесывают местность, чтобы взять в плен тех, кто уцелел. Торопливо опорожнил карманы. Порвал письма из дому, фотокарточки, какую-то завалявшуюся справку о денежном довольствии. Достал комсомольский билет, сколупнул травинку, прилипшую к обложке, перелистал страницы и ужаснулся, что не заплачены членские взносы за июнь.
Билет я положил в нагрудный карман. Туда, где под тканью гимнастерки неспокойно стучало сердце. Его остановит, пробив комсомольский билет, моя последняя пуля.
Потом выбрался из щели и лег за валун, сжав шероховатую рукоять нагана. Металл холодил руку, тяжесть оружия успокаивала, выгоняла страх.
Вокруг стояла тишина. Звон падающих в камнях капель был монотонен и тягостно отчетлив. Над сопками катилось по извечному пути, не потревоженное войной солнце. К полуночи оно пройдет над морем, не коснувшись горизонта, и снова начнет подниматься, оглушая беспокойным светом полярного дня.
Выступ ближней скалы мерцал красноватыми изломами гнейса. Гривка березок в лощине зеленела, словно каждый листочек на ветках был вычищен и отполирован.
Осколок гранита жестко уткнулся в грудь. Я вывернул его из щебенки, собрал охапку вороничника и расположился поудобнее в ожидании последнего боя.
В суматохе потерялся поясной ремень. Без ремня я ощутил себя расхлестанным, как солдат, отправленный на гауптвахту.
У лица настойчиво вился и попискивал одинокий тощий комарик, видно не попробовавший еще живой крови...
Меня сморил сон. Сколько я проспал, сутки или два часа, сообразить не мог. Небо затянули низкие плотные облака. В камнях посвистывала морянка, трепала березы, колыхала осоку на болоте.
Немцев не было. Только тут я сообразил, что егерям ни к чему прочесывать сопки. Тех, кто уцелел после боя у озера Куэсме-Ярви, они просто оставили умирать в пустых холодных камнях.
На севере и на востоке погрохотывала стрельба. На западе лежала чужая земля. Поэтому я пошел на юг.
Взобрался на гранитную хребтину голой, просвистанной ветром сопки, долго глядел вокруг и ничего не высмотрел. Спустился, прошел кочковатой лощиной, запутался в каменной осыпи, огибал топкие болота...
Наконец увидел своего. Русского, живого. В грязной шинели, с винтовкой, с пузатым «сидором» на скрученных лямках, с котелком у пояса.
Я остановил его нацеленным наганом, приказал положить оружие, спросил часть.
Он назвал наш полк.
— Из нового пополнения я, товарищ лейтенант, — умоляющим голосом говорил красноармеец. — Всего неделю, как мобилизовали. Из местных я, из становища на побережье. Нас старшина Савченко в батальон привел...
Я поверил лишь тогда, когда красноармеец Шульгин сказал, что старшина первой роты Савченко в трудных случаях поминал не только бога, но и тот гвоздь, на который бог шапку вешает.
— Поступаете под мою команду!
— Слушаюсь, товарищ лейтенант, — облегченно сказал Шульгин и вытер пилоткой потное лицо. — Двое суток один по горам шастаю, сердце аж в трубочку свилось... Обрадовался, когда вас приметил... Вчера двоих наших у озера нашел. Рядком лежат, видно, одной очередью положило. Камнями прикрыл, чтобы песцы не попортили. Едой вот у них запасся, сухариками и табаком... Неладно, конечно, у мертвых отнимать, да делать нечего... Сплошали мы, товарищ лейтенант, на первый раз. Ничего, дай срок, все им, гадам, на бирку нарежем.
Шульгин уселся на камень, достал кисет и предложил мне закурить.
— Некурящий.
Я рассматривал так неожиданно появившегося подчиненного. Шульгину, большеголовому, с грузными, покатыми плечами, было лет под тридцать. На безбровом лице — светлые глаза, рот прятался в рыжеватой обильной щетине. Цигарку Шульгин держал в горсти, прижав ее большим пальцем. Так привыкли курить те, кому доводится много быть на ветру.
Верхний крючок шинели Шульгин расстегнул, винтовку, как палку, положил поперек колен.
— Будем выходить из окружения, — сказал я. — От немцев мы оторвались. Теперь надо пробираться к своим. Думаю, идти недалеко.
— Смотря куда идти, товарищ лейтенант, — возразил Шульгин, аккуратно прислюнил окурок и спрятал его за отворот пилотки. — Если к морю пробираться, так километров тридцать, а на Мишуковскую дорогу совсем близко... Вон за той сопочкой, за горбатенькой...
Из его слов я понял, что мы находимся километрах в пяти от недостроенных дотов, где батальон принял бой. Значит, я без толку кружил сегодня по сопкам. Не я ушел от страшного озера Куэсме-Ярви, а фронт ушел от меня.
— Отправляйтесь на разведку, — приказал я Шульгину, — установите, где легче перейти Мишуковскую дорогу.
Когда Шульгин уходил, я велел ему оставить вещевой мешок — настороженность все еще не отпускала меня.
Шульгин снял мешок и ушел.
Я проверил его поклажу. В мешке лежала пара белья, полотенце, кусок мыла, соль в жестяной баночке и десяток винтовочных обойм.
Еще там были сухари. Крупные, в ладонь, ржаные армейские сухари, от одного вида которых у меня набежала слюна и утробно заурчало в животе.
Я съел сухарь, не удержавшись, второй и третий, напился воды и ощутил долгожданную сытость.
Шульгин вернулся быстро. Кисть руки у него была окровавлена, на прикладе винтовки белел сколок дерева.
— Докладывайте! — я оправил разодранную шинель и снова пожалел, что потерял поясной ремень со звездой на пряжке.
— Нечего докладывать, товарищ лейтенант... Охранение на сопках и патрули. Едва ноги унес... Не подойти к дороге.
— Надо было подойти, — жестко сказал я, — струсили, красноармеец Шульгин!
Шульгин исподлобья посмотрел на меня и недовольно засопел.
— На хрена нам дорога сдалась, — сказал он. — Все равно по ней к своим не добраться. Прихлопнут, как комаров.
— Отставить разговоры! — коротко, как бывало перед строем, оборвал я ненужные разглагольствования. — Дисциплину забывать стали!
— Пожуем, может, маленько? — не обращая никакого внимания на строгость моего тона, предложил Шульгин и потянулся к вещевому мешку. — Сухарик на двоих ликвидируем и заморим червячка.
У меня загорелись уши. Только тут дошел до моего сознания стыдный ужас того, что я сделал в отсутствие Шульгина.
— Рубай, я без тебя подзаправился, — грубовато, чтобы скрыть собственную растерянность, сказал я.
— То-то, гляжу, не по-моему завязка сделана... Много умяли? Шестнадцать сухарей было.
— Три, — у меня хватило сил признаться. — Считайте, что я свою норму на два дня вперед израсходовал... Немного пройдусь, посмотрю.
Когда я возвратился к приметной седловине с валуном, торчавшим на склоне, как каменный палец, Шульгин перекладывал мешок. Лицо его было сумрачным, на лбу шевелилась толстая складка.
— На чужое добро, лейтенант, нечего лапы расщеперивать, — сказал он. — Не положено в армии по мешкам шарить.
Наверное, человека нельзя обидеть сильнее, чем правдой. Кровь хлынула мне в лицо.
— Встать, товарищ боец!
Шульгин поднялся, косолапо расставив короткие ноги. Шинель его, неряшливо перепоясанная ремнем, комом собралась на животе. В углу рта чадил окурок. Махорочный дым попадал Шульгину в левый глаз. Он прижмурил его, а правым с нехорошей усмешкой смотрел на меня. Ну, что, мол, дальше?
Я не знал, что дальше. Я вдруг понял, что беспомощен перед этим человеком в солдатской шинели, неохотно поднявшимся по моей команде. Здесь, на склоне сопки, в тылу у немцев, ему нельзя было дать наряд, оставить без увольнительной, посадить на гауптвахту...
Я объявил Шульгину выговор перед строем.
Он обалдело моргнул редкими ресницами, пристроил за спиной вещевой мешок и взял винтовку.
— Провались ты к лешему, глупа голова, — сказал он мне и пошел вниз по каменной седловине.
— Стой! — крикнул я. — Приказываю остановиться, красноармеец Шульгин!
Шульгин не спеша спускался по склону, обходил валуны, прыгал по уступчикам, перебрался через расселину.
Он уходил, бросал командира, уносил винтовку и сухари. Он дезертировал, оставлял меня в сопках с тремя патронами в нагане, без продуктов, одного...
Все это вихрем пронеслось в голове. Но тогда я умел только командовать.
— Стой, стреляю! — заорал я и сунул руку в карман. — Честное слово, выстрелю!
Шульгин не остановился. Он лучше меня знал, что не хватит сил выстрелить в спину. Своему, русскому, чудом встреченному здесь, где до войны не ступала нога человека.
— Ну и катись! Ну и катись, сволота!.. Катись!..
Я беспомощно и жалко кричал это растерянное «Катись!», застрявшее в голове со времен мальчишеских ссор и одиноких обид, пока Шульгин не скрылся из виду. Глухое, неразборчивое эхо насмешливо откликалось мне.
Уткнув лицо в поднятый воротник, я сидел, привалившись к гранитной стенке, поросшей жесткими скорлупками лишаев. Низко плыли тучи. Они цеплялись за верхушки сопок, оставляя на скалах клочковатый туман. Кричала полярная сова. Громкое насмешливое кикиканье ее прерывалось угрюмым, пугающим «кр-р-рау». Крик бился о скалы и пропадал в них.
Ствол нагана смотрел с колен завораживающим черным зраком. В барабане латунной желтизной отливали орешки трех неизрасходованных патронов.
Я был пуст. Словно меня выжали, вывернули наизнанку и приткнули, как куклу, к каменной стенке сопки.
Поднял меня озноб. Промозглая сырость забралась под шинель. В плечо, в поясницу воткнулись тысячи иголок и обломились, оставив в теле леденящие острия. Ветер резал глаза, икры схватывали судороги.
Я побрел вниз, по седловине, по неровному гранитному склону, сам не зная куда иду. Больше всего мне тогда хотелось, чтобы наступил конец. Любой, черт возьми!..
У подножия сопки, у поворота в лощину, я увидел Шульгина. Он сидел возле куста полярных березок. У ног его едва приметно дымился костер.
Я подошел, присел на корточки и протянул к огню озябшие руки.
— Звать-то тебя как, лейтенант?
Я поднял голову. Шульгин спокойно смотрел на меня. В глазах его, в самых уголках, я ощутил жалостливую усмешку.
Я ответил, что зовут Вячеславом, и сообразил, что Шульгин ждал меня.
— Славка, значит, — уточнил он и сунул в костер пригоршню сухих веток. — А меня Матвеем... Матвей Викторович... А то «встать», «прекратить»... С одной стороны, конечно, понятно, а с другой — чего шуметь без толку. Видишь, в какой переплет попали... Разве думалось, что так повернется... Ничего, остер топор, да и сук зубаст. Не сломали еще нам хребет... Шинель-то сыми, высушить надо, а то ночью до смерти заколеешь. Поболе бы огонек наладить, да ведь эти паразиты узреть могут. Ничего, пока маленьким обойдемся. Битую-то морду задирать негоже.
Когда я обсушился, Шульгин дал мне кружку кипятку, четверть сухаря, и мы обсудили наше положение.
— Мишуковскую дорогу можно перескочить, — сказал Матвей. — Я сегодня опять к ней приглядывался. Тогда к морю выйдем. Там становища, места обжитые. Только ведь наверняка гитлеровцы их заполонили. Позаримся, а как бы на беду не наскочить.
Я предложил уходить на юг. Там стрельбы не слышно, там наверняка можно выбраться к своим.
— На юг? — переспросил Матвей и поскреб ногтем подбородок. — Дак там ведь тундра.
— Ну и что? — возразил я, хотя тундру знал лишь по учебникам географии. На картинках она была плоской, как стол, и представлялась мне, городскому мальчишке, удобной для пешей ходьбы.
— А то, что тундра... Не осилить ее, проклятую, с таким запасом. — Шульгин тряхнул вещевой мешок. — Двенадцать сухарей на двоих...
Я не стал приказывать. Уловив неуверенность в голосе Матвея, я стал убеждать его идти на юг. Кидал ему вытверженные мною по учебникам правила военной тактики, говорил о маневренности войск, о закономерностях развития наступательных операций и о прочих, бесполезных сейчас для нас истинах. Я напомнил Шульгину о воинском долге, присяге, о моем командирском звании.
— Ладно, — согласился Матвей. — Что на север, что на юг — один хрен без покрышки. Летом везде дороги торны, а тундра тоже земля. Лопари вон по ней не одну тыщу лет ходят.
Он расчетливыми затяжками дососал окурок.
— Оставаться здесь все равно нельзя... Махнем на юг километров пятьдесят, а там повернем к Туломе. Может, и впрямь к своим доберемся. Чем черт не балует, когда бог спит.
Ночь мы провели, забившись в заросли полярных березок. Кривых, изувеченных ветром, с крохотными зазубренными листочками, похожими на зеленые гривенники. Было холодно и сыро. Морянка принесла скользкую замочь. Набухшие водой облака безостановочно сыпали дождь. Мы ворочались без сна и жались друг к другу, чтобы хоть чуточку согреться.
Ритмично постукивали колеса, плавно покачивался вагон с ковровой дорожкой в коридоре, с репродукторами и розетками для электробритв. Девушки-проводницы звенели посудой, готовили чай. Бегал мимо купе щекастый белоголовый трехлетний карапуз с нестерпимо синими глазами. Студенты-практиканты говорили о сейсморазведке. Они ехали на базу геологической партии, расположенную, как я понял, в Туломской тундре. Туда же держали путь две независимые, перезрелого возраста девицы в тесных джинсах и обтягивающих кофточках — ботаники, таксаторы оленьих пастбищ.
Я курил и смотрел на тундру. Кочковатая, рыжая, как линяющий песец, равнина ее была пересечена рогатыми мачтами высоковольтной линии, уходящей к горизонту. Там, отчетливо видные, дымили трубы. То подступая к полотну железной дороги, то убегая от него, тянулась светло-серая лента шоссе. По тропинке катили на велосипедах и мотоциклах рыбаки со связками удочек, пристроенных к багажникам.
Без усилий, удобно и быстро мчался я теперь по злой, комариной тундре, до лютости изматывающей человека за полдня пути...
Мы шли шестой день. Сопки остались позади. Теперь нас окружала равнина. Плоская, как стол, негде зацепиться глазу. Она вовсе не походила на городскую площадь, удобную для пешей ходьбы, как мне представлялось по картинкам из учебника географии.
Мы по колено вязли в липкой торфяной грязи. Рыхлые кочки ходуном ходили под ногами. Сизыми, недобрыми разводами стоялой воды были затянуты болота. На дне их таилась мерзлотина, прорезанная ключевыми ямами. В промоинах тундровых ручьев, оставшихся от недавнего половодья, приходилось барахтаться в раскисшей глине и на карачках выползать к сухому месту.
Разлившиеся озерины, озерки и лужи заставляли петлять, делать пятикилометровые обходы там, где напрямик не набралось бы и полкилометра.
Ни тропинки, ни человеческого следа. На ягельниках лежали отмытые дождями черепа оленей. Острые, как пики, наконечники сброшенных рогов предательски прятались в кочках. Пищали остромордые лемминги, потревоженные в норах, скалили зубы. Простуженно и трусливо лаяли издали мышкующие песцы.
Звоном звенели, огнем жгли комары. Они плыли за нами, как серый чад. Забивались в рот, в нос, в уши, едко липли к глазам. Я по-бабьи обвязал голову рубахой, обмотал руки лоскутами шинельной подкладки, но спастись, укрыться от этих кровососов было невозможно.
Я шел за Матвеем след в след. Видел его сутуловатую спину, покатые плечи, хлястик, держащийся на одной пуговице, вещевой мешок, заляпанный бурой грязью. Видел его раскисшие ботинки, косолапо приминающие мох. При каждом шаге в них чавкало и сквозь дыры на сгибах выбрызгивалась вода.
Как Матвей угадывал направление, моему уму было непостижимо. Мы кружили, петляли, забирали то в одну сторону, то в другую, но упрямо шли на юг.
Последний сухарь был съеден. Мы глотали прошлогоднюю кислую, как уксус, бруснику, грызли зеленые ягоды вороничника, сосали мох. Несколько раз Матвей пытался подстрелить песца. Передергивая затвор, жег обойму за обоймой, но винтовка дрожала в руках, и песцы уходили от выстрелов.
Мощный электровоз голосисто покрикивал на поворотах. Рыжее солнце заливало светом бескрайнюю тундру, лобастые граниты, выпирающие из-под торфа, блюдечки озер, светлые, как ребячьи глаза. На взлобках, на теплом припеке, в затишке от ветра цвели полярные маки. Фиолетовые табунки камнеломок теснились среди каменных россыпей.
Шоссе, прорезавшее тундру, сделало заворот и уткнулось в железную дорогу. У полосатого шлагбаума, помаргивающего красными огнями, выстроились машины. Самосвал, голубая «Волга», два новеньких «Москвича», панелевоз с квадратом бетонной стены, зеленый «Запорожец» последней модели.
— С никелевого на озеро подались, на пикник, — сказал рядом со мной студент-геолог.
— Сейчас хариусы хорошо берут, самый клев, — откликнулся его попутчик. — Наши тоже, наверное, на Тулому убрели. Гошка Шаронов там все места знает... Пушица цветет... Красотища!
Цвела пушица. Белые пуховки причудливо изукрашивали землю, ожившую после полярной стужи. По моховым ложкам заросли пушицы были легки, как первая пороша. На берегах озер пушица сбилась в плотные клинья, подступающие к воде. Казалось, там сели на отдых стаи гусей после долгого перелета.
Ветер колыхал пушицу белопенными волнами, тормошил, прижимал к кочкам...
В справочнике я недавно прочитал, что пушица — это ландшафтное растение болот, род многолетних трав из семейства осоковых, что скотом она поедается неохотно.
Да, на вкус это «ландшафтное растение» весьма противно. Крохотные орешки, спрятанные в пуховках, горьки, как полынь, а жесткие стебли оставляют во рту ощущение разжеванного хозяйственного мыла. Лишь из корней и укороченных прикорневых листьев можно выжать капельку питательного сока, которую человек в состоянии проглотить на пустой желудок...
На привалах мы варили пушицу. Матвей собирал ее охапками, крошил ножом корни и листья, заливал водой. Тальник разгорался неохотно, дымил, разгоняя, нам на радость, комаров, затем на корявые ветки выползали красные языки пламени.
В котелке пушица густела, становилась скользкой, душно парной. Давясь от отвращения, я глотал варево, упивался его теплом и смотрел, как, истратив силы, затухает костер. Гаснут, подергиваются пеплом угольки, и на выжженной моховине остается серая, холодная горсть озолков.
Пустота в животе, казалось, засыпала. Голодные спазмы перестали выворачивать желудок, и во рту не набегала слюна. Голова сделалась высохшей, костяной, и внутри что-то временами отчетливо попискивало, словно туда забрался комар.
Не помню, на которые сутки это случилось. При очередном шаге передо мной вздыбилась земля. Круглая лужа сжалась в ослепительную, больно ударившую по глазам точку. Затем точка взорвалась, небо стало темным и со скрежетом просыпалось на меня.
Очнулся я от толчков. Матвей стоял на коленях и тормошил меня за плечи.
— Слава, Славик! Товарищ лейтенант! Идти ведь надо...
Я ответил, что никуда не пойду.
— Притомился, — сипло сказал Матвей, поднял распухшее чугунное лицо и оглядел тундру тоскливыми глазами. — Ладно, передохнем маленько! Я ведь тоже ходули едва двигаю.
Он уселся на кочку и принялся сооружать цигарку из ягеля и табачных крошек.
В сером, осевшем небе кругами ходил сапсан, раскинув острые крылья. Я лежал и думал, что связываю Матвея Шульгина. Из-за меня, слюнтяя и недоноска, мужик погибнет в тундре. Из-за меня...
Негнущимися пальцами я медленно вытащил наган, сунул в рот холодное дуло и нажал спуск. Крутнулся барабан, щелкнул курок самовзвода, ударил острием по капсюлю. Раз... второй... Выстрела не было. Патроны отсырели в болотине, ими я уже никого не мог убить.
Шульгин оказался рядом, ногой вышиб оружие.
— Ты что удумал, зараза! — он тряханул меня так, что голова мотнулась из стороны в сторону. — Жизни себя лишить! Еще кубики нацепил, командир взвода... Вша рыбья! И так по этой болотине ползем, как слепые котята, так он еще придумал клевать в больное темечко, паразит!..
Матвей ругал меня исступленно, нескладно и зло, выливая ожесточение, накопившееся в душе.
Я равнодушно, устало слушал. Сапсан ходил над тундрой, то приближаясь к нам, то отваливая в сторону. Наверное, он чуял поживу и терпеливо ждал, когда можно будет ударить клювом.
— Встать! — крикнул Шульгин. — Приказываю встать, товарищ лейтенант!
Я закрыл глаза и поморщился от нелепой команды рядового красноармейца. Встать я не мог. У меня не было ни сил, ни желания. Воля моя сломалась, хрустнула, как стебелек вороничника под сапогом. Матвей рассвирепел:
— Да поднимайся ты, кисла образина! Навалился на мою шею. Думаешь, цацкаться с тобой буду!.. Ну!
Он перехватил винтовку, вскинул над моей головой приклад и остальное досказал бешеными глазами:
— Ну!
Распухшая щека его дернулась. Приклад угрожающе качнулся надо мной. Я закрыл глаза...
— Славик! — голос Шульгина вдруг сорвался на хриплый, просящий шепот. — Давай дак не фасонь... Идти ведь надо.
Матвей уговаривал меня, подбадривал, помог сесть, разжег костер, насобирал мне пригоршню незрелой морошки.
— Идти надо, Слава. Тулома уже близко... Я сегодня вдали лесок приметил. Раз лесок, значит, и река там.
— Ты иди, Матвей, — сказал я. — Иди один.
— Дурачина ты, — с расстановкой произнес Шульгин, вскинул винтовку и ударил по сапсану, отгоняя его прочь. — Оглупел, что ль, совсем?.. Пойми, парень, не могу я тебя здесь кинуть. Если ты не поднимешься, значит, мне доля рядом с тобой подыхать... Вот ведь какая закавыка, товарищ лейтенант.
«Закавыка», — испуганно отдалось в моей голове. Наверное, поэтому в тот день я заставил себя встать, и мы снова побрели по тундре.
Остальное перепуталось. В памяти сохранились лишь бессвязные обрывки. Мы выбирались из промоины, и мне никак не удавалось зацепиться за валун... Помню тяжелое, с присвистом, дыхание Матвея... Жесткий палец, засовывающий мне в рот разжеванную пушицу.
Помню себя на закорках. Перехлестнутые ремни режут спину, шея ломается, не держит голову. Подбородок при каждом шаге тыкается в колючий, залубеневший от сырости воротник...
Я курил сигарету за сигаретой и смотрел в вагонное окно на пушицу, упрямо цветущую в тундре.
Все-таки мы тогда одолели ее. На одиннадцатый день нас увидели пастухи-саами, уводившие стада от границы к Ловозеру.
Сейчас я рылся в памяти и не мог сравнить ни с чем из прожитых послевоенных лет те одиннадцать июльских далеких дней.
Думал о Матвее Шульгине. В жизни человека случаются такие минуты, когда он приподнимается над обыденным и делает то, что с расстояния времени именуют подвигом. Еще я думал о трех сухарях, съеденных тем самодовольным лейтенантиком...
Война не кончилась в день победы. Мы носим ее в себе. От памяти не уйдешь, не вытравишь временем воспоминания, не прогонишь их.
Они полощутся на земле огнями газовых горелок у могил неизвестных солдат, хватают скорбью безымянных прямоугольников могил Пискаревского кладбища, смотрят на дороги гранитными обелисками, пристально вглядываются с пожелтевших довоенных фотографий...
После войны я долго разыскивал Матвея Шульгина. Два года назад, когда перестал искать, я встретил его в сутолоке столичного вокзала.
Ко мне подошел большеголовый усатый дядечка в кашемировом макинтоше и зеленой велюровой шляпе. Лицо его от виска к щеке было изуродовано бугристым шрамом. Он несмело поздоровался. Я посмотрел на него недоуменными глазами.
— Не признаете? — смутился дядечка. — Извините в таком случае. Выходит, обознался...
Он пошел прочь, знакомо ссутулив покатые плечи.
— Шульгин! — заорал я и кинулся вдогонку. — Матвей!
Я заставил его сделать остановку и затащил к себе.
— Напоследок меня под Прагой зацепило, — рассказывал Матвей про свою войну. — Рядышком мина плюхнулась и из меня, считай, решето сделала. В госпитале доктора перепугались. Только я решил, что после войны помирать резону нет... Сам уж не знаю как, а выполз с того света на нынешний.
Матвей отхлебнул глоток вина.
— Кисленьким все пробавляетесь, городские... У нас мужики уважают под железной пробкой... Побегали со мной напоследок врачи и сестрички, помытарились...
С войны Матвей привез полдесятка наград, обкуренные усы, шматок сала, сэкономленный на пайках, и крохотный осколок мины, застрявший возле аорты.
— Вырезать в госпитале хотели, не дал. Когда воевал, вроде пугаться времени не было, а тут, прямо тебе сказать, Вячеслав Иванович, страх меня взял. Вот так с немецким гостинцем и проживаю.
Из-за осколка Матвей был на инвалидности, получал пенсию и работал на легкой работе — кладовщиком в рыбацком колхозе.
— Справно живу, — рассказывал он. — Ребята на ноги встали. Трое у меня, два мужика и дочка. Алексей уже женатый, капитан дальнего плавания, этот год в Индию ходил. Саня, тот на апатитовом руднике, а Люся, младшая, в десятый класс пойдет... Дом недавно новый отгрохал, четыре окошка по лицу. Приезжай в гости, Вячеслав Иванович. Ты ведь мне вроде крестника...
Слишком долго я собирался в гости.
В Кожму я приехал попутным катером. День был теплый и тихий, редкий для этих северных мест.
Село лежало в распадке между сопками на берегу порожистой реки. Вода в ней была прозрачна до изумления. В заводях, прогретых солнцем, метались стайки молоди. Босоногие рыболовы, как кулички, застыли с удочками на прибрежных валунах.
Мне показали новый дом с четырьмя окнами по фасаду, с высоким крыльцом и узорчатыми голубыми наличниками.
У крыльца толклось с десяток горестных, повязанных черными платками старух, ощупавших меня любопытными взглядами.
Третий раз я встретился с Матвеем Шульгиным.
Он лежал в просторном гробу, поставленном на облезлые кухонные табуретки посреди комнаты. После смерти он не вытянулся, был так же коротконог, широк в кости. Прядка пепельных мертвых волос старательно расчесана. Нос заострился, обкуренные усы колюче топорщились. В глазницах лежали успокоенные тени.
В ногах Матвея я увидел деньги. Двугривенные, полтинники, мятые рубли и единственную зеленую трешницу. Старый и стыдный обычай. Каждому, кто приходил проститься, полагалось положить деньги в гроб.
Я должен был положить в ноги Матвею Шульгину все, что имел, и этого оказалось бы мало...
Подушечка, наскоро сметанная из бархатного лоскутка, лежала в изголовье гроба. На ней тускло блестела рубиновая Красная Звезда, орден Славы с залоснившейся муаровой ленточкой, пожелтевшие латунные кружочки «За оборону» — Заполярье, Ленинград, Москва...
Ко мне подошли двое. Я узнал — сыновья Матвея. Старший, с золотыми капитанскими шевронами на рукаве кителя, такой же, как отец, коротконогий и плотно сбитый. Младший, в отлично сшитом костюме из темного крепа, смахивал больше на мать коротким носом и угловатыми скулами. Лица их были напряженными, в светло-ледянистых глазах затаилась боль.
Я сел у гроба.
В комнату входили люди. Вздыхали, иногда крестились. Звенели мелочью, шуршали рублями — клали в гроб деньги. Старуха с розовым лицом и твердыми бескровными губами, наверное родственница Матвея, разорвала душную тишину визгливым воплем:
Ненаглядный ты наш Матвеюшка,
Ждет тебя избушка небелена,
Жито сжато недоспелое!..
Капитан, побледнев, смотрел на нее, под бронзовой, обветренной кожей на его лице перекатывались желваки.
К счастью, причитания розоволикой старухи продолжались недолго. Минут через десять она кинула покойнику юбилейный рубль, сморкнулась и осведомилась шепотом:
— Выносить-то когда будут? Мне еще поросенка надо кормить...
В комнате было сумрачно, тесно и жарко. У стены стояли венки с бумажными цветочками, с непривычно широкими, как морские вымпелы, лентами. От родных, от правления колхоза, от сельского Совета, от друзей, от кого-то еще.
К дому подходил и подходил народ.
Я вышел из комнаты. Близко раскинулось море. Светлое у берега, оно уходило вдаль, постепенно темнея. Горизонт был отчеркнут фиолетовой нитью, и непонятно — кончалась ли там вода или начиналось небо. Медленные облака, похожие на белопарусные корабли, плыли в блеклой голубизне. На берег набегали утихомиренные волны, негромко шуршали окатышами гальки, расстилали по песчаным отмелям воду и хлюпали, всплескивая, бурунчики у свай колхозной пристани. Чайки плавали на раскинутых крыльях, падали с высоты, беззвучно пробивая море.
На сопках, утыканных щетиной темных сосен, лежали языки нестаявшего снега, и в них полыхало солнце. Расселины были задернуты голубыми дымками. У подножия кудрявились полярные березы.
В низине за рекой цвела пушица, расходилась белоголовыми волнами, кланялась, чуткая, неслышному ветру.
Гроб несли на руках. Грузно покачиваясь, он плыл в воздухе.
За гробом, ухватив друг друга за руки, шли сыновья Матвея Шульгина. Сутулили, как отец, плечи и твердо, на всю ступню, ставили на каменистую землю крупные ноги. Шла заплаканная дочь в зеленом блестящем плаще. Размашисто вышагивала жена.
Розоволикая старуха, натянувшая для тепла поверх кофточки мужской пиджак, наверное, успела покормить поросенка. Причитала она охотно, заливисто и многоречиво...
Потом о крышку гроба ударились горсти щебенки, и на земле прибавилась еще одна солдатская могила.
— Считалось, что он на легкой работе, — рассказывала мне на другой день жена Матвея, ненужно перебирая какую-то линялую тесемку. — Так это вообще считается, а на деле ведь все от человека зависит. Иной и тяжелую работу на легкую перевернет, а у Матвея другой характер-то был... Кладовщик, а сам и ящики ворочал, и бочки катал, и трос целыми бухтами... Заругаюсь на него, а он одно — не шуми, мать... Теперь уже отшумелась.
Она гортанно всхлипнула, вытерла выкатившуюся слезу и продолжала:
— В тот день привезли бочки с соляркой для дизеля. Когда третью бочку на пристань поднимали, тали заклинило. Бочка-то и стала из стропов вылезать. Мужики ах, да руками мах, а Матвей плечо подставил. Бочка в море ухнула, и он на доски пал, горлом кровь пошла... Врач мне потом объяснял, что от напряжения ему тот осколок сердечную жилу разорвал... День прожил. В памяти все время был. Наказал вот вам телеграмму отбить. Не мог уж у смертушки из лап боле вырваться...
Она уронила на стол седую голову. Волосы рассыпались по клеенке с аляповатыми розочками. Плакала она долго, беззвучно, для себя.
Я вышел из дому. Возле сарая Алексей, скинув капитанский китель, колол дрова. За оградой возле бревенчатой двухэтажной школы с просторными окнами ребята азартно гоняли футбольный мяч. У пристани негромко постукивал моторный бот. Сизые колечки дыма выплескивались из трубы и таяли в воздухе. На бот грузили сети.
РАЗДУМЬЯ НАД ЖАНРОМ
В Нью-Йорке, на одной из центральных улиц, неподалеку от того места, где есть пост полиции, и на той улице, по которой постоянно курсируют «плимуты» ФБР, была убита женщина. В самом факте уличного убийства не было ничего необычного: каждые двенадцать секунд в США происходит нападение на женщину. Удивительным было другое — тридцать восемь человек в течение более чем получаса спокойно созерцали из окон своих квартир, как у них на глазах у б и в а л и.
Она лежала на асфальте, истекая кровью, когда убийца вернулся, чтобы добить ее. Тридцать восемь человек из окон домов смотрели, как он это делал, — спокойно, размеренно, не торопясь. Она кричала: «Спасите!» Но никто не вышел, чтобы спасти ее. Никто даже не крикнул из окна. Не нашлось ни одного человека, который хотя бы позвонил в полицию. Они просто смотрели: им было интересно. Тридцать восемь человек смотрели, как у них на глазах убивают женщину.
Когда потом на место происшествия приехали репортеры и социологи, они стали расспрашивать тех, кто наблюдал преступление, почему они не вмешались, почему ничего не предприняли, и слышали в ответ:
— Не знаю.
— Я очень устал.
— Мне не хотелось, чтобы муж ввязывался в это.
— Я не хотел вмешиваться.
Эпизод этот свидетельствует не только о чудовищном росте преступности на Западе, но и о массовом распространении всеобщего равнодушия и апатии, столь свойственной самой идеологии капитализма, то есть идеологии разобщенности, маленького, личного интереса, всеобщей некоммуникабельности.
Один из основных тезисов, высказывавшихся в этой связи, сводился к тому, что средства массовой информации — буржуазное телевидение, кинематограф, литература — превращают миллионы людей из «деятелей», «творцов» в пассивных созерцателей происходящего. Одним из главных «методов», с помощью которых з л о возводится в степень привычного, типического, прогрессивные социологи Запада называют в первую очередь детективы всякого рода «Джеймсов Бондов» — насильников, ницшеанствующих сверхлюдей, злобных врагов разума, добра, человечности. Привычка к насилиям на страницах такого рода детективов, на экранах ТВ и кинематографа делает как бы не воспринимаемым, не событийным, — п р и в ы ч н ы м — реальное насилие, происходящее на глазах человека.
И тут возникает вопрос о некоей пропорции в «двух планах бытия»: повседневной реальности, окружающей каждого, и «созданного» мира, встающего со страниц книг. Как считают некоторые исследователи, этот второй, «призрачный» мир, призван не только потеснить реальный мир обыденного человека, но и, в известной мере, стать доминирующим в его сознании. Причем речь идет не просто о неких эталонах, нормах поведения и представлениях, навязываемых читателю со страниц книг или с голубого экрана. Речь идет о большем. Несколько лет назад в научно-фантастических произведениях англо-американских авторов прошла тема такого, с позволения сказать, будущего, в котором обитатели его существуют, любят, мечтают, веселятся, работают — только ради того, чтобы погрузиться в эфорейный мир сюжетных грез, фабрикуемых для них «совершенными» средствами массовых коммуникаций. Реальность повседневности — лишь прискорбная плата за радость уйти от нее.
Социальный смысл этих «антиутопий» понятен. Это своего рода предупреждение, знак тревоги: вот к чему может привести людей «наркотизирование» общественного сознания.
Впрочем, дело обстояло бы чрезвычайно просто, если бы смысл приключенческой литературы (в западном ее варианте) исчерпывался схемой, приводимой выше. Жизнь, как известно, сложнее любых схем и формул; соответственно — и литература, как проявление и преломление жизни.
«Эталонность» приключенческого героя — явление в определенной мере закономерное и повсеместное. Иногда, впрочем, принимающее забавные формы. Некоторое время назад по экранам Запада прошел американский фильм «Бони и Клайд». У главного героя, Клайда, была привычка — время от времени брать в зубы спичку и задумчиво жевать ее — режиссерская или актерская индивидуальная деталь. На следующий же день после выхода фильма в Париже, Лондоне и Стокгольме появились сотни молодых людей, которые держали спичку между зубами, принимаясь время от времени задумчиво жевать ее.
Каждому из них казалось, что, воспроизводя эту запомнившуюся деталь, он уподобляется Клайду во всем остальном спектре его качеств. Что он такой же смелый, решительный, такой же молодой и жестокий. И что, благодаря этой спичке между зубами, все остальные видят его таким.
Это стремление отождествить себя с тем или иным героем или литературным образом присуще многим: сознательно или неосознанно, в большей или меньшей степени. (Правда, отождествление это происходит сложнее, чем в случае с Клайдом.)
Социология считает, что каждый человек совмещает в себе множество ролей и функций. Будучи, скажем, инженером, человек в то же время является и отцом, и мужем, и братом, и соседом, а также автомобилистом, рыболовом, грибником или коллекционером. Для официанток он — клиент, для врача — больной, для коллег — товарищ.
Обычно роли эти последовательно сменяют друг друга. Вы присутствуете на собрании — здесь вы член профсоюза. Вернулись домой. Для вашей жены вы уже не член профсоюза, а муж. Соответственно, вы принимаете роль мужа. Затем выясняется, что вам нужно заглянуть за чем-либо в соседнюю квартиру. Входя в нее, вы оставляете за порогом все остальные свои роли. Здесь вы принимаете на себя роль соседа.
В сознании у каждого есть представление об идеальном воплощении каждой из ролей, которые он играет в жизни. Если член профсоюза — то инициативный, активный. Если муж — любящий, заботливый, верный. Если сосед — доброжелательный, готовый в любой миг прийти на помощь. Играя каждую из своих ролей, мы вольно или невольно всякий раз стараемся походить на идеальный образ, существующий в нашем сознании. Следовательно, у каждого из нас есть идеальный образ самого себя, образ мозаичный, которому мы пытаемся следовать и на который, как нам кажется временами, мы очень походим. Здесь-то и выявляется особо зримо ф а к т о р литературы, телевидения, киноискусства, театра.
Если просмотреть ретроспективно ряды героев советской литературы, начиная с персонажей Алексея Толстого, Леонида Леонова, Михаила Шолохова, Аркадия Гайдара и Исаака Бабеля, то мы легко можем найти и отделить те полосы жизни, когда мы играли в «парня из нашего города», в «краснодонских молодогвардейцев», в «романтиков» Паустовского, в «двух капитанов» или в «героев-астронавтов» И. Ефремова. Проанализировав те произведения советской литературы, которые выдержали проверку временем, лишний раз убеждаешься в закономерности классового характера общественного сознания, который всегда находит проявление в литературе.
Каков, например, идеал, каков герой приключенческой литературы того периода развития капиталистической формации, который называют периодом накопления, периодом феерических финансовых карьер и взлетов? Это герой, который в итоге всех своих похождений и приключений приходит к одному итогу — он становится миллионером. Это устремление, незримо тяготеющее над общественным сознанием. И через него — над литературой. Такую формулу жизненного успеха, воплощенную в сюжетный ход, мы находим, пожалуй, у всех, кто стоит в первом ряду представителей этой литературы — от Стивенсона до Хаггарда, от Коллинза до Марка Твена. Если Шерлок Холмс и составляет известное исключение из этого ряда, то только на первый взгляд. Действительно, в итоге всего, что он делает, он не достигает богатства — но только по той причине, что он и так состоятелен и респектабелен, то есть — в известном смысле — «примероподражателен» для обыденного буржуазного сознания.
Социальная среда и эпоха накладывают отпечаток на то, каким встает с книжных страниц литературный герой. Соответственно, литературному герою недостаточно быть всего лишь литературным героем, чтобы он стал явлением общественным. Социальные, этические, жизненные цели, которые он воплощает, должны быть созвучны нормам и внутреннему миру многомиллионных читателей.
Великие социальные изменения, происшедшие в нашей стране после Великой Октябрьской революции, произвели невиданный в истории человечества «переучет» системы этических ценностей, того, что принято обозначать словами «общественный идеал». Характерна динамика сдвигов общественного сознания в нашей стране: в 1920 году 17% молодых людей считали идеалом, на который они хотели бы походить, человека богатого, обеспеченного материально. В 1925 году доля таких молодых людей упала до 13,8%. А в 1967 году составляла всего 4,5%. Показательны в этом смысле и результаты одного из опросов, проведенных недавно среди советской молодежи. Из 17 446 опрошенных о «жизненной цели» только 23 человека ответили: иметь много денег и проводить жизнь в развлечениях.
Громадное, исключительное большинство наших современников о своем жизненном идеале ответили великолепно: созидать, преобразовывать мир, прокладывать дороги в неведомое, отдавать себя людям — товарищам и друзьям в борьбе за великие идеалы социализма.
Всякий непредубежденный читатель сделает вывод, что распределение этических предпочтений среди нашей молодежи — налицо. Представляет интерес, однако (как социальный, так и литературный), не только большинство, но и меньшинство, которое тоже нужно уметь понять — хотя бы для того, чтобы воздействовать на него и за него бороться. Как же представляет себе свой жизненный идеал это меньшинство?
Вот слова девятнадцатилетней студентки из Москвы, написанные ею на вопрос одной из анкет — о смысле жизни:
«Раньше, когда я еще плохо знала жизнь, у меня еще была цель, я стремилась учиться, окончила школу, сейчас в институте. Но теперь все мои «чистенькие мысли» свелись к одному — к деньгам. Деньги — это все: роскошь и благополучие, любовь и счастье».
Так же примерно смотрит на жизнь и студентка Н. из г. Жуковского. Ее цель — «удачно выйти замуж, одеваться по моде, уметь модно танцевать». Но, сформулировав так цель своей жизненной мечты, она вдруг делает приписку:
«Я знаю, что мой ответ будет белой вороной среди остальных».
Оговорка неожиданная, но при всем при том весьма справедливая.
Говоря об общественном, а следовательно, и о литературном герое советской молодежи, следует привести еще одно немаловажное свидетельство. Группа социологов обратилась к молодым людям с вопросом: «Кто из близких или знакомых является для вас примером для подражания?» Более восьмидесяти процентов опрошенных назвали отца и мать — людей, прошедших фронты Великой Отечественной войны, поднявших из руин нашу страну, создававших и создающих ныне новые города, заводы, трассы. Преемственность жизненных идеалов старшего поколения находит отражение, в частности, и в отношении нашей молодежи к литературным героям минувших лет. Речь идет не только о ранних произведениях советских писателей, на которых выросло не одно поколение, но и о созданных в последние годы, однако посвященных тому героическому времени, которое для нынешней молодежи является Великой Историей.
(То поколение нашей страны, которое играло «в Чапаева», давно уже выросло, стало отцами, а то и дедами. Но, обращаясь назад, интересно вспомнить, как пришел в свое время Чапаев в наши довоенные дворы и улицы. Весьма многозначительно, что он пришел не столько из учебников истории, сколько со страниц книги Фурманова и фильма братьев Васильевых. Образ героя произведения, войдя в сознание миллионов подростков, превратился в образец, которому подражали.)
Любой пример неправомочен в том смысле, что он как бы выдергивается из целого. Можно было бы привести в пример повести и романы, ставшие своего рода классикой литературы приключения: каждый знает «Рассказы о первом чекисте», «Я отвечаю за все», «Старую крепость», «Земля, до востребования», «Кортик», «В августе сорок четвертого», «Испытательный срок», «Жестокость», «Крах», «Два капитана», «Деревенский детектив», «Дело пестрых», «Тревожный месяц вересень».
Что же есть главное, определяющее советскую приключенческую классику? Главное — это верность ее героев Родине, гуманизм идеалов, которым они служат, честность, доброта, справедливость, высокий интеллектуализм при бескомпромиссной позиции в схватке с общественным злом, преемственность жизненных стереотипов, общность этических и идейных установок: — от дедов к сыновьям и внукам.
Мы говорили о «классических» героях приключенческой литературы, созданной на Западе, о том, что цепь приключений с неизбежной последовательностью всякий раз приводит героя к главной цели его жизни, к богатству. В какие бы внешние атрибуты сюжета ни облекалось это — находка сокровища, брак с богатой девушкой, ограбление, неожиданное наследство. Если взглянуть с этих позиций на героев советской приключенческой литературы, мы обнаружим показательный контраст. Конечная цель, конечный результат, конечный итог всех действий героя советской приключенческой литературы лежит совершенно в ином общественном, социальном и личном плане. Это не богатство, не миллион, не сундук с сокровищами, а нравственный взлет. Это относится даже к тем ситуациям, когда формально, внешне объектом борьбы, объектом схватки становится некая материальная ценность.
На наш взгляд, это и есть одна из важнейших этических деталей в характеристике героя советского приключенческого жанра — такая деталь, которая резко отличает его от супермена, действующего в условиях иных этических норм капиталистического мира. Обстоятельство это до сих пор не привлекло внимания нашей критики; по этому поводу ею еще не было сказано своего веского слова.
Почему же получилось так, что штрих этот оказался мало освещенным литературоведами? Очевидно, положение это представляется всем настолько естественным и привычным, что оно попросту не привлекает к себе внимания. (Можно провести параллель: в прошлом веке первопроходцы далеких континентов отмечали любопытную деталь: коренное население африканского континента до того, как увидело первых европейских путешественников, не задумывалось о собственной внешности, цвете кожи и т. д.) Традиционное «нестяжательство» героя советской литературы, совпадая с контурами нашего общественного идеала, не привлекло к себе внимания, в то время как факт этот имеет огромное социальное значение, ибо свидетельствует о рождении новой человеческой формации — формации советской.
То, что конечным итогом борьбы героя оказывается не цель личного материального обладания, а цель нравственная, цель этическая, представляется иным критикам совершенно закономерным, ибо такова, собственно говоря, и есть цель, стоящая перед нашим обществом. Нельзя, однако, забывать, что такого рода герои были мало известны до революции или уж, во всяком случае, были сугубо нетипическими. Следует помнить и серьезно исследовать тот факт, что новый герой советской приключенческой литературы отражает глобальные идейные и этические характеристики эпохи и общества. В этом — в дополнение к художественному значению жанра — его социальное значение.
В современную эпоху, в эпоху радио, кино, телевидения, массовых тиражей книг увеличилась возможность привносить в массовое сознание те или иные этические нормы, олицетворением которых выступают литературные герои, что, естественно, повышает роль и ответственность тех, кто формирует эти эталоны — советских писателей, режиссеров, актеров.
Следует как зеницу ока хранить главное завоевание нашей литературы — ее коммунистическую партийность, высокий гуманизм.
Каждая книга советского писателя — работающего в любом жанре — это схватка с идейным противником, это борьба за наш нравственный идеал.
...Понятно, что герою, в силу «сюжетного равновесия», обязательно противостоит некий антигерой. Стремясь к максимальной полноте и достоверности изображения, автор не может рисовать его только черной краской — иначе получится гротеск, опереточный персонаж, недостоверный образ, в который никто не поверит. Но когда писателю удается воссоздать «человеческое лицо» своего антигероя в полной мере, нередко оказывается, что лицо это (при поверхностном прочтении) чем-то даже симпатично.
Здесь-то и сокрыт парадокс, некий особый парадокс антигероя.
Отрицательный герой, будучи изображен одной краской, как некое средоточие зла и пороков, — недостоверен, плоскостей и худосочен. Но едва автор пытается изобразить его в некоей полноте человеческих черт, как в портрете его начинают проскальзывать штрихи, вызывающие если не симпатию, то сочувствие, а сие отрицательному герою прямо противопоказано, ибо наше отношение к персонажу — есть бескомпромиссное отношение к тому началу, которое им олицетворяется.
Об этой проблеме стоит поразмышлять, ибо явления не всегда можно расположить линейно, нанизав их на веревочку, один конец которой отмечен знаком плюс, а другой знаком минус.
Парадокс отрицательного героя должен решаться не по упрощенной линейной схеме, а в той объемной социальной реальности, в которой мы живем. Что это значит? Это значит, что зло, олицетворением которого выступает данный индивид или антигерой, не с него лично начинается и не им кончается. Несправедливость, насилие, ложь — различные формы индивидуального и социального зла — всегда бывают порождены большими реальностями, чем данная конкретная личность. И Гобсек и Растиньяк в равной мере и порождения и жертвы своей эпохи, классовых обстоятельств.
Классовый подход предполагает умение видеть в отрицательных персонажах не просто «индивидуальное злодейство», а усматривать проявление определенных социальных закономерностей. При таком подходе, при таком взгляде происходит расчленение между «собственно злом» и тем, кто в силу социальных обстоятельств оказался его носителем. Тогда человеческие черты данного индивида, понимание и даже приятие этих черт не исключает нашего неприятия самого зла, а, наоборот, еще более усиливают это неприятие. Отсюда следует, что антигерой имеет право на изображение не только по реестру своих отрицательных черт, ибо мошенник (Остап Бендер) может быть милым человеком; жулик («Динара с дырками» Льва Шейнина) обладать чувством юмора, а бандит (Лазарь Баукин П. Нилина) горячо и искренне любить свою мать. Это имеет место в жизни, и нет причин, чтобы это не имело места в литературе.
Естественно, такой уровень художественного отображения действительности требует большой меры таланта.
Мы живем в особое время. Поразительная по своему размаху научно-техническая революция в нашей стране, как прямое следствие всей героической истории нашего государства — и на полях битв и в годы пятилеток — породила и порождает ежечасно нового читателя. Ни в одной стране мира нет такого количества учащихся, как в Советском Союзе, ни в одной стране мира нет такой огромной сети библиотек и жажды к чтению. Читатель у нас требовательный, очень умный и много знающий. Поэтому невероятно высока ныне требовательность к писателю: ему много дано, но, соответственно, многое с него и спросится. Одна из главных опасностей, подстерегающих литератора, работающего в жанре детектива, заключается в том, что он отстанет от уровня новых знаний, от развития науки.
А ведь научно-техническая революция вносит интереснейшие нюансы и в область детективно-криминалистического жанра.
...Задумываясь о продолжительности жизни жанра, логично задаться вопросом более частным: сколько живет произведение? А. П. Чехов полагал — то, что он пишет, едва ли проживет более десяти лет. Уже в наше время С. Моэм отмечал, что средняя жизнь романа равна девяноста дням. Справедливости ради, можно заметить, что есть произведения, жизнь которых определяется и меньшими сроками. Правда, это не те произведения, о которых хотелось бы говорить на этих страницах. Но, если говорить о том, сколько живет отдельное произведение — закономерно, то, очевидно, закономерно задаться таким же вопросом о жанре в целом. Если говорить о детективно-криминальной литературе, то ведь, как явствует из истории, правонарушения и преступления были всегда. Однако литература, отражающая это явление общественной жизни, литература детективная, возникла относительно недавно. Поединок сыщика и преступника (или судьи и преступника) в течение тысячелетий истории не становился объектом внимания литературы. «Плутовской роман» при этом можно не принимать в расчет. Только пробуждение общественного интереса к данному срезу жизни вызвало появление того, что мы называем детективной литературой. Спрашивается, сколь устойчив может быть этот интерес? Иными словами, всегда ли читателю будет интересно: кто украл и когда же его поймают?
Что питает детективный жанр в сюжетном смысле? Преступление. Но тогда по мере дальнейшего развития нашего общества, по мере его приближения к Коммунистическому Завтра, преступление как социальное явление будет все больше и больше сходить на нет. Соответственно пропадет и сама нить реальности, питающей данный жанр. Некие признаки этого оптимистического процесса просматриваются уже сейчас. Поэтому, когда читаешь какую-нибудь ремесленно «сляпанную» книгу, становится неинтересно, глубоко безразлично, кто совершил это зло и каким образом будет он, наконец, изловлен. Что-то в самом читателе отвергает уже игрища лукавства и злодейств.
Речь идет, однако, отнюдь не об исчезновении жанра — пусть даже в самом отдаленном будущем. Речь идет о том, что на смену традиционному противоборствованию «сыщика» и «преступника» придут и уже приходят в литературу иные, пожалуй, значительно более сложные коллизии, в первую очередь этического порядка. Что же касается приключения как формы отношения человека к ситуациям своего бытия, к жизни, то будущее не только не сузит рамки этого, но, наоборот, раздвинет их невообразимым сегодня образом. Выход человека в космос, фантастические возможности науки завтрашнего дня, социальное преобразование общества — вот области, причастность к которым немыслима без подвига, без приключения.
С другой стороны, само понятие приключенческой литературы, в привычном его смысле, видимо, в известной мере изжило себя. «Звезда» Эм. Казакевича, «Возмездие» В. Ардаматского, «Тревожный месяц вересень» В. Смирнова, «В августе сорок четвертого» В. Богомолова — что это, неужели традиционная детективно-приключенческая литература? Конечно, нет.
Разве повести А. Адамова, Ю. Кларова, А. Безуглова, братьев Вайнеров можно причислить к «трамвайному жанру»? Конечно, нет! Разве не украшают литературу приключений повести, написанные «бывалыми людьми» — теми, кто прошел многотрудное, солдатское горнило войны? Разве не пульсирует жизнь, бой, подвиг во имя жизни в книгах С. Ковпака, М. Гнидюка, П. Вершигоры... Как же назвать такую литературу? Диалектика развития социальных явлений свидетельствует, что наименование сплошь и рядом отстает от меняющегося содержания: видимо, об этом стоит порассуждать серьезным, непредубежденным критикам.
То, что лучшим произведениям этого жанра уже тесно в традиционных рамках детективно-приключенческой литературы, свидетельствует еще об одном немаловажном обстоятельстве. Проблему можно сформулировать так: когда в литературе наблюдаются изменения подобного масштаба, возникает вопрос, достояние ли это чисто литературной сферы или производное самой действительности, отражать которую призвана литература?
Очевидно, раздвижение привычных рамок жанра, привнесение в него нот высокого гражданского и этического звучания шире чисто литературного явления. В наиболее значимых произведениях традиционный поединок «сыщика» и «преступника» несводим уже к канонической схеме, суть которой в том, что «преступник» прячется, а «сыщик» ловит. Это уже не просто поединок ловкости и ловкости, ума и ума. Это противоборствование нравственного и безнравственного, добра и зла, гуманности и антигуманности. Соответственно, подобное раздвижение границ жанра отражает процессы, происходящие в социальной реальности. Характерно, что именно литература, всегда так тонко реагирующая на малейшее движение, происходящее в обществе, смогла так быстро воспринять и отразить это.
...Наши заметки не претендуют на всеохватность — проблема слишком велика и серьезна, чтобы рассмотреть ее вне и без серьезной дискуссии. Мы, однако, согласны с тем, что жанр детективно-приключенческой литературы один из наиболее читаемых, мы согласны с тем, что этот жанр имеет широкий выход на молодого читателя, на наших детей, преемников традиций и идеалов наших отцов — наших коммунистических идеалов. Именно поэтому столь велика ответственность каждого, кто прикасается к теме подвига, к теме добра в его схватке со злом, к теме борьбы общества созидателей против стяжателя или бандита. Именно поэтому так важно отмечать новое и талантливое в нашем жанре, в жанре поединка нового со старым, в котором, безусловно, победит новое, наше новое, пришедшее в мир с призывом к братству, дружбе, созиданию, к тому, что должно уметь охранять и беречь: всегда, везде и всюду. В литературе жанра детектива и приключений — в частности.
Юлиан СЕМЕНОВ,
председатель совета по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей РСФСР
Александр ГОРБОВСКИЙ,
кандидат исторических наук