

Эйдельман Н.Я.
Грань веков.
Политическая борьба в России.
Конец XVIII – начало XIX столетия.
Часть I
Глава I
Россия двести лет назад
Мой друг, таков бил век суровый…
В 1780-х и 1790-х годах книги и газеты напоминают о приближении нового столетия. Самое известное прощание с XVIII в. принадлежит Радищеву:
Нет, ты не будешь забвенво,
столетье безумно и мудро…
Другой поэт предсказывал России:
Се гениев твоих столетье.
Впрочем, такого фетиша времени, какой явился потом («новый год», «новый век»), в ту пору еще не было.
В полночь с 31 декабря на 1 января чаще всего мирно почивали; чиновникам, отдыхавшим с 24 декабря по 7 января, император Павел оставил начало рождественских праздников, 24 – 20 декабря (когда и провожали уходящий год), а далее – только воскресные и «табельные» дни: особо торжественной встречи нового столетия ни в 1800-м, ни в 1801-м не происходило (в отличие от 1901-го и – угадываем – 2001-го!). Объясняется, на наш взгляд, это прежде всего тем, что в то время не придавали значения «мелким делениям» – минуте, секунде: у большинства жителей, ложившихся с темнотой, поднимавшихся с рассветом, ни степных, ни каких других часов не было и в помине. В тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом деле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Сибири, на Камчатке – не по радио же?.. Одновременность была в ту пору растянутой; то, что происходило сей час на другом краю планеты, плохо воспринималось как синхронное, и, скажем, накануне рождения Пушкина «Московские ведомости» от 25 мая 1799 г. печатали столичные известия от 19 мая, из Италии – апрельские, из Нового Йорка – мартовские, о предполагаемых же совместных действиях Буонапарте с Типу-султаном сообщалось еще в течение многих недель после гибели знаменитого индийского правителя в сражении с англичанами.
К тому же за сто без малого лет еще не везде привыкли считать века от рождества Христова, а не от сотворения мира, год же начинать от Василия Великого (1 января), а не от Семенова дня (1 сентября); вдобавок, законодательница всех мод Франция недавно ввела революционный календарь и объявила началом первого века Свободы 22 сентября 1792 г.
В общем, 200 лет назад Россию не очень занимало, в каком столетии она находится…
Совсем не просто и сегодня, на закате XX в., разобраться, каково было то, позапрошлое столетие. Как представить в коротком обзоре жизнь большого народа, государства, дух и волнение давно минувшего времени?
В цивилизациях древних, скажем фараоновском Египте, Риме, нас часто удивляют отдельные черты сходства с позднейшей эпохой. 34-вековая данность, конечно, усиливает сегодняшнюю власть скульптурного портрета царицы Нефертити; живой цветок от безутешной юной вдовы на саркофаге Тутанхамона вряд ли привлек бы столько внимания, если бы речь шла о гробнице XVIII – XIX вв. нашей эры.
Что же касается сравнительно недавних времен – 100, 200 лет назад, тут мы, наоборот, чаще представляем прошедшее более «современным», чем это было на самом деле: ведь 1800 год от нас всего в 7 – 8 поколениях! И тем важнее в сравнительно недавнем прошлом вдруг заметить нечто особенно неожиданное, непривычное.
Суворов 5 мая 1799 г. захватил в Италии очередную крепость, французскому же гарнизону дал «свободный выход», с тем чтобы 6 месяцев с русскими не воевать.
Одним из благороднейших дел своего века Денис Иванович Фонвизин находит поступок Никиты Ивановича Панина, который из девяти тысяч душ, ему пожалованных, подарил четыре тысячи троим своим секретарям.
Известие об эпидемии, пожирающей наполеоновскую армию на Востоке, заканчивалось надеждой: «…и скоро их всех ч… поберет». Черт – слово совершенно нецензурное.
Среди нововведений второй половины XVIII в. – прежде неведомые в российских домах самовары, первые на российских полях подсолнухи и «земляные яблоки» – картофель.
В обычае поздравлять главу враждебного государства, если он спасся от смерти. Так, Георг II Английский в разгар войны с Францией передает Людовику XV сочувственные, дружеские слова по поводу покушения на его жизнь; однако к концу столетия, по мнению русского посла в Англии С. Р. Воронцова, происходит упадок этикета: Бонапарт и Павел I не посылают поздравлений своему врагу Георгу III Английскому (тоже спасшемуся от убийцы), зато Георг III не поздравляет Павла с рождением внучки.
И еще два эпизода – не из второй, из первой половины XVIII в., но характерные для всего столетия.
Почти исчезли, будто провалились в подземное царство, сведения о мощном восстании в Таре (Западная Сибирь) и многолетней экзекуции, через которую прошло до 2 тыс. человек – из них около двухсот умерло под наказанием. Сверх того более тысячи человек покончили с собой… Огромное по тем масштабам дело в сущности открылось только через 250 лет.
Взойдя на престол, Елизавета Петровна посылает на Камчатку штабс-фурьера Шахтурова, с тем чтобы он доставил к ее коронации (т.е. через полтора года) шесть пригожих, благородных камчатских девиц. Представления царицы о размерах собственной империи была приблизительными: только через 6 лет (и на 4 года позже коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на обратном пути Иркутска…
Часть приведенных подробностей формально не очень важна, анекдотична, второстепенна, но приближает удаленного на века исследователя к его главной, по сути, цели: пониманию, «общему языку» с прошлым; напоминает об осторожности, осмотрительности даже в сравнительно недалеком историческом путешествии.
Пространство
11 декабря 1796 г. в Иркутске начались соборный благовест и пушечная пальба в честь нового императора: рано утром примчался правительственный курьер (начиная с Павла, он будет именоваться фельдъегерем), который всего за 34 дня преодолел расстояние в 6 тыс. верст от столицы на Неве до губернского города на Ангаре. Больше месяца Иркутск жил под властью умершей Екатерины II. Камчатка же присягнет только в начале 1797-го.
6 тыс. верст, разделенные на 34 дня, около 180 верст и сутки, – курьерская скорость… С древнейших времен до первых паровозов максимальной скоростью человеческого передвижении была быстрота лучшего коня или тройки, колесницы: примерно 20 километров в час на коротком пути, и меньше, если делить длинные версты на долгие часы. Поэтому в 1796 г. Россия – страна огромная, медленная (в 30 – 40 раз медленнее и, стало быть, во столько же раз «больше», чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного гоголевского городка «три года скачи – ни до какого государства не доедешь». Между тем солидные путешественники только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде – чем важнее, тем медленнее: воевода из Москвы в Якутск, «на новую работу», ехал в 1630-х годах не торопясь, пережидая разливы и чрезмерные холода, ровно три года (средняя скорость – 7 верст в сутки). В XVIII – XIX вв. медленная езда подобает только царской фамилии. Сохранилось расписание 1801 г., относящееся к приезду Александра I из Петербурга в Москву на коронацию (сходный порядок был и при коронованиях XVIII в.): в первый день кортеж проходил 184,5 версты (ночуют в Новгороде), во второй – 153 версты (ночуют «в Валдаях»), на третий – всего 92 версты (сон в Вышнем Волочке), на четвертый, отдохнув, – 134 версты до Твери; на пятые сутки экипажи пройдут 113 верст до Пешек, на шестые – всего 50 до загородного Петровского дворца, и оттуда, только на седьмой день, «имеет быть торжественный въезд в столичный город Москву». Медленности выездов соответствовало и долгое возвращение, так что еще в 1750-х годах улицы северной столицы зарастали травой, пока двор и множество сопровождающих и сопутствующих не перемещались обратно, на берега Невы.
Огромная страна под властью свирепейших морозов. В северном полушарии за последние три-четыре века самое лютое время – XVIII столетие: в феврале 1799 г. в Петербурге в среднем «29 с половиной по Реомюру», т. е. 37° по Цельсию.
Огромные расстояния – немаловажный элемент истории, социальной психологии страны, то, что еще ждет освоения великой литературой XIX в. Пока же обширные территории – весьма широкое основание для политических обобщений. «Российская империя, – запишет Екатерина II в важном и секретном документе, – есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях…». Из этого царица выводила мысль о желательности для таких диких просторов разумного самодержца-просветителя, но находила «неудивительным», что Россия «имела среди правителей много тиранов».
На огромных пространствах империи за год до смерти Екатерины II проживает 18,7 млн. душ мужского пола, общее же число подданных приблизительно устанавливалось удвоением: 37,4 – около 40 млн. россиян, из которых; треть в Нечерноземном центре, много – в западных и юго-западных губерниях, но, чем дальше на юг, а особенно на восток, тем глуше, просторнее… На всю Сибирь, сложив души двух гигантских генерал-губернаторств (Тобольского и Иркутского), удвоив, прибавив кочевые кибитки коренных, местных обитателей, едва набирался миллион.
Заселить – приманкой, насильно, как угодно – пустующие пространства. Екатерина так увлеклась этой идеей, что серьезно отнеслась к плану Потемкина выпросить у английского правительства приговоренных к каторжным работам для освоения причерноморских степей. Посол в Лондоне Семен Воронцов гордился тем, что сумел остановить эту «благодетельную меру».
40 млн. человек; если же вычислять, «кому на Руси жить хорошо», если попытаться сосчитать «правящих» (дворяне, по крайней мере с офицерским чином, соответственно чиновники с VIII класса и выше, плюс верхний слой духовенства и зажиточные неслужащие землевладельцы), то получим более 200 тыс. (или – семейно – 400 тыс.), т. е. примерно один процент.
Один к ста. Можно указать и приблизительный уровень благосостояния «правящего процента»: на одного владельца приходится в среднем 100 – 150 крепостных (400 – 500 руб. годового оброка); столько же, примерно 300 – 450 руб., составляло и годовое жалованье у чиновников VIII класса и жалованье штаб-офицеров.
Исходными данными для этих расчетов были сведения о численности в 1795 – 1796 гг.: чиновников – 15 – 10 тыс., в том числе около 4 тыс. с I по VIII класс, дворян – 224 тыс., духовенства – 215 тыс. (по данным К. Германа), офицеров – 14 – 15 тыс. (исходя из известного числа генералов – 500 и из обычного для русской армии XIX в. соотношения генералов и офицеров 1 : 30)
Внутри же «одного правящего процента» свой один процент: высшие среди высших. Это 300 – 400 чиновников I – IV класса, т. е. статских генералов, и 500 генералов военных.
Генералы (не все, конечно) составляют значительную часть тех избранников судьбы, тех 700 – 800 человек, у кого более 1500 крестьян (и в ответ на обычную просьбу пожаловать еще крепостных душ Екатерина II, непрерывно жалуя, ворчит: «Уж столько пожаловано, что уж мало остается, что жаловать»
Тут начинается мир, где обыкновенное парадное платье, например, Потемкина стоило 200 тыс. руб., т. е. годового оброка 40 тыс. крепостных; где зажигали на балах до 100 тыс. свечей; где «тарелки спускались сверху, как только дергали за веревку, проходившую сквозь стол; под тарелками были аспидные пластинки и маленький карандаш; надо было написать, что хочешь получить, и дернуть за веревку; через несколько минут тарелки возвращались с требуемым кушаньем»
Около 40 млн. жителей и огромное пространство с максимальными скоростями передвижения 10 – 20 километров в час… Как редкие острова в снежном равнинном океане – города, городки (к концу царствования Екатерины II их было 610), однако каждый третий (230 городков) был разжалован Павлом в селения и местечки.
Всего шесть душ из каждой сотни – городские жители, а 94 из 100 – селяне.
Как мелкие островки, скалы, камни – деревни по 100 – 200 душ, и 62 из каждой сотни – крепостные. А на всю империю никак не меньше 100 тыс. деревень и сел, и в тех деревнях известное равенство в рабстве (80% тогдашних российских крестьян – середняки); но высшей мерой счета было у тех людей 100 руб., и, «кто имел 100 рублей, считался богатеем беспримерным». Деревеньки, в нелегкой борьбе отвоевывающие у дикой природы новые простpaнствa (в одной Западной Сибири за XVII и XVIII вв. добыли 800 тыс. десятин пашни и сами себя обеспечили хлебом).
100 тыс. деревень, оживающих при благоприятном «историческом климате», но зарастающих лесом, исчезающих с карт целыми волостями после мора, голода, а еще чаще – после тяжелой войны или грозного царя.
«Неминуемое следствие…»
Хорошо бы не торопясь пройтись по деревенькам, городкам, имениям, скитам, столицам, закраинам гигантской империи, где, согласно оглавлению «Самого новейшего, отборнейшего московского и санкт-петербургского песельника», звучали в ту пору «песни военные, театральные, простонародные, нежные, любовные, пастушьи, малороссийские, цыганские, хороводные, святошные, свадебные…».
Однако подробный разбор разных пластов той империи, во-первых, здесь невозможен, во-вторых, уместен в следующих главах, когда речь пойдет о переменах, коснувшихся народа и общества в последние годы XVIII столетия; в-третьих же, читатель так много знает о русском XVIII веке, что можно порою опереться на эти знания, определяя основной смысл, дух, стержень эпохи. В этом случае, как и во многих других, полезно посоветоваться с гениальным российским поэтом-историком Александрой Сергеевичем Пушкиным, особенно учитывая его близость к изучаемым временам и чрезвычайный к ним интерес. Современники свидетельствуют, что разговор о предшествующем столетии был для Пушкина из самых приятных…
«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон (…) История представляет около его всеобщее рабство…» (Пушкин, XI, 14). Двадцатитрехлетний кишиневский чиновник формулирует основной парадокс прежнего века: просвещение и – рабство…
Под просвещением имеются в виду, конечно, не только школы и книги, но целая система изменений, реформ, преобразований в экономической, политической, военной, правовой, культурной, духовной сфере…
Казалось бы, самодержец-просветитель, просвещая, ведет мину под свой режим: «свобода – неминуемое следствие…». Но – не боится, «доверяет своему могуществу», «презирает» и как будто не ошибается: просвещение и «всеобщее рабство» как-то уживались, и автор недавно обнаруженной «Благовести», удивительного по смелости документа 1790-х годов, восклицает: «И что только ни устроено и сделано – города, флоты, армия, и все, что ни есть, вашими руками устроено, вашим потом чела вся Россия питается и кормится, от неприятеля сохраняется отечество, а вы…» А вы?..
Ответ точен и печален: «…сколько ж помещик или господа наши съедают напрасно ваших трудов, сколько, рассердись на лошадь или кого-нибудь, человек убил, за собаку человеку жизнь отнял, за недозволение на блуд дочери или жены не один убит, что так погублено вашей братьи невинно и миллионы наберутся, а сколько на каторге, в неволе, в заточении находится неповинных людей, счислить нельзя!»
Свобода и рабство – при том, что употребление уничижительного «раб», «раб твой» запрещено Екатериной II и уж сочинена «Ода на истребление в России названия раба…» («Красуйся радостью, Россия, Восторгом радостным пылай…» и т. д.). Свобода и рабство, но разве подобные характеристики – о социальных контрастах, о золотых дворцах и бедных хижинах, о мудрых книгах и миллионах безграмотных, о свете прогресса и мгле деспотизма – разве они не являются обязательной принадлежностью истории любого народа? Разве не так в Японии, Перу, Вавилоне?
Так и не так. Подобные парадоксальные сочетания старого и нового вряд ли встречались в XVIII столетии в другой стране. В российском варианте кое-что кажется совершенно самобытным. Некоторые петровские издания выходили, например, огромными тиражами, в 10 – 15 раз больше того, что печатались при Пушкине, – тиражами, из которых 9/10 сгнивало на складах, но все же 1/10 брали читатели. Выходило – как слепых котят к молоку, силой: «Нате, вкушайте, попробуйте не вкусить…» Тем не менее за последнее тридцатилетие XVIII в. выходит около 7 тыс. книг (общим тиражом около 7 млн. экземпляров), существует около 100 периодических изданий.
Или из устава кунсткамеры, согласно которому любому посетителю подавалось угощение – лишь бы зашел!
Итак, первая самобытная особенность XVIII в. – быстрота перемен, идущих в немалой степени сверху, от престола.
«Петровский взрыв», когда число мануфактур за одно царствование вырастает в 7 раз; когда со своими 10 млн. ежегодных пудов чугуна (155 тыс. т) страна выходит к 1800 г. на первое место в мире и гениально созданная, крутым кнутом погоняемая телега несется пока что быстрее английского паровичка; и Пушкин говорит о «вдруг» явившейся российской словесности, а серьезный критик российского прогресса М. М. Щербатов полушутя, полусерьезно исчисляет в 1770-х годах, «во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы», и выходило, что вместо сорока петровских лет понадобилось бы 210 и страна лишь в 1892 г . достигла бы петровских результатов, если б «не помешали внешние обстоятельства»
Но быстрота не единственный признак российского XVIII века.
Два полюса – «рабство» и «просвещение» – после «петровского взрыва» резко отодвигаются друг от друга на большое социальное расстояние, и притом друг другу «как бы не мешают». Больше того, и цивилизация, и рабство усиливаются синхронно: пересекаясь и переплетаясь, одновременно вступают в российскую историю школы и рекрутчина, Академия и подушная подать; календари, грамматики, учебники, переводы, и право помещика ссылать крестьян в Сибирь, и гордость палача за умение тремя ударами кнута лишить жизни. К важнейшей для российского просвещения дате – рождению Пушкина – в его родном городе продается «лучшего поведения видный пятидесятилетний лакей, да ямских кучеров два и разного звания люди», да «в Тверской Ямской в доме ямщика Андрея Маслова продается повар 24 лет с женою 18 лет и малолетней дочерью». По тонкому наблюдению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, очень часто как раз более просвещенные были в том веке не самыми гуманными…
Если представить весь тогдашний мир, мы увидим страны не меньшего, может быть, а большего социально-политического рабства (Турция, Персия, Китай), но солнце просвещения стоит над ними в ту пору довольно низко: господа и рабы там как бы скреплены общей цепью застоя… Легко найдем на карте XVIII в. и края более «просвещенные», куда Петр ездил учиться; но такого рабства, как в России, они не знали, развивались не столь взрывчато, и пропасть между дворцом и хижиной была заполнена «мещанством», «третьим сословием», буржуазией с ее мануфактурами и компаниями…
С России же купец – либо еще не оплативший волю крепостной Савва Морозов (чья «мануфактурная фабрика» в Зуеве основана в 1797 г., когда он еще был крепостным ткачом); либо Демидов, успевший получить дворянство и все крепостнические права, или таковой же прадед II. П. Пушкиной Гончаров; либо купчики вольные, некрупные, мечтающие попасть в Демидовы, но пока что робкие: такие, кого тамбовский комендант Григорьев за плохой товар «бил из своих рук натурально тростью по всей их одежде». Система, которая, как знаем по гоголевскому «Ревизору», и полвека спустя не слишком переменится.
17 коп. в год тратит на покупки среднестатистический житель империи (через полвека будет в 20 раз больше). И это один из показателей, как слабо еще была «разъедена» товарностью, капитализмом натуральная толща российской жизни, – то, о чем еще в 1836 г . будет толковать прозорливый Александр Тургенев, надеясь, что «отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся»
Итак, сравнительно малая российская «буржуазность», стремительная быстрота просвещающих реформ, неслыханный, причудливый исторический контраст рабства и прогресса.
Как и почему именно в России так получилось – не здесь рассуждать: ответ ведет в глубины истории.
Пока же приведем характерные факты, число которых легко удесятерить. Грамотный человек, но совершивший два доказанных убийства и за них осужденный, назначается судьей в сибирский город Тару, ибо для должности нет людей (и в том уезде бесчинствует не «яко тать», а просто «тать»)
Анна Иоанновна отменяет назначенную казнь из-за улучшения погоды.
Камердинер, который дежурит у дверей Елизаветы Петровны, обязан прислушиваться и, когда императрица закричит от ночного кошмара, положить ей руку на лоб и произнести «лебедь белая», за что сей камердинер пожалован в дворянство и получает родовую фамилию Лебедев.
Петербургский обер-полицмейстер Татищев предлагает безвинно пострадавшим выжигать перед незаслуженным клеймом «вор» частицу «не»: «Не – вор».
Молодой Николай Раевский, будущий герой 1812 г., учится вместе с друзьями переплетному делу, чтобы прокормиться, когда придут санкюлоты и революция все сметет; однако даже в фантастическом сне ему не вообразить, что революция явится не из дальних краев, а в собственном его семействе (зять Волконский – в декабристы, дочь Мария – в декабристки).
Парадокс, так сказать, в природе вещей…
А ведь пушкинская формула «Свобода – неминуемое следствие просвещения» верна: не минует…
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?..
Взойдет, но когда? Завтра? Через 10, 50, 100 лет?..
«Пушкинский путь» к свободе просвещенной – первая естественная реакция просвещенного человека на невыносимый петровский «дуализм»: неслыханное сочетание мглы и света, но Пушкину, не удержится, свет одолеет. Петр I «не страшился…», но уже через одно-два поколения появляются серьезные головы, которые веруют в просвещение и еще раз в просвещение и что с его помощью можно в конце концов исправить все – и политику, и «поврежденные нравы», и (когда-нибудь) рабство!
Просветители – в самом широком, «пушкинском» смысле этого слова. С самого начала эти серьезные люди по-разному представляют себе тот способ, каким все исправится. Тут и Новиков, и Фонвизин, и Никита Иванович Панин, и княгиня Дашкова, и Щербатов, хотя и вздыхавший о прежней, «неразвращенной», допетровской старине, но видевший, что даже эти критические мысли – один из «плодов просвещения». «Могу ли, – восклицает он, – данное мне им (Петром I) просвещение, яко некоторый изменник похищенное оружие, противу давшего мне во вред обратить?»
Большинство российских просветителей, как мы знаем, не договаривалось до отмены рабства (некоторые, как известно, были на практике изрядными крепостниками) – только до «улучшения нравов», до смутных упований на будущие успехи просвещения.
Но сейчас нам не важны подробности их теорий, их различия между собою. Скажем только: появлялись люди – и голос их был слышен, – которые были идейными просветителями, серьезно верили в грядущее преодоление «петровской двойственности» за счет развития одного из двух полюсов – Просвещения.
Одно время им казалось, что правительство Екатерины, заигрывающее с французскими просветителями, хочет того же. И царица ведь действительно хотела известной европеизации дворянства – в его собственных интересах и государственных, иначе ведь можно отстать, попасть за борт истории («Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения» – Пушкин). Царица, однако, вела к такой европеизации, которая (еще раз повторяем) не касалась бы рабства, даже сращивалась с ним. И в этом смысле Екатерина – верная наследница Петра: хотела столько просвещения и такого света, чтобы не страшиться его «неминуемого следствия…». Но с каждым десятилетием все труднее было «не страшиться…».
Птенцы гнезда Петрова за пределы тактики, арифметики, грамматики, фортификации, промышленности почти не вылетали в сферы вольности конституции, крестьянской свободы; в течение же екатерининских 34 лет царице пришлось во многих сподвижниках разочароваться, кое на кого из просвещенных прикрикнуть, а иных – Новикова и Радищева – упрятать поглубже.
Впрочем, само явление Радищева – симптом, что дело заходит далеко, что «неминуемое» не миновало, да еще все это происходит под звуки французских якобинских песен и пушек, напоминая о возможном будущем России, торопящейся за передовыми державами.
Многократно отмечалось радищевское одиночество, хотя сейчас деятельность нескольких менее известных его современников понята как родственная идеям Радищева (пускай он сам об этом родстве большей частью не знал, да мы знаем!). Одиночество его было отражением того факта, который точно проанализировал великий мыслитель, хорошо знавший и помнивший предания и размышления отцовских и дедовских времен.
«Наука, – писал А. И. Герцен, – процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось, – великой революционной идеей все еще была реформа Петра. Но власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен».
Лучшие люди, просветители, еще надеялись на власть, несмотря на испытанное разочарование; сохраняли до конца известные иллюзии насчет Екатерины II, несмотря па явный поворот «от Европы» в последние семь лет ее царствования. Соучастие «идейных поручиков», активной дворянской интеллигенции в военных, административных, культурных делах Екатерины, Александра I – один из секретов тогдашних успехов. Среднее офицерское звено, как и «генеральство», действовало в ту пору сильно, удачно, убежденно…
Разглядывая портреты видных деятелей конца XVIII – начала XIX в., изучая их переписку, мы улавливаем нечто важное в общем стиле эпохи, того времени, которое уходило вместе с подобными людьми. Разумеется, и после 1825 г. не исчезает, скажем, тип умного, смелого, независимого генерала. Однако таких все меньше, таким все труднее… После 1812 г. и особенно 1825-го люди с такими лицами, какие еще преобладают в «Военной галерее 1812 года», – они все больше в отставке, опале, даже если и в мыслях – были далеки от участия в освободительной борьбе. Все больше лишних людей, тогда как в конце XVIII – начале XIX в. «лишних» нет. «Прозаическому осеннему царствованию Николая, – заметит Герцен, – нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советчики, вестовые, а не воины». В хмурые николаевские времена резко увеличивается средний возраст, необходимый для достижения генеральских чинов. Молодые командующие 1800-х годов – это не только следствие их титулов, домашних связей, но и знамение времени. Ускоренное выдвижение дворянской молодежи вообще делало тогдашних начальников сравнительно более юными (средний возраст приобретения генеральства, вычисленный по материалам книги В. М. Глинки и А. В. Помарнацкого «Военная галерея 1812 года», составил 35 –лет). Тут, конечно, играли роль частые войны, ускорявшие движение чинов, да и притом еще не был исчерпан петровский молодой порыв, когда 30-летний генерал, посол, 35 – 40-летнин министр – явление обыкновенное, а полвека спустя, во времена Николая I, – крайне редкое, почти невозможное.
Зато вместо лучших людей, уходящих в ссылку, опалу, молчаливую оппозицию, вместо Чаадаевых, Ермоловых, вместо Онегиных, Печориных приходят в ту пору иные. Причина же военных и прочих неудач не только в отсталой технике, но и в постепенном распаде союза между властью и активной дворянской интеллигенцией.
Идейность! Дело не просто в классовой, дворянской идейности крепостника (она имеется и у Скотинина, и у Салтычихи!). Просвещенные люди, сознательно, убежденно помогающие власти, – большая, хотя часто и невидимая сила; а она в XVIII в. существовала, ибо несколько десятилетий политических и личных свобод, дарованных дворянству (конечно, за счет миллионов крепостных), – все это не прошло даром: прямо из времен «петровской дубинки» и бироновских зверств не могло явиться столько людей с мыслями и достоинством; для декабристов и Пушкина требовалось 2 – 3 «непоротых» дворянских поколения. Таких «нормальных» – не очень теоретизирующих, но уже усвоивших определенные просвещенные принципы людей – было в конце XVIII в. совсем не так мало, как может показаться из перечня крепостнических ужасов эпохи. Идейные, просвещенные союзники власти, разделявшие формулу известного государственного деятеля И. И. Бецкого: «Корень всему злу и добру – воспитание», – перечисляя подобных людей, назовем, естественно, лучших полководцев и флотоводцев, государственных и культурных деятелей – Суворова, Дашкову, Ушакова, Баженова…
О сенаторе князе Иване Владимировиче Лопухине (1756 – 1816) много лет спустя будет сказано, что «его странно видеть среди хаоса случайных, бесцельных существований, его окружающих: он идет куда-то, а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл».
Всю жизнь сенатор проведет в спорах с высшими начальниками, даже с царями, требуя смягчения, облегчения наказаний, и при всем этом останется в уверенности, что «в России ослабление связей подчиненности крестьян помещикам опаснее самого нашествия неприятельского…»
Не увлекаясь, однако, перечнем людей знаменитых, задумаемся хотя бы о такой категории, как родители будущих декабристов. Судя по воспоминаниям деятелей первых тайных обществ, у большинства родители были отнюдь не звери-крепостники (своим отрицательным примером как бы бросавшие сына в объятия вольности), но хорошие люди, исповедовавшие, как отец Якушкина, ценный принцип: «Бога бойся, царя чти, честь превыше всего». Сходно писал о себе в 1807 г ., накануне смерти участник заговора против Павла I Д. В. Арсеньев: «Любил друзей, родных, был предан государю Александру и чести, которая была для меня во всю мою жизнь единственным для меня законом».
Честные, культурные поручики, капитаны, вроде Петруши Гринева (достигавшие, впрочем, и высоких чинов, должностей), – таково было многочисленное старшее поколение Муравьевых, таковы были (при всей противоречивой сложности иных характеров) родители Бестужевых, Розена, Горбачевского, М. Фонвизина, Волконского, Штейнгеля, Чернышева, Лорера…
Итак, завершая рассуждение о первой группе русских людей (по ее отношению к петровскому дуализму «просвещение – рабство»), констатируем: среди просветившихся (дворян, разночинцев) сравнительно немало хороших людей, идейных, сознательно или подсознательно желающих нового просвещенного прогресса или просто верящих в него… Постепенно вырабатывается тот гуманный, внутренне свободный, интеллигентный слой, которому предстоит играть выдающуюся роль в истории и культуре следующего столетия, в формировании дворянской революционности.
Вторая значительная группа российского просвещенного слоя иначе относится к «коренным вопросам». Тут находим Екатерину II, Потемкина, Орловых, многих фаворитов, немалое число дворян на службе или в имениях – тех, кто хочет сохранения петровского раздвоения, чтоб оставалось – в широком смысле – как есть, чтоб не страшиться никаких «неминуемых следствий…». Они хотят «выгод просвещения» (не отстать от Европы) и хотят сохранить рабство в экономике и политике.
На несколько десятилетий раньше подобный взгляд Петра был идейным, исходящим из интересов общих, «того, что лучше для отечества». Старая фразеология сохранилась и полвека спустя, хотя и поблекла, – достаточно сравнить торжественные речи 1710-х и 1770-х; но два обстоятельства уже не позволяют Екатерине и ее сторонникам избежать той или иной степени цинизма.
Во-первых, рост общей культуры, уроки Вольтера, растущая способность образованных людей к резкому анализу.
Во-вторых, откровенность, обнаженность российских полюсов, недостаток характерных для западного общества плавных переходов, «полутонов», что позволяет разумному человеку многое заметить и понять. К тому же образованный дворянин неплохо знает народ (много лучше, чем, скажем, буржуа), потому что все время имеет с ним дело: как помещик – с крестьянами, как офицер – с солдатами. (Не хотим отвлекаться, но заметим, что эта чрезвычайная прозрачность российского воздуха, кричащая обнаженность российских противоречий, вероятно, одна из причин появления в стране людей, которые прозорливостью и ясновидением вскоре удивят весь мир, – мы говорим о великих русских писателях…)
Однако вернемся ко второй группе «просвещенных россиян» – к правящим циникам.
Потемкин бьет в лицо полковника, и, заметив наблюдающего иностранца, объясняет: «Что с ними делать, если они все терпят?»
У каждого крестьянина в супе курица, у некоторых – индейка, объявляет царица к сведению Европы после путешествия по Волге; но именно на этих берегах через несколько лет появится Пугачев.
Тартюфская ложь Екатерины, потемкинские деревни – все это не объяснить просто тем, что Екатерина и Потемкин двоедушны… Это отражение их программы, где желали совместить то, что исторически не сходится.
Вопрос о том, устраивал ли Потемкин «декорации», фальшивые поселения при проезде царицы на Юг, в лучшем случае не решен. Е. И. Дружинина слишком легко отводит свидетельство Ланжерона, как «не имевшего возможности наблюдать этот край при Потемкине». Между тем новороссийский генерал-губернатор, правивший 30 лет спустя, имел как раз немалые возможности для сбора весомой информации, как этой видно из соответствующих страниц его записок.
Дело, однако, не в буквальном смысле отдельных эпизодов.
Как отмечает Я. Л. Барсков, один из лучших знатоков екатерининского правления, «ложь была главным орудием царицы; всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, гувернантку, мужа, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков»
Французский посол Бретейль, наблюдая, как Екатерина II афиширует свое горе и слезы по поводу гибели ненавистного ей супруга, заметил: «Эта комедия внушает мне такой же страх, как и факт, вызвавший ее».
Ложь в природе вещей. Разумеется, жизнь тысячекратно обогащала предлагаемую схему (упрощенную, но необходимую для анализа!). Редко попадались «химически чистые» типы прогрессивного просветителя или циника, в разных дозах и то и другое присутствовало во множестве людей из верхнего слоя страны. Разве мог бы держаться и десятилетиями давать плоды тот союз лучших людей с властью, о котором уже говорилось, если бы многие лучшие люди не закрывали глаза на жестокий цинизм верхов или не принимали бы частицу того цинизма? Так же, как не были абсолютно циничны ни Потемкин, ни Екатерина.
Итак, мы представили два типа дворянской идейной ориентации: просвещенный прогресс – циническое staus quo.
Существовал, наконец, третий подход к взрывчатой антиномии «просвещение – рабство»: взгляд консервативный, отрицающий в большей или меньшей степени те пути просвещения, которыми двигалась новая Россия; носители подобных идей были склонны к идеализации старины, настороженно относились к «нужной, но, может быть, излишней реформе Петра». Цитата взята из потаенного сочинения М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России». Этот замечательный в своем роде документ был составлен в 1786 – 1787 гг. и представлял развернутую консервативную критику «просвещенного абсолютизма».
«Мы подлинно, – писал Щербатов, – в людности и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей. Но тогда же гораздо с вящей скоростью бежали к повреждению наших нравов».
Историк писал об «изгнанной добродетели» и бичевал пороки своей эпохи с такой энергией, что серьезно «задел» девять особ царствующего дома, а более всего – Екатерину II.
Щербатов был не единственным просвещенным консерватором XVIII столетия. Разврат, тартюфская ложь екатерининского правления не раз вызывали критику с позиций «старинной нравственности»; такие деятели, как И. В. Лопухин, II. И. и II. И. Папины, Д. И. Фонвизин, играя видную просветительскую, прогрессивную роль, не раз притом мечтали о движении к будущему как бы «через прошлое», о реставрации утраченной патриархальной нравственности и ряда старинных институтов (весьма знаменательно, что герой «Недоросля», отвергающий непросвещенное свинство Простаковых, Скотининых, именуется Стародумом!).
А. И. Герцен, оценивая много лет спустя общественно-политическую позицию Щербатова, колебался и впадал в любопытное противоречие. С одной стороны, он находил, что Щербатов представляет традицию темной старины (идущую от стрельцов, царевича Алексея и др.), что его «натянутый, старческий ропот … замолк без всякого отзыва»
Но в то же время Герцен находит в авторе «Повреждения нравов…» своеобразного предтечу славянофильства и таким образом вводит его в рамки современной культуры и просвещения. Действительно, образованнейший мыслитель М. М. Щербатов принадлежит новому времени и не может быть отнесен к «старинным невеждам». По многим коренным вопросам расходясь, например, с Радищевым, Щербатов сходен с ним в одном: что «по-екатеринински», «потемкински» жить нельзя; поэтому, соединяя «Путешествие из Петербурга в Москву» с «Повреждением нравов…» в одном конволюте (изданном Вольной русской типографией в 1858 г.), Герцен замечает: «Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны».
Малоизученные проблемы дворянской консервативной оппозиции XVIII в. особо интересны и важны для нашего изложения. Разбор подобных идей позволяет произвести известное (очень осторожное, но необходимое) сопоставление «просвещенного консерватизма» и своеобразных консервативных черт народной, крестьянской идеологии.
Разве образованное общество составляло большинство страны? Разве не было миллионов людей, не отделявших просвещение от порабощения, людей, ненавидящих в просвещении ту цену, которую за него берут?
Речь идет о мнении народном, о том трагическом противоречии, что «народ не делает разницы между людьми, носящими немецкое платье»; о том, что побудило, например, Пугачева и его сторонников не увидеть разницы между ученым-астрономом Ловицем и другими «барами»: «Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, (Пугачев) велел его повесить поближе к звездам»
«Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр». Автор приведенных строк через 12 лет уточнит, каково было «пугачевское равнодушие» народа к своим барам…
Но разве дворяне-консерваторы «в простоте» примкнули к «народным идеалам», отвергающим систему Екатерины? Отнюдь нет… Однако существование двух социально полярных точек зрения, отрицающих (каждая по-своему!) «потемкинское» время, порождало, как увидим, внезапные причудливые, очень сложные пересечения двух типов консерватизма, своеобразные их апелляции друг к другу.
Изучение малоизвестных российских консервативных идей помогает, по-видимому, понять происхождение и сущность такого сложного, спорного исторического явления, как «павловская политика».
Глава II
«Бедный князь…»
Завоюй земной весь шар, будь народам многим царь,
Что тебе то помогает,
Если внутрь душа рыдает?
Когда ты невесел, то все ты подл и гол.
Среди документов министерства юстиции более столетия хранился в запечатанном пакете любопытный дневник 19-летнего великого князя, будущего Павла I. Дневник молодого человека, записывающего (в июне 1773 г.) свои переживания, свою «радость, смешанную с беспокойством и неловкостью» при ожидании невесты, «которая есть и будет подругой всей жизни… источником блаженства в настоящем и будущем». Прощаясь с холостой жизнью, юноша грустит, что отныне исчезнут его беспечные отношения с кружком старых друзей, и «не находит слов», когда мать представляет ему ландграфиню Гессен-Дармштадтскую и ее дочерей: Павлу, как Парису, предлагают выбрать одну из трех гессенских принцесс, привезенных на смотрины.
Расставшись с ними, великий князь первым делом отправляется к любимому наставнику графу Никите Ивановичу Панину – узнать, как он, Павел, себя вел и доволен ли им Панин. «Он сказал, что доволен, и я был в восторге. Несмотря на свою усталость, я все ходил по моей комнате, насвистывая и вспоминая виденное и слышанное. В этот момент мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгельмине, которая мне больше всех нравилась, и всю ночь я ее видел во сне».
Наивные, сентиментальные излияния, типичные для просвещенного молодого человека 1770-х годов. Судя по этому и некоторым другим документам, наследник не склонен к цинизму и таким образом уже бросает известный вызов весьма развращенному екатерининскому двору.
Родившийся 20 сентября 1754 г. сын Петра III и Екатерины II, казалось бы, имел немало прав занять со временем российский престол: как правнук Петра Великого, как мужской представитель династии в противовес частому «женскому правлению»; однако закон о престолонаследии, принятый Петром I, позволял царствующему назначить наследника по своему выбору. Задуманный как усиление прав самодержца, этот принцип в русском политическом контексте XVIII в. обратился в свою противоположность, увеличил шансы разных претендентов на престол и обострил борьбу за власть. Одним из элементов той борьбы была разнообразная дискредитация конкурентов, распространение компрометирующих «династических слухов». Еще в раннем детстве Павел Петрович многое увидел и еще более – услышал.
Слух о том, что отцом его был не Петр III, а граф Салтыков, позже осложняется легендой, что и Екатерина II не была матерью великого князя (вместо рожденного ею «мертвого ребенка» будто бы доставили по приказу Елизаветы Петровны грудного «чухонского» мальчика). Происхождение этих версий – плода сложных политических интриг и дворцовых тайн – затронуто в литературе; крупнейший же знаток потаенной истории и литературы XVIII в. Я. Л. Барсков полагал (сопоставляя разные редакции «мемуаров» Екатерины II), что царица сознательно (и успешно!) распространяла версии о «незаконности» происхождения своего сына. Таким образом, ее сомнительные права на русский престол повышались, адюльтер маскировал цареубийство.
Я. Л. Барсков находил (вслед за Е. С. Шумигорским), что наиболее «вероятными» родителями Павла I были все же Петр III и Екатерина II.
Восьмилетний Павел был свидетелем дворцового переворота 1762 г., когда его мать отобрала власть у отца.
Автору этих строк пришлось видеть в Центральном государственном архиве древних актов и показывать коллегам документы из секретной папки Екатерины II, документы, отчасти известные и потому мало кем изучаемые de visu. А напрасно. Две записки Петра III, где он молит победительницу-супругу о пощаде: круглый детский старательный почерк – возможно, писалось на каком-нибудь ропшинском барабане – и подписано унизительным «votre humble valet» (преданный Вам лакей) вместо «serviteur» (слуга); здесь же третий документ – веселая, развязная записка пьяным, качающимся почерком Алексея Орлова, адресованная «матушке пашей Всероссийской»: «…урод наш очень занемог» и как бы «сегодня не умер».
Кажется, уже «урода» Петра III и придушили (впрочем, мы точно знаем: была в той папке и четвертая записочка, уничтоженная Павлом, где прямо сообщалось об убийстве свергнутого); меж тем в сохранившейся записке о болезни низложенного царя выдрана подпись – явно екатерининской рукой; на всякий случай – оборонить любимца… К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) «извели»; «Особенно замечательно, как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер».
Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II – Бецкого), и таким образом умершие цари самозвано» оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали; но царь, считавший самозванцами крестьянских Петров III, сам не был в их глазах правителем «названным». И так все запутывалось, что в правительственных декларациях Пугачева однажды нарекли лжесамозванцем, что было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем…
Откровеннейшие документы о гибели своего отца Павел увидел 42-летним. По сведениям Пушкина (а этим сведениям должно верить: поэт очень интересовался сюжетом и сообщил о нем Николаю I), «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, будто государь (Петр III) жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу: жив ли мой отец?».
Настолько все неверно, зыбко, самозванно, что даже Павел-император (не говоря о наследнике!) все же допускает, что отец его жив! И спрашивает Павел о том не случайного человека, но Андрея Гудовича (1741 – 1820), близкого к Петру III, за это выдержавшего длительную опалу при Екатерине, в 1796 г. вызванного и обласканного Павлом.
Неясная тайна переворота при официальной версии о смерти Петра III от «геморроидальной колики» была потенциальной основой для появления лже-Петров III и как бы соединяла воедино две характерные черты тогдашней политической борьбы: «переворотство» и самозваичество.
«Привыкли к переворотам»
Разбирая легкость, с какой был свергнут Петр III и возведена на трон Екатерина, сенатор А. Н. Вельяминов-Зернов восклицал (в 1830-х годах): «Боже мой, какое непостижимое происшествие! Какая тайна, какие обстоятельства, какие отношения, какие поступки были причиною такого необычайного успеха? Но тогда менее этому удивлялись, потому что привыкли к переворотам.
Переменить царствующую особу было так же легко, как переменить министра, но переменить министра тогда было труднее, чем теперь».
Умный сенатор замечает, что все перемены в российском правлении 1725 – 1762 гг. были серией разнообразных переворотов. Главные заговоры (пять или восемь) по числу свергнутых (и возведенных) императоров или императриц перемежались «малыми» (смена министров или фаворитов): почти всякая перемела сильного человека, как правило, не была в XVIII в. почетной «легальной» отставкой, и Вельяминов-Зернов знает, что говорит, когда констатирует: «Переменить министра тогда было труднее, чем теперь». Теперь – это время Николая I, когда отставка Аракчеева, Закревского, Ливена, Перовского не сопровождалась арестом, ссылкой, шельмованием…
Иное дело – прошлый век. Там переменить – значит, как правило, взять, сокрушить, уничтожить…
Вот неполный перечень «малых переворотов» XVIII в.:
1727 г . – свержение и высылка Меньшикова;
1730 г . – свержение Долгоруких;
1739 –1740 гг. – арест и казнь кабинет-министра Волынского и его единомышленников;
1748 г . – свержение и арест фаворита Лестока;
1758 г . – свержение канцлера А. П. Бестужева-Рюмина.
Перевороты на «министерском уровне» дополнялись «губернскими»: арестами и пыткой должностных лиц при соответствующей смене власти… Как характерно, что Западной Сибирью во второй половине XVIII в. управлял просвещенный губернатор Соймонов с вырванными ноздрями (следы прошлой опалы).
Внимательный наблюдатель, впрочем, заметит, что если свержение императора было «дворцовым переворотом», беззаконным по определению, то «перевороты министерские и губернские» производились ведь по распоряжению монарха, т. е. были освящены высшим законом империи. Однако грань между законом и беззаконием была очень зыбкой.
О причинах такого «переворотства» немало размышляли в самой России и за границей.
Прочитав известное сочинение Рюльера с описанием переворота 1762 г., французский король Людовик XVI (явно еще не предчувствуя приближающихся французских переворотов) высказал свою гипотезу: на полях книги к тому месту, где говорится, что солдаты «не выразили никакого удивления низложением внука Петра Великого и заменой его немкой», он написал: «Такова судьба нации, в которой Петр Первый, при всем своем гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора наследника царствующим правителем».
Александр Воронцов в ноябре 1801 г. убеждал Александра I, что даже верховники с их планами аристократического ограничения самодержавия были лучше, чем самоуправство гвардии: «По крайней мере, не солдатство престолом распоряжалось так, как в последующее время похожее на то случилось. Нет роду правления свойственнее к насильству, как военное. Безмерная власть в руках гражданских имеет, конечно, свои неудобности, но никогда таких насильственных следствий иметь не может, как необузданность военная». Опытный государственный деятель напоминает, что «необузданность преторианцев падением [Римской] империи кончилась», ибо римская гвардия «не только императоров избирала и свергала», но, «кто больше им денег даст, тот и будет императором».
В литературе неоднократно отмечалось, что дворянство сплотилось, стало избегать «переворотства», боясь ослабить трон и государственный аппарат перед крестьянской угрозой, под впечатлением пугачевщины, Великой французской революции и в страхе перед начинающимся революционным движением в своей стране.
Это, разумеется, верно, существенно, это необходимо учитывать в первую очередь, толкуя об отношениях самодержавия и дворянства.
Однако были еще некоторые причины, породившие как «взрывчатую историю» 1725 – 1762 гг., так и последующее затухание переворотов, и если определять их максимально общо, можно сказать: желали гарантий.
Петровская централизация, резкий разрыв со старыми, традиционными институтами (боярская дума, земские соборы, приказы и др.) определили максимальную самостоятельность государства по отношению к своему классу, сословию. Все в конечном счете делалось для своего дворянства; однако, например, абсолютизм Людовика XIV во Франции никогда не мог бы себе позволить таких методов управления, такого уровня приказа и повиновения, какими пользовался Петр I в отношении своего дворянства.
В России много слабее, чем во Франции, было обуздание абсолютной власти старинными традиционными институтами – дворянскими, городскими, церковными.
Исторический опыт показал, однако, что такое громадное сосредоточение власти опасно и для ее носителя, и для самого правящего класса.
Несколько дворцовых переворотов были фактически «гвардейской поправкой» к самовластью. Можно сказать, что дворяне (пусть через свою верхушку, но это в данном случае неважно) в течение XVIII в. приспосабливали собственное государство к своим нуждам, государство же приспосабливалось к ним. Резкий разрыв между дворянством и государством мог регулироваться только теми же «беззаконными», взрывчатыми методами, какими эта политическая система устанавливалась.
Однако легкая смена властителей – это опять же не что иное, как игра троном между крупнейшими аристократическими фамилиями. Много переворотов – это ведь фактически та же ненавистная олигархия, правление немногих (но не одного!); это для среднепоместного поручика – жизнь с меньшими гарантиями, чем крепкое самодержавство. Пройдет, однако, более 30 лет, прежде чем их желание осуществится.
1762 – 1772 годы
После 28 июня 1762 г. на престоле Екатерина II. Дворянство постепенно получает многие искомые гарантии; несколько заговоров в первые годы нового царствования легко пресечены. Перевороты как будто уже не нужны и менее возможны. Однако новая система отношений власти с дворянством утверждается не сразу. Воронцов в уже цитированной записке замечает: «Того умолчать нельзя, что самый сей образ вступления [Екатерины II] на престол заключал в себе многие неудобства, кои имели влияние и на все ее царствование». Раздавались голоса, что все екатерининское 34-летие есть «затянувшийся переворот». Продолжением «28 июня 1762 года» были другие подобные действия царицы против реальных и потенциальных претендентов на трон. Французский посол Беранже докладывал в ту пору своему правительству: «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит; с другой – как внук царя Ивана увядает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!».
«Внук» (на самом деле правнук) царя Ивана вскоре ликвидируется; продолжением репрессивных переворотных мер Екатерины II было также тяжкое, многолетнее заключение в Холмогорах отца, братьев и сестер убитого Ивана Антоновича; и наконец, борьба царицы с Павлом и его приверженцами.
Еще выбирая сторонников для переворота 1762 г., Екатерина не раз выступала как бы от имени сына, так что порою создавалось впечатление, будто она претендует только на регентскую роль до совершеннолетня великого князя. Именно в такой «тональности» Екатерина вела переговоры с Никитой Ивановичем Паниным, который был необходим заговорщикам и своим немалым политическим опытом, и особой ролью при Павле: с 1761 г . Панин отвечает за воспитание юного принца и с этого времени как бы представляет интересы Павла в сложной придворной борьбе. Не вдаваясь в подробности, отметим, что Павел был для его воспитателя не просто орудием интриги и карьеры: II. И. Панин мечтал об усовершенствовании российской политической системы, ограничении «временщиков, куртизанов и ласкателей», сделавших из государства «гнездо своих прихотям». Утверждение наиболее естественного, максимально законного монарха (каким Панин считал Павла) было лишь половиной замысла. Одновременно Панин хотел известного ограничения самодержавия императорским советом из 6 – 8 членов с четырьмя департаментами (иностранных, внутренних, военных и морских дел). Речь шла о зачатке «аристократической конституции» – Панин опирался на шведские образцы.
Екатерина дала обещания и насчет прав сына, и насчет «императорского совета», однако очень скоро все было «забыто». Укрепившись на престоле, царица гасила любой намек на временность своей власти и воцарение Павла; вокруг манифеста же об ограничении самодержавия в конце 1762 г. шла сложная закулисная борьба, когда царица уже поставила свою подпись, но затем «надорвала» документ.
Судьба наследника и панинские конституционные планы теперь соединяются надолго. Будущий ярый враг всякого ограничения своей власти, Павел Петрович до того в течение нескольких десятилетий представляет главную надежду панинской партии: кроме Никиты Панина с наследником позже сближается его брат, генерал Петр Панин, и близкий к ним человек, один из первых русских писателей, Денис Иванович Фонвизин.
Можно догадаться (по некоторым косвенным материалам), какие «крамольные» сюжеты зачастую обсуждались с наследником на уроках.
В 1830 г . Д. II. Блудов представит Николаю I 11 документов, которые были найдены в кабинете Павла I и среди которых преобладали материалы, касающиеся прав наследования престола, и выписки о незаконности наследования по женской линии.
Любопытно, что выписки произведены Никитой Ивановичем Паниным и вскоре, очевидно к совершеннолетию Павла, будут переданы ему для сведения о его правах.
Екатерина II, конечно, знала, что Павла воспитывают в оппозиционном к ней духе, что Панин и выбранные им учителя (самый известный из них, С. Порошин, оставил знаменитые записки о годах учения юного Павла) осторожно, но постепенно укрепляют в принце сознание собственных прав на престол, интерес к судьбе отца – Петра III; однако, боясь нарушить сложившееся равновесие разных политических сил, царица не решилась отнять у Панина Павла и только все плотнее окружала сына своими «наблюдателями».
В 1772 г . сторонники Павла надеются на передачу Екатериной престола своему наследнику, достигшему 18-летия. Надежды не оправдались. Однако борьба продолжалась. Вскоре Екатерина женит Павла на принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, которая после перехода в православие становится Натальей Алексеевной.
Именно к этому моменту относится и тот дневничок наследника, что цитировался в начале главы…
Молодая великая княгиня сразу пополняет партию, враждебную Екатерине; зато царица, пользуясь совершеннолетием и женитьбой Павла, удаляет от него Панина-воспитателя, предварительно щедро его одарив.
Кризис в отношениях двух придворных лагерей нарастает… Мы угадываем новые политические планы Панина – Фонвизина – Павла (об этом несколько позже).
Внезапно доносится голос «остальной России»: во время так называемого Камчатского бунта, возглавленного М. Бениовским ( 1772 г .), повстанцы действуют именем Павла Петровича – призрак лже-Павла…
Многие сочтут весьма знаменательным, «роковым» и появление первых известий о «Петре III» – Пугачеве сразу после свадьбы Павла Петровича.
Если Пугачев – Петр III, то его «сын и наследник», естественно, Павел I.
Самозванцы
Великая крестьянская война потрясает империю в 1773 и 1774 гг., но зарницы ее и поздние громы наполняют все екатерининское царствование.
Пугачев был одним из почти сорока известных на сегодня самозванцев, принявших имя Петра III.
Сочиненная в начале 1790-х годов и уже упоминавшаяся «Благовесть» Еленского отмечала «двадцать незаконных лет Екатерины II». Даже в царствование Павла I, восстановившего почитание своего отца, все же объявлялся (в Быкове, близ Москвы) некий Семен Анисимов Петраков, называвшийся Петром III, но потребовавший клятвы с посвященных «не говорить до коронации нового государя» (17 февраля 1797 г. Павел I отправил Петракова «за обольщение простого народа в Динамюнд в работы навсегда»)
Последним же из лже-Петров был, очевидно, основатель скопческой ереси Кондрат Селиванов, который, проживая в Петербурге в 1802 г., «не отказывался и не настаивал на своем отождествлении с Петром III, дедом царствовавшего Александра I».
Сам эффект народного самозванчества изучался и изучается современной наукой. К. В. Чистовым проанализированы своеобразные условия, породившие такую специфически российскую особенность. В других странах это редкие исключения, в русской же истории XVI – XIX вв. три мощные волны самозванчества: царевич Дмитрий, Петр III и Константин (не говоря уже о нескольких самозванцах, именовавших себя именами других царей).
Одной из важных причин этого исторического явления была особая роль царской власти при объединении Руси и ее освобождении от татарского ига. Эта роль заключалась в том, что на определенных исторических этапах монарх (московский князь, царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Пожалуй, ни один, даже самый легендарный, король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, как на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Третьим). Как известно, идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался в общем однозначно: царь все равно «прав»; если же от царя исходит неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же этот монарх неправильный, подмененный, самозваный и его нужно срочно заменить настоящим…
Весомость католицизма на Западе вызывала ереси как основную идеологическую форму народных движений. В России относительно слабую церковь во многом подменяла верховная власть: для сравнительно менее завоеванного церковью народа царь «заменял» бога. Важным обстоятельством, усугубившим эту историческую особенность, было усиление в конце XVII и XVIII в. разрыва между народом и клиром: прежде попы выбирались общинами, теперь же государственный контроль резко возрастает, отчуждение духовенства и народа усиливается. Протест, борьба, восстание, естественно, выливаются в царистской оболочке, или (что то же самое, «с обратным знаком») неправильный царь равен дьяволу, Антихристу; как тонко замечает современный исследователь, многие формулы и действия Петра I рождали в народном сознании представления, будто «Петр как бы публично заявлял о себе, что он – Антихрист». Например, упразднение патриаршества воспринимается как объявление царем самого себя патриархом; произнесение царского имени без отчества – Петр Первый – «несомненно должно было казаться претензией на святость», ибо первые и называемые без отчества – это духовные лица, и т. п., и уж в народе идут толки, будто «две главы орла – святительская и царская, а третья корона над ними – Антихристова».
Своеобразной особенностью самозванства 1770-х годов было использование крестьянским Петром III, Пугачевым, образа, имени реально существующего царевича Павла. Емельян Пугачев на пиршестве, подняв чару, обычно провозглашал, глядя на портрет великого князя: «Здравствуй, наследник и государь Павел Петрович» – и частенько сквозь слезы приговаривал: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». В другой раз самозванец говорил: «Сам я царствовать уже не желаю, а восстановлю на царствие государя цесаревича». Сподвижник Пугачева Перфильев повсюду объявлял: послан из Петербурга «от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его Величеству».
В пугачевской агитации важное место занимала повсеместная присяга Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне, а также известия, будто Орлов «хочет похитить» наследника и великий князь «с 72 000 донских казаков приближается»; уж оренбургский крестьянин Котельников рассказывает, как генерал Бибиков, увидя в Оренбурге «точную персону» Павла Петровича, его супругу и графа Чернышева, «весьма устрашился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер». Наконец, когда сподвижники решили выдать Пугачева властям, он «угрожал им местью великого князя».
Как же реальный принц отнесся к своей самозваной тени?
Нелепо, конечно, предполагать, будто Павел допускал свое родство с Пугачевым: о характере, целях народного восстания он имел в общем ясное понятие, хотя и не был уверен, что его отец действительно погиб; одним из главных душителей народной войны был близкий к наследнику Петр Панин. Парадоксальность российского XVIII века проявлялась здесь в том, что Панин свою дворянскую оппозицию Екатерине облекал едва ли не в столь же резкие выражения, как Пугачев – свою крестьянскую ненависть, а царица при начале восстания велела московскому главнокомандующему М. II. Волконскому «приглядывать за Паниным»: она явно опасалась, что тот использует события в своих целях (как прежде подозревалось «подстрекательство» Петра Папина в Чумном бунте 1771 г .).
Выходило, что Панин (и косвенно Павел) должен был, подавляя восстание Пугачева, доказать тем свою благонадежность. И Петр Панин, мы знаем, очень старался, рвал бороду у захваченного Пугачева; тем не менее в селе Захаровском Камышловской округи рассказывали в 1780-х годах, будто староверам покровительствует наследник «я господин генерал Петр Папин, его высочеству отец крестной».
Однако мы не можем не считаться с некоторыми последствиями «пребывания Павла» в лагере Пугачева.
Во-первых, народная молва, известная популярность павловского имени – хотя бы как редкого мужского среди долгой гинеократии, женского правления. Любопытно, что после Петра I раскольничьи наставники учат: «В вере христианской женскому полу царствовать не подобает, потому что как царь царствует на небеси Бог, то на земле должно быть по образу его».
Распространение лже-Петров III рождало, естественно, определенные фантастические надежды на его сына.
Перечисляя прегрешения Павла, знаменитый Л. Л. Беннигсен, между прочим, сообщал в 1801 г.: «Когда императрица проживала в Царском Село в течение летнего сезона, Павел обыкновенно жил в Гатчине, где у него находился большой отряд войска. Он окружал себя стражей и пикетами; патрули постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобы воспрепятствовать какому-либо неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут, по которому он удалился бы с войсками своими в случае необходимости; дороги по этому маршруту по его приказанию заранее были изучены доверенными офицерами. Маршрут этот вел в землю уральских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев, который в 1772 и 1773 гг. сумел составить себе значительную партию, сначала среди самих казаков, уверив их, что он был Петр III, убежавший из тюрьмы, где его держали, ложно объявив о его смерти. Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков. Его матеря известны были его безрассудные поступки, но она только смеялась над ними и оказывала им так мало внимания, что держала в Царском Селе для охраны дворца и порядка в городе лишь небольшой гарнизон, не превышавший двадцати человек казаков».
Еще интереснее (и свободнее) Беннигсен развивал свою версию перед племянником фон Веделем. Повторив, что Павел собирался бежать к Пугачеву, мемуарист добавляет: «Он для этой цели производил рекогносцировку путей сообщения. Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим».
Строки о «бегстве на Урал», даже если это полная легенда, весьма примечательны как достаточно распространенная версия (Беннигсен в 1773 г. только поступил офицером на русскую службу и, по всей видимости, узнал приведенные подробности много позже). Заметим в этом рассказе довольно правдиво представленную причудливую «логику самозванчества», когда сын решается назваться отцом, чтобы добиться успеха (иначе он, по той же логике, должен подчиниться «Петру III» – Пугачеву).
Переплетение разных типов самозванчества тут весьма отчетливо.
Затронутая тема интересна, не изучена, а нам она важна для понимания ряда событий в последние годы XVIII столетия.
Как легко заметить, мы говорим сейчас не только о народном самозванчестве, но и о «верхнем» самозванчестве, свойственном лишь правящему слою. Самовластие, усилившееся после Петра, откровенно порабощающее, но притом употребляющее множество просвещенных терминов о духе времени, благе, законах, – эта система порождает своих «самозванцев».
Несоответствие названия реальности, игра в фантомы – вот самозванчество! Что такое «мертвые души»? Формально это живые люди, которых нет, но которые есть до следующей нескорой ревизии. Они (мертвые) невольные самозванцы (одним фактором своего существования в бумагах), а их помещик и государство разыгрывают явившиеся отсюда «самозваные суммы». Чичиков – он же Бонапарт, капитан Копейкин, так сказать самозванец в квадрате, – куда менее удивителен, исключителен, чем многие полагают.
Споры о том, где мог Пушкин найти знаменитый сюжет, подаренный Гоголю, кажется, надо решительно прекратить. Сюжет был «всеобщим». В раскольничьем документе о «Петре Антихристе» (конец XVIII – начало XIX в.), между прочим, отмечается: «Так и начал той глаголемой (так называемый) бог без меры возвышатися, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска, старых и младенцев, живых и мертвых и, облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых дани востребовал».
Мертвые души – из мира цивилизованного обмана, верхнего самозванства.
И кто же Ревизор, как не самозванец? (Гоголь вслед за Пушкиным, как видим большой знаток этой проблематики.) Хлестаков и не хотел, но ситуация буквально заставляет самозванствовать…
Берем Хлестаковых выше: не литературный, но реальный начальник Нерчинских заводов князь Нарышкин самозванствует в Забайкалье 1770-х годов, присваивая себе не только губернаторские, но и царские функции – раздает чины, самовольно объявляет рекрутские наборы, формирует уланские полки, – покуда не заманят его в Иркутск и не свяжут.
Еще выше самозваная царевна (не из народа – из просвещенных) – «дочь Елисаветы», княжна Тараканова. Впрочем, кто знает, чем она хуже своей противницы, Екатерины II? Ведь самозванство на троне едва ли не формула!
Две «самозванческие стихии» постоянно вторгались в сознание Павла; решительно отбрасывая, боясь, ненавидя крестьянский бунт, он хотел видеть в народе сочувствие к единственному законному претенденту на российский престол.
«Ну, я не знаю еще, насколько народ желает меня, – с большой осторожностью скажет Павел прусскому посланнику Келлеру в начале 1787 г . – Многие ловят рыбу в мутной воде и пользуются беспорядками в нынешней администрации, принципы которой, как многим без сомнения известно, совершенно расходятся с моими».
Как видно, Павел связывает свою популярность в народе с разногласиями, разделяющими его с матерью.
«Павел – кумир своего народа», – докладывает в 1775 г . австрийский посол Лобковиц.
Видя, как народ радуется наследнику, близкий его друг Андрей Разумовский будто бы шепнул: «Ах! Если бы Вы только захотели». Павел не остановил его, хотя речь шла об аресте и низложении Екатерины.
Вскоре после того, в 1782 г ., солдат Николай Шляпников, а в 1784 г . сын пономаря Григорий Зайцев, – каждый появляется перед народом великим князем Павлом Петровичем. «Легенда о Павле-«избавителе» имела широкое распространение на Урале и в Сибири».
После 1789 г . Екатерина преследует Новикова, Баженова и других деятелей за тайные масонские связи с Павлом; тогда же к наследнику попадает «Благовесть», где его призывают короноваться волею народа и выполнить дело освобождения. «А что если Павел, – спрашивает Л. И. Клибанов, – откажется короноваться волею народа и присягнуть на верность народным интересам, запечатленным в «Благовести»? Был ли у ее автора готовый ответ на этот вопрос? В «Благовести» не предвидится отрицательная реакция Павла. Роль, отводимая Павлу в «Благовести», исходит, возможно, из социально-утопических легенд о Павле как «царе-избавителе», циркулировавших в народе в 60 – 90-х годах XVIII в.».
Исследователь допускает, что «история с «Благовестью»» имела исторический прецедент. Он связан с II. И. Папиным, воспитателем Павла и одним из инициаторов дворцовой интриги, в которую Павел, «как бы поневоле и на короткое время, оказался втянутым».
Снова причудливое взаимодействие социально далеких сфер народного протеста и дворянской оппозиции.
Завещание Панина
В то самое время, когда Пугачев клялся именем «своего» Павла Петровича, по-видимому, созревал придворный заговор в пользу настоящего Павла Петровича. Как и в 1762 г., панинский замысел связывал права наследника с конституционными идеями.
Напомним основные факты: декабрист М. А. Фонвизин, ссылаясь на рассказы отца (родного брата автора «Недоросля»), записал в сибирской ссылке, что «в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетня и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф II. И. Папин, брат его фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. Б. Решит, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. Душою заговора была супруга Павла, великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная».
Далее мемуарист сообщает, что Екатерина благодаря предательству одного из секретарей Панина все узнала, юный Павел оробел, принес повинную, а царица не стала чинить расправу, но под благовидными предлогами всех удалила или окружила надзором.
Некоторые исследователи, ссылаясь на анахронизмы и неточности рассказа М. А. Фонвизина, отрицали «заговор 1773 – 74 года». Однако на сегодня накопилось уже немало данных, подтверждающих, что «конституция Панина – Фонвизина» действительно существовала. Проблема осложняется тем, что некоторые сохранившиеся документы относятся к более позднему времени и свидетельствуют о «конституционной активности» братьев Паниных, Дениса Фонвизина, Павла в 1780-х годах.
Недавно М. М. Сафонов установил, что за два дня до своей смерти, 28 марта 1783 г ., Н. И. Папин убеждал Павла преобразовать государственный строй России на конституционных началах, «причем эти предложения в общем совпадают с тем, что записал много лет спустя М. А. Фонвизин».
Согласно воспоминаниям декабриста, «Панин предлагал установить политическую свободу сначала для одного только дворянства в учреждении верховного Сената, которого часть несменяемых членов назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. (…) Под ним в иерархической постепенности были бы дворянские собрания: губернские или областные и уездные. (…) Выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы исполнительная, с правом утверждать обсужденные и принятые Сенатом законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фонвизиным под руководством графа Панина. (…) Введение, или предисловие, к этому акту, сколько припоминаю, начиналось так: «Верховная власть вверяется государю для единого блага ого подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют…»».
Предисловие к конституции (ходившее еще под именем «завещание Панина») сохранилось и является одним из замечательных памятников русской общественной мысли.
Текст подготовленной конституции, с трудом спасенный Денисом Фонвизиным и Петром Паниным от Екатерины II, до сей поры не найден, хотя, может быть, и сыграл свою роль в событиях 1801 г. (о чем будет сказано особо).
Друзья-наставники юного Павла не дожили до его воцарения (Никита Панин умер в 1783 г ., Петр Панин – в 1789 г ., Денис Фонвизин – в 1792 г.). Они до конца дней, по-видимому, верили, что Павел проведет в жизнь те новые идеи, которые ему внушались. Правда, среди документов, связанных с именем П. И. Панина (и возможно, также Д. И. Фонвизина), сохранились проекты, очевидно обсужденные с Павлом-наследником в 1770 – 1780-х годах, где находим как начала конституционные, так и самодержавно-централизаторские. Таковы написанные Павлом (и представленные матери, а также Н. И. Панину) «Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребных для защиты оного, и касательно обороны всех пределов» (1774 – 1778 гг.). Любопытны и другие планы наследника о создании сверху донизу системы единоначалия, для чего он желал бы отменить генерал-губернаторов («излишне, кажется, сверх губернатора иметь другого хозяина в губернии»); предполагалось и нижние земские суды «наполнять определением людей от правительства, а не выбором дворянства». Цитируемая рукопись «Мнение о государственном казенном правлении и производстве дел по свойству их рассмотрения и распоряжения его зависящих» относится к обширному комплексу «панинских бумаг». Она была составлена в 1780 г . и позже «найдена в собственном бюро императора Павла I в одном секретном ящике» и передана Николаю I.
Заводя в Гатчине «потешные полки», наследник видит здесь возвращение к идеям Петра Великого; однако в военной организации Гатчины, прусской выучке, жестокой муштре уже угадываются политические идеи, которые расцветут, как только Павел станет царем: Павел-централизатор, сторонник жесткого самодержавия, куда более «привычен», куда более представлен в литературе, нежели Павел-«конституционалист». И тем не менее в 1770-х и 1780-х годах наследник – при всех возможных оговорках, при всей своей тяге к «порядку», централизации – принимал идеи Панина – Фонвизина и, по-видимому, находил в конституционных проектах желаемое опровержение системы Екатерины, ту законность, которая включала и утверждение его собственных прав. К тому же (не вникая сейчас подробно в сложный, мало изученный сюжет) отметим, что и в гатчинском строе вырабатывались не только «формулы ужесточения», но и те понятия о чести, этикете, которыми будет так оперировать Павел-царь! Вербовка же в гатчинские полки лиц неимущих, без образования создавала иллюзию своеобразного «демократизма» наследника. По всей видимости, «конституционные мечтания» Павла просуществовали до Великой французской революции. Однако еще между 1773 – 1789 гг. на Павла и его кружок обрушиваются довольно жестокие удары (большей частью направляемые рукою Екатерины II), и это существенно меняет характер человека, который некогда записывал свои чувства накануне свадьбы.
Если мысленно продолжить оборвавшийся дневничок 1773 г., обязательно будет затронуто хотя и не первое, но, во всяком случае, самое жестокое столкновение юного принца с «откровенной существенностью»: любимая жена оказывается в связи с ближайшим и доверенным другом Павла – Андреем Разумовским; открывает же глаза обманутому его царственная мать, очевидно перехватившая секретные бумаги великой княгини.
Документы скупо освещают потаенную сторону событий 1776 г . – смерть великой княгини, разоблачение Разумовского и его высылку к отцу на Украину, еще меньше – горе и разочарование наследника. Кончина Натальи Алексеевны в этих напряженных обстоятельствах вызвала, конечно, слух об убийстве, совершенном по приказу Екатерины, и царица, понимая возможность таких разговоров, приглашает для медицинского заключения 13 врачей; она специально приказывает Бецкому заняться опровержением возможных подозрений Павла: «Велите посмотреть за тем, есть ли на котором локте (Натальи Алексеевны) багряное пятно. Сие великий князь требует знать, и что за пятно он сам третьего дни усмотрел».
Екатерина рассчитывает усмирить сына новым браком: в том же 1776 г . его женят на принцессе Вюртембергской, и новая великая княгиня Мария Федоровна родит в 1777 г . сына Александра (будущего Александра I), в 1779 г . – сына Константина, затем еще восьмерых детей. Династия упрочена, однако придворная борьба не утихает.
Вторая жена Павла тоже включается в секретную оппозицию против Екатерины; зато царица сразу же отбирает родившихся внуков и воспитывает их при себе, оберегая от родительского влияния. Как видим, государственный переворот 1762 г. многообразно продолжен, а насильственное, «переворотное» изъятие Александра и Константина – явный предвестник очередного крупного переворота – передачи престола Александру, минуя Павла.
Павел даже боялся в 1782 г . ехать с женою в заграничное путешествие, подозревая, что мать ищет случая от него избавиться и назначить наследником старшего внука; Екатерина же действительно требует бумаги Петра I насчет престолонаследия, ищет в деле царевича Алексея прецедента для устранения Павла. При этом царица дает блестящую по форме и явно заостренную к современности характеристику погибшего сына Петра Великого: «Я почитаю, что премудрый государь Петр I, несомненно, величайшие имел причины отрешить своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына. Сей наполнен был против него ненавистью, злобою, ехидной завистью; изыскивал в отцовских делах и поступках в корзине добра пылинки худого, слушал ласкателей, отдалял от ушей своих истину, и ничем на него не можно было так угодить, как понося и говоря худо о преславном его родителе. Он же сам был лентяй, малодушен, двояк, нетверд, суров, робок, пьян, горяч, упрям, ханжа, невежда, весьма посредственного ума и слабого здоровья».
Между тем, к неудовольствию Екатерины, поездка Павла с женой по Европе (под именем графа и графини Норд – Северных) вызвала интерес и сочувствие в разных европейских столицах, особенно в Париже. Д'Аламбер и другие знаменитые умы находили в наследнике знания, «возвышенный характер»; именно тогда родилось сравнение российского принца с принцем литературным.
Австрийский император Иосиф II награждает 50 дукатами актера придворного театра «за счастливую мысль», что если в присутствии графа Северного будет представлен «Гамлет», то «в зале очутятся два Гамлета».
Репутация «российского Гамлета» (независимо от ее соответствия или несоответствия шекспировской основе) объясняет, однако, то место, которое многие современники отводили юному Павлу среди петербургских Полетаев, Розенкранцев, а также Клавдия и Гертруды, соединенных в одной Екатерине II.
Возможно, под влиянием литературного образа принц Павел входит в роль и однажды то ли шутя, то ли серьезно подробно повествует друзьям о встрече с «тенью предка» (правда, не отца, а прадеда – Петра I), которая восклицает: «Павел, бедный Павел, бедный князь!».
Подозрительный, печальный, многократно униженный, стремящийся укрыться от двора в Гатчине или Павловске, прислушивающийся к просвещенным советникам, старающийся уловить «мнение народное», обуреваемый идеями насчет перемены дел в России – таким предстает сын Екатерины в последние годы ее правления.
Новые серьезные испытания начнутся с 14 июля 1789 г .
Революция во Франции
Нет нужды доказывать, как сильно грянул на весь мир французский революционный гром 1789 г . В исследовательской литературе, естественно, лучше изучен отклик на это событие прогрессивного российского общества; реакция же правящих слоев представлена более всего в их карательных действиях (арест Радищева, Новикова и др.), в военных приготовлениях к походу против «революционной гидры» и тому подобных «практических» мерах. Хуже изучена идеологическая реакция российских верхов на 1789 – 1794 гг., сложная, неоднородная перестройка их воззрений, программных установок.
Прежде всего попытаемся оценить силу страха, проникшего в Зимний дворец после воцарения во Франции «равенства злого». В 1792 г. распространяется тревожный слух о «легионе цареубийц», посланном из Парижа, – и уж факты ложатся в фантастическую схему, скоропостижная кончина австрийского императора Леопольда II 1 марта 1792 г., убийство шведского короля Густава III 5 марта того же года.
Павел еще в 1790 г. опасается, «что до истечения двух лет вся Европа… будет перевернута вверх дном».
Е. И. Нелидова, возлюбленная Павла, несколько позже попрекнула великого князя, что он переменил свои политические воззрения. «Вы вправе сердиться на меня, Катя, все это правда, – отвечает Павел, – но правда также и то, что с течением времени со дня на день сделаешься, пожалуй, слабее и снисходительнее.
Вспомните Людовика XVI: он начал снисходить и был приведен к тому, что должен был уступить. Всего было слишком мало и между тем – достаточно для того, чтобы в конце концов его повели на эшафот».
Многократный собеседник Павла I Коцебу замечает (по-видимому, передавая слова императора): «Мрачную подозрительность внушила ему казнь Людовика XVI (…) Он слышал, как те самые люди, которые расточали фимиам перед Людовиком XVI, как перед божеством, когда он искоренил рабство, теперь произносили над ним кровавый приговор. Это научило его если не ненавидеть людей, то их мало ценить, и, убежденный в том, что Людовик еще был бы жив и царствовал, если бы имел более твердости, Павел не сумел отличить эту твердость от жестокости».
Приведенные строки – отголосок характерных споров, что возникали близ российского трона в 1790-х годах: как надо было действовать там, во Франции, и здесь, в России, – уступать или наступать?
Именно в эту пору, как видно, умирают в сознании наследника конституционные мечтания, проекты, выношенные в 1770 – 1780 гг. братьями Паниными и Д. И. Фонвизиным (хотя, как отмечалось, идеи ограничения самодержавия уже сплелись в тех планах с идеей централизаторской перестройки государственного аппарата). Надо полагать, что кроме тяжкого впечатления, которое произвели на Павла французские конституционные опыты 1789 – 1794 гг., здесь играло роль и нежелание большей части дворянства ограничить самодержавие.
Если приходилось выбирать между правлением знати и правлением одного, русский «среднестатистический» дворянин, как известно, не колебался ни минуты: он предпочитал самодержца. Последний из сохранившихся документов того потаенного «панинского» комплекса, которым Павел должен был воспользоваться, вступив на престол, датируется 1784 – 1787 гг. Последний вдохновитель тех замыслов Денис Иванович Фонвизин умирает в 1792 г. Когда через четыре года вдова прокурора Пузыревского, верного панинского человека, поднесет императору Павлу пакет конспиративных сочинений Папина – Фонвизина, она получит пенсию и благоволение, сами же бумаги будут царем немедленно запрятаны и, конечно, никакого хода не получат.
Сохранились сведения, что непримиримость Павла к французским делам обгоняла (в начале революции) реакцию Екатерины.
«Однажды Павел Петрович читал газеты в кабинете императрицы и выходил из себя:
– Что они все там толкуют! – воскликнул он. – Я тотчас бы все прекратил пушками.
Екатерина ответила сыну: «Vons etes une bete feroce (Ты жестокая тварь. – Фр.), или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то не долго продлится твое царствование».
Эпизод был позже записан М. С. Мухановой со слов отца, обер-шталмейстера С. И. Муханова, и, конечно, включает в себя знание того, что произошло после; но основе рассказа – чрезвычайному страху и ненависти наследника к революционному Парижу – можно верить.
Впрочем, что бы ни говорила Екатерина, у Павла были кое-какие политические идеи, пусть противоречивые, иногда смутные, но позже резко выявившиеся, идеи, как увидим, отнюдь не сводившиеся к одним пушкам.
Царицу вряд ли могло так разозлить отношение сына к французским событиям, в общем сходное с ее взглядами (ведь Россия скоро будет воевать с революционной Францией, а царица заболеет, узнав о казни Людовика XVI!). Мать и сын, однако, продолжают расходиться в некоторых принципах, методах, формах политики; непримиримо же их разделяет борьба за власть.
Завещание царицы
О существовании екатерининского документа, передававшего престол внуку Александру вместо сына Павла, подробно писал Н. К. Шильдер. Кратко напомним, что Екатерина II в последние годы царствования не раз бралась за этот проект, в который были посвящены несколько высших сановников империи.
Обнародование завещания предполагалось как будто 24 ноября 1796 г. (в Екатеринин день) или 1 января 1797 г.
Любопытным, недостаточно освоенным наукой документом является так называемое странное завещание императрицы Екатерины, писанное ее рукою на маленьком полулисте. Оно явно примыкает к тайному завещанию царицы в пользу Александра (и возможно, даже составляло часть его).
Подробно расписав, где и как ее хоронить, царица просит «носить траур полгода, а не более, а что меньше того, то луче».
«Вивлиофику мою со всеми манускриптами и что с моих бумаг найдется моей рукою писано отдаю внуку моему любезному Александру Павловичу, также разные мои камения и благословляю его умом и сердцем.
Копии с сего для лучаго исполнения положатся и положены в таком верном месте, что чрез долго или коротко нанесет стыд и посрамление неисполнителям сей моей поли.
Мое намерение есть вознести Константина на престол Греческой Восточной империи.
Для блага империи Российской и Греческой советую отдалить от дел и советов оных империй принцев Виртонберхских и сними знаться как возможно менее, равномерно отдалить от советов обоих пола немцов».
Легко заметить, что Павел и его жена в документе даже не упомянуты. Выпады против принцев Вюртембергеких и «обоих пола немцов» явно метят в великую княгиню Марию Федоровну.
Особый тон и высочайшее благословение при упоминании Александра – и рядом мысль о Константине на греческом престоле – все это еще более подтверждает мысль, что «странное завещание» несет на себе «тень» главного завещания – передачи власти внуку.
В 1796 г. Павел узнает от самого Александра об этом плане Екатерины П. Александр же, не принимая этой идеи, в письмах дважды нарочито называет отца «величеством»: в то время как бабушка уверена в согласии Александра на трон, тот себя тайно «низлагает»!
Серьезное, впрочем, соседствует с фарсом: летом 1796 г. «у Петрова дня» во многих местах Украины, на ярмарке Елисаветграда, в Новороссийской и Вознесенской губерниях, разнесся слух о восшествии Павла Петровича. (И не было ли случайностью совпадение этой даты с тем сроком, который еще за несколько лет до того назначал автор «Благовести» для народного избрания Павла на царство: 1 сентября 1796 г.?)
Ярмарочные слухи окончились тем, что несколько человек были отданы под суд и… отпущены через полгода, а в официальной бумаге писано: «…от кого именно начало возымел сей слух, не доискано, а видно, глас народа – глас божий», ведь Павел, пока разрешалось дело, и в самом деле взошел и стал именоваться титулом из 51-го географического элемента.
Штурм
Многие мемуаристы, описывая восшествие Павла на престол, пользуются терминологией, пригодной к описанию захвата, переворота, революции.
«Дворец взят штурмом иностранным войском», – острит свидетель-француз.
«Тотчас, – вспомнит Державин, – все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорды, тесаки и, будто по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».
Опорой переворота были «потешные» гатчинские полки, и сама система должна была напомнить победу Петра над «женским правлением»: в 1689 г . ликвидировалась система Софьи, в 1796 г. – Екатерины.
«Началась ужасная сутолока, – замечает современник, – появились новые люди, новые сановники. Многие уж знали, что перед тем государь вместе с графом Безбородкой деятельно занимался сожжением бумаг и документов в кабинете покойной императрицы».
Безбородко, знавший о главном завещании, очевидно, помог Павлу в изъятии и уничтожении документа.
Державин, вспоминая о желании Екатерины II и Безбородки «ему отдать (в 1793 г.) некоторые бумаги, касательные до великого князя», пояснял: «Догадываются некоторые тонкие царедворцы, что они те самые были, за открытие которых, по вступлению на престол императора Павла I, осыпаны они от него благодеяниями»
Действительно, Безбородко получил огромные пожалования и награды, свидетельствующие о каких-то особых услугах, оказанных Павлу: в день коронации – титул князя, 30 тыс. десятин земли и 6 тыс. душ.
Впрочем, согласно версии С. А. Тучкова, Николай Зубов, узнав у брата Платона, фаворита Екатерины II, «где стоит шкатулка с известными бумагами», взял какой-то лист, поскакал в Гатчину. «Павел, взглянув на оную, разорвал ее, обнял Зубова и тут же возложил на него орден св. Андрея. По вступлении же своем на престол Павел сделал его обер-шталмейстером двора».
Хранение и составление «завещания» были вероятной причиной изгнания секретаря Екатерины II Турчанинова.
Уже после смерти Павла вышли наружу некоторые характерные версии и слухи, где, разумеется, надо отличать реальную основу от вымысла, специально направленного против царя как «незаконного правителя», нарушителя воли Екатерины II. Так, Валериан Зубов объяснял Адаму Чарторыйскому, будто «императрица Екатерина II категорически заявила ему и его брату, князю Платону, что на Александра им следует смотреть как на единственного и законного их государя и служить ему, и никому другому, верой и правдой».
Державин, немало знавший и о многом подозревавший, после смерти Павла «воскрешает» Екатерину II в стихах;
Давно я зло предупреждала,
Назначив внука вам в цари…
Еще ярче, реальнее, очевидно на основе немалых сведений, представлена картина тайных планов Екатерины и «контрпереворота» Павла в известном анонимном документе первых лет XIX в. «Разговор в царстве мертвых»: царица в «Елисейских полях» допрашивает Безбородку о судьбе тайно подписанного ею и несколькими высшими лицами акта о возведении Александра.
«Безбородко [упал на колени]. – Монархиня! Милосердие твое равняется душе твоей! Я виноват, что не обнародовал твоего повеления, но выслушай подданного, стенящего об участи России и оплакивающего жребий своих соотчичей. Неожиданная кончина матери нашей погрузила нас в уныние всех; между тем Павел, находясь в своей Гатчине, еще не прибыл. Я собрал совет. Прочел акт о возведении на престол внука твоего. Те, которые о сем знали, стояли в молчании, а кто впервые о сем услышал, отозвались невозможностию исполнения оного; первый подписавшийся за тобою к оному митрополит Гавриил подал голос в пользу Павла, и прочие ему последовали. Народ, любящий всегда перемену и не постигая ее последствия, узнав о кончине твоей, кричал по улицам, провозглашая Павла императором; войска твердили то же; я в молчании вышел из совета, безумствуя сердцем о невозможности помочь оному (…) Народ в жизнь вашу о сем завещании известен не был. И один час переменить миллионы умов ведь дело, свойственное только одним богам».
Знание закулисной стороны придворной тайны здесь немалое. Поражает, между прочим, причудливое совпадение известных элементов описанного события с междуцарствием 1825 г.: и там и тут возникла проблема «необъявленного завещания»; в обоих случаях решало реальное соотношение военных и политических сил – только в 1825 г. Константин подтвердил свое отречение, а в 17% г. Павел не признал своего низложения.
При всей огромной разнице социально-политической обстановки, при совершенно разном исходе двух событий значение отмеченного «сходства», наверное, нельзя недооценивать как «исторический прецедент» для декабристов и при объяснении мотивов поведения Александра I, который ведь был важным действующим лицом обеих ситуаций, разделенных 29 годами.
В ноябре – декабре 1825 г., так же как в ноябре 1796 г., «монархическая истина» была сомнительной, законность зыбкой, свобода «неминуемо» пыталась проскочить вслед за просвещением, но рабство и деспотизм обгоняли…
«Ах, монсеньор, какой момент для Вас!» – восклицает в ночь с 6 на 7 ноября 1796 г. Федор Ростопчин. На это Павел отвечал, пожав крепко руку своего сподвижника: «Подождите, мой друг, подождите…».
Глава III
«Романтический император»
Говорили много о Павле 1-м –
романтическом нашем императоре.
Однажды возражали императору Павлу по поводу принятого им решения и упомянули о законе. ««Здесь ваш закон!» – крикнул государь, ударив себя в грудь».
«Сказать графу Панину (…), что он не что иное, как инструмент».
Севастополь велено именовать Ахтияром, Феодосию – Кафой.
29 октября 1800 г. «по всевысочайшему повелению» предается суду состоящий при петербургском генерал-губернаторе казначей Алексеев, «давший подорожную в Екатеринослав в противность именного его императорского величества повеления о именовании того города Новороссийском».
«Мои министры… Вообще эти господа очень желали вести меня за нос; но, к несчастью для них, у меня его нет».
«Офицер Преображенского полка Александр Шепелев 14 августа 1797 г. «переведен в Елецкий мушкетерский полк за незнание своей должности, за лень и праздность, к чему он привык в бытность свою при Потемкине и Зубове, где вместо службы обращался в передней и в пляске».
Некоторые из этих примеров и десятки подобных хорошо известны и многократно осмыслены как характерные черты павловской эпохи.
В 1901 г ., к столетию цареубийства 11 марта, А. Гено и Томич составили целую книгу объемом в 300 страниц «Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр.», соединившую истории, прежде рассеянные в мемуарах и периодике.
Сразу заметим, что будем осторожно пользоваться «павловскими анекдотами», проверяя их подлинность там, где возможно. Дело в том, что социальная репутация Павла у «грамотного сословия» была такой, что кроме реальных историй ему охотно приписывали десятки недействительных или сомнительных. Вот некоторые примеры.
«Полк, в Сибирь марш!» – этот знаменитый рассказ о воинской части, шагавшей в ссылку до известия о гибели императора, вероятно, соединяет две разные истории. Прежде всего это опала, которой по разным причинам подвергся конногвардейский полк: «Дух нашего полка постарались представить в глазах государя как искривление опасное, как дух крамольный, пагубно влияющий на другие полки». Наиболее суровой репрессивной мерой был арест командира полка и шести полковников, за «безрассудные их поступки во время маневров». В этот период полк был «изгнан в Царское Село». Как утверждает Д. Н. Лонгинов, «во время этой расправы было произнесено (Павлом) среди неистовых криков слово «Сибирь». В тот же день полк выступил из Петербурга, но еще недоумевали и не знали, куда идут, пока не расположились в Царском Селе».
Таким образом, произнесено «Сибирь», но шагать только до Царского Села; возможно, что оскорбительная угроза отложилась в памяти очевидцев и в будущем заострила описание события. С этим рассказом, вероятно, соединился другой: о казаках, отправленных на завоевание Индии и возвращенных с Востока сразу же после смерти Павла. И вот из одной поздней работы в другую проходят «полк в Сибирь…». Но не было такого полка!
Другая знаменитая история: на бумагу, содержавшую три разноречивых мнения по одному вопросу, Павел будто бы наложил бессмысленную резолюцию «Быть по сему», т. е. как бы одобрил все три мнения сразу. Однако М. В. Клочков, исследовавший вопрос в начале XX в., нашел этот докумеит. Там действительно были три мнения: низшей инстанции, средней и высшей – Сената. Резолюция Павла, естественно, означала согласие с последней.
Социальная репутация
Отчего именно у Павла была столь дурная репутация, кто ее создавал, поддерживал – об этом пойдет особый разговор в следующих главах.
Разумеется, и без сгущенного «В Сибирь марш!» деспотический произвол в эпизоде с конногвардейцами виден довольно отчетливо, как и во многих других анекдотах, что подтверждаются проверкой.
Получив доклад о злоупотреблениях в Вятке, 12 апреля 1800 г. «государь отрешил от должности всех чиновников Вятской губернии». Позже несколько смягчился и помиловал сравнительно невиновную Казенную палату, а также некоторых лиц, только что вступивших в службу.
Шведский посол в России Стедингк в своих мемуарах рассказывает, как во время одного празднества «император прошептал что-то на ухо Нарышкину. Того спросили: что сказал государь? «Мне сказали: Дурак», – отвечал обер-гофмаршал». На другой день Павел попытался объяснить послу, что он разгневался на Нарышкина из-за дурного устройства праздника. Стедингк, однако, похвалил праздник и, между прочим, сказал, что Нарышкин – лицо очень важное (un ties-grand seigneur). При этих неосторожно вырвавшихся словах лицо императора переменилось, и, повысив голос, он произнес следующую примечательную фразу: «Господин посол, знайте, что в России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю и пока я с ним говорю».
Царь не раз объясняет окружающим свои цели, свою субъективную программу. Иногда это звучит так: «Блаженство всех и каждого!». Чаще – «Каждый человек имеет значение, поскольку я с ним говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю».
Властитель, желающий максимальной, предельной власти, считающий именно такую власть высшим благом для подданных, – достаточно привычная, не требующая особых комментариев историческая ситуация (Древний Египет, Ассирия, Рим, Персия, Китай, французский абсолютизм, южноамериканские диктаторы…).
Такое стремление к самовластию, как у Павла или Наполеона, трудно, однако, представить у британского парламентского премьер-министра или у римского консула первых веков республики: в тех исторических условиях такая попытка была бы абсурдом, сумасшествием… В России же XVIII в. это «ненормальное» явление было совсем не беспочвенным, куда более естественным и находящимся более в «природе вещей», нежели это представлялось позднее некоторым историкам и публицистам.
Прежде всего важно вспомнить «парадокс петровской системы», взрывчатое единство деспотизма и просвещения. Среди разных программ и попыток выйти из того противоречия, среди революционных бурь конца столетия могло легко возникнуть и действительно началось еще при Екатерине II наступление против просвещения, в сторону усиления деспотического самовластия.
Для укрепления самодержавной власти могли быть в некоторой степени использованы царистские надежды народа, неприятие большинством крестьян нового дворянского просвещения.
Кроме того, даже среди самой образованной и независимой элиты в ту пору господствовало мнение, будто самодержавие «пристало» России. Мысль, что историю в значительной степени творят государи, была отнюдь не павловской.
Собирая высказывания российских мыслителей и политиков о весомости двух исторических движений – от обстоятельств к властителю и от властителя к обстоятельствам, находим явное предпочтение второму движению.
Естественно, всякий разумный правитель понимает, что он ограничен объективными возможностями, например количеством армии, населения, территорией («Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно»). Но в конечном итоге властитель как будто может овладеть и «природой», так что получается «Петра творенье».
Таким образом, в ту пору еще боролись «на равных» идеи просвещенного и непросвещенного самодержавия, причем последнее имело в стране древние и сильные традиции. Высшим эталоном, авторитетом оставалась система Петра Великого, но она могла быть истолкована по-разному. Вспомним соперничающие надписи на петербургских памятниках преобразователю: «Петру I – Екатерина II. 1782» и «Прадеду – правнук. 1800». Мать и сын по-разному смотрят на вещи, но каждый апеллирует к Петру…»
Наконец, прибавим ко всему этому сознательную или подсознательную веру в божественное начало верховной власти. Циничная Екатерина была довольно равнодушна к религии, но помнила, что верить надо, и поощряла к тому других. Экзальтированный Павел был куда более склонен не к благочестивому православию, а, так сказать, к «мистике власти», когда исключительная мощь российского самодержавия представлялась уже не просто «творящей причиной» российской истории, но орудием некоего высшего промысла.
Субъективная, тысячекратно провозглашаемая политическая цель Павла, осознанная им еще до воцарения и теперь осуществляемая, – это максимальная централизация, предельное усиление императорской власти как единственный путь к сблаженству всех и каждого». Такова программа руководителя государства, сложившаяся в момент серьезного кризиса российского Просвещения, просвещенного абсолютизма, – одна из попыток по-новому разрубить петровский «двойной узел» (т. е. сочетание такого просвещения с таким рабством и деспотизмом).
Новая централизация вводится с первых же часов нового царствования.
Заметно увеличивается роль армии. Во все губернии отправляются специальные ревизии с исключительными полномочиями. Новый стиль управления закреплялся серией законов, именных указов, распоряжений.
Полное собрание законов Российской империи позволяет представить количество изданных Павлом законов и указов. Начиная с первых распубликованных 6 и 7 ноября 1790 г. и кончая последними шестью законами от 11 марта 1801 г., было издано: в конце 1796 г. – 177 документов; в 1797 г. – 595; в 1798 г. – 509; в 1799 г. – 330; в 1800 г. – 469; наконец, в начале 1801 г. – 69 (т. е. всего 2179 законодательных актов, или в среднем около 42 в месяц).
Чрезвычайная интенсивность законодательства, беспрерывная ломка, реорганизация, новшества, перемены – важные черты павловского стиля.
Для сравнения заметим, что в Полном собрании законов мы находим за период самостоятельного правления Петра I (с сентября 1689 до января 1725 г.) 3296 документов, или в среднем меньше 8 в месяц. Между смертью Петра I и воцарением Екатерины II – 6939 документов, в среднем 21 в месяц.
За 34 с половиной года правления Екатерины II – 5948, в среднем 12 в месяц.
Таким образом, законодательство павловского четырехлетия в 3,5 раза интенсивнее, чем в царствование предшественницы, и значительно опережает любой более ранний период российской истории.
Для завершения статистического экскурса отметим, что 24 с половиной года александровского правления представлены в Полном собрании законов тоже весьма насыщенно: появилось 10822 законодательных акта, или около 37 в месяц.
Наконец, учтем и умножившиеся при Павле разного рода объявления, распоряжения, распубликования, близкие по своему характеру к законодательным актам. Немецкая «Allgemeine Literator Zeitung» приводит довольно любопытную (хотя, разумеется, небеспристрастную) оценку такого рода материалов, появлявшихся на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1799 г.: «Одну треть газеты занимают сообщения о различных штрафах, наказаниях, награждениях и пр. (. . .) В течение года почта доставляет Павлу 3229 писем с прошением, на которые отвечено 854 указами и 1793 устными приказами».
Еще типическая подробность: за сто лет от начала царствования Петра I девятнадцать дворянских родов получили княжеское и графское достоинство; Павел же за четыре года правления создал пять новых княжеских фамилий и 22 графские.
Количество законов, естественно, еще не говорит о содержании, направлении политики. Несомненно, часть павловских указов объективно способствовала упорядочению, европеизации российского правления.
«Император Павел, – доносит в 1801 г. прусский агент, не склонный вообще к идеализации царя, – создал в некотором роде дисциплину, регулярную организацию, военное обучение русской армии, которой пренебрегала Екатерина II».
Дипломату вторит много знающий наблюдательный мемуарист: «В арсеналах стоят еще, вероятно, громоздкие пушки екатерининских времен на уродливых красных лафетах. При самом начале царствования Павла и пушки и лафеты получили новую форму, сделались легче и поворотливее прежних (…) это было первым шагом к преобразованию и усовершенствованию нашей артиллерии, пред которою пушки времен очаковских и покоренья Крыма ничтожны и бессильны».
Одной из разумных мер нового правительства был, например, призыв на смотр всех числящихся «заочно»; это был сокрушительный удар по многолетней практике записи дворянских детей в полки буквально с момента рождения (так, что к совершеннолетию поспевал уж «приличный чин»); вследствие павловского указа в одной только конной гвардии из списков был исключен 1541 фиктивный офицер.
Любопытные мнения о военных реформах павловского правительства приводит также видный осведомленный чиновник, служивший четырем императорам: «Об этом ратном строе впоследствии времени один старый и разумный генерал говорил мне, что идея дать войскам свежую силу все же не без пользы прошла по русской земле: обратилась-де в постоянную недремлющую бдительность с грозною взыскательностью и тем заранее приготовляла войска к великой отечественной брани. Потом он же, оборотив медаль, говаривал, что отсюда почин преобладания наружного вида, всего глазам напоказ, заменяющего труд ума наглядною механическою работою».
При всем при этом многими современниками и исследователями отмечалось, что сама непрерывность и противоречивость законодательства усиливали атмосферу произвола и беззакония. Воля императора опережала действующие законы, и часто задним числом оформлялись уже совершившиеся деспотические действия.
Подобную ситуацию имел, конечно, в виду Д. Н. Блудов, когда объяснял Николаю I различие между самодержавием и деспотизмом: «Самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен им сам повиноваться».
«Невольно удивляешься, – отзывается мемуарист, – огромному числу указов, узаконений, распоряжений в короткое царствование [Павла]; но это была ломка всего екатерининского, порывистые проявления безумия и своеволия – работа страшная и непрестанная! Граф Блудов рассказывал со слов очевидца о князе Безбородке, что, получив от Павла в одно утро три противоречивых указания по тому же предмету, он сказал: «Бедная Россия! Впрочем, ее станет еще на 60 лет!»».
При всей противоречивости законодательства 1796 – 1801 гг. общим духом, стержнем сотен новых указов была централизация, самодержавие. Серия мер заменяла коллегиальный принцип (там, где он еще существовал) единоличным; устанавливалось «преимущество лиц перед учреждениями». Выстраивалась железная линия подчинения: император – генерал – прокурор – министр (или управляющий соответствующим ведомством) – губернатор. Управление в центре и на местах, как правило, структурно «созвучно», и потому усиление столичной централизации отзывается эхом в провинции; так же, например, как за высшими правительственными учреждениями надзирает генерал-прокурор, так за губернатором следит губернский прокурор. Инструкция от 20 декабря 1798 г. предписывала ему «доносить по службе о самых главных чиновниках в губернии»; 11 марта 1798 г. – надзирать за иностранцами и тщательно «сверять их подорожные с маршрутом»; позже губернским прокурорам приказано «обращать замечательное внимание к переписке и сочинениям из чужих край» и обо всем докладывать не начальнику губернии, а генерал-прокурору. В 1802 г. особые права губернских прокуроров были отменены.
Можно проследить усиление власти и на более нижних этажах управления. «На дворе у нас, – вспоминал Греч, – нанимал квартиру квартальный комиссар (так назывались тогда помощники надзирателей) XIV класса Старое, сын бывшего сторожа в экспедиции о расходах. Он был тираном и страшилищем всего дома: его слушались со страхом и трепетом; от него убегали, как от самого Павла. Донос такого мерзавца, самый несправедливый и нелепый, мог иметь гибельные последствия. Впрочем, доставалось и им, полицейским».
Отнюдь не для забавы, но для контроля, настигающего уже самую малую общественную ячейку – дом, семью, Павел I приказал, между прочим, майору К. Ф. Толю (будущему видному генералу) «изготовить модель Санкт-Петербурга – так, чтобы не только все улицы, площади, но и фасады всех домов и даже их вид со двора были представлены с буквальной, геометрической точностью».
В общей системе регламентации и твердого порядка важное место заняла новая система престолонаследия: 5 апреля 1797 г. Павел I отменяет закон Петра I, объективно поощрявший борьбу разных группировок за овладение троном; отныне вводился принцип (сохраненный до 1917 г.) о наследовании престола по праву первородства в мужском колене (женщины получают эти права только по пресечении всех мужских представителей династии).
Так Павел I от повседневной регламентации переходил к попытке «управления будущим».
Десятки анекдотов и несуразностей, не переставая быть смешными для нас, находят объяснение в особой логике павловской системы. Его личное стремление «вникать во все» соответствовало той социальной роли, в которой он себя представлял. Екатерина II как бы не вмешивалась в несвойственные ей дела, отдавая, например (в известных пределах), армию и флот в ведение фаворитов или умелых, инициативных начальников. Павел же, наоборот, старается увеличить свою непосредственную власть.
По свидетельству иностранного наблюдателя, императрица Мария Федоровна «не имела права приглашать к себе без дозволения государя ни сыновей своих, ни невесток. Александр жил с женой уединенно: ему служили только преданные императору лица. Чтобы не навлечь на себя и тени подозрения, он не принимал никого и с иностранными министрами и вельможами не разговаривал иначе как в присутствии отца».
11 марта 1800 г. рижский губернатор генерал-лейтенант Ребиндер получает неожиданное высочайшее послание: в списке лиц, проезжавших через Ригу, царь вдруг заметил фамилию «отставного прапорщика Ререна» и запросил: «Сумневаюсь, чтоб он [Ререн] был отставной, и если выключенный [изгнанный со службы за провинность], то, арестовав, посадить его в рижскую цитадель и уведомить меня об оном».
Смешные запреты слов «клуб», «совет», «представители» – это не просто борьба с якобинской терминологией, «запрет революции»; здесь обнаруживается вера в силу самого якобинского термина и соответственно в запрещающую силу царского вето, в монопольную принадлежность высшей истины властелину.
Разумеется, нелепо видеть закономерность в каждой прихоти, в каждом изгибе императорского поведения, по нельзя и забывать, что новая централизация власти сделала личные свойства царя еще более «общегосударственным фактом», чем было прежде. Павел, это понимавший, к этому и стремился.
Резкое усиление самодержавного начала требовало соответствующего идеологического объяснения. Разумеется, престол постоянно освящался православной церковью, однако при Павле – в значительно меньшей степени, нежели это будет через 40 – 50 лет, в царствование Николая I (в период утверждения известной триединой формулы «самодержавие, православие, народность»).
XVIII век – «слишком» век просвещения; церковь и религия столь скомпрометированы, расшатаны ударами Вольтера, Дидро, Гольбаха и других мыслителей, что даже императору не приходит в голову утверждать свою манеру царствования православным благословением. Скорее наоборот: он благословляет церковь, впервые прямо говорит то, что давно уже существует фактически, но все же «не произносится»: «русский государь – глава церкви». Когда митрополит Платон пытается воспротивиться странному обряду награждения церковных иерархов орденами, то Павел гневается, ибо этот обряд отражает его взгляд на православное духовенство как на одну из «государственных служб».
Для освящения новых форм искали и нашли более «вселенскую», внешне эффектную форму. Для того чтобы ее лучше представить, следует сначала присмотреться к некоторым, казалось бы, бессмысленным или второстепенным чертам павловского царствования.
20 января 1798 г. было объявлено общее воспрещение носить фраки: «Позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником шириною не менее как в 3/4, вершка, обшлага же иметь того цвета, как и воротники».
Тогда же обязательная замена жилетов «немецкими камзолами», «не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками; также – сапогов, ботинками именуемых. (…) Не увертывать шеи безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты». Эти и другие распоряжения петербургского обер-полицмейстера многократно, иногда с купюрами, печатались в «Русской старине».
Сохранилась записка царя П. А. Палену: «Офицера сего нашел я в тронной у себя в шляпе. Судите сами. Павел».
Нет слов! Проступок столь ужасен и ясен, что суровейшее наказание даже не требует обоснования.
Сардинский поверенный в делах высылается в декабре 1796 г. за ношение круглой шляпы.
Внедрение прусских форм производится так активно, что вызывает неодобрение именно прусского посла Брюля: «Император не нашел ничего лучшего, как взять за модель прусский образец и слепо ему следовать, без предварительного серьезного размышления о необходимых приспособлениях этого образца к месту, климату, нравам, обычаям, национальному характеру». Сообщая, что расходы на перемены армейской формы уже превысили 30 миллионов рублей, Брюль находит, что старая форма, удобная и соответствующая национальному вкусу, теперь заменена менее удобной и разумной: «Гренадерская шапка, штиблеты, тесная форма – все это мешает, стесняет солдата».
Сохранилось огромное число воспоминаний, анекдотов, писем, оценок по поводу регламента на шляпы, жилеты и т. д. и т. п.
Вот фрагменты «хроники» 1799 г. (распоряжения столичного обер-полицмейстера):
18 февраля. Запрещение танцевать вальс.
2 апреля. Запрещение иметь тупей, на лоб опущенный.
6 мая. Запрещение дамам носить через плечо разноцветные ленты.
наподобие кавалерских
17 июня. Запрещение всем носить широкие большие букли.
12 августа. «Чтобы никто не имел бакенбард».
4 сентября. Запрещение немецких кафтанов и «сюртуков с разноцветными
воротниками и обшлагами; но чтоб они были одного цвета».
28 сентября. «Чтоб кучера и форейторы, ехавши, не кричали».
28 ноября. Запрещение «синих женских сюртуков с кроеным воротником и
белой юбкой».
Все эти «мелочи», несомненно, имели отношение к генеральным, идеологическим проблемам, которые пытался решать Павел I.
«Рыцарство против якобинства»
«Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде» (позднейшая и достаточно объективная оценка писателя-министра И. И. Дмитриева).
26 февраля 1797 г. на месте снесенного Летнего дворца Павел самолично кладет первый камень Михайловского замка. Обрядность, символика здесь максимальные: возводится окруженный рвом замок старинного, средневекового образца, цвета перчатки прекрасной дамы (Анны Лопухиной-Гагариной), которой царь-рыцарь поклоняется; расходы же на замок превышают самые смелые предположения: сначала было отпущено 425 800 руб., однако затем суммы удесятерились, и в течение трех лет ежедневный расход на строительство составлял десятки тысяч рублей.
Наконец, православный царь берет под покровительство Мальтийский рыцарский орден, как будто и не подумав, что это объединение католических рыцарей и гроссмейстер ордена формально подчинен римскому папе. Таким образом на невских берегах появляются мальтийские кавалеры, мальтийские кресты, орден св. Иоанна Иерусалимского.
«Рыцарство», «царь-рыцарь» – об этом в ту пору говорили и писали немало. Нейтральные наблюдатели (Лагарп, Саблуков) не раз толкуют о причудливом совмещении «тирана» и «рыцаря».
«Павел, – пишет шведский государственный деятель Г. М. Армфельдт, долгое время находившийся при русском дворе, – с нетерпимостью и жестокостью армейского деспота соединял известную справедливость и рыцарство в то время шаткости, переворотов и интриг».
Дело не в «возвышенных понятиях», а в идеологии. Армфельдт правильно уловил некоторое внутреннее единство внешне экстравагантных, сумасшедших поступков. Фраза о «времени шаткости, переворотов и интриг» в устах монархиста Армфельдта и многих других означает примерно следующее. У старого мира – мира королей, аристократов, феодализма – к исходу XVIII столетия нет мощной, ведущей идеи: проверенное тысячелетием чисто религиозное самосознание власти дало серьезную трещину; преобладают неуверенность, смуты, мелкие страсти, в частности тот цинизм, который вплетался в российское и, конечно не только в российское просвещение. Как характерны в этой связи не попавшие в напечатанную книгу строки из мемуаров И. И. Дмитриева, передающие недостаток «общей идеи», то, что ощущалось все сильнее к концу правления Екатерины II: «Гвардейская служба становилась для меня год от года скучнее: мне уже было за 30 лет, и часто случалось стоять в казармах почти с малолетними офицерами, быть свидетелем их суетности, женоподобного щегольства и даже иногда шалостей, не приличных званию офицера». В мемуарах И. И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь» соответствующий текст заменен и представлен всего одной фразой: «Не имев склонности к военной службе, я нетерпеливо ждал капитанского чина».
С презрением описывает обстановку «бабушкиного двора» и великий князь Александр в письме к Лагарпу от 20 июня 1796 г.
Даже Герцен, представивший в своих сочинениях и на страницах Вольных изданий целую серию «антипавловских» мыслей и образов, в конце жизни заметит, что «тяжелую, старушечью, удушливую атмосферу последнего екатерининского времени расчистил Павел».
Между тем в последние годы XVIII в. старый мир с ужасом наблюдает не только военные победы французских санкюлотов, но также и силу, влиятельность якобинской идейности – куда более могучей идеологии, нежели неуверенная смесь просвещения, цинизма и религиозной терминологии.
Наполеон, которому вряд ли можно отказать в политической проницательности и знании людей, позже тонко определит корни павловской политики, павловского образа мыслей: ненависть к французской революции, особое внимание к упадку придворных нравов и этикета. Существенной причиной разрыва с Англией из-за Мальты Наполеон считал именно взгляд Павла на рыцарство.
Мы еще вернемся к любопытнейшему наполеоновскому разбору павловских «корней», сделанному незадолго до смерти, на острове Святой Елены.
То, о чем толковал в своем кругу наследник Павел, занимало многих столпов старого мира. Их идеологическая неуверенность, их бессилие были слишком очевидны.
Меж тем после 1794 г. французская революция идет на убыль, ее лозунги все более расходятся с сутью; наиболее чуткие европейские мыслители (от Гёте, Шиллера до Радищева), прежде увлеченные парижскими громами, ошеломлены как якобинским террором, так и термидорианским перерождением. В этой сложнейшей переходной исторической ситуации монархи особенно жадно ищут лучших слов, новых идей – против мятежных народов.
Одну из таких попыток мы наблюдаем в последние годы XVIII в. в России: обращение к далекому средневековому прошлому, оживление его идеализированного образа, рыцарская консервативная идея наперекор «свободе, равенству, братству».
Чего желал нервный, экзальтированный, достаточно просвещенный 42-летний «российский Гамлет», вступив на престол после многолетних унижений и страхов, при известном взгляде на просвещение и значение царской власти, при таких событиях в Европе?
Идея рыцарства – в основном западного, средневекового (и оттого претензия не только на российское – на вселенское звучание «нового слова»), рыцарства с его исторической репутацией благородства, бескорыстного служения, храбрости, будто бы присущей только этому феодальному сословию.
Рыцарство против якобинства (и против «екатерининской лжи»!), т. е. облагороженное неравенство против «злого равенства».
«Замечательное достоинство русского императора – стремление поддержать и оказать честь древним институтам», – запишет в 1797 г. Витворт, британский посол в России, будущий враг Павла.
«Я находил… в поступках его что-то рыцарское, откровенное», – вспомнит о Павле его просвещенный современник.
Граф Литта и другие видные деятели Мальтийского ордена, угадав, как надо обращаться с царем, чтобы он принял звание их гроссмейстера, «для большего эффекта… в запыленных каретах приехали ко двору» (заметим, что Литта к тому времени уже около десяти лет жил в Петербурге). Павел ходил по зале и, «увидев измученных лошадей в каретах, послал узнать, кто приехал; флигель-адъютант доложил, что рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского просят гостеприимства. «Пустить их!» Литта вошел и сказал, что, «странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет…» и т. д. Царь благосклонно принял все просьбы рыцарей.
Принц Гамлет становится «императором Дон-Кихотом».
«Русский Дон-Кихот!» – воскликнет Наполеон, вероятно понимая образ в романтическом, двойственном – смешном и одновременно благородном – смысле.
Безымянный автор антипавловских стихов употребляет этот же литературный образ явно издевательски:
Нет, Павлуша, не тягайся
Ты за Фридрихом Вторым:
Как ты хочешь умудряйся –
Дон-Кихот лишь перед ним.
Через полвека будет сказано: «Павел I явил собой отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон-Кихота».
Если коллекционировать общие внешние признаки, сближающие Павла и «рыцаря печального образа», то действительно найдем немало. Кроме странствующих рыцарей, прекрасной дамы, ее перчатки и замка, кроме острова (Мальты), которым один из двух рыцарей одарил Санчо Пансу, а другой – себя, найдем странность поступков, смесь благородства и причуд, мучительных себе и другим, калейдоскоп пророческих видений: солдат, встретивший во сне Михаила Архангела, принят царем, и его рассказ играет роль в основании Михайловского замка и наименовании Михаилом последнего сына Павла I.
Прорицатель Авель, предсказывающий скорую кончину Павлу и отправляемый за то в тюрьму.
При известном воображении малограмотный Кутайсов – камердинер, превращенный в графа, – сойдет за испорченного властью Санчо Пансу.
Наконец, историческая судьба причудливо сводит коронованного российского Дон-Кихота с родиной Сервантеса и его героев – сводит в парадоксальной, «донкихотской» ситуации:
«Вспомните, – писал в 1801 г. Л. Л. Беннигсен, – объявление войны, сделанное [Павлом] королю испанскому, который по справедливости в своем ответном манифесте старался показать смешную его сторону, потому что противники не могли бы сойтись ни на суше, ни так же точно и на море. В своих сумасбродных планах Павел предназначал уже испанский трон одному испанцу (Кастелю де ла Сердо), который в молодости вступил младшим офицером в русскую службу и женился на немке, а теперь был уже в отставке и жил среди многочисленного своего семейства. Он был поражен, когда ему объявили, какие намерения имеет император относительно него. Чтобы помочь ему и не заставить его вступать на испанский трон в нищенском положении, Павел пожаловал ему на Украине прекрасное имение с тысячью душ». В «Списке генералов 1799 г.» значится полный генерал «граф Кастро-Лацердо, в Ревели комендант и шеф гарнизонного полка своего имени».
Разумеется, всякое сравнение имеет границы. Однако великие художественные выдумки порою помогают понять самые реальные вещи: при всей огромной разнице ситуаций исторический и литературный персонажи объединены стремлением остановить время, идущее «не туда», впрыснуть в него «благородной старины».
Откуда же взялась подобная идея, где предыстория «консервативной утопии»?
Многое заимствовано из книг (как было и у героя Сервантеса). Учитель юного Павла С. А. Порошин, между прочим, замечает, как в детских мечтах будущего царя его угнетенность, униженность, обида на мать явно компенсировались воображением. Немалое место тут занимали рыцари, объединенные в некий «дворянский корпус». Сохранились обширные выписки из классиков, сделанные юным Павлом.
Павел мог, между прочим, вдохновляться и чтением записок своего учителя. Еще 16 января 1791 г. друг Павла с детских лет Александр Куракин извещает наследника о приобретении им «сию минуту» рукописи Порошина: «Дневники состоят из трех больших томов in folio; я едва мог их еще только мельком перелистать и с величайшей поспешностью велел трем писцам снять с них копии». 18 января копия уже почти готова, и Куракин делится с Павлом общими для них воспоминаниями детства, почерпнутыми из тех записок.
«Читал я, – записывает Порошин 28 февраля 1765 г., – его высочеству Вертотову историю об Ордене мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии свой флаг адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским». Через несколько дней, 4 марта, Порошин снова занес в дневник указание на подобную же забаву: «Представлял себя послом Мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь».
Другим источником рыцарских теорий Павла были, вероятно, определенным образом интерпретированные масонские идеи, образы, масонские контакты великого князя.
Не углубляясь в эту сложнейшую проблему, отметим только особую роль масонства в формировании различных по своей политической и социальной окраске идей – от просветительских и революционных до консервативных, реакционных.
В примечаниях к уже упоминавшимся запискам И. В. Лопухина П. И. Бартенев писал: «Любопытно было бы узнать, с какого именно времени Павел Петрович поступил в орден франкмасонов (в Стокгольме, во дворце, есть его портрет в орденском одеянии). Через супругу свою он находился под сильным влиянием прусского двора, а прусский наследный принц принадлежал к числу самых ревностных членов ордена».
Сведения, приводимые эрудированным издателем журнала «Русский архив», напоминают о многообразных европейских влияниях, воздействовавших на идеи Павла, принца и императора. Именно из Пруссии он заимствует не только преувеличенный интерес к муштре, военному строю, регламентации, но и определенное представление об абсолютизме Фридриха II, «соединявшем просвещенно-бюрократический абсолютизм и деспотическое рыцарство».
Все эти ростки «павловского утопизма» питались, усиливались важнейшими социально-политическими обстоятельствами, которые имели уже не личностный, но всероссийский и даже всемирный характер.
Первое из этих обстоятельств, уже отмеченное, – существование определенной дворянско-консервативной оппозиции екатерининской системе. Павел, конечно, не читал М. М. Щербатова, и тем интереснее сходство многих формул царя и историка: осуждение придворной пышности, разврата, безнравственности, цинизма, мечта о власти «твердой, благородной».
Если бы Щербатов дожил до 1796 г., ему, конечно, пришлись бы сначала по сердцу многие декларации Павла, и не ему одному; «стародумы» хотя и не имели шансов на исторический успех, но создавали некоторую почву для павловских утопий.
Второй российский источник находился на прямо противоположном общественном полюсе: народное неприятие «нового просвещения» вследствие нарастающего вместе с ним крепостнического гнета, отрицание екатерининской системы в целом и сложное влияние этого фактора на Павла, знавшего о «царистском мышлении» крестьянства и находившего здесь дополнительные доводы против образа правления и «цинической идеи» Екатерины II – Потемкина.
Третье обстоятельство, то, с которого и начался данный экскурс, – Великая французская революция и ее ближайшие последствия.
Как известно, одной из форм просвещенного разочарования в методах и результатах 1789 – 1794 гг. было обращение мыслителей и литераторов во многих странах Европы к идеализированному прошлому. Исследовательница влияния французской революции на русскую литературу заметила, между прочим, что «философия реакционного романтизма… вдохновлялась неприятием послереволюционной действительности справа, с позиций защиты ниспровергнутого или до основания потрясенного революцией феодально-абсолютистского строя. С этим связана присущая многим романтикам… идеализация средних веков, их «рыцарских» обычаев и нравов».
В этом смысле «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова исторически сродни павловской апелляции к «средневековой мудрости»; царь, правда, заключает свои идеи в рамки европейской культуры, впрочем параллельно проповедуя и русский патриотический тон, русский обычай в управлении и быте. Шишков же более определенно держится славяно-российской основы, удивительно соглашаясь с Павлом, между прочим, насчет ломки языка, отмены или введения новых слов и т. п.
Итак, вторая половина XVIII столетия порождала немало объективных стимулов для «павловской попытки». Причины общественные: впечатления от французской революции, кризис, двойственность российского просвещения.
Причины личностные – это детские и юношеские привычки Павла, прусское и другие европейские влияния, тот фон, который породил столь неожиданную, для многих странную и в то же время исторически не случайную консервативную идею Павла.
Эта идея в течение последнего четырехлетия XVIII в. проявляется постоянно и многообразно.
Честь. О ней постоянно толкуют именные указы, приказы, устные сентенции государя – привить рыцарские понятия развращенному потемкинскому и екатерининскому дворянству. Павел совсем не лжет в отличие от беспрерывно лгавшей матушки, он практически всегда говорит и пишет то, что думает; ложь Екатерины была следствием ее стремления совместить несовместимое – самодержавно-крепостническую систему и просвещение; правдивость Павла – черта его системы, основанной на внутренне последовательных консервативных представлениях.
«Надо вспомнить о том, – пишет прусский агент из Петербурга, – как Павел поступил с Костюшкой. Поспешить освободить его, выдать ему значительную сумму, потребовать обещание никогда не сражаться против России, – это было одновременно благородно и мудро. Польский герой возобновил свою клятву, и, так как он человек чести, он сдержит ее. Таким образом, если Пруссии понадобится взбунтовать Польшу, то она не сможет рассчитывать на Костюшку».
Самые суровые приговоры павловских судов – по делам чести.
Поручик Московского драгунского полка Вульф в 1797 г. нагрубил сразу нескольким командирам, отославшим находившуюся при нем «без письменного вида девицу». Аудиториат решил, «лишив чина, исключить из службы». Павел I усиливает наказание: «Сняв чины, посадить в крепость без срока».
О подпоручике Сумарокове, спорившем со старшим командиром и притом «обнажавшем саблю» (т. е. едва ли не вызывая на поединок), генерал-аудиториат постановил: «лишить чинов, выключить из службы». Павел I: то же самое, но еще «послать в Сибирь на житье».
Если при решении подобных дел встречались два мнения, царь, как правило, присоединялся к более строгому.
Честь была любимой темой бесед, приказов, приговоров Павла I. Многие наблюдатели (например, Ланжерон) отмечали стремление царя уменьшить в армии пьянство, разврат, карточную игру.
Идея рыцарской чести вызывала к жизни и ряд других.
Этикет . В связи с «рыцарской идеей» он понятен. Рыцарству свойственна повышенная значимость жеста, эмблемы, герба, цвета, формы.
Наполеон в своем уже частично процитированном суждении о Павле отмечал, что царь установил при своем дворе очень строгий этикет, мало сообразный с общепринятыми нравами, малейшее нарушение мельчайшей детали которого вызывало его ярость, и за одно это попадали в якобинцы.
Особое значение приобретает четкая регламентация почестей или бесчестья. Таково, например, торжественное перехоронение Петра III или позорное перехоронение Потемкина; эти акты, понятные в павловской системе воззрений, неожиданны для привыкших к иному современников.
При Павле высокий смысл приобретают такие элементы формы, строя, регламента, как шаг, размер косицы, направление ее по шву, не говоря уже о вахтпараде.
Подробное описание вахтпарада попало в именной указ от 8 октября 1800 г.
Сам же Павел при этом ясно понимал, чего желает. «До меня доходит, – говорит Павел, – что господа офицеры гвардии ропщут и жалуются, что их морожу на вахтпарадах. Вы сами видите, в каком жалком положении служба в гвардии, никто ничего не знает, каждому надобно не только толковать, показывать, но даже водить за руки, чтоб делали свое дело».
На эту тему современники, конечно, особенно веселились. У гвардейского поэта Марина царь «явил в маневрах и прославил величество и власть…», и далее:
Я все на пользу вашу строю –
Казню кого или покою…
Офицер-измайловец Копьев пародийно удлиняет косу, доводит до абсурда другие детали павловской формы и за то попадает в тюрьму.
Обилие анекдотов на «заданную царем тему» доказывает несоответствие павловских идей своему веку. В XII – XIV, даже более поздних веках многое в этом роде показалось бы естественным. Однако в 1800 г. мир жил в иной системе ценностей, и царя провожает в могилу смешной и печальный анекдот: Павел просит убийц повременить, ибо хочет выработать церемониал собственных похорон.
Теократическая идея . Рыцарский орден, сближающий воина и священника, был находкой для Павла, который еще до мальтийского гроссмейстерства соединил власть светскую и духовную.
Кроме уже сказанного о формуле «государь – глава церкви» можно вспомнить о контактах российского царя с иезуитами (и о царской просьбе, обращенной к Пию VII, отменить запрещение иезуитского ордена), о знаменитом иезуитском отце Грубере, игравшем видную роль при дворе в последние месяцы царствования Павла. Переписка Павла с Пием VII была весьма теплой. В конце 1800 г. папа получил личное приглашение царя поселиться в Петербурге, если французская политика сделает его пребывание в Италии невозможным. Позже Пий VII не раз «служит заупокойную мессу по русскому царю».
Все это нелегко понять вне «рыцарской идеи»: союз царя-мальтийца со вселенской церковью – важная цель для монарха, собирающегося вернуть всему миру утраченное направление. Речь не шла об измене православию или переходе в католицизм: для Павла разница церквей была делом второстепенным, малосущественным на фоне общей теократической идеи, где упор – не на теос (бог), а на кратос (власть).
Любопытно, что другой «вселенский деятель» – Наполеон в это время накануне своего конкордата с папой Пием VII, т. е. акции, близкой к планам Павла. Слухи, разговоры о планах российского императора соединить церкви и (даже принять со временем и папскую тиару!) в этом контексте кажутся не лишенными почвы.
Царь-папа, мальтийский гроссмейстер – это и чисто российское поглощение церкви властью; это и российская аналогия «наполеоновскому направлению»: недаром Павел и первый консул столь легко поймут друг друга.
Но это вызовет и характерную ироническую реплику Марина: «Служить обедню за попа – Неужли мысль сия глупа?..»
Стиль . Генеральная идея, освящающая всевластие императора, порождает определенный тон, стиль, театральность, упомянутую уже при описании вахтпарада (отметим, кстати, вообще исключительный интерес Павла к театру, актерам). Часть этой театральности, прежде всего парадность, была принята, усвоена, сохранена правящим сословием и после Павла: «пехотных ратей и коней однообразная красивость».
Такое примечательное явление, как «павловский стиль» в искусстве, не может быть рассмотрено вне связи с общими понятиями: художественный вкус, взгляд на красоту – все это для Павла освящало, украшало, подтверждало его миросозерцание.
Разумеется, мы далеки от грубого, прямолинейного объяснения простым социальным заказом эстетики парков, дворцов, мебели, обоев, картин в Павловске, Гатчине: слишком коротким было павловское правление, очень велико было влияние предшествующей культурной традиции. Тем не менее «рыцарская тема», столь очевидная в Михайловском замке, заметна и в Павловске. 19 апреля 1798 г. Мариентальскую крепость в Павловске «повелено считать с прочими в штате состоящими крепостями. Содержание ее отнести на общую фортификационную сумму». Эта крепость, отмечает исследователь, с ее романтично-декоративным обликом и всей бутафорской солдатчиной была игрушкой, забавой. Но в эпоху Павла I так глубоко сметалось серьезное с забавным, что только в 1811 г . последовал высочайший указ об исключении Мариенталя из числа крепостей, «содержимых инженерным ведомством».
Вообще особая роль эстетики в павловском мире несомненна. Сохранилось немало примеров горячего интереса царя к изысканным произведениям монументального и прикладного искусства. Остались чертежи и планы, выполненные самим Павлом. За несколько часов до кончины он расцелует понравившийся сервиз с изображением Михайловского замка. О повышенном, порою чрезмерном тяготении правителя к сфере искусств говорит следующая статистика.
За 34 года царствования Екатерины II последовало 340 распоряжений Дирекции императорских театров – почти без всякого прямого вмешательства царицы в эти дела; четыре павловских года дали 234 распоряжения (т. е. почти в 6 раз интенсивнее!), и среди них немало высочайших предписаний, начиная от указа об устройстве театров (22 декабря 1796 г.) до распоряжений о судьбе, жаловании, перемещениях должностных лиц, актеров, «танцорок».
Другие элементы «высокого стиля» принадлежат только павловскому четырехлетию. Речь идет сейчас об особой – Пушкин сказал бы: важной – манере царских приказов.
Детям священников, «праздно живущим при отцах своих», Павел законодательно рекомендует идти в военную службу «по примеру древних левитов, которые на защиту отечества вооружались».
Военной коллегии, старавшейся прикрыть неумышленное убийство прапорщиком Хвостовым черемиса Иванова, делается высочайший выговор «за неуважение жизни человека».
Сенат (при взыскании долгов с помещиков-банкротов) находит, что человека мужеска пола от 18 до 40 лет следует считать по 360 руб., более старших и младших – по 180, «за вдов и девушек не престарелых» – по 50, за замужних же женщин особого зачета не назначать; император Павел, однако, подписать документ отказался, найдя неприличным официальные толки о ценах на живых людей».
Указ 19 марта 1800 г. против ростовщиков, «сущих чуждого хищников», обличал «коварства», «каковыми приводятся слабоумные, а иногда и обстоятельствами стесненные люди в запутанность и конечное разорение».
Городничему, уличенному в клевете на офицера, приказано (именной указ) во время утреннего развода гвардии встать на колени перед обиженным и просить прощения.
Царские письма Суворову (особенно в те месяцы, когда полководец был в милости) писаны быстрым, живым пером.
29 октября 1799 г.: «Князь Александр Васильевич. Побеждал повсюду и во всю жизнь Вашу врагов отечества, не доставала Вас особого рода слава: преодолеть самую природу, и Вы и над нею одержали ныне верх».
29 декабря 1799 г.: «Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих».
Павловскому стилю был свойствен и своеобразный юмор, являвшийся оборотной стороной строгой официальной суровости: именно с тех самодержавных высот царь как бы позволял себе снизойти к собеседнику и обнаружить самим этим «равенством» смешную сторону дела, ибо – для Павла – такого равенства на самом деле никогда быть не могло (речь, конечно, идет о смехе Павла, но не над Павлом).
Когда один из генералов попытался выключить из службы горбатого подпоручика, как не способного к полевой службе, то получил выговор военно-походной канцелярии; тогдашний начальник ее Ф. В. Ростопчин напомнил, что «многие весьма хорошие полководцы были в таковом же состоянии». Резолюция Павла I: «Я и сам горбат, хотя и не полководец».
Распекая адмирала П. В. Чичагова (сидевшего перед тем в крепости будто бы за «якобинство»), Павел произносит: «Если Вы якобинец, то представьте себе, что у меня красная шапка, что я главный начальник всех якобинцев, и слушайтесь меня».
Насмешливое предложение русского царя всем монархам выйти на дуэль (с первыми министрами в роли секундантов) было опубликовано как бы от «третьего лица» в Гамбургской газете.
В то же время в именных указах и при обсуждении сюжетов, по мнению царя серьезных (и часто смешных, по мнению подданных), возвышенный стиль почти постоянен: тут ирония, сатира, смех – это уже знак протеста оппозиции, заговора, о чем еще будет сказано во второй части книги.
Итак, консервативно-рыцарская утопия Павла возводилась на двух устоях (а фактически на минах, которые сам Павел подкладывал) – всевластие и честь; первое предполагало монополию одного Павла на высшие понятия о чести, что никак не сопрягалось с попыткой рыцарски облагородить целое сословие.
Основа рыцарства – свободная личность, сохраняющая принципы чести и в отношениях с высшими, с монархом, тогда как царь-рыцарь постоянно подавляет личную свободу. Честь вводилась приказом, деспотическим произволом, бесчестным по сути своей.
Один немецкий историк позже найдет символ павловской противоречивости: Аракчеев – мальтийский кавалер, «только недоставало, чтобы его произвели в трубадуры».
Один из принципиальнейших мемуаристов заметил: «Обнаружились многие вопиющие несправедливости, и в таковых случаях Павел был непреклонен. Никакие личные или сословные соображения не могли снасти виновного от наказания, и остается только сожалеть, что его величество иногда действовал слишком стремительно и не предоставлял наказания самим законам, которые покарали бы виновного гораздо строже, чем это делал император, а между тем он не подвергался бы зачастую тем нареканиям, которые влечет за собою личная расправа».
Еще и еще примеры «деспотического рыцарства».
Суворов неслыханно возвышает военный престиж России, слава его побед бросает выгодный свет на Павла. Царь оказывает полководцу-рыцарю исключительную честь, которая должна выгодно осветить и роль рыцаря-императора: чин генералиссимуса, упоминание в церквах вместе с императорской фамилией.
Когда же Ростопчин (явно под диктовку царя) отзывает Суворова из совместного с австрийцами похода, текст послания в высшей степени интимный! «Плюньте на Тугута и Бельгарда и выше. Возвратитесь домой, Вам все рады будут».
Однако в последний момент Суворову, как известно, запрещается торжественный въезд в столицу, он умирает в полуопале: его слава не должна соперничать с блеском единственного.
30 лет спустя А. С. Пушкин записал со слов своего друга П. В. Нащокина: «По восшествии на престол государя Павла I отец мой вышел в отставку, объяснив царю на то причину: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться». Государь согласился и подарил ему воронежскую деревню». Так оценил противоречивость павловских милостей гордый генерал В. В. Нащокин. Две линии чести пересеклись – каждый остался на высоте, и генерал и император, – случай исключительный, почти что неправдоподобный.
Впрочем, в этой же записи Пушкин будто для «исторического равновесия» приводит более нам привычную и весьма колоритную историю: «Однажды царь спросил [шута Ивана Степановича], что родится от булочника? Булки, мука, крендели, сухари и пр., отвечал дурак. – А что родится от гр. Кутайсова? Бритвы, мыло, ремни и проч. – А что родится от меня? – Милости, щедроты, чины, ленты, законы и проч. Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: «Воздух двора заразителен, вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится? – От тебя, государь, отвечал, рассердившись, дурак, родятся бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч. Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел узнать непременно кем. Иван Степанович именовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске».
Звание попавшего в немилость в этом контексте не имеет значения. Почти в тех же выражениях, что и шут Иванушка, был «обвинен» тайный советник и великий поэт Державин: 23 ноября 1796 г. он разжалован из правителей канцелярии Павла I «за непристойный ответ, им пред нами учиненный».
«Опора трона» – господствующее сословие вышло из екатерининского царствования с важнейшими гарантиями как на владение крепостными, так и на «раскрепощение» собственной личности. Все основные группы просвещенного дворянства – и «просветители», и «циники», и «консерваторы» – этими правами дорожили: на них основывались их понятия о личной чести и достоинстве.
Поскольку главным адресатом павловской «реформы чести» было дворянство, возникла проблема отношений монарха и его социальной опоры.
Глава IV
Один и сто тысяч
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль, – на мгновенье…
История владеет пестрым и жутким набором самовластных деспотов: Хеопс, Навуходоносор, Калигула, Нерон, Цинь, Ши-Хуанди, Тимур. По основным «параметрам» они были сходны с тысячами других самодержцев и выделялись из их среды, оставались печальной памятью иногда ввиду особого зверства, но чаще из-за какой-то странной, особенной черты, сохраненной сагами, преданиями. Таков был, например, египетский тиран Хаким из династии Фатимидов (996 – 1021), перевернувший жизнь страны, приказавший женщинам никогда не выходить на улицу, днем всем подданным спать, ночью – бодрствовать; и так в течение четверти века, пока имярек не сел на осла, не объявил правоверным, что они не достойны такого правителя, и уехал, исчез (после чего попал в святые, от которого ведет свое начало известная мусульманская секта друзов).
Документы и легенды в этом случае, как, впрочем, и в большинстве других, сохранили противостояние правитель – народ. Совсем особая тема, как складывались отношения тирана с верхним слоем, на который он непосредственно опирался. В тех случаях, когда ему удавалось процарствовать долго, отношения были, очевидно, неплохи… Только плотная опора, вероятно, позволяла Хеопсу 30 лет строить свою пирамиду, а Тимуру – казнить, кого желал.
Маркс и Энгельс писали не раз о сравнительно большой, относительно самостоятельной абсолютной монархии (в Западной Европе), выступающей по отношению к дворянству и буржуазии «как кажущаяся посредница между ними».
«…Классовый характер царской монархии, – отмечал В. И. Ленин, – нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии»…».
Вопрос о разных типах взаимоотношений «класс – монарх», о причинах этого разнообразия не раз рассматривался в научных дискуссиях об абсолютизме. Не углубляясь в общую проблему, оценим любопытную реплику крупного российского чиновника второй половины XIX в. государственного секретаря А. А. Половцова. Прослушав сохранившиеся музыкальные сочинения самого Ивана Грозного, верноподданный Александра III находил там «бессмысленное мычание одичалого до грубости своенравца».
Резкость этой оценки такова, что монархист Половцов представляется тенденциозно неискренним: можно ли мерить XVI век критериями XIX? Царь Иван Васильевич был для своего времени человеком культурным… И тем более примечательна непримиримость сановника: даже с позиций угрюмого самодержавия конца XIX в. Иван Грозный – представитель другой, ожесточенной, неприемлемой формы самовластия, и нет сомнений, что главную его вину Половцов видит в казнях и деспотическом подавлении своего слоя – опальных бояр, дворян, духовенства – тех, кто (в отличие от бесписьменного народа) сумел рассказать, передать, создать традиционную версию об ужасах Грозного.
Крупнейший писатель и историк Карамзин, вполне лояльный к режиму, через несколько лет после гибели Павла напишет о «двух тиранах» (т. е. Иване Грозном и Павле), которых Россия имела в течение девяти веков.
Разумеется, и Половцову, и Карамзину известны удары, обрушенные теми тиранами на народ; однако вряд ли они взялись бы доказывать, что, скажем, при Петре I или Екатерине II крестьянам было куда легче, чем при Павле I: на эту тему в XIX в. имелись уже немалые сведения… Но не этим руководствуются они в своих оценках.
Тиран для дворянских публицистов – прежде всего бивший в своих…
Что же происходило между Павлом и дворянством в 1796 – 1801 гг.? Тем дворянством, чью наиболее активную часть мы условно разделили на «просветителей» и «циников», сходившихся на «выгодах просвещения» (Пушкин) и еще не разошедшихся достаточно далеко в споре об отмене рабства.
Разве Павел не имел возможности удовлетворять ряд общих или частных желаний, потребностей этого сословия и отдельных его представителей?
Опубликованные и неопубликованные архивные материалы не оставляют сомнения, что немалый процент «скорострельных» павловских замыслов и распоряжений приходился его сословию «по сердцу».
550 – 600 тыс. новых крепостных (вчерашних государственных, удельных, экономических и пр.) были переданы помещикам вместе с 5 млн. десятин земли – факт особенно красноречивый, если сопоставить его с решительными высказываниями Павла-наследника против матушкиной раздачи крепостных. Однако через несколько месяцев после его воцарения на взбунтовавшихся орловских крестьян двинутся войска; при этом Павел спросит главнокомандующего о целесообразности царского выезда на место действия (это уже «рыцарский стиль»!).
Служебные преимущества дворян в эти годы сохранялись и усиливались, как прежде. Разночинец мог стать унтер-офицером только после четырех лет службы в рядовых, дворянин – через три месяца, а в 1798 г. Павел вообще распорядился впредь разночинцев в офицеры не представлять! Именно по приказу Павла в 1797 г. учрежден Вспомогательный банк для дворянства, выдававший огромные ссуды.
Выслушаем одного из просвещенных современников: «Земледелие, промышленность, торговля, искусства и науки имели в нем [Павле] надежного покровителя. Для насаждения образования и воспитания он основал в Дерпте университет, в Петербурге училище для военных сирот (Павловский корпус). Для женщин – институт ордена св. Екатерины и учреждения ведомства императрицы Марии».
Среди новых учреждений павловского времени найдем и еще ряд таких, которые никогда не вызывали дворянских возражений: Российско-американскую компанию, Медико-хирургическую академию. Упомянем также солдатские школы, где было выучено при Екатерине II 12 тыс., а при Павле I 64 тыс. человек.
Перечисляя, заметим одну, но характерную черту: просвещение не упраздняется, но все больше контролируется верховной властью.
Павел интересуется и техническим прогрессом, отпускает большие суммы на очистку каналов. Узнав об «изобретении в Москве аптекарем Биндгеймом делания сахара из белой свеклы», царь «соображает важную пользу, от оного произойти могущую». В своем капитальном труде «О правительственной деятельности Павла», вышедшем в 1916 г., М. В. Клочков, между прочим, подробно разбирает меры по упорядочению лесного дела, спасению казенных лесов от вырубки, учреждению лесного департамента, лесного устава и т. д.
При всем при этом, когда эксперты показали большую выгодность частного, нежели казенного, промысла «золотых металлов», Павел потребовал дополнительных обсуждений, и советники, хорошо знавшие централизаторские наклонности суверена, вскоре высказались за «казенное управление» (что и было утверждено 13 мая 1800 г.).
Число государственных ведомств, занимающихся экономикой, при Павле возрастает: царь сразу восстанавливает берг-, мануфактур-, камер– и коммерц-коллегии, главную соляную контору, не говоря о ряде новых финансовых ведомств.
Как и прадед Петр, правнук Павел поощряет технический прогресс, государственное просвещение… И как будто не замечает, что после Петра I уже успели просочиться на Русь, как неминуемое следствие петровских реформ, «просвещенные свободы».
Павел I объявляет дворянские интересы своими, требуя изменить «всего» несколько пунктов екатерининской «Жалованной грамоты».
Тульский дворянин, радовавшийся началу павловских перемен, при этом плохо скрывает некоторый страх: «Ничто так, при перемене правительства, не озабочивало все российское дворянство, как опасение, чтоб не лишиться ему государем Петром III дарованной вольности, и удержание той привилегии, чтоб служить всякому непринужденно и до тех только пор, покуда кто пожелает; но, ко всеобщему всех удовольствию, новый монарх при самом своем еще вступлении на престол, а именно на третий или четвертый день, увольнением некоторых гвардейских офицеров от службы, на основании указа о вольности дворянства, и доказал, что он никак не намерен лишать дворян сего драгоценного права и заставлять служить их из-под неволи. Нельзя довольно изобразить, как обрадовались все, сие услышав…».
Радовались недолго.
«Разжалованная грамота»
В 1785 г. дворянству были дарованы: Свобода от обязательной службы: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу.
Подтверждаем благородным, находящимся на службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанному на то правилу».
В 1797 г. Павел I не только велит явиться в полк фиктивным, с пеленок зачисленным недорослям, но и требует списки «неслужащих дворян»; в Воронежской губернии (август 1800 г.) обнаружилось, например, 57 дворян, которые «грамоте не обучены, иные проводят дни свои в праздности, но главное и общее почти их упражнение составляет обрабатывание земли и домоводство». Вскоре из 57 «замеченных» 43 человека в возрасте до 40 лет «определены в военную службу».
Другой павловский способ «подтянуть» дворян – всяческое ограничение перехода с военной службы в гражданскую. С 5 октября 1799 г. никто не мог «по своему хотению» выбрать гражданскую службу вместо военной: требовалось разрешение Сената, утвержденное царем! Между прочим, приказывая (1800 г.), чтобы «все вступали в службу», Павел ударил по представителям так называемых свободных профессий (например, художникам).
Уход со службы все опаснее; отставка для многих выйдет выключкой, т. е. репрессивной мерой, лишавшей наказанного всех льгот и пресекавшей возможность вернуться на службу.
Свобода от податей и повинностей.
18 декабря 1797 г. дворян обложили сбором в 1 640 тыс. руб. для содержания губернской администрации, и более всего судебных мест.
Через несколько месяцев сумма была увеличена, и с 1799 г. дворяне платили 1 748 тыс. руб., т. е. около 20 руб. «с души».
Право собраний.
Тридцать три статьи «Жалованной грамоты» 1785 г. закрепили известное положение о дворянских обществах и собраниях, о выборах губернских и уездных предводителей дворянства, дворянских депутатов, капитан-исправников, заседателей…
В каждой губернии таким образом выбиралось при Екатерине II около ста должностных лиц, на всю же страну приходилось несколько тысяч выборных дворянских деятелей, что уже немало в российском управлении.
С самого начала павловского царствования начал подготовляться принятый 14 октября 1799 г. указ: о резком ограничении собраний и выборов. Царь выразил недовольство по поводу длительных «ярмарок невест» – обычных продолжительных дворянских съездов.
Губернские собрания, как самые влиятельные, совершенно упразднялись, уездные сильно ограничивались. Число дворян-избирателей сокращалось примерно в 5 раз. Право губернатора вмешиваться в дворянские выборы значительно возрастало.
Само слово «выборы» было столь неприятно монарху, что употреблялся другой, более реальный термин: «дворянский набор». Таким образом, павловская централизация, единовластие не мирились даже с уездно-сословными элементами «дворянской демократии».
Право представлений.
Статьи 47 и 48 «Жалованной грамоты» дозволяли дворянам сообщать о своих нуждах губернаторам и «делать представления и жалобы через депутатов их» как Сенату, так и царю.
Уже в первые недели царствования Павел сильно ограничивает дворянские депутации (даже верноподданнические): отныне для обращения на высочайшее имя требовалось предварительное разрешение губернатора или генерал-прокурора.
Право «не подвергаться лишению дворянского звания ничьею властью, кроме государя» – единственная нетронутая гарантия, ибо она в духе царствования, признающего разрешения и запреты сверху вниз, но крайне подозрительно относящегося к любой не царской инициативе.
И наконец, основная, ключевая привилегия дворянства: личная неприкосновенность.
Осенью 1797 г. генерал-квартирмейстер барон Аракчеев инспектировал 7-й егерский полк литовской дивизии с непривычной для бывших екатерининских офицеров грубостью. После окончания инспекции, как видно из заведенного вскоре особого дела, капитан Эгерс и поручик Штакельберг (вышли из обер-офицерских детей) «осмелились приходить к нему [Аракчееву] и говорить, что они таким образом и подобными трактаментами служить не хотят», а ссылаясь на брань Аракчеева в их адрес, находили, что «подчиненные к болванам и дуракам почтения иметь не будут».
Ситуация двойственная: право офицеров протестовать против грубого обращения и – внедряемое право власти их оскорблять. Система Екатерины – и система Павла; но в то же время Павел ведь хочет выступать как «охранитель чести»…
Отсюда любопытный разнобой в решении дела. Оба офицера были арестованы, и военный суд нашел, что они должны «публично отпущения своей вины просить или заключением, или каким иным наказанием наказаны быть». Генерал-аудитор вообще воздержался и передал все на царское усмотрение.
Павел 9 ноября 1797 г. вынес решение, для таких дел неслыханно жестокое: «Лиша чинов и дворянства, сослать в Нерчинск в работу» (Эгерс меж тем был сильно болен). По-видимому, у офицеров нашлись заступники, сумевшие использовать «добрые минуты» государя; к тому же в конце 1797 г. надвигалась и опала Аракчеева. 25 декабря 1797 г. было объявлено, что «по высочайшему повелению… Штакельберга и Эгерса должно простить».
Позже довольно объективный наблюдатель генерал Ланжерон заметит: «При Павле возобновились порки унтер-офицеров из дворян. Я видел, как великий князь Константин приказал дать Лаптеву, из хорошей рязанской фамилии, за ошибку в строе 50 палочных ударов.
Николай Олсуфьев (будущий генерал-адъютант) получил 15 ударов, а на другой день он стал офицером гвардии.
О жестокой экзекуции над штабс-капитаном Кирпичниковым (сквозь тысячу человек один раз) еще пойдет особый разговор.
«Жалованная грамота» (статья 15) запрещала телесное наказание дворян.
3 января 1798 г. последовало известное разъяснение Павла: «Коль скоро снято дворянство, то уж и привилегия до него не касается. По чему и впредь поступать». Наказанию, таким образом, придавалась обратная сила.
Суровые «опровержения» дворянских свобод осуществлялись многими рьяными исполнителями, но встречали притом естественное противодействие просвещенной дворянской среды. Известный правдолюбец московский сенатор И. В. Лопухин однажды слышит сожаления петербургского сенатора насчет суровых приговоров многим «невинным почти». «Для чего же?» – спросил Лопухин. «Боялись иначе», – отвечал он. «Что, – говорил я, – так именно приказано было или государь особливо интересовался этим делом?» – «Нет, – продолжал он,– да мы по всем боялись не строго приговаривать и самыми крутыми приговорами угождали ему».
Лопухин: «Мы, далекие от двора московские сенаторы, проще живем, и не отведал бы, конечно, знакомец твой кнута, если б случилось делу его быть в пятом департаменте [Московском уголовном департаменте Сената. – Авт.]. Во все царствование Павла I, во время присутствия моего в Сенате, ни один дворянин пятым департаментом не был приговорен к телесному наказанию и по всем делам истощалась законная возможность к облегчению осуждаемых».
Любопытно, что Павел почти все московские приговоры конфирмовал без возражений, а два-три даже смягчил.
«Личная обеспеченность, – скажет о своем и более ранних российских временах Салтыков-Щедрин, – это такое дело, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит».
Позже в «Колоколе» Герцен сформулирует программу-минимум, где рядом с отменой крепостного права и требованием свободы слова поместит пункт, с виду несоразмерный первым двум: отмена телесных наказаний – символа, «формулы» рабства.
Розги – апофеоз личной необеспеченности. Само их существование обязательно связано с целой системой других ущемлений личности. Современнице показался, например, довольно обычным следующий эпизод: «Однажды весною… после обеда, бывшего обыкновенно в час, император гулял по Эрмитажу и остановился на одном из балконов, выходивших на набережную. Он услыхал звон колокола, во всяком случае не церковного, и, справившись, узнал, что это был колокол баронессы Строгановой, созывавший к обеду. Император разгневался, что баронесса обедает так поздно, в 3 часа, и сейчас же послал к ней полицейского офицера с приказом впредь обедать в час».
26 декабря 1796 г. генерал-прокурор разослал по губерниям инструкцию, чтобы «чиновник, какого бы звания и класса ни был, никуда ни на малейшее время без дозволения Правительствующего сената не отлучался».
Николай Румянцев, видный государственный деятель, сын знаменитого и почитаемого Павлом фельдмаршала, три года не писал своим заграничным друзьям ввиду явной слежки. Сохранились документы о постоянном наблюдении за Румянцевым вместе со «слепком его печати» для удобного вскрытия писем; по заданиям генерал-прокурора Обольянинова слежку производил «конторы запаспых магазейнов член в Москве» Л. А. Кожевников.
Среди дел генерал-прокурора отложились документы такого типа, которых предпочли бы не иметь или быстро уничтожить в прошлом и последующих царствованиях. Таковы дела (санкционированные лично императором и осуществленные генерал-прокурором) о «наблюдении за поведением» княгини Долгоруковой, князей Алексея и Александра Куракиных, С. Плещеева, графов Кирилла и Андрея Разумовских; о надзоре за графом Литтой, князем Голицыным, графом Браницким; большое дело (293 листа) «о наблюдении за поведением князя Платона, графов Валериана и Дмитрия Зубовых». Причем 14 октября 1799 г. прямым указанием царя владимирскому почтмейстеру Панову предписано «осматривать переписку» П. А. Зубова; когда же Павел узнал, что Дмитрий Зубов (один из братьев, никак не связанный с «большой политикой») едет через Москву в Петербург, то последовало распоряжение, «чтобы граф Зубов не ездил, ибо пребывание его там его величеству неугодно».
Когда лондонские банкиры ввиду ухудшения отношений с Россией не доплатили русской казне 500 фунтов, Павел I распоряжается «взыскать деньги с российского посла С. Р. Воронцова».
Цензурные стеснения тех лет требуют некоторых пояснений.
Гонения на книги, как известно, усиливаются еще с конца екатерининского времени. Прежде был узкий круг читателей, не было широкой сферы действий для цензуры (речь не идет о духовных сюжетах, раскольничьих книгах). До поры до времени позволялось печатать и в частных типографиях без того стеснения, которое началось в годы французской революции.
Для осуждения Радищева, как известно, не нашлось специальной статьи законодательства, и меру наказания для него искали даже в «Морском уставе». Последовавшие затем гонения на издания Новикова, Княжнина и других открыли, однако, существование достаточно широкого круга читателей; усиливались опасения властей насчет возможного влияния «вредной литературы».
В павловское царствование надзор за литературой усиливается.
Указ от 18 апреля 1800 г. торжественно объявлял: «Так как чрез вывезенные из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданских законов и благонравия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку».
Указ этот завершал серию более ранних запретительных мер: три цензуры учреждаются в Санкт-Петербурге, а кроме того, в Москве, Риге, Одессе и при главной таможне.
В 1797 – 1799 гг. запрещено 639 изданий, в том числе «Путешествие Гулливера» (однако недосмотрен и пропущен… Руссо!). Единственная иностранная книга, пропущенная в 1800—1801 гг., – «Тунгусское богослужение» из Китая. Цензуре подвергались и ноты Моцарта, Гайдна.
5 июля 1800 г. вдруг были опечатаны все типографии, кроме сенатской, академической и 1-го кадетского корпуса; через 4 дня, впрочем, последовало распечатывание с грозным предупреждением о необходимости строжайшего цензурного наблюдения.
Ошибки цензоров карались жестоко.
Для формирования общественного мнения в павловское царствование особую роль сыграло несколько историй, считавшихся эталоном, характерной приметой времени.
В этом отношении интересна вступительная часть к «Запискам Беннигсена», составленным в 1801 г. В ряде изданий этого важного документа вводная часть опущена как «тривиальная» («11 марта», 112); между тем тривиальность, расхожесть здесь особенно любопытны. Беннигсен явно писал то, что говорилось всеми; было у всех «на слуху». В его обвинительном перечне, между прочим, и история пастора Зейдера: «Состоялось запрещение некоторых книг, чтение которых до того времени не считалось предосудительным. Пастор Зейдер в Ливонии имел несколько таких книг в своей маленькой библиотеке и думал дать доказательство своего уважения к закону, отослав их к органам правительства в Ригу. Но чиновники в своем рапорте императору придали поступку Зейдера характер преступления. Приказано было отправить пастора с фельдъегерем в Петербург. Здесь этот несчастный был посажен в тюрьму. Юстиц-коллегии дан был указ исследовать преступление пастора, судить его и наказать кнутом. Судьи, прочтя указ, переглянулись между собою, а президент суда сказал: «Что же, о расследовании думать нечего, постановим решение, которое нам уже предписано». Спустя несколько дней несчастный пастор был наказан кнутом и сослан в Сибирь, где он оставался до восшествия на престол императора Александра».
При этой ситуации литература все крепче «замерзала». За четыре последних года екатерининского правления печатная продукция составила 1116 названий (в 1793 г. – 313, в 1794 г. – 290, в 1795 г. – 258, в 1790 г. – 249). При Павле же происходит уменьшение объема печатных изданий почти на треть: 875 названий за четыре года (в 1797 г. – 175, в 1798 г. – 237, в 1799 г. – 254, к 1800 г. – 209); за весь 1801 г. вышло всего 34 книги и брошюры, что, конечно, связано с политическими событиями того года.
8 альманахов и литературных сборников, вышедших за 4 года павловского правления, – также явное снижение по сравнению с 24 изданиями, появившимися за четыре последних екатерининских года, и 22 сборниками за такой же срок от начала правления Александра I .
Подведем краткий итог. Лишь один пункт «Жалованной грамоты» остался в силе (дворянство отнимается только царем). «Благородное сословие», сочетавшее душевладение с элементами просвещения и несколько поколений пробивавшееся к «дарованным правам», к личной неприкосновенности, вдруг видит себя возвращенным ко времени Петра I и его первых преемников.
Многое из того, что делалось главой государства в конце 1790-х годов, показалось бы дворянству нормальным или исторически неизбежным на полвека ранее. Однако с тех пор выросло уже по меньшей мере два «непоротых» дворянских поколения, воспользовавшихся законом о вольности дворянства и «Жалованной грамотой». Целый слой, привыкший к своей вольности!
Автор этой книги несколько лет назад написал строки, которые считает уместным здесь повторить:
«Без Муравьевых, которые просвещают, никогда бы не явились Муравьевы, «которых вешают». Прямо из времен Бирона… никогда бы не явились Пушкин и декабристы.
Василий Осипович Ключевский заметил о времени после Ивана Калиты: «В эти спокойные годы успели народиться и вырасти целых два поколения, к нервам которых впечатления детства не привили безотчетного ужаса отцов и дедов перед татарином: они и вышли на Куликово поле».
Два поколения екатерининских дворян также избавляются от отцовских и дедовских страхов, хотя и не помышляют «на Мамая».
Два небитых дворянских поколения – без них и Пушкин был бы не Пушкин, и Лунин – не Лунин».
Говоря о личных правах дворянства, один из мемуаристов заметил, что, «если бы Павел в несправедливых войнах пожертвовал жизнью нескольких тысяч людей, его бы превозносили, между тем как запрещение носить круглые шляпы и отложные воротники на платье возбуждало против него всеобщую ненависть».
Это наблюдение весьма любопытно. За частностью тут хорошо видно общее. Во-первых, укрепившиеся привычки к известному уровню личного достоинства; запрещения же, подобные «шляпным», тем тяжелее, чем мельче: если уж такие права регламентируются, что мечтать о более существенных! Во-вторых, за «шляпным гонением», за битьем офицера, за «дураком», жалуемым губернатору, за многосторонним и постоянным унижением частного, личного в пользу государственного – за всем этим дворянство теряло представление о надежности, обеспеченности своего положения.
«Жалованная грамота» была известной гарантией дворянских вольностей. С ноября 1796 г. гарантии резко ослаблены.
Казалось бы, самое незыблемое – владение душами. Ведь царь щедр на подарки: около 600 тыс. крепостных роздано помещикам. Однако уже летит в Лондон грозное для посла и влиятельного вельможи Воронцова сообщение, что на его имения наложен секвестр (хотя никакого преступления не совершено и есть только известное недовольство императора).
Потерять дворянство, неудачно взмахнув эспантоном на марше или неправильно поклонившись, ничего не стоило.
600 тыс. крестьян роздано, но ведь немало и отнято или подлежало изъятию с утратой дворянского достоинства!
Один из близких сотрудников генерал-прокурора сообщает, что Обольянинов по решению Сената отобрал земли у многих помещиков Саратовской и других губерний и добился больших пожалований «от тысячи до пяти тысяч десятин» чиновникам своего аппарата. Это свидетельство подтверждается и сохранившимися документальными данными о пожаловании 26 чиновникам из канцелярии генерал-прокурора и тайной экспедиции 83 тыс. десятин.
Известный в будущем деятель В. Н. Каразин (в ту пору молодой чиновник) пытался бежать за границу, «а когда был пойман, откровенно написал императору, что «желал укрыться от жестокости его правления, и хотя не знает за собой вины, но уже его свободный образ мысли мог быть преступлением». Павел, не чуждый порывов великодушия, простил Каразина и дозволил ему поступить на службу».
Ситуация дворянской неуверенности, негарантированности хорошо видна и из некоторых до сей поры почти не использованных исследователями материалов Военно-походной канцелярии Павла.
Репрессии
На всю жизнь запомнит юнкер Семеновского полка Михаил Леонтьев «протяжный и сиповатый крик Павла I: «Под арест его!»». Как и многие другие, он запомнит и ужас при одном наименовании Тайной экспедиции, где заседал «страшный по одной уже наружности тайный советник Николев».
Во главе карательного органа – Тайной экспедиции при Сенате (заменившей торжественно упраздненную в 1762 г. Тайную канцелярию) стоял генерал-прокурор, однако главными вершителями политических дел были специальные чиновники Макаров, Николев. Николеву постоянно поручались дела, связанные с высокими персонами – Зубовыми, Зоричем, Куракиными, Разумовскими…
Именно Николев был главным мучителем Суворова в период его опалы.
Приведем характерный пример, каких было немало. «Помню, – писал Греч о начале царствования Павла, – какое сильное действие произведено было по всей публике арестованием двух офицеров за какую-то неисправность во фронте. Дотоле подвергались аресту только отъявленные негодяи и преступники закона. Арестованные были в отчаянии и хотели застрелиться со стыда. Для них арест был то же, как если б ныне раздели офицера перед фронтом и высекли».
Позже привыкнут.
В первые дни павловского царствования в основном, правда, шла амнистия, явно опровергавшая меры Екатерины II. 7 ноября 1796 г. последовал именной указ об освобождении Н. И. Новикова и еще пятерых человек. 8 – 11 ноября освобожден белорусский дворянин Лаппо и снят запрет на выезд в столицы графа Апраксина, а также прежде обвиненных по «новиковско-масонским» делам Трубецкого, Тургенева, Лопухина. 19 ноября освобождены Костюшко, Потоцкий, затем еще шесть поляков.
Освобождение продолжалось и позже: 23 ноября – Радищев, 13 декабря – «38 человек из разных мест»…
Однако постепенно амнистия прекращается и все заметнее новые аресты: 22 ноября – именной указ о заключении полковника Елагина «в крепость навсегда за дерзновенные разговоры» (4 января 1797 г. его, впрочем, освободят). 15 декабря приговорен к пожизненной крепости «за дерзкие разговоры» полковник Копьев. 24 декабря – один надворный советник, один капитан и один прапорщик «в каторжные работы навсегда».
Все это – важные приказы, позволяющие делать известные качественные оценки, однако не хватает количественных…
Сколько же человек подвергалось гонениям за павловское четырехлетие? Какова реальная основа десятков анекдотов, устрашающих историй о ссылке, тюрьме, разжаловании, экзекуции, лишении дворянства и т. п.?
О числе пострадавших и литературе сохранились довольно разноречивые сведения.
Писали о тысячах, десятках тысяч невинно пострадавших, в частности о 12 тыс. амнистированных при восшествии Александра 1. Отмечалось, что «подверглись гонениям 7 фельдмаршалов, 333 генерала и 2261 офицер», т. е. 2601 человек, что на гауптвахте Зимнего дворца сидело семь генералов.
Любой подобный рассказ, не устанем повторять, интересен как мнение современников, как интерпретация многих фактов. Тем важнее сосчитать то, что было в действительности.
Богатейшие материалы павловского военно-судебного ведомства, Генерал-аудиториатской экспедиции, сохранившиеся в Центральном государственном военно-историческом архиве, позволяют в известной степени представить мучения и заботы влиятельной части дворянства – офицеров и генералов (преимущественно служащих в столице).
Через Генерал-аудиториат проходили разнообразные офицерские дела (иногда вместе с солдатами и чиновниками, когда по самой сути обвинения их нельзя было передать другому ведомству).
Хронологическая регулярность сохранившихся аудиториатских дел показывает, что практически все материалы налицо. Несколько десятков разрозненных документов за 1789 – 1796 гг. было присоединено к делопроизводству Аудиториата задним числом, последовательное же рассмотрение дел мы находим с 24 января 1797 г. (дата основания Генерал-аудиторната) до конца павловского царствования. Вообще же в указанном фонде сохранились военно-судные дела до 1 октября 1805.
Итак, посмотрим, кого и как судил Генерал-аудиториат в 1797 – 1801 гг. Перед нами дела в конце концов обязательно конфирмованные императором. Некоторые из них пришли из провинции, на других лежит печать молниеносного царского решения – легко вообразить, как на вахтпараде или в ином месте по царскому распоряжению производится быстрая расправа с виновным, которая тут же оформляется Генерал-аудиториатом. Разумеется, не все наказания идут через Аудиториат, часть обходится и без судебного рассмотрения, но об этом еще будет сказано особо.
Пока же в распоряжении историка 64 аудиториатских дела за 1797 г., 144 дела за 1798 г., 108 дел за 1799 г., 148 дел за 1800 г., 31 дело с 1 января по 11 марта 1801 г.
Итак, 495 дел за 50 месяцев, около 10 дел в месяц.
Для сравнения заметим, что после воцарения Александра I: с 11 марта 1801 по 1 января 1802 г. было 56 дел, в 1802 г. – 85 дел, в 1803 г . – 75 дел, в 1804 г. – 44 дела, в 1805 г . (за 9 месяцев) – 29 дел. Всего 289 дел за 54 месяца, чуть более 5 дел в месяц.
По хронологии приговоров мы можем угадать как дни особенно «ильного императорского гнева, так и дни благорасположения: 2 декабря 1797 г. 2 офицера и 2 вахмистра разжалованы в рядовые; 14 и 15 июня 1799 г. лишены чинов и дворянства 5 человек; серия жестоких приговоров наблюдается в конце января и начале февраля 1800 г. Наоборот, 24 июля 1798 г. прощено 15 кавалергардов, прежде разжалованных в рядовые.
Разумеется, это лишь «первый слой» статистики, из которого видно ослабление вдвое аудиториатской активности за первые александровские годы по сравнению с павловскими.
Эти числа ничего не говорят нам о том, кого и за что судили, многих ли наказывали и миловали. Чтобы понять это, разделим обвиняемых на три категории: нижнюю (унтер-офицеры и рядовые из дворян, а также обер-офицеры, до капитанов включительно), среднюю (штаб-офицеры – от майора до полковника) и высшую – генералы (подключим в каждую из категорий соответственно чину и немногих попавших в Аудиториат гражданских лиц).
Затем произведем расчет числа обвиненных и прощенных, окончательные же приговоры Аудиториата разделим в свою очередь на 4 категории: прежде всего, тяжелые наказания – заключение в тюрьму, крепость, каторжные работы сроком более 6 месяцев; во-вторых, лишение чинов и дворянства; в-третьих, увольнение со службы или отставка; наконец, штраф, незначительное взыскание и временное заключение (до 6 месяцев) с последующим возвращением на службу.
Предлагаемая классификация, конечно, условна. Некоторое число приговоров представлено в делах неопределенно, отчего нельзя их отнести ни к одной из категорий. Отдельные приговоры позже отменялись, но сведения о том не попадали в аудиториатские дела; часть обвиненных по два и более раз попадала под суд – амнистировались, снова наказывались… Таким образом, абсолютно точные данные в наших расчетах невозможны, однако количество рассмотренных дел все же немалое, а число лиц, прошедших через Аудиториат, много больше (часто по одному делу несколько обвиняемых). В целом материалы Генерал-аудиториата позволяют судить о репрессивной политике Павла по военной части.
В 1797 г. Аудиториат нашел виновными 65 офицеров, оправдал же 10. В 1798 г. число наказанных значительно возрастает: 178. В том же году 78 лиц было оправдано. В 1799 г. осуждено 115, помиловано 35, в 1800 г. – соответственно 136 и 31, в 1801 г. (до 11 марта) – 38 и 13. Всего, таким образом, мы учитываем 699 человек, попавших в Аудиториат, из которых 532 (76%) осуждено и 167 (24%) оправдано.
Понятно, большая часть обвинений пала на нижнюю группу (до капитанов включительно): здесь 395 человек, т. е. более трех четвертей всех виновных. Штаб-офицеров – 83 человека (около 10%), генералов – 44 (в том числе 19 в 1800 г. и три в начале 1801 г.).
Важной особенностью павловских военных наказании является сравнительно большое число суровых приговоров (по нашей классификации – 1-го и 2-го типа).
В 1797 г. 12 человек посажено в тюрьму, отправлено на каторгу или в ссылку, а 28 лишено чинов и дворянства. Это 40 из 65, т. е. более 60% всех приговоренных. В 1798 г. таковых было 91 из 178 (более половины всех приговоров), в 1799 г. – 55 из 115 (48%), в 1800 г. – 77 из 136 (57%), в 1801 г. – 12 из 38 (но к ним нужно еще присоединить группу из 15 нижних чинов, шедших по одному делу с офицерами).
Таким образом, число самых суровых, тяжелых наказаний составляет больше половины всех репрессий.
В этом-то заключается основное отличие павловских мер от приговоров 1801 – 1805 гг. Число лиц, прошедших через Ауднториат первых александровских лет, было немалым (хотя количество дел, как отмечалось, снизилось почти вдвое), при этом возросло количество больших групповых дел, большей частью о хищениях и других злоупотреблениях. В 1802 г. осуждено 115, оправдано 28; в 1803 г . осуждено 170, оправдало 20. Как видим, число наказанных примерно такое же, как при Павле, и поэтому не следует представлять, будто после 1801 г. вообще почти никого не наказывали и наступил «офицерский рай».
Не вникая подробно в статистику александровского Аудиториата, отметим только почти полное отсутствие в 1801 – 1802 гг. наказаний, отнесенных нами к 1-й группе: ссылки офицеров в каторжные работы, лишения дворянства. Более 70% приговоров – это арест на краткий срок, обхождение производством, разжалование на короткие сроки, вменение суда в наказание, арест на две недели.
Мы не будем на этом основании утверждать, что Павел наказывал «зря»: из формулы большинства его приговоров нельзя понять действительную степень вины офицера. Однако огромное количество дел о воровстве по комиссариатской части, о хищениях, недоставлении рекрут и др. – это относится к характерным для павловского правления мерам против «развала и разврата» последних екатерининских лет.
И тем не менее около 300 дворян, военных, наказанных предельно, – это довольно жесткий уровень, если учесть, что общее число офицеров и генералов в павловское время составляло примерно 15 тыс. человек.
Сведения о наказаниях солдат будут приведены в следующей главе; пока же подчеркнем еще раз, что аудиториатские приговоры – лишь часть репрессий по армии; сюда совершенно не входят те, кто вынужден был уйти в отставку или изгнан с военной службы без специального аудиториатского дела. Таких было очень много, и, не располагая общими данными, сошлемся на тогдашнего гвардейского полковника: «Из числа ста тридцати двух офицеров, бывших в конном полку в 1796 году, всего двое (я и еще один) остались в нем до кончины Павла Петровича. То же самое, если не хуже, было в других полках, где тирания Аракчеева и других гатчинцев менее сдерживалась, чем у нас».
Среди выписок А. И. Михайловского-Данилевского из царских приказов по армии находим между прочими: «9 сентября [1797] уволены в один день 3 полных генерала, 3 генерал-лейтенанта и 9 генерал-майоров; 16 сентября вышло в один же день в отставку 68 обер– и унтер-офицеров гвардейских полков, 26-го числа 90 гвардейских унтер-офицеров, а 17 октября 120 унтер-офицеров Преображенского полка».
Постепенно мы действительно приближаемся к порядку чисел, близкому к данным о 2600 офицерах и генералах, «подвергавшихся гонениям».
Рядом с аудиториатскими репрессиями действовала упомянутая Тайная экспедиция. Часть дел, начатых по военной части, мы находим и здесь, например известный процесс важных особ – генералов князя Сибирского, Турчанинова и других, обвиненных и отправленных в Сибирь за злоупотребления.
Некоторые подробности этого дела в высшей степени характерны. Уже после отправления генералов в ссылку, 29 апреля 1800 г., Павел I приказывает надворному советнику Крюкову догнать осужденных и, «буде они не скованы, сковать их». Посланный вскоре доносил, что Турчанинов и Сибирский следуют «в оковах нарочитой толщины с глухими заклепками» и «крайне изнурены». Последнее замечание вызвало, очевидно, перемену настроения монарха, и 11 мая уж послан вдогонку приказ: оковы снять и в дороге отдыхать. 16 февраля 1801 г. Павел велел освободить князя Сибирского и вернуть его в Москву, после же воцарения Александра I последовала немедленная реабилитация.
Кроме того, в Тайную экспедицию доставлялись представители всех сословий, подозреваемые в преступлениях не только военных, но и политических. Подсчет дел этого ведомства особенно интересен тем, что дает редкую возможность сопоставить репрессии при Екатерине II и Павле I (Тайная экспедиция, созданная на четвертом месяце правления императрицы, была уничтожена сразу же по воцарении Александра I).
Всего за 35 лет екатерининского правления, с 1762 по 1796 г., через Тайную экспедицию прошло 862 дела, в среднем 25 дел в год. Больше всего – в 1763 г . (52 дела), в 1775 г . (44), меньше всего – в 1770 г . (10), 1792 г. (11), 1787 г . (12 дел). При Павле I, считая с 1 января 1797 г., мы находим 721 дело Тайной экспедиции: в 1797 г. – 154, в 1798 г. – 205, в 1799 г. – 118, в 1800 г. – 177, в 1801 г. – 57 (до указа об уничтожении Тайной экспедиции 2 апреля 1801 г.). В среднем 180 в год, т. е. в 7 раз больше, чем в предшествующее царствование.
Кого же и за что доставляли в страшное заведение Макарова и Николева?
Нами было выборочно просмотрено около 100 дел и составлена «тематическая роспись» остальных (благо заглавие каждого дела в основном достаточно подробно изъясняет, кого и за что допрашивают).
Исключив из расчета лиц с неясной или неопределенной социальной принадлежностью, представим оценки примерно для четырех пятых секретных дел (566 из 721); понятно, в одном деле могло быть замешано несколько человек.
В Тайную экспедицию было взято:

Таким образом, по 566 делам Тайной экспедиции проходит в 1797 – 1801 гг. 727 человек. (На самом деле больше, так как в ряде случаев привлекалось неопределенное число сообщников или родственников подследственного.) Дворяне явно преобладают, составляя 44 % всех обвиняемых. Примерно одинаково представлены три группы (купеческо-мещанская, крестьянско-мещанская вместе с городскими низами, иностранцы): каждая примерно по 13% подследственных, но в общей совокупности меньше дворянства! Наконец, духовенство и солдаты дают менее 9% общей численности обвиняемых.
Еще больше возрастает «вес дворянства», если соотнести эти данные с общей численностью каждого сословия, хотя нужно принять к сведению, что сравнительно малое число дел солдатских и крестьянских еще не говорит о «легкой жизни» этих категорий населения; ведь их судьбы решались чаще всего «без протокола» – быстрым военным судом или экзекуцией без всякого суда, но об этом ниже.
Тематика дел Тайной экспедиции тоже дает немало для понимания событий 1796 – 1801 гг. Нами рассмотрено основное содержание 573 следственных дел. Большая часть дел легко классифицируется и может быть представлена в 10 группах.
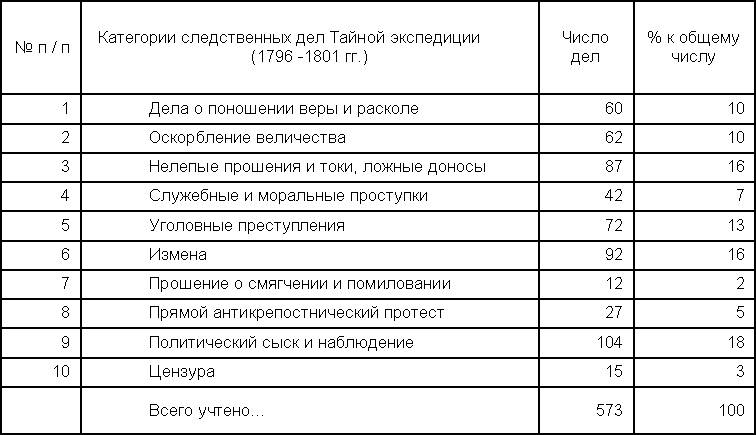
Легко заметить, что три самые острые, политически опасные категории (политический сыск, измена, оскорбление величества) составляют без малого половину всех дел – 258.
Нетрудно понять, как строго исследовались такие дела и какое значение придавал царь малейшему проступку против своей особы. Унтер-офицера Мишкова, подозреваемого в авторстве злой карикатуры на царя (появившейся в Харькове), Павел приказывает в начале 1801 г., «не производя над ним никакого следствия, наказав кнутом и вырвав ноздри, сослать в Нерчинск на каторгу». Экзекуция была, по-видимому, умышленно затянута, и новый царь Александр I велел «оставить без исполнения».
Приведем еще несколько типичных «сюжетов»:
«об арестовании погарских купцов… по доносу в дерзких между собою толках о строгостях императора Павла, кротости великого князя Александра и суровости великого князя Константина»;
«о шихтмейстере Никите Шантане, лишенном всех чинов и достоинств и отданном в Нерчинских заводах в работу за произнесение слов «Важное дело ваш государь!»»;
«о крестьянине Онуфрии Карпове, называвшем императора Павла царишком»;
«о наказании кнутом и ссылкой в Сибирь священника Степана Иванова, сказавшего на литургии после высочайшего титула «сей род да будет проклят», членов духовного правления Василия Григорьева и Никифора Матвеева, промедливших дать ход доносу о том, и о награждении архиепископа Вениамина».
В заметной группе дел «о нелепых прошениях, толках, ложных доносах» находим следствие «О подпоручике Иване Биретове, желавшем быть при государи для говорения всегда правды»; «О толках между раскольниками, будто император Павел есть значащийся в их книгах царь Развей». Больше всего подобных дел в начале царствования; в 1799 – 1800 гг. – значительно меньше. Павловский режим, с одной стороны, поощрял доносы, с другой – пугал и доносчиков возможным поворотом дела не в их пользу.
Прямые антикрепостнические выступления крестьян хотя и подавлялись обычно без участия Тайной экспедиции, но все же заняли свое место в ее делах. К тому же здесь по одному делу часто проходит много обвиняемых. Наиболее частый сюжет, встречающийся среди этой группы документов, – надежды крестьян на освобождение. Таковы дела о крестьянах Иване и Николае Чисовских, подавших прошение его величеству об освобождении их из крепостного состояния; «О солдате Иване Молотцове, сочинившем возмутительное письмо солдату Григорию Петрову и родным сего последнего о предоставленных будто бы крестьянам льготах». В 1798 г. статский советник Николев командируется в Ярославскую губернию «для разведания о намерении крестьян произвести смятение».
Таким образом, по делам главного сыскного ведомства империи (так же как по военно-судным) заметно обилие самых суровых наказаний, а также сильное политическое наступление государства на дворянское сословие.
Третьим возможным источником для статистического изучения этих процессов являются документы об амнистии, реабилитации, составленные в начале царствования Александра I.
Н. К. Шильдер, ссылаясь на бумаги государственного секретаря Трощинского, сообщал о том, что на 11 марта 1801 г. «арестантов, сосланных в крепости и монастыри, в Сибирь, по разным городам и живущих по деревням под наблюдением, всего 700 человек. Из этого числа по 21-е марта, т. е. до погребения императора Павла, всемилостивейше прощено и освобождено 482 человека; затем отбирались справки по поведению и неизвестности преступлений о 54 лицах, и не освобожденными оставались еще 104 человека».
Ознакомившись с теми же бумагами, на которые ссылается Шильдер, попытаемся определить сословную принадлежность арестантов.
Список заключенных соединил разные пути, по которым Павел наказал неугодных подданных: часть прошла через Тайную экспедицию, другая – сквозь Генерал-аудиториат, третья – прямыми именными указами и другими видами самодержавного волеизъявления.
Кто же был лишен свободы к концу павловского правления? Приводим данные о 554 репрессированных.
К 11 марта 1801 г. находилось в заключении и в ссылке: генералов – 14; чиновников первого и четвертого классов – 6; военных V – VIII классов – 44; чиновников V – VIII классов – 17; обер-офицеров (вместе с унтер-офицерами из дворян) – 78; прочих дворян, шляхтичей – 20; женщин дворянского происхождения – 10; чиновников ниже VIII класса и канцеляристов – 28; купцов – 23; духовенства – православных, лютеран, католиков – 23 (в том числе 1 митрополит и 1 епископ); упоминаемых в списках как «поляки, лифляндцы, малороссияне» – 13; иностранцев – 14; нижних чинов – 20; крестьян, казаков, однодворцев, мастеровых – 31 (в том числе 3 женщины); «духоборцев из Слободской Украины» – 204; прочих – 3.
И снова мы видим впечатляющую статистику столкновения царя со своим дворянством; в этом списке «благородное сословие» представлено по меньшей мере 195 персонами (35%), в числе которых 20 военных и статских генералов (к тому же среди женщин одна «жена генерала»); 18 человек имели княжеский, графский, баронский титулы.
На самом же деле число дворян, лишенных свободы, было значительно больше: в нескольких случаях число изъятых лиц указано неопределенно, например «дети князя Голицына». Кроме того, в наших расчетах не рассматривались как дворяне чиновники IX – XIV классов, в то время как реально многие из них принадлежали к «благородному сословию».
Таким образом, дворяне составляют около половины амнистированных и реабилитированных в начале правления Александра I.
Этот специфический тип репрессий как бы исторически предвосхищает следующее крупное столкновение верховной власти с дворянством, которое уже пройдет под знаменем декабризма.
Из крупных социальных категорий, как видим, мало затронуты репрессиями городские сословия, тогда политически не активные и «не попадавшиеся» на дороге павловских преобразований. 255 амнистированных из 554 (40%) из крестьян, казаков, солдат, однако, как видим, большую часть здесь составляли гонимые правительством духоборы.
Подведем краткие итоги.
Изучая по разным источникам и спискам количественное выражение «павловского гнева», мы использовали около 500 аудиториатских дел, более 500 – по Тайной экспедиции, более 500 – по материалам амнистий 1801.
Известная часть этих документов, проходя по разным ведомствам, относится к одним и тем же людям; в то же время ни в одном из списков не найти еще тех сотен опал, отставок, понижений и оскорблений, которым подверглось множество людей (между прочим, 13 марта 1801 г. все «выключенные» со службы объявлены просто отставленными). Наконец, ряд лиц не попал в список освобожденных потому, что весной 1801 г. они были на воле, а в ссылке, крепости, опале побывали (порой и не раз!) несколько раньше.
Несколько сот наказанных дворян вполне соответствуют нескольким тысячам, которые подверглись разным гонениям.
Эти цифры, внешне не слишком крупные, на деле составляли заметную долю российского просвещенного слоя. Можно говорить о каждом десятом чиновнике и офицере, подвергавшемся какому-нибудь наказанию или опале. Однако еще раз напомним, что дело не только в числе репрессированных. Главное, не было уверенности, что завтра любой не попадет в число опальных.
Господствующий класс утрачивал гарантии своего господствующего положения, того, в чем сходились и помещики, и Екатерина II, сказавшая однажды, как ей приятно, что «дворяне себя чувствуют».
«Благополучное состояние, коего залог ость личная безопасность. (. . .) Непоколебимость оного положения» – вот чего устами Александра Воронцова желает в 1801 г. российское дворянство.
Гарантии… Отчетливым доказательством их отсутствия был призрак, преследовавший многих и названный во французских мемуарах графини Шуазоль-Гуфье русским термином «le kibitka». Кибитка, в принципе легко увозящая любого в Сибирь или крепость… Герцен позже скажет: «дамоклова кибитка».
«Le kibitka» и «un feldjeger» (Символом страха был с давних времен и колокольчик: Пушкин писал о своем прадеде, что «до самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика») – мемуаристка рассказывает, что отец ее, граф Тизонгаузен, обедал у казанского губернатора, когда прибыл «кабинетский фельдъегерь». Все побледнели, губернатор трясущимися руками вскрыл пакет, который, к общему удовлетворению, касался награждения одного из генералов.
«Время было такое, – вспоминал К. Ф. Толь, – что я каждый вечер от всего сердца благодарил бога, что еще один день кончился благополучно».
Военному вторит литератор: «Тогда жили точно с таким чувством, как впоследствии во время холеры. Прожили день – и слава богу».
Гарантии. Несколько десятилетий спустя декабрист иронически запишет о стремлении дворянства гарантировать «своевольную и безнравственную жизнь времен Екатерины».
И владение крепостными рабами, по сложному историческому парадоксу того века, требовало известных просвещенных гарантий.
Впрочем, это просвещение неминуемо приближало и освобождение рабов, о чем большинство душевладельцев не подозревало или думать не желало.
Погашение же просвещения, как будто отодвигавшее призрак свободы, вело к той степени несвободы, которую дворянство 1800 г. не могло уже принять.
К тому же попытка развязать «петровский узел» (рабство плюс просвещение) иллюзорным возвращением назад, урезанием некоторых завоеваний просвещения ставит императора в новые отношения с «чернью», что также не поднимает дух у «благородного сословия».
Глава V
33 миллиона
Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье…
«Недовольны все, кроме городской черни и крестьян», – сообщает 16 июня 1797 г. своему правительству прусский посланник Брюль.
Молодой гвардейский юнкер павловских времен на старости лет вспомнит: «Павел любил, чтоб его называли отцом отечества…, желая вызвать к себе любовь черни».
«Из 36 миллионов русских по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять императора, хотя и не все сознавали это». Это записал немецкий литератор, пользовавшийся щедротами Павла, после того как побывал в сибирской ссылке по приказу того же Павла.
«В это бедственное для русского дворянства время, – вспомнит декабрист, – бесправное большинство народа на всем пространстве империи оставалось равнодушным к тому, что происходило в Петербурге, – до него не касались жестокие меры, угрожавшие дворянству. Простой народ даже любил Павла…».
Во время путешествия по России, в 1798 г., Павел пишет жене: «Муром не Рим. Но меня окружает нечто лучшее: бесчисленный народ, непрерывно старающийся выразить свою безграничную любовь».
3 июня 1798 г. из Нерехты: «Вы пьете воды, я же переправляюсь через них то в шлюпке, то на понтоне, то в лодочках крестьян, которые, в скобках, бесконечно более любезны, чем… тш! [Chut!] Этого не надо говорить, но надо уметь чувствовать.
Текст примечательный; очевидно, крестьяне более любезны, чем аристократы, придворные дворяне, но – тш! Chut!
Финал письма из Нерехты не менее любопытен. Изобразив восторги крестьян, царь вдруг замечает? «Если будет реформа, придется уйти», т. е., вероятно, надо понимать: если крестьяне станут лично свободны, то сделаются столь же упрямы и непокорны, как нынешние их чересчур свободные хозяева.
Нелегкая и очень непростая тема «Павел и народ» – на ней воздвигались многие построения, начиная от восклицания императрицы Елизаветы Алексеевны в 1801 г. «Все радовались перемене царствования» до формулы историка начала XX в. Буцинского «царь-демократ». Эту проблему находим в общем виде и у ряда советских авторов, более всего у А. В. Предтеченского.
Обратимся к фактам.
Крестьяне
Уже говорилось о «самозванческих легендах»: государь Петр Федорович, ожидающий любезного сына Павла Петровича; прямые надежды народа на нового царя, отчетливо выраженные в «Благовести» Еленского.
Иностранные наблюдатели отмечали народную радость во время перехоронения Петра III и при таких непривычных актах, как публичное сожжение «лишних», инфляционных ассигнаций и др.
Если бы павловский сыск доставлял в центр сведения того же размера и характера, как после восшествия Николая I, мы бы, вероятно, узнали немало важного о крестьянских чаяниях и разговорах. Однако в 1796 г. так не прислушивались к «молчавшему» народу, как это будет в 1826 г ., и поэтому сведения с мужицкой стороны отрывочны, неопределенны…
Меж тем указы, читавшиеся по церквам или постепенно доходившие вместе со слухами, как будто обнадеживали.
Присяга. Впервые в истории страны крепостным приказано было присягать вместе с вольными: их сочли за подданных. Известный исследователь крестьянского вопроса видел здесь один из важных поводов к последующим волнениям в 17 губерниях: народ решил, что свобода близка.
Рекрутский набор, объявленный Екатериной, сразу отменен; не было набора и в 1800 г. В другие годы набирали меньше, чем прежде, так как армия сократилась примерно на 1 /3 . К концу Царствования Екатерины II в армии числилось 500 тыс., при Павле – 335 тыс. человек.
Недоимка в подушном сборе – семь с лишним миллионов рублей (1 /10 бюджета) – была снята с крестьян и мещан 18 декабря 1797 г. Заметим, что эта сумма примерно равна новому обложению дворян за четыре с лишним года, т. е. «благородное сословие» в течение царствования Павла почти покрыло крестьянскую недоимку. Власть вернула утраченное, но мы выделяем и этот эпизод как возможный источник крестьянских иллюзий. Александр Воронцов в ноябре 1801 г. находил, что в царствование Павла «подати и все налоги больше прежнего умножены». Это слишком обобщенная оценка: не сказано, на кого наложены новые подати. Павел I в 1798 г. прибавил почти шесть с половиной рублей дополнительного налога казенным крестьянам; однако и дворянство было обложено.
Запрещение продавать дворовых людей и крестьян без земли было 16 октября 1798 г. категорически сформулировано Павлом на поднесенном ему мнении Сената, явно тяготевшего к противоположному решению.
Еще прежде, 16 февраля 1797 г., была запрещена продажа дворовых и безземельных крестьян «с молотка или с подобного на сию продажу торга». Позже из Петербурга запретили раздроблять крестьянские семьи при их переходе к другим владельцам. В царствование же Екатерины II практика, дух, правительственное мнение были иными: торг живыми душами фактически не обсуждался.
Крестьянские просьбы и жалобы , категорически отвергавшиеся в прежние царствования (так как при этом неминуемо разрушался запрет жаловаться на помещиков), Павлом даже поощрялись. Поощрение это было шатким, царские настроения непостоянными; знаменитый жалобный ящик у дворца, в который каждый мог бросить просьбу или жалобу, адресованную лично императору, вскоре снимают (приходят пасквили и карикатуры на Павла); вдобавок царь подтверждает прежний запрет крепостным писать на помещиков, не раз обличает «не дельные, прихотливые, с порядком и законом несовместные просьбы». И все же слух о новых веяниях распространяется очень быстро, соответствует народным понятиям о царе как высшей инстанции, путь к которой загражден дворянами. Недоверие же Павла к дворянству, стремление к централизации стимулировали царское желание получать максимальную информацию снизу помимо «посредников».
В начале 1799 г. царя запросили о право секретных арестантов подавать прошения из Сибири и других мест заключения (в связи с тем, что по указу Екатерины II от 19 октября 1762 г. «осужденные, за смертоубийство и колодники доносителями быть не могут»). 10 марта 1799 г. Павел велел «письма от сосланных [на царское имя] принимать».
Дворянство было озадачено новой ситуацией.
«Пользуясь свободою и дозволением всякому просить самого государя, – пишет известный мемуарист, – затеяли было и господские лакеи просить на господ своих и, собравшись несколько человек ватагою, сочинили челобитную и, пришед вместе, подали жалобу сию государю, при разводе находившемуся». Далее сообщается, что Павел велел публично наказать жалобщиков плетьми и «сим единым разом погасил он искру, которая могла бы развесть страшный пожар».
Это одобрение павловских действий явно несет на себе, как и в некоторых других болотовских рассказах, следы помещичьего испуга перед возможной переменой ситуации, перед угрозой апелляции низов к царю. По соседству с Болотовым, в Чернском уезде Тульской губернии, возникает в 1797 г. следующая характерная ситуация.
Крестьяне были сильно взволнованы слухом, что от царя выходит послабление, появляются агитаторы, толкующие о царском указе «подавать просьбы на господ». Чернские судьи и тульское губернское правление колебались, и в конце концов дела кончались обычно: Тайная экспедиция, кнут – новое же: скандалу не дают слишком широкого хода…
Вскоре после этих событии разнеслись обнадеживающие слухи в связи с известным законом о трехдневной барщине.
Немало написано о его малом практическом значении, о том, что в некоторых местах, на Украине например, где преобладала двухдневная барщина, он даже ухудшил положение крестьян. Все это верно, но, на наш взгляд, односторонне.
Действительно, ни одна из только что перечисленных облегчительных мер, да и все они вместе существенно не меняли крестьянской жизни: сегодня – послабление, завтра – утяжеление; помещики и местные власти каждодневно имели сотни возможностей «прижать» крестьян независимо от петербургских указов.
«В самое трепетное царствование императора Павла I, – писал в 1802 г. будущий директор лицея В. Ф. Малиновский, – в окружностях столицы, крестьяне работали на господина не по три дня, как он указать соизволил, а по целой неделе; мужику с боярином далеко тягаться».
Но существенной и редко затрагиваемой стороной вопроса являются субъективные намерения правительства, издавшего этот закон, а также то, как все это преломлялось в крестьянском сознании. Современные исследователи порою только излагают поздний, более объективный взгляд на прошлое. Однако важным элементом идеологии прошлого является и его собственный взгляд на свои дела. Если же подойти с этой меркой, то заметим, что павловские законы, особенно от 5 апреля 1797 г., были первыми за много десятилетий официальными документами, по крайней мере провозглашавшими некоторые послабления крестьянину. «Манифест 1797 г., – полагает В. И. Семевский, – имел большое значение: это была первая попытка ограничения повинностей крепостных крестьян, и наше правительство смотрело на него как на положительный закон, несмотря на то, что он не исполнялся».
Каскад указов запрещающих , что сыпался почти целое столетие, вдруг перемежается новыми словами – о присяге, о жалобах, облегчении работ и повинностей.
Любопытным откликом на «павловские милости» явилось донесение своему правительству советника прусского посольства Вегенера от 21 апреля (2 мая) 1797 г., где, разумеется, отразились не только собственные впечатления дипломата, но и мнения публики: «Милости и благодеяния, расточавшиеся его императорским величеством во время коронационных торжеств, коснулись главным образом приближенных; публика принимает их холодно. Единственная вещь, которая произвела сенсацию, – это указ, который повелевает, чтобы отныне воскресенья были посвящены полному отдыху с прекращением всякой работы, а кроме того, определяет, чтобы крестьяне работали три дня в неделю на своих господ и три дня на самих себя. Закон, столь решительный в этом отношении и не существовавший доселе в России, позволяет рассматривать этот демарш императора как попытку подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому».
Примечательно, что несколько лет спустя М. М. Сперанский назовет манифест от 5 апреля «замечательным» именно как возможное начало целой системы улучшений крестьянского быта. Государственный деятель отлично видел, что тот закон не имел продолжения, развития, но находил в нем зерна для произрастания.
Сходный взгляд на морально сдерживающий, предвосхищающий смысл закона о «трехдневной барщине» разделяли и некоторые мемуаристы, в частности М. А. Фонвизин.
Когда в 1830 г . великий князь Константин Павлович найдет «обиду для дворянства» в обсуждении вопроса «об улучшении положения крепостных людей», Секретный комитет ему ответит, что вопрос этот занимал многих царей и что «императором Павлом издан коренной закон о мере работ крестьян на помещиков».
В первые годы преобладающим сенатским толкованием закона было только безусловное запрещение воскресных работ. Однако даже по немногим сведениям о реакции самих крестьян заметны важные вещи. В Санкт-Петербургской губернии в июне – июле 1797 г. появляются вольные народные толки, будто с каждого двора на помещика должен трудиться один мужик два дня и одна баба – день; или о том, что крестьянкам вообще на барщину не ходить, так как в манифесте сказано крестьянам . В Ярославской губернии дворовые считали, что манифест о трех днях и на них распространяется. В книге М. В. Клочкова опубликованы извлечения из сенатского архива, относящиеся к крестьянским жалобам о невыполнении царского манифеста, причем в трех случаях получены решения в пользу крепостных.
Разумеется, были десятки примеров, когда ссылки на новый закон не находили отклика ни у местной власти, ни у высшей. Историк приводит документы, свидетельствующие, что, и с точки зрения самого царя, позволительно облагать крестьян поборами сверх трехдневной барщины, лишь бы «крестьяне не приводились в разорение».
Однако от того, что происходило, вернемся снова к представлениям народа. Мужики (раньше всего в столичных, но затем и в более далеких краях) быстро почувствовали какую-то перемену в верхах. Облегчающие указы, особенно манифест от 5 апреля, возбуждали умы: пугачевщина еще не забыта, вера в царя-избавителя постоянна. Нарушения закона о «трех днях» и прочие крепостные тяготы рассматриваются как неподчинение дворян царской воле. Летом 1797 г. владимирский дворцовый крестьянин Василий Иванов в разговоре о господах произнес слова, попавшие вместе с доносом в Тайную экспедицию: «Вот сперва государь наш потявкал, потявкал да и отстал, видно, что его господа преодолели».
Прибавим ко всему этому замеченные, конечно, крестьянами испуг, растерянность многих помещиков, опалу и ссылку сотен дворян, и мы можем еще полнее представить тогдашний крестьянский взгляд на вещи.
Покидая деревни и мысленно переносясь во дворцы, мы также найдем нечто более сложное, нежели трактуется, например, в одной из последних работ на эту тему. «В целом павловское законодательство по крестьянскому вопросу, – пишет Л. II. Важова, – было направлено на то, чтобы, сохраняя и укрепляя крепостное право, уменьшить поводы для крестьянских волнений. ( … ) В крестьянском вопросе Павел был продолжателем крепостнической политики Екатерины II. За 1795 – 1798 гг. произошло 184 волнения крестьян».
Действительно, волнения крепостных, особенно в Орловской губернии, были сильны, и в них участвовали тысячи крестьян. И тем не менее в приведенных строках явно смешивается объективное и субъективное; то, что для нас очевидно как безусловное крепостничество, не всегда представлялось таковым же Павлу I. Разумеется, мы прежде всего размышляем над тем, «что из этого вышло», и тут спора нет: крепостное право оставалось… Но ведь нас интересуют и те идеологические формы, в которых сознание исторического деятеля отражает реальную действительность. Смешно называть Павла «народным царем», но мало что дает и формула «продолжатель крепостнической политики Екатерины II». Если мы соединим «крестьянские» указы Павла с «дворянскими», то получим картину достаточно сложную (вспомним фразу прусского посла: «Недовольны вес, кроме городской черни и крестьян»).
Царю, стремящемуся к всевластию, и в самом деле мужики с их неведением насчет «личной неприкосновенности» и других дворянских вольностей представляются более безопасными, послушными, чем – «тш!.. тш!» – как писалось императрице из Нерехты.
Несколько сот тысяч розданных крепостных – факт, но не следует совсем отбрасывать такую, пусть второстепенную подробность, что царь был уверен: крепостным за помещиками лучше. Это не соответствовало реальности. Главным требованием помещичьих крестьян во время бунтов был перевод их в казенные: восставшие в Орловской губернии крестьяне «провозгласили себя государевыми». Между тем царь не вникал в сущность народной жизни и сохранял убеждение, будто он не ухудшает положение мужика. Прежде Павел, еще наследник, не раз высказывался против раздачи крестьян; однако с тех пор многое изменилось: великий князь стал царем, прошла французская революция. В павловской самодержавной теории иерархичности, всеобщей регламентации помещики рассматриваются как государственное звено, управляющее крестьянами; над ними же – централизованный механизм «самодержавно-рыцарской империи». Идеи, цели верховной власти и результаты, часто расходившиеся с первоначальными намерениями, – все это требует анализа.
Павел сам плоть от плоти дворянского сословия. Но в его планах крестьяне, народ занимают особое место, что попробуем показать дальше. Вопрос же о крестьянской реакции на новое правление непрост, ведь даже активность 1793 – 1797 гг. порождена прежде всего слухами о свободе, даруемой сверху. Сведения же о «184 волнениях» за 1796 – 1798 гг. требуют сопоставления с тем, что было потом, в последние годы павловского царствования, ведь статистика 1796 – 1798 гг. в основном связана с крупным бунтом на Орловщине. А как было в другие годы?
В 1798 г. наблюдается всего 12 активных крестьянских выступлений и коллективных прошений против 177 в 1797 г.; в 1799 г. – 10 выступлений, в 1800 г. – 16, в 1801 г. – 7.
Взрыв 1797 г. остался самым значительным для целого исторического периода между 1796 и 1825 гг. Однако ни разу в течение этого 30-летия не зафиксировано столь малого числа народных выступлений, как в 1798 – 1800 гг. Самые «тихие» годы александровского царствования давали 12 выступлений ( 1807 г .), 15 ( 1806 г .), 17 (1810 г.), большей же частью – не менее 30.
Наконец, еще одно замечание насчет противоречивого павловского взгляда на вещи: мысли об известных послаблениях крестьянам сочетаются с полным запрещением толковать о крепостном праве в печати, чего не было в первые десятилетия екатерининского правления.
Тема «Павел и народ», конечно, не ограничивается одними крепостными. Продолжим наши наблюдения.
Казаки
Генерал Ланжерон замечает, что «Екатерина II считала казаков вооруженными крестьянами». Павел приравнял казачьи чины к офицерским, и в то же время казаки с их вольнолюбием и самоуправлением подозрительны царю-централизатору.
Противоречивость, двойственность тогдашней «казачьей политики», кажется, лучше всего видна по так называемому делу Грузиновых. Определение социальной принадлежности их речей и поступков осложняется высокими офицерскими чинами Грузиновых, потомственным дворянством. Однако содержание следственных документов позволяет говорить о характерных чертах народного мышления, казацкой оппозиционности у главных обвиняемых. В принципе в этом нет ничего особенного: сложные, неожиданные пути, по которым двигались иные карьеры XVIII столетия, случалось, образовывали полковника, не порвавшего с народом (как и крестьянина, ушедшего к дворянам).
Таков был, например, казачий полковник Иван Немчинов, один из вождей народного движения в Сибири. Таков был, полагаем, полковник Евграф Грузинов, удивлявший следователей словами, «немало не сходствующими с его состоянием». Только при определенной социально-политической ситуации этот человек «пугачевского склада» мог превратиться на время в видную фигуру при дворе и в гвардии. Возвышение его из простых казаков до гвардейского полковника было плодом павловского благоволения к своему приближенному: Е. Грузинов оказался в «гатчинском войске» в 1788 г ., на 18-м году жизни. То, что он был «из низов», почти без образования, для Павла довод в его пользу, гарантия чуждости «развращенным потемкинцам». Подобным образом делались многие гатчинские, «опричные» (на взгляд екатерининского дворянства) карьеры, и вчерашние мелкие дворяне или даже выходцы из податных сословий становились процветающими бюрократами и временщиками.
Грузинов, однако, судя по всему, сохранил народно-казацкое представление о вольности, «взаимных обязательствах» царя и народа. Весьма вероятно, что Павел-наследник, униженный матерью и надеявшийся на народную любовь, укрепил в казаке иллюзию, будто он имеет дело с тем правителем, о котором мечтают в деревнях и на Дону. Во всяком случае, наследник до поры очень отличал Грузинова; тот выполнял ответственные, серьезные поручения, после восшествия Павла на престол был обласкан, награжден, но затем следует резкий разрыв, причем инициативу проявил подданный.
После того как Павел жалует ему (в 1798 г.) тысячи душ в Московской и Тамбовской губерниях, полковник решительно отказывается «к принятию оных». Некоторые исследователи видят в этом его осознанный антикрепостнический протест, называют Грузинова и его братьев представителями революционной мысли и действия радищевского типа. Между тем, по нашему мнению, этот акт не «радищевский», а казацкий: нежелание быть одолжену сверх меры и за то поступиться вольностью.
Павел сначала заключает Евграфа Грузинова в Ревельскую крепость. Затем царь ссылает братьев Грузиновых на Дон, под надзор, где в 1800 г. происходит их роковое столкновение с властями: Петр Грузинов, отставной подполковник, брат Евграфа, заявил, что «не слушает ни генералов, ни фельдмаршалов», а Евграф, узнав об аресте брата, поносил начальство «самыми поносными и скверно матерными словами» и «коснулся при том произнести такое же злоречивое изречение и к имени императорского величества, что повторял неоднократно».
Последующие протоколы допросов сохраняют фразы, обороты, выписки из бумаг Е. Грузинова, хорошо знакомые по образцам народного утопического вольномыслия. Так, идеалом управления страной, по Грузинову, был «всеверующий, всезнающий, премудрый, всетворящий, всевластительный, всесословный, преблагой, пресправедливый, всесвободный Сенат». Эта формула, имитирующая атрибут!.. бога из Катехизиса и по сути близкая к пугачевским «неистовым» манифестам, дополняется заявлениями Е. Грузинова: «Я не так, как Пугач, но еще лучше сделан)». Из дела Грузинова хорошо видно и его специфически казацкое, донское вольномыслие. Следователь генерал Кожин нашел, что Е. Грузинов разделял «донских подданных с великороссийскими» и «между тем представлял донского казака Ермака Тимофеевича, упоминая и о всех донских казаках, что они от высокомонаршего престола состоят независимы, и будто к тому вечною присягой не обязавшись, а только к службе временно, и будто он, как и все казаки, нимало не подвластные, а потому ж и не подданные». Вдобавок Грузинов требовал у Кожина ответа, «почему государь император есть законный его государь?».
Последовала жесточайшая расправа над вольнодумцами: в сентябре и октябре 1800 г. в Черкасске были казнены (засечены насмерть или обезглавлены) Евграф и Петр Грузиновы. Их дядя войсковой старшина Афанасьев и служившие под началом Грузинова казаки Василий Попов, Зиновий Касмынии, Илья Колесников заключены в тюрьму. Ситуация осложнялась известной двойственностью царского поведения в этом деле: с одной стороны, испуг, ненависть, расправа Павла с прямым противником; с другой стороны, недоверие и к тем, кто эту расправу осуществляет, стремление сохранить симпатии, поддержку «грузиновского слоя», переложить вину за кровавую экзекуцию на «нерадивых исполнителей». И в результате – павловские речи о своей невиновности в пролитии крови, приказ отобрать патент и отдать под суд генерала Репина «за приведение в исполнение сентенции смертной казни на Дону вместо заменяющего оную наказания, положенного… конфирмациею».
Позже эхо «грузиновского дела» отзовется при подготовке антипавловского заговора. Беннигсен в 1801 г. утверждал, будто «чрезвычайно довольный представившимся случаем приучить народ к смертной казни Павел утвердил приговор Грузиновым с пометкой исполнить его немедленно, и эти несчастные офицеры, вина которых заслуживала бы самое большое ареста на некоторое время, погибли на эшафоте».
Не углубляясь более в «грузиновскую историю», приходим к утверждению, что она должна рассматриваться не в связи с революционным движением XVIII в., но как пример прямого народного сопротивления, народных утопических идеалов.
Двойственная казацкая политика павловского правительства во многом сходна с политикой в отношении раскольничества.
Раскольники
«Вольнодумство касается токмо до единой веры, но не до правительства» – эта формула 24 мая 1800 г. завершает небольшое дело Тайной экспедиции «О вольнодумцах, в Москве находящихся» и считается достаточной для снисхождения к «вольнодумцам».
На фоне прошлых, а также будущих (николаевских) гонений подобный взгляд на вещи был немалой уступкой довольно активной массе крестьян, мещан, купцов: лишь бы подчинялись и находились под контролем верховной власти! Тут продолжались «просвещенные послабления» по отношению к старообрядцам, начавшиеся в последние годы екатерининского царствования. Сказывалось и сравнительно малое место, уделяемое православию в системе Павла (позже наследник главных идей отца, Николай I, введет официальную религию в опорную «триаду», что автоматически ударит по раскольникам).
И в религиозных вопросах замечаем противоречивость «разрешения – запрета», заложенную в самой системе Павла: раскольникам, как послушным подданным, дается… Но все-таки в их иноверии для Павла всегда содержится некоторый элемент крамолы, и, стоит раскольничьим требованиям проявиться чуть заметнее, последуют жесточайшие кары. Попытка компромисса официальной церкви с расколом выразилась в «Правилах единоверия». Еще 12 марта 1798 г. Синод дозволяет старообрядцам иметь особые единоверческие церкви и священников. Позже, в 1800 г., царь окончательно санкционирует систему, обязывающую старообрядцев принять поставленных от православной церкви священников, а те в свою очередь должны служить раскольникам по старым книгам и соблюдать старые обряды. Как известно, проект этот не понравился большинству старообрядцев и вскоре вызвал новую волну насильственного внедрения единоверческих попов и отчаянного сопротивления раскольников.
В последние месяцы царствования репрессии против раскольников явно заметнее, чем льготы. В частности, бежавших на Дон, на Неве считают особенно вредными.
В 1800 г. (сразу после казни Грузиновых) в Черкасск со специальными полномочиями отправляется генерал-майор князь В. Н. Горчаков.
24 декабря 1800 г. он информирует Павла I (через посредство генерал-прокурора П. X. Обольянинова) о положении на Дону, и в частности о «необходимых строгостях» против раскольников.
«В начале сего месяца открыв беспрекословно живущего уже здесь два года бродягу, увещевающего людей к покаянию и творящего многое к приобретению доверенности, препроводил оного для увещевания и допросу в духовное правление; но странной его ответ побудил меня и лично его допросить 8-го числа сего декабря».
В деле сохранился «странный ответ» бродяги, записанный за ним в Черкасском духовном правлении 28 ноября 1800 г.: «Я с восточной страны, родом с долу низу и с верху горы. Отец мой небесный Христос, а отца по плоти объявлять не надобно, и матери также не надобно. До прибытия в город Черкасск проживал я всюду, где бог дал, босыми ногами хожу по земли и по чему случится, для того, что не творю волю мою, но волю пославшего мя, а послал меня тот, кому я служу; когда я в мире жил – государю служил, а теперь служу единому царю небесному, ибо невозможно двум господам служити: либо единого возлюбишь, а другого прогневишь. Более сего ничего не скажу, и в том подписуюсь, имя мое Василий. К сему допросу вместо вышеописанного Василия за неумением его грамоте, по прошению его, Черкасского духовного правления канцелярист Степан Ильин руку приложил. Верно. Кн. Горчаков».
Далее генерал Горчаков сообщает о своем допросе бродяги Василия: «Упорство и крайнее презрение, с коим он мне отвечал, побудили меня употребить и строгость, при коей исчезла его уродливость (юродство. – Авт.), и, отвечая довольно твердо, признался быть казенным крестьянином с реки Волги, о чем ныне и справка послана; а по получении оной в подробность обо всем вашему высокопревосходительству донесу».
Судьба странника понятна и трагична. 7 января 1801 г. «его императорское величество высочайшим повелением соизволили бродягу Василия, наказав кнутом, сослать и Нерчинск в тяжелую работу».
Приговор исполнен, а через несколько месяцев в новом царствовании волна амнистии достигает и «сына небесного Христа». 15 ноября 1801 г. о Василии рассуждала Комиссия для пересмотра прежних дел уголовных. Она не нашла, чтобы Василий «сделал какое преступление или в обществе разврат, и, признавая сего человека несколько помешанным в уме и соболезнования достойным», просит освободить его, и «буде он лишен ума подлинно, то поручить его Иркутскому приказу общественного призрения и губернатору, дабы обращено было на него милосердное от начальства попечение…, а буде он здоров, то даровать ему свободу».
28 ноября Александр I написал: «Быть по сему»; больше в деле ничего нет, и мы не знаем, даровали ли свободу или сочли лишенным ума…
К концу царствования, по воспоминаниям чиновника при генерал-прокуроре Обольянинове, Павел «занялся делами церковными, преследовал раскольников; разбирая основания их секты, многих брали в Тайную канцелярию, брили им бороды, били и отправляли на поселение».
Уступки расколу, сменявшиеся гонениями, созвучны практике Павла в отношении к «неправославным» народам. Эффектное возвращение шпаги Костюшке, освобождение пленных, взятых во время третьего раздела Польши, – все это относится к «рыцарской линии» царского поведения, однако и здесь заметны те «вселенские веяния», которые уже упоминались в связи с теократическими идеями Павла – идеями, что правительство, царь богоравны…
Вследствие такого взгляда на особу монарха покорность верноподданного, исправные платежи перевешивают разницу обрядов и оцениваются по официальной государственно-религиозной шкале выше, чем Тонкости вероучений. Подобный взгляд позволяет Павлу легко преодолевать условности, перед которыми останавливались куда более просвещенные правители.
Новые, прежде неизвестные или слабо выраженные элементы наблюдаем и в отношениях Павла I с купечеством.
В первые дни после смерти Павла указ за указом нового царя Александра I восстанавливает дворянские права, свободы, Жалованную грамоту… Среди этого сословного праздника почти не замеченной прошла ликвидация купеческих выборов (16 марта 1801 г.).
В записках Греча приводится полуфантастический рассказ о появлении на свет этого любопытного павловского закона. «Однажды, во время пребывания двора в Гатчине, генерал-прокурор (П. X. Обольянинов), воротись от императора с докладом, объявил Безаку, что государь скучает за невозможностью маневрировать в дурную осеннюю погоду и желал бы иметь какое-либо занятие по делам гражданским. «Чтоб было завтра!» – прибавил Обольянинов строгим голосом. Положительный Безак не знал, что делать, пришел в канцелярию и сообщил свое горе Сперанскому. Этот тотчас нашел средство помочь беде.
– Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки? – спросил он у одного придворного служителя.
– Есть, сударь, какая-то куча книг на чердаке, оставшаяся еще после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова.
– Веди меня туда, – сказал Сперанский, отыскал на чердаке какие-то старые французские книги и в остальной день и в следующую ночь писал набело «Коммерческий устав Российской империи». Обольянинов прочитал его императору. Павел подмахнул: «Выть по сему» – и наградил нею канцелярию. Разумеется, что этот устав не был приведен в действие, даже не был опубликован. Обнародовали только присоединенный к нему штат коммерц-коллегии (15 сентября 1800 г.)».
Действительно, 13 сентября 1800 г. было утверждено «Постановление о коммерц-коллегии» – фактическом министерстве торговли и промышленности (во главе коллегии – министр коммерции князь Гагарин).
Самое любопытное, что из 23 членов коллегии 13 было предписано выбрать купцам из своей среды, и вскоре кандидаты, представленные санкт-петербургским и московским городскими правлениями, были утверждены царем. Перед тем Павел и купечество обменялись большими любезностями: царь просил у купцов «замечаний, какие к лучшему своему сведению всех обстоятельств торговли признают нужными», купцы же восхищались «неслыханным милосердием» императора, призывающего «класс людей, доныне от престола монаршего удаленный».
Знаменательно, что к этой реформе действительно приложил руку молодой Сперанский, тот, кто через несколько лет попытается разработать выборное конституционное начало уже как основу всего российского управления.
Реформа коммерц-коллегии нечаянно обогнала свой век…
Александр I на пятый день царствования объявляет: «Признав, что помещение в коммерц-коллегии членов, избираемых из купечества, не только для усовершенствования польз торговли безуспешно, но и для самого купечества, отлученного сим образом от промыслов и упражнений, им свойственных, разорительно, повелеваем: оставя в той коллегии членов, от короны определенных, всех прочих, из купечества на срочное время избранных, отпустить в их домы, и впредь подобные выборы прекратить».
Не станем преувеличивать значение павловской опоры на купечество, но объясним эту меру в системе других. Политически бесправные даже при миллионных капиталах, ищущие в государстве основного покровителя, купцы как сословие во многом соответствуют павловскому идеалу: покорные, исполнительные, полезные, нерассуждающие граждане. Павел ясно понимал, что вчерашние крепостные, податные «неблагородные» купцы, лишенные большинства дворянских прав, не грозят трону своей вольностью и вольнодумством, а потому царь приглашает их выбрать представителей на весьма важные правительственные должности. И это в то самое время, когда дворянские выборы максимально ограничиваются!
Заметим здесь, что в течение всего XIX и в начале XX в. представителям купечества, формирующейся буржуазии, никогда не предлагали столь высоких постов, как в 1800 г. Только после 1905 г. несколько видных буржуа смогли занять второстепенные правительственные должности; высшими политическими достижениями русской буржуазии до февраля 1917 г. были пост товарища министра торговли и промышленности, который во время первой мировой войны занимал А. И. Коновалов, и пост директора горного департамента – В. И. Арандаренко.
Еще раз подчеркнем, что не видим в павловском жесте принципиальных начал буржуазного управления. Сближение с купцами происходило в тот момент, когда власть нанесла немалый урон российской торговле, поссорившись с Англией, покупавшей 1 /3 сельскохозяйственной продукции страны. Цена на берковец конопли после разрыва с Англией упала на Украине с 32 до 9 руб. И разумеется, Павел не собирался на эту тему советоваться с купеческими депутатами, так же как о разорительных для торговли постоях воинских частей. Когда, к примеру, в 1798 г. царь узнал, что в Астрахани медленно идет сбор средств на содержание воинской команды (более 60 тыс. руб.), последовало высочайшее распоряжение: «Расположить в домы ослушников полк». 19 июля 1798 г. Астрахань была «взята штурмом», и в течение следующих лет купцы и мещане «пришли в отчаяние жизни», жалобы же на коменданта были бесплодны, так как ему покровительствовал Кутайсов.
Таковы были признаки павловского благоволения и неблаговоления к городским сословиям.
Снова повторим, что «политическое расположение» царя к разным общественным группам обратно пропорционально их политической активности. Наиболее отчетливо павловские идеи и их плоды видны на примере крестьян, одетых в военную форму.
Солдаты
«Император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязывал его к себе…». (Беннигсен)
«Солдаты любили Павла». (Ланжерон)
«Все трепетали перед императором. Только одни солдаты его любили». (Ливен)
«Навел полагал, что народ и простые солдаты его любят, что в отношении последних не совсем лишено оснований» – мнение Евгения Вюртсмбсргского.
Как совместить подтверждаемые сотнями фактов солдатские мучения на парадах, шагистику, парики – «пудра не порох, коса не тесак…» – как совместить все это и немалую солдатскую склонность к Павлу, о которой свидетельствуют почти все мемуаристы, едва ли не все участники цареубийства, т. е. люди, никак не заинтересованные в обелении царского образа?
11 марта 1801 г. произошел единственный из русских политических переворотов XVIII – начала XIX в., осуществленный только офицерами и генералами; о солдатах была, как увидим, одна забота: чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. «Успей Павел спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли».
В свержении Петра III солдатская гвардейская масса участвовала охотно: ее воодушевляла национальная (антинемецкая) идея, к тому же императрица, тоже представительница законной власти, выступила открыто во главе мятежников.
Позже, 14 декабря 1825 г., офицеры-декабристы выведут на Петровскую площадь тысячи солдат.
11 марта 1801 г. солдатского сочувствия не ждали и сделали все, чтобы от него не зависеть.
Чем же привязал Павел I муштруемых, мучимых солдат?
В основном двумя способами.
Первый назван многими современниками: «Конец золотого века грабителей».
Происходило известное улучшение солдатских харчей: «Император приказывал при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне». Если в конце екатерининского правления конная гвардия получала 141 832 руб., то в 1798 г. – 207 134 руб. (Анненков, 193). «Начиная с Павла, – свидетельствует Ланжерон, – довольствие всегда выдавалось точно и даже до срока. Полковники не могли более присваивать то, что принадлежало солдатам».
Даже усомнившись в столь категорических утверждениях генерала, вспомним, что хорошо известны суровые меры против интендантов и других армейских грабителей, блаженствовавших при Екатерине II; новые же грабители, возросшие на павловской системе (вроде Кутайсова), но успели за четыре с половиной года совсем освоиться с обстоятельствами.
Поэтому Ланжерон помнил огромные злоупотребления в конце екатерининского царствования, когда многие рекруты гибли от голода по дороге к месту службы (их довольствие присваивал сопровождающий офицер) или попадали работниками в имение командира. По словам канцлера Безбородки, «растасканных» разными способами солдат было в 1795 г. до 50 тыс., т. е. 1 /10 армии. «Павел I, – продолжает Ланжерон, – положил этому конец, строжайше наказывая офицеров, которые теряли хоть несколько человек на дороге, и поощряя тех, кто доставлял свой отряд на место в хорошем состоянии».
Ланжерону вторит Александр Воронцов – вельможа, вообще явно не принимавший систему Павла: «Нельзя не признать, что в царствование покойного императора по армии люди так не пропадали и не оставлялись до того, чтоб у многих в приватной службе быть или деревню ими населять; положенное для солдат не служило другим в корысть, а доходило до них».
Особенные льготы царем были выданы небольшому числу приближенных частей. В первом, «царском» батальоне Преображенского полка, несшем караул во внутренних комнатах императора, «нижним чинам даны были в их караулах тюфяки, производилась ежедневная мясная и винная порция»; солдатам давали и больше, чем прежде, возможностей для заработка.
Второй причиной солдатской преданности Павлу было некоторое «уравнение в наказаниях» низших и высших чиной. Рукоприкладство, сечение солдат, процветавшие при Екатерине, сохранились при Павле: тут мало что изменилось… Положение же офицеров серьезно ухудшилось.
В Генерал-аудиториат среди прочих поступали приговоры, «произведенные над нижними чинами» в представленные соответствующими командирами. В 1797 г. было 27 солдатских дел, в 1798-м – 55, в 1799-м – 33, в 1800-м – 134, в начале 1801-го – 38 дел. Всего за павловское время таким образом Аудиториат оформил 287 солдатских дел, в среднем около 5 за месяц (напомним, что за тот же период было 495 офицерских дел).
В начале царствования Александра I картина меняется. Всего за 1801 – 1805 гг. было 582 солдатских и 289 офицерских дел. Как видим, после смерти Павла число солдатских дел возрастает почти вдвое (около 11 в месяц), в то время как офицеров, наоборот, наказывают почти вдвое реже (и легче!); смягчилась ли при Александре I – Аракчееве экзекуция над солдатами – сомнительно! Можно говорить о стремлении александровских офицеров «подтянуть солдат» после «павловского снисхождения».
Понятно, мы ни в коей мере не мыслим, что солдатство при Павле было серьезно облегчено: из 39 дел начала 1801 г. 15 приходится на побеги (в том числе несколько дел о повторном, третьем побеге, а три солдата судятся за четвертый побег).
Солдат при Павле мучают, бьют. 88 человек в 1800 г. подлежали смертной казни, замененной «наказанием кнутом, поставлением указных знаков и ссылкой в каторжную работу». Но одновременно – в духе павловской политики – ряд послаблении: специальный манифест (от 29 апреля 1797 г.) объявляет прощение отлучившимся нижним чинам и разного звания людям. Впервые был организован военно-сиротский дом (на 1000 мальчиков и 250 девочек); значительно расширена (как уже отмечалось) сеть солдатских школ. Вводится более тяжелое, неудобное прусское обмундирование, но притом «меховые жилеты на зимний срок».
23 декабря 1800 г. солдатам, находившимся на службе до вступления Павла I на престол, объявлено, что по окончании срока они становятся однодворцами, получая по 15 десятин в Саратовской губернии и по 100 руб. на обзаведение. Не многие смогли этим воспользоваться, но ведь мы говорим об одном из способов, которым павловское правительство стремилось привлечь солдат.
Перемены в армии постоянно обсуждались. Е. Р. Дашкова слышала, как один офицер воскликнул: «Солдат, полковник, генерал – теперь это все одно!». Если положение солдат отчасти утяжелилось, отчасти улучшилось, то ухудшение офицерской жизни сомнений не вызывало. Явно со слов мужа Мария Федоровна пишет в 1798 г.: «Солдаты хороши, но офицеры отвратительны». Офицеров наказывали, оскорбляли, даже били при рядовых; нижние чины при Павле практически могли жаловаться на высших.
Современник событий А. Болотов рассказывает историю, в которой, впрочем, сам не был уверен: Павел, увидев денщика, который нес шубу и шпагу офицера, перевел офицера в рядовые, а солдата – в офицеры.
Дело не в правдивости подобных анекдотов, а в их распространенности, в представлениях о новом устройстве армии. Просвещенный Болотов одобряет павловские действия (не забыв, впрочем, добавить, что разжалованный офицер был вскоре прощен) и завершает эпизод моралью: «Всем солдатам было оно крайне приятно, а офицеры перестали нежиться, а стали лучше помнить свой сан и уважать свое достоинство».
Мы не слышим – в основном «вычисляем» солдатские разговоры, и тем ценнее документы, где они хотя косвенно, да прорываются…
Поручик Егор Кемпен, офицер из лифляндских дворян, числившийся в службе с 1770 по 1797 г. и выключенный «неведомо за что» (так и сказано в деле), бродит по стране и ведет вольные разговоры, пока в конце 1799 г. испуганные собеседники не донесут на него видному павловскому подручному генерал-лейтенанту Линденеру. Оказалось, между прочим, что в Ковне Егору Кемпену посочувствовал один лейб-гренадер: «Много вашей братьи странствующих; когда мы в Петербурге были, то и генералов много выключили и пятерых в рогатки посадили».
Солдат ободряет собеседника тем, что «выключка скоро кончится, ибо опять выключенных принимают в службу». Офицер, однако, верит в более крутые перемены.
Таков краткий обзор изменений, что происходили в отношениях верховной власти и народа.
Низшие классы, «миллионы», пишет довольно объективный очевидец, с таким восторгом приветствовали государя, что Павел стал объяснять себе холодность и видимую недоброжелательность дворянства нравственной испорченностью и «якобинскими наклонностями».
Завершим сводку высказываний современников мнением достаточно осведомленного высокопоставленного представителя одновременно российских и польских верхов: «Страх, так часто испытываемый Павлом, он внушил и всем чиновникам своей империи, и эта общая устрашенность имела благодетельные последствия. (. . .) Боясь, чтобы злоупотребления, которые чиновники позволяли себе, не дошли до сведения императора и чтобы в одно прекрасное утро без всякого разбора дела не быть лишенным места и высланным в какой-нибудь из городов Сибири, стали более обращать внимание на свои обязанности, изменили тон в обращении с подчиненными, избегали позволять себе слишком вопиющие злоупотребления. В особенности могли заметить эту перемену жители польских провинций, и царствование Павла еще до сих пор в наших местах называют временем, когда злоупотребления, несправедливости, притеснения в мелочах, необходимо сопровождающие всякое чужеземное владычество, давали себя чувствовать всего слабее».
Итак, «33 миллиона…»
Как же суммировать, вывести общую формулу павловской политики, оценить во всей совокупности ее социальную основу и идеологию?
Глава VI
«Дьявольский бред»
Цари!..
И вы подобно так падете,
Как с древ увядших лист падет;
И вы подобно так умрете.
Как ваш последний раб умрет.
«Время это было самое ужасное – вспоминал секретарь генерал-прокурора Обольяпипова. – Государь был на многих в подозрении. (…) Ежедневный ужас. Начальник мой стал инквизитором; все шло чрез него. Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают».
«Полная неуверенность, – констатирует датский посланник Розенкраиц. – Возможность быть высланным как бродяга. (…) Двор, где слепой случай, каприз суверена делают невозможным что-нибудь рассказать».
«Songe funeste» – дьявольский бред – так оценивает павловское царствование знаменитый собеседник Екатерины барон Гримм.
Свидетель событий, известный немецкий писатель и русский генерал Ф. Клингер: «Перед моими глазами стали происходить в лицах живые комментарии к сочинениям Тацита, мне его мрачные краски временами кажутся даже еще недостаточно мрачными. Счастлив тот, кто только читает об этих вещах и комментирует римлянина, как филолог или антикварий».
Сходные образы встречаются и в других документах (при жизни или вскоре после смерти Павла): «Император поврежден…» (британский посол Витворт); «Настоящее сумасшествие царя» (сардинский посол Бальбо); «Тирания и безумие» (Н.П. Панин); «Правление варвара, тирана, маньяка» (С. Р. Воронцов); «Зады Ивана Грозного» (П.В. Завадовский); бессмысленный тиран, «лишивший награду прелести, а наказание – стыда» (Карамзин).
Сумасшествие, произносят один за другим авторитетные свидетели, безумный дьявольский бред, «то умоповреждение, то бешенство» (фраза из позднейшего письма близкого Павлу Ф.В. Ростопчина к С.Р. Воронцову); впрочем, великой княгине Екатерине Павловне тот же корреспондент объяснит, что «отец ее был бы равен Петру Великому по своим делам, если бы не умер так рано».
Что же это было?
«Все, т. е. высшие классы общества, – пишет Адам Чарторыйский, – правящие сферы, генералы, офицеры, значительное чиновничество, словом, все, что в России составляло мыслящую и правящую часть нации, было более или менее уверено, что император не совсем нормален и подвержен безумным припадкам».
Современникам вторят потомки: Павел «поврежденный», «горячечный», «коронованный маньяк», «бенгальский тигр с сентиментальными выходками» (Герцен).
«Есть приказы, носящие на себе чистые признаки сумасшествия» (А. Б. Лобанов-Ростовский).
Выдающийся художник Александр Бенуа находит, что безумие царя без слов доказывает его портрет, «стоящий один целого исследования».
О «больной психике» Павла пишут советские исследователи. Как видим, очень авторитетным очевидцам вторят люди, принадлежавшие другим эпохам, разным общественно-политическим лагерям: революционер Герцен и монархист Шильдер, дореволюционный дипломат и советский историк.
Существование иной точки зрения или по крайней мере более осторожной (В. О. Ключевский: «Больше анекдота мы ничего не знаем об этом царствовании») – все это не отменяет вопроса о впечатлениях многих современников и потомков.
В начале нашего столетия вопрос о душевной болезни Павла стал предметом исследования двух видных психиатров. В 1901 – 1909 гг. выдержала восемь издании книга П. И. Ковалевского, где автор (в основном ссылаясь на известные по литературе «павловские анекдоты») делал вывод, что царь принадлежал «к дегенератам второй степени, с наклонностями к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования». Однако профессор В.Ф. Чюк, основываясь на более широком круге опубликованных материалов, заметил, что «Павла нельзя считать маньяком», что он «не страдал душевной болезнью» и был «психически здоровым человеком».
Уже в ту пору, когда обнаружилось расхождение взглядов у психиатров, было ясно, что чисто медицинский подход к личности Павла – без должного исторического анализа – явно недостаточен.
Признаемся сразу же, что к Павлу и его политической системе мы готовы приложить различные отрицательные эпитеты, но притом видим в его действиях определенную программу, идею, логику и решительно «отказываем в сумасшествии».
Не все знавшие Павла признавали его безумие; горячий, экзальтированный, вспыльчивый, нервный, но не более того! Такой объективный наблюдатель, как Н.А. Саблуков, видит немало «предосудительных и смешных» сторон павловской системы, но нигде не ссылается на сумасшествие царя как их причину.
Заметим, что среди лиц, наиболее заинтересованных в распространении слухов о душевной болезни Павла, была его матушка, но и она никогда об этом не говорила. Изыскивая разные аргументы для передачи престола внуку, а не сыну, Екатерина II в своем узком кругу много и откровенно толковала о плохом характере, жестокости и других дурных качествах «тяжелого багажа» (schwere bagage) – так царица иногда именовала Павла, порою и сына с невесткой вместе. В сердцах Екатерина могла бросить сыну: «Ты жестокая тварь», но о безумии ни слова.
Малейший довод в пользу сумасшествия – и по известной аналогии с Англией или Данией можно объявить стране о новом наследнике. Однако не было у Екатерины такой возможности, особенно после того довольно благоприятного впечатления, которое Павел произвел в просвещенных, влиятельных кругах Вены, Парижа и других краев но время своей поездки 1782 – 1783 гг.
Самое глубокое и зловещее предсказание судьбы сделал Павлу его кумир Фридрих II: «Мы не можем пройти молчанием суждение, высказанное знатоками относительно характера этого молодого принца. Он показался гордым, высокомерным и резким, что заставило тех, которые знают Россию, опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, где, призванный управлять народом грубым и диким, избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться той же участи, что и его несчастный отец».
К этому можно присоединить еще несколько свидетельств, ценных тем, что они сделаны не задним числом, уже после гибели Павла, а еще до 1801 г.: французский поверенный в делах Женэ пишет в 1791 г. о наследнике, который будет со временем «беспокойным тираном»; принц де Линь предсказывает, что Павел «всегда будет несчастен в друзьях, союзниках и подданных».
Как видим, здесь говорится не о безумии, но о характере.
Близкий к Павлу Ростопчин пишет Воронцову еще 28 мая 1794 г.: «Великий князь в Павловске постоянно в плохом настроении, голова полна бреднями, окружен людьми, из которых самый честный может быть колесован без суда».
Продолжая разбор аргументов против павловского безумия, повторим за К. Валишевским мнение о вполне нормальном потомстве царя: из 10 его детей девять достигли зрелости; из них разве что Константин своими выходками в юности наводил иногда современников на мысль, что у него в голове не все в порядке.
Прибавим к этому довод почерковедческий: обилие образцов павловского письма, от первых детских строчек «дорогому Никите Ивановичу» до последних, за несколько дней до гибели, позволяет кое-что заметить в эволюции характера. По оценкам нескольких специалистов, почерк Павла не несет каких-либо явных следов психических отклонений и вполне похож на десятки типических почерков образованных русских людей XVIII столетия.
Основной причиной, вызвавшей к жизни версию о «безумце на троне», явилась уже отмечавшаяся социальная репутация царя у образованного меньшинства. Другим царям дворянство охотно прощало жестокости, нелепости. Немецкий свидетель последних павловских месяцев заметил, что и о Петре I множество «сохранилось анекдотов, из которых можно было бы заключить, что он был изверг или сумасшедший; однако он весьма хорошо знал, что делал…».
Читая также собственноручное составленное Екатериной II расписание праздничных или траурных церемоний с пунктами вроде «обед на троне» (первое бракосочетание Павла), «пудриться всем не запрещается» (при погребении великой княгини Натальи Алексеевны), легко вообразить, что точно такие же заметки, составленные Павлом, казались бы смешнее, «безумнее»…
О своем генерал-прокуроре, рекомендовавшем Митусова в тульские губернаторы, Екатерина II отзывается в «павловской манере»: «Чрезвычайно любит в губернаторы рекомендовать дураков либо болванов; я опасаюсь, чтоб господин Митусов не был сам таковым же, а в Туле дурак не годится, следовательно, и Митусов будет в том числе».
Павел I запрещает аплодисменты, а его сын Николай – бороды… Признав безумием поход в Индию (о котором подробнее см. ниже), мы должны сейчас же счесть ненормальным и Наполеона с его египетско-индийскими проектами.
При выезде Павла на прогулку столица пустела: все боялись попасться на глаза; материалы же псковского архива содержат курьезное дело 1829 г. «Об отправлении на недельный срок на гауптвахту комиссара Ермолова и заседателя Румянцева за укрытие в лесу при встрече проезжавшего государя императора» (Николай I, заметив таковой маневр, велел тех дворян схватить и допросить: оказалось – просто испугались).
Павел, как говорили (но документов о том нет), отменил объявление войны Англии после того, как Ростопчин смягчил царя пением его любимой арии. Зато доподлинно известно, что Анна Иоанновна отменила несколько смертных приговоров под влиянием неожиданной оттепели. Как видим, то, что «не ставится в строку» Петру I, Елизавете, Екатерине II (или в лучшем случае «со вздохом» истолковывается как нормальное для тех исторических обстоятельств), для Павла трактуется как доказательство личного, «внеисторического» безумия. Пристрастие это, конечно, не случайно; отчего, откуда оно – вот одна из задач для исследователя.
Большая часть действительно случившихся и с виду безумных «павловских эпизодов» находит объяснение в рамках той политической и деспотической концепции, которую мы пытались представить в прошлых главах.
8 февраля 1800 г. умершему генералу Врангелю «в пример другим» объявлен строгий выговор.
Смешно… Но ведь по системе воззрений Павла честь не утрачивается со смертью, как и бесчестье. Французская революция оказала последнюю честь тем, чей прах переносится в Пантеон, англичане выбросили из могилы Кромвеля, сам Павел только что перехоронил отца, Петра III. Оригинальность приказа о Врангеле не в сути, а скорее в лапидарном стиле: «умершему – выговор», как само собой разумеющееся. Форма смешнее сущности – так делают, но так не говорят! Однако для Павла использовать старые, привычные каноны, давать какие-то объяснения – значит уступать общественному мнению; он же вступает в разговоры только тогда, когда считает нужным воспитывать, вразумлять подданных. Смеясь над павловскими запретами слов «свобода», «клуб» и т. п., мы помним, что царь сознательно повышает общественную роль знака, эмблемы, этикета, и в этой связи по-прежнему видим «в этом безумии систему».
Итак, Павел – герой десятков анекдотических историй, и сам этот факт уже относится к теме сопротивления его политике.
Но не устанем повторять, что анекдоты о Павле как прямое отражение реальности надо тщательно проверять, по ним догадываться, кто и зачем их рассказывает, помнить, что факты, вполне укладывающиеся в павловскую систему, рассказчик часто преобразовывает в построения безумные, алогичные, абсолютно бессмысленные… Мы же, отвергая идею «бессистемного безумия», констатируем, что многие критики Павла отстаивали это обвинение искренно, нисколько не кривя душой; так же как несколько десятилетий спустя будут сочтены или объявлены сумасшедшими вымышленный Чацкий и реальный Чаадаев. Социальная роль этих людей, разумеется, совершенно иная, нежели у бывшего императора, но столь несравнимых деятелей неожиданно соединяет только одно: неприятие, отсутствие общего языка с дворянским большинством (в случае с Павлом как бы «неприятие слева», 30 лет спустя – «справа»).
Представления о безумном рождались из смешного. «Случалось, – записывает Д.Н. Лонгинов, – что, вырвав эспантон у офицера, Павел сам проходил вместо него, как бы испытывая хладнокровие присутствующих, которые должны были сохранять серьезный вид, глядя на эту смешную фигуру, юродствовавшую с каким-то убеждением и во всей силе ничем не укротимой воли».
Отметим попутно одно любопытное обстоятельство: резкая разница во взглядах царя и дворянства на личную и сословную свободу – эта разница достигала такой степени, что, в то время как царь представляется многим своим современникам безумным, они казались Павлу не понимающими своего долга, своей выгоды, т. е. в лучшем случае детьми, смешными, жалкими, неразумными.
Сумасшествие, болезнь – это слишком простое объяснение важных российских событий конца XVIII в. станет вскоре основным, господствующим… Французский историк, правда, заметит, что имя павловской болезни – «самодержавие»; Дарья Ливен, чью фразу о «деспотизме, граничащем с безумием» мы уже цитировали, напишет много лет спустя ( 1856 г .) А. Гумбольдту: «Не находите ли Вы наше время более безумным, чем был Павел? Какой хаос…». И все же основной «диагноз» насчет помешанного императора будет закреплен двумя противостоящими точками зрения, которые в этом вопросе парадоксально сойдутся.
Одна – официальная, сословная. Дело чести верноподданного монархиста – видеть в тиране страшное исключение, иначе гибнет монархический идеал: «Снесем его как бурю, землетрясение, язву – феномен и страшные, но редкие: ибо мы в точен по девяти веков имели только двух тиранов».
Чем чернее, безумнее это исключение, тем более извинительным, оправданным является то, что произошло в 1801 г. Тем бесспорнее права на престол нормальных детей Павла.
Павел для верноподданного историка – антипод Екатерины, Александра. Цареубийство все равно не может быть официально признано, о нем и не вспоминают в подцензурной прессе до 1905 г . Однако в любом случае Павел «должен быть» сумасшедшим исключением… Разумеется, и об этом нельзя было почти ничего печатать в России. В 1896 г . главный начальник по делам печати Соловьев велел передать редактору «Исторического вестника» Шубинскому, что «Павел может быть сумасшедшим для него, Шубинского, но не может быть таким для публики».
Другая точка зрения у революционеров. Материалов в их руках слишком мало (Герцен найдет царствование Павла «совершенно неизвестным у нас»); их приходится брать из воспоминаний и рассказов все тех же участников заговора или их современников (Вольная русская печать публиковала материалы Воейкова, Вельяминова-Зернова, Марина, Михайловского-Данилевского и др.). Принимая формулу «безумного правления», освободительная мысль, однако, преобразует ее: не сумасшедшее исключение, а безумное правило. Тем самым личная, патологическая основа событий снимается или сводится к минимуму: главное – общие социально-политические закономерности. Так, Герцен постоянно говорит на страницах своих изданий о подданных Павла, которые «оборонялись от сумасшедшего», о том, что это царствование доказало – «самодержавно еще не есть право на безумие».
В то же время создатель Вольной русской печати не устает повторять, что Екатерина II и Павел лишь два типа «разврата»: «Вместо лакеев – палачи, вместо публичного дома – застенок»; в другой раз Герцен охотно обнародует следующую формулу, предложенную корреспондентом Вольной печати: «Дубинка Ивана Грозного, палка Петра, оплеуха Павла, розги Николая».
Верноподданный Греч в своих записках энергично возражает против распространенного в середине XIX в. сравнения Николая I с его отцом: «Мне смешно, когда толкуют о деспотизме Николая Павловича. Пожили бы вы с его родителем, заговорили бы иное». Герцен же писал, что «Николай – это Павел, вылеченный от безумия, но не поумневший, Павел без добрых порывов и бешеных поступков». Причудливые чисто внешние совпадения некоторых формул о «безумии Павла» сохраняются у враждебных социально-политических групп в течение всего XIX и начала XX в. Когда же в первые годы XX столетия стало возможным больше публиковать на эту тему, дискуссия осложняется, появляется ряд промежуточных мнений, печатаются и явно апологетические работы.
Мы сейчас не говорим о третьем, довольно редком подходе к «павловскому феномену», подходе, который представляется чрезвычайно важным и существенным: мы находим его прежде всего у таких замечательных своеобразных историков, как Пушкин, Толстой. Об этом будет особый разговор. Пока же повторим только, что противниками самодержавной власти Павел почти постоянно оценивается как типичный представитель вражьей силы, предельной тирании.
Эта освободительная, критическая «герценовская» традиция естественно продолжается в советской научной и художественной литературе.
Рассказ Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Киже» ( 1931 г .) – замечательное художественное воплощение знакомой генеральной идеи о безумии Павла как заостренной форме «самодержавного безумия». Главное в рассказе – что все происходящее нормально и не только не может вызвать удивления действующих лиц, но скорее представляется им совершенно естественным. Нисколько не собираясь морить талантливейший рассказ рамками строгой истории и историографии, заметим только, что он органически связан с определенным, важным периодом научного истолкования российской истории конца XVIII в. В последующие десятилетия в работах покойных историков С. Б. Окуня, А. В. Предтеченского появляются, однако, новые соображения: хотя тема «больной психики» царя не снимается, но притом говорится о трудности, невозможности однозначного истолкования проблемы. К сожалению, рамки учебных курсов (где излагались эти взгляды) не позволили авторам углубиться в подробности. Ряд последних работ, опубликованных за рубежом, уделяют преимущественное внимание внешней политике Павла I, при этом широко используются различные западные архивы. В меньшей степени, в основном по уже опубликованной литературе, разбираются проблемы отношений с дворянством, история заговора 11 марта. В трактовке личности Павла явно преобладают поиски социально-исторических моментов над психологическими, сумасшествие царя отрицается.
Накопление новых фактов и новые оценки старых не дают пока ясных, общих решений, по-прежнему требуется ответ на коренной вопрос: чем же была все-таки павловская система?
Непросвещенный абсолютизм
«И просвещенный абсолютизм первых лет екатерининского царствования, и павловский полицейский бюрократический абсолютизм оказывались непригодными в новой обстановке».
Итак, абсолютизм непросвещенный.
Как уже отмечалось, взгляд народа на верховную власть был на Западе в ряде отношений иным, нежели на Руси: король не обожествлялся «по-царски», идеальный царь не присутствовал столь сильно в сознании французского или немецкого простолюдина, крестьянские и городские восстания шли обычно под знаком ересей, а не «лучшего царя», самозванчество было очень редко; западноевропейское общество вообще было структурно сложнее, чем в России с ее резко очерченными контрастами рабства и деспотизма, с ее острыми общенациональными проблемами, когда всем приходилось соединяться против внешней опасности.
Народные мечты об идеальном царе, о царе-спасителе были не только поняты, но и многократно использованы великокняжеской, царской властью: сначала против внешних врагов, затем против внутренних. Иван Грозный, борясь с боярами, эффектно отъезжал из Москвы в Александровскую слободу, откуда обращался к «народу московскому»; среди опричников рядом с дворянами и «детьми боярскими» – выходцы из «черни».
В опричнине, понятно, не было и тени народовластия; только при таких исторических обстоятельствах, какие были тогда на Руси, при отсутствии потенциальных организаторов из третьего сословия, способных (как на Западе) возглавить крестьянскую массу, – только при таком состоянии народа и при таком уровне централизации и царистской идеологии возможен столь крутой, парадоксальный исторический маневр, связанный с максимальной политической тиранией: бояре ослаблены или ликвидированы не без помощи черни, но при этом усилившаяся власть (постоянно опирающаяся на бояр и дворян, которые только меняются в составе: вместо казнимых и опальных приходят другие) – эта власть регулярно и непрерывно порабощает, закрепощает крестьян, холопов, горожан; постоянно «перебирает людишек» и самого простого звания; переводя ничтожную часть в «благородное сословие», остальных в конце концов подавляет и разоряет, да так, будто новый Мамай прошел по городам и весям.
Тем не менее крепкая, сохранившаяся в народных песнях и легендах память о грозном царе, возможно, стимулировалась политической демагогией Ивана IV, сильным народным впечатлением от неслыханной «грозы на бояр».
После «смутного времени» у самодержавия не было исторической необходимости прибегать к этому крайнему политическому маневру; однако, когда Петр I проводил свои сокрушительные реформы, подобная «народность» как бы подразумевалась. Никаких прямых обращений к черни против мятежных бояр и стрельцов царь не употреблял, но известное обновление, «демократизация» дворянства, а также разгром старинных боярских институтов подчеркивали общенациональный характер империи, возможность «в случае чего» заменить этих дворян и бояр другими, взятыми из «толпы». При этом еще ждет углубленного изучения идеологическая установка «консервативной партии» царевича Алексея, надеявшегося на чернь, «слышавшего от многих, что его, царевича, в народе любят» и будто бы говорившего сообщникам: «Я-де плюну на всех, здорова б де мне была чернь».
После Петра I и периода «дворцовых переворотов» самодержавное правительство прибегает к новым формам прямой опоры на дворянство, в частности на «дворянскую интеллигенцию»: дело идет к просвещенному абсолютизму.
Разумеется, повиновение народа, внушение – страхом и молитвою – покорности монарху и помещику всегда были важнейшей задачей самодержавного государства. Однако методы, идеологические установки, формулы этого внушения могут отличаться; и нам небезынтересно, утверждается ли власть путем большей или меньшей идеологической активности верхов по отношению к низам.
В системе просвещенного абсолютизма Екатерины II народ, по выражению Герцена, был «res nullius» (ничем). После подавления восстания Пугачева стиль управления остается самодержавно-просвещенным, элитарно-аристократическим.
Возможны были, однако, и другие варианты…
В российской общественно-политической структуре XVIII в. таились три возможные ситуации (о чем говорилось в главе первой): одна статическая и две динамические. Статическая (она же «циническая») – чтобы оставалось в общем все как есть (разумеется, с элементами умеренных, безопасных преобразований); по сути система весьма неустойчивая, но практически ее не на одно десятилетие хватило…
История подталкивала к другому выходу – просвещенному, к декабризму, падению крепостничества. Но для того еще требовалось время.
Третье движение – в обратную сторону: сверхцентрализация за счет некоторых сторон просвещения и дворянских свобод.
Сопротивление дворян, пусть на первых порах пассивное, было неизбежным. Для Павла же все екатерининско-потемкинское устройство потенциально враждебно его линии. И тогда в совершенно новых исторических условиях, через четверть тысячелетия после Ивана Грозного, царь снова обращается к старинному страшному механизму – к определенной, своеобразной, социально крайне ограниченной ориентации на «чернь». Низы постепенно начинают рассматриваться как определенный резерв политики, как орудие или, точнее, потенциальное орудие самодержавия.
Мы понимаем, чем руководствовался В. О. Ключевский, когда писал, что «Павел был первый противодворянский царь этой эпохи», однако находим это суждение односторонним, так же как стремление ряда авторов игнорировать или свести к минимуму различия социальной ориентации Екатерины II и Павла I.
Между тем причудливое, зловещее сочетание павловской тирании и «народности» было замечено современниками. Без труда можно выбрать из сочинений разных авторов следующие, примерно однородные высказывания и образы.
Я. И. Санглен (при Александре I многознающий и циничный руководитель тайной полиции): «Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал под оное. Отправляя, в первом гневе, в одной и той же Кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. Это был чистый подкоп, ибо без этого различия самодержавие удержаться не может. Он нам дан был или слишком рано, или слишком поздно. Если бы он наследовал престол после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его царствование…».
«Действительно самая знатная особа и мужик равны перед волей императора, но это карбонарское равенство – не в противоречии ли оно с природой вещей?».
Еще и еще возникает образ Павла I – «уравнителя и санкюлота».
В 1796 г. Екатерина II спрашивает генерала Н. И. Салтыкова о его воспитаннике и своем внуке Константине Павловиче: «Я не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми уничижающий». Царица подозревала дурное влияние Павла.
Пушкин в 1834 г. скажет великому князю Михаилу Павловичу: «Вы истинный член вашей фамилии: все Романовы революционеры-уравнители. – Спасибо, так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, вот репутация, которой мне недоставало».
Наконец, Герцен назовет самодержавие XVIII – XIX вв. «деспотическим и революционным одновременно»; Павел у него действует, «завидуя, возможно, Робеспьеру», в духе «комитета общественного спасения».
Много лет спустя историк русского дворянства С. Корф, относящийся к Павлу с традиционным отрицанием, выступил против Шильдера, который, по его мнению, разделял «парадоксы де Санглена» насчет царя-уравнителя. Корф не стал говорить о социальных различиях, полярно противоположных целях у «террора 1793 г.» и 1800 г.; он стремился показать, что «поведение Павла несомненно подкапывало сословный строй. (…) Но действия императора в этом отношении были вполне бессознательна, он не отдавал себе отчета в последствиях своих мероприятий, имевших результаты, обратные им желаемым. Все его указы… были направлены не только к сохранению сословного строя, но и к вящему порабощению сословий».
В этих рассуждениях заслуживает внимания мысль о стихийности, неоформленности многих побуждений Павла. Однако субъективное стремление царя «к рыцарской сословности» представлено как более важный факт, чем «тираническое уравнение» (по известной формуле, что «в стране нет вторых: только первый – и все остальные»). К тому же подобные сомнения в существовании «павловского парадокса» не приближают к сложной сущности дела, своеобразному консервативному соединению деспотизма и вывернутого наизнанку рабского уравнения.
На самом деле, изучая систему Павла, надо постоянно иметь в виду как ее сословность, так и относительную бессословность.
Демократически настроенный мелкий шляхтич Еленский из тюрьмы взывает к Павлу-наследнику принять власть от народа: «А что давно не принялся к произведению в действо за то [Павел] довольно сам есть наказан почти неволею, яко состоит под властью господ подданных своих».
Туманная смесь верхнего и нижнего самозванства в сознании Павла, вплоть до мысли о бегстве к казакам, – об этом уже говорилось; однако, разумеется, не народные призывы, а особые исторические обстоятельства, особая расстановка социально-политических сил вызвали к жизни стремление к особой системе и структуре власти, к исторически неосуществимой консервативной модели, к воображаемому союзу царя (окруженного верными рыцарями) с покорным, верным народом: система, которая, по мысли Павла, должна была заменить прежнее устройство.
Рассмотренные в отдельности дворянская и крестьянская политика Павла еще не позволяют понять их; место в едином политическом плане консервативных реформ.
30 лет спустя декабристы выйдут на площадь с прямо противоположными, нежели у Павла, целями. Совпадение 1825 и 1796 гг. только в одном: в убеждении, что «просвещенная система» Екатерины (добавим – Александра) должна быть изменена, сокрушена, что подобное просвещение и подобная несвобода не могут более ужиться и противоречие нужно снять.
Декабристы – к освобождению.
Павел I – к еще большему порабощению.
Политика Павла, таким образом, была как бы контрреволюцией задолго до революции.
Этими лапидарными определениями дело, конечно, не исчерпывается, и нужно остановиться на некоторых вопросах подробнее.
Интересно, насколько замечали только что представленную сложность, двойственность павловской системы наиболее зоркие мыслители, жившие в исторической близости от тех событий?
Здесь, конечно, тема для одной или нескольких специальных книг, поэтому попробуем вкратце коснуться главного.
Недавнее прошлое
Для Пушкина и декабристов время Павла было совсем недавним: вчерашним и позавчерашним. Некоторые еще успели встретиться с грозным императором: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку…». Старшие декабристы и их современники помнили Павла много лучше.
Знаменитый А. П. Ермолов, при Павле два года просидевший в заключении, тем не менее, по свидетельству А. Фигнера, «не позволял себе никакой горечи в выражениях… говорил, что у покойного императора были великие черты и исторический его характер еще не определен у нас». Позиция членов тайных обществ как будто вычисляется легко: в крамольных куплетах Рылеева и Бестужева появляется «курносый злодей»; приглашая Греча в тайный союз, Рылеев спрашивает, как следует рассуждать, «если бы заговор был составлен для блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого».
Итак, образ деспота, тирана… П. Г. Каховский, между прочим, не мог простить Павлу запрещения употреблять столь важное и дорогое декабристу слово – «отечество». Однако, присмотревшись внимательнее к декабристским суждениям, найдем, что они были неоднородны. Старший из «людей 14 декабря», Владимир Штейнгель, обучавшийся в юности в Морском корпусе, помнил ( 1836 г .), что 40 лет назад «кадеты, вовсе забытые в Кронштадте и никем из знатных не посещаемые, вдруг удостоились счастья видеть беспрестанно своего монарха. Государь редкую неделю не посещал корпус, и всегда неожиданно. Он все хотел видеть собственными глазами, входил в самые мелочи, заглядывал во все закоулки…». При этом Штейнгель видит здесь больше, чем отдельный эпизод, и находит, что «кратковременное царствование Павла I вообще ожидает наблюдательного и беспристрастного историка, и тогда узнает свет, что оно было необходимо для блага и будущего величия России после роскошного царствования Екатерины II».
М. А. Фонвизин, судя по его запискам, находил в системе Павла политические элементы, переходившие в свою противоположность. Другой видный деятель тайных обществ полагает, что «Павел первый обратил внимание на несчастный быт крестьян и определением трехдневного труда в неделю оградил раба от своевольного произвола; но он первый заставил вельмож и вельможниц при встрече с ним выходить из карет и посреди грязи ему преклоняться на коленях, и Павлу не быть!». Вообще система Екатерины и ее внука Александра (обязавшегося править по заветам царственной бабки) не вызывала у деятелей декабристских тайных обществ положительных эмоций; в 1815 – 1825 гг. ее не противопоставляли как положительный пример системе Павла. Ведь декабристы поднимались именно против правительства Александра I. Пушкин в своей декабристской по духу работе «Некоторые исторические замечания» (1821 – 1822), как известно, называет Павла «современным Калигулой»; однако главный политический пафос сочинения – все же против «тартюфского» двоедушия Екатерины.
Знакомясь со взглядами юного Пушкина, мы располагаем также знаменитой поэтической апологией законности, где противоестественными признаются как тирания, так и тираноборчество («Вольность»).
После 1825 г. внимание поэта к павловской теме, несомненно, усиливается. Это доказывают и многие записи в дневнике, и устные рассказы Пушкина, и работы о Пугачеве, Радищеве, и Table-talk (разговоры Загряжской), и начатая, по-видимому, трагедия «Павел I», о которой Пушкин в 1828 г . уже рассказывал друзьям; сверх того существовала потаенная мечта «писать историю Петра, Екатерины I и далее вплоть до Павла Первого»; приобретались для пушкинской библиотеки специальные редкие книги о Павле в его окружении. Прибавим к этому и немалые сведения о павловском времени, отразившиеся в записной книжке ближайшего друга Пушкина П. Л. Вяземского.
Если говорить кратко и несколько упрощенно, то в 1830-х годах поэт смотрит на Павла и его царствование многостороннее и объективнее, чем прежде; не осудить, приговорить, оправдать, но понять, объяснить «романтического императора» и закономерность того, что с ним произошло, в связи с более ранними и более поздними событиями, объяснить в духе высокого историзма – вот к чему стремился Пушкин.
Ничего не одобряют серьезные молодые «лицейские, ермоловцы, поэты» у свергнутого Павла, кроме общей мысли (не им рожденной, но им громко повторенной!), что нужна положительная идея, что жить «цинически», по-екатеринински (и по-александровски) нельзя.
Многократно отмечалась серьезность, иногда нарочитая, свойственная декабристскому кругу и отличающая его от обывателей, реакционеров, «не декабристов». Вспомним Чацкого среди «скалозубной стихии»; вспомним пушкинское: «В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами».
Для сибарита же, селадона екатерининских времен, даже из числа просвещенных, творческих людей (например, для Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола), «слишком серьезными», не чувствующими сладости жизни и юмора были и Павел, и сыновья, которым суждено было погибнуть в рядах декабристов.
Итак, хотя преобладающим взглядом просвещенного круга в начале XIX в. была формула «царь-безумец», заметны попытки объективно попять, оценить место «павловских событий» в общем ходе российской истории. Особенно ясно этот новый подход обнаружился при оценке заговора 1800 – 1801 гг., о чем еще речь впереди. Пока же возвратимся к последним годам XVIII в., к попыткам Павла переменить Россию по-своему.
Опора
Идейных союзников у сурового царя фактически не будет. Точнее, их было больше в начале царствования – Лопухин, Репнин, Плещеев и другие, кто были «не ко двору» при Екатерине II. Однако идейность этих людей все же существенно отличалась от царской, включая понятия личной свободы, достоинства, известных гарантий… С 1797 г. подобных лиц на высших постах уже почти не видно: ведь деятелю циничному, беспринципному было легче приладиться к любой обстановке, чем человеку, имеющему убеждения…
К 1800 г. «возвышенные понятия» Павла воспеваются в основном лицемерным хором и столичные остряки мечтают, чтобы у государя было хотя бы «одним пороком больше». Перебирая павловских сподвижников, находим теперь либо абсолютно беспринципных Кутайсовых, либо честолюбцев в духе Ростопчина… Людей же просвещенно-честных возле него куда меньше, и чины их ниже. Мы имеем в виду такие фигуры, как полковник Н. А. Саблуков, как просвещенный протоиерей А. А. Самборский (инициатор многих хозяйственных начинаний по части земледелия, шелководства и пр.). Павловская политика слишком сильно била по таким людям, бесконечно испытывая «просвещенное чувство». В результате самыми рьяными поборниками сверхцентрализации становятся не благородные рыцари, как Павлу мечталось, а люди духовно убогие, ограниченные, «скотининского типа», те, кто в просвещенном абсолютизме Екатерины имели меньше шансов выдвинуться: гатчинцы, Аракчеев. Достаточно алчные и циничные, они ценили павловскую систему именно за ее непросвещенность, за то новые возможности, которые теперь открывались для аракчеевского фрунтовика.
Павел, который еще с пугачевских времен верит, что народ его любит, при этом свою страну не знает, не понимает.
Позиция молчащего народа непонятна и павловским противникам. «Нация негодовала на педантство, – писал позже Вельяминов-Зернов, имея в виду, конечно, под нацией прежде всего дворянство. – Павел находился еще в заблуждении, будто привязывает к себе чернь».
«Теперь бы сказали, – замечает позднейший исследователь о противниках Павла, – вся интеллигенция; тогда говорили все, потому что только такие лица считались за людей. Народные же массы, на которые безрассудно думал опереться Павел, представляли собою то, что англичане пренебрежительно называют nobody (никто)».
Вокруг престола расширяется пустота, хотя и не абсолютная: сохраняется опора на солдат, но непрерывно ухудшаются отношения с офицерами. Социальные же итоги новой политики становятся все яснее.
Без сомнения, из двух условно выделенных нами групп просвещенного меньшинства Павел встречал куда большую оппозицию в среде «циников», нежели в передовом просвещенном дворянстве. Явное или скрытое гонение на лучших людей в последние екатерининские годы, павловская амнистия – все это не стерлось из памяти за четыре года. «Тебе, помилователю моему», – начинает Радищев последнее прошение на имя Павла (21 декабря 1800 г. из села Немцова Калужской губернии), и это вряд ли только форма; мы понимаем, почему Андрей Вяземский, братья Тургеневы, Жуковский всплакнули весной 1801 г. о Павле (правда, все они находились тогда не в Петербурге, а в Москве). Уже не раз упоминавшимся Иван Лопухин, хорошо зная павловские опасности, испытав их и на себе, тем не менее находит, что «Павел … такой имел дар приласкать, когда хотел, что ни с кем во всю жизнь не был я так свободен при первом свидании, как с сим грозным императором».
Резких столкновений Павла с подобными людьми сравнительно немного. Отчасти это объясняется тем, что они крайне малочисленны и, кроме того, вообще удалены от двора и гвардии (еще вследствие последних екатерининских гонений).
Однако главная причина пассивности, «политического отступления» наиболее непримиримых критиков – в отсутствии какого-либо революционного кризиса в стране, в известном спаде освободительного пафоса под впечатлением «крайностей» французской революции и того, что за нею последовало.
В ближайшем будущем, однако, конфликт власти с «левыми просветителями» был неизбежен; будущий знаменитый филолог, а в то время 18-летний студент Л. X. Востоков уже записывает в марте 1799 г.: «Читаем Вольтера. Негодуем на Павла»; «великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушило голос личной осторожности». И мы уже находим первые признаки именно этого столкновения, которые нельзя обойти, хотя подобные дела еще не выделяются как особые явления среди других многочисленных карательных мер Павла I.
Таково, по-видимому, дело Ивана Рожнова (послужившее поводом к формальному возвращению телесных наказаний для дворян). Оно было результатом публичного заявления отставного прапорщика, что «государи все тираны, злодеи и мучители… Люди по природе равны».
Таково, по некоторым признакам, «дело А. П. Ермолова – А. М. Каховского» в Смоленской губернии, которое, однако, было связано и с «дворцовой» оппозицией Павлу (о чем речь пойдет в следующей главе).
Еще раз подчеркнем сравнительно слабую тогда расчлененность просветителей на более и менее радикальных деятелей. К тому же на просвещенных дворян, которые старались оценить нового царя иначе, чем придворное большинство, – на них сам царь смотрел в основном так же, как на «подозрительных циников», – не различая… Павел с его ожесточенной централизацией находит якобинцев там, где их и не было, не желая вникать в оттенки российского просветительства. Западные конституции, «Жалованная грамота» Екатерины II, вероятно, рассматриваются в это время царем как документы в одном духе.
Неразборчивость репрессивной политики, система, где ошибка на вахт-параде была не меньшим проступком, чем якобинство, – все это теперь на краткое время сплачивало разные категории дворянства и несомненно замедляло начавшееся еще прежде расхождение мнений и течений.
Известное единство антипавловских настроений у широкого круга офицеров и генералов, вызванное внешними обстоятельствами, временное затушевывание, ослабление прежде уже обозначившихся противоречий между потемкинцами и «новиковцами-радищевцами» – все это, по-видимому, создавало более широкую основу для бурного, ускоренного размежевания в недалеком будущем, резкого, «внезапного» выделения через 15 – 20 лет революционного, декабристского течения.
Идейные бури 1800 г., новые, прежде неслыханные павловские дела, сглаживание прежних обид на фоне нынешних, рост самосознания и чувства достоинства – эти процессы в узком, но важном слое российского общества происходили в павловские годы стремительно, хотя и в значительной степени подспудно. Мы верим II. М. Муравьеву-Апостолу, отцу декабристов, который говорил сыновьям «о громадности переворота, совершившегося … со вступлением Павла I на престол, – переворота столь резкого, что его не поймут потомки». За несколько лет до воцарения Павла мыслитель из знатного рода, не доживший до павловского царствования, писал про «гордость российского дворянства, и поныне еще и самим деспотичеством не укрощенную». Павел Строганов, молодой представитель другой видной фамилии, через несколько месяцев после окончания павловского управления выскажет, однако (перед Александром I и группой избранных друзей императора), следующие соображения: «Наше дворянство вовсе не составляет такой силы, с которою правительству следует считаться. (…) Чего не было сделано в прошедшее царствование против этих людей, против их личной безопасности? И именно дворянин приводил в исполнение меры, направленные против его собрата, противные выгоде и чести его сословия». Строганов далее утверждал, что «гораздо более серьезную силу представляют крепостные крестьяне. (…) Они везде одинаково чувствуют тяжесть своего рабства».
Щербатов и Строганов по-разному оценивают свое сословие, и каждый отчасти прав. Щербатов, очевидно, судит по мерке влиятельных оппозиционных аристократов, а Павел Строганов, конечно, не забыл впечатлений французской революции, в которой он участвовал несколько лет назад под именем «гражданина Очера»…
Однако в этот любопытный спор о дворянском, гвардейском достоинстве и долготерпении вступает (через несколько месяцев после Павла) стихотворец – насмешник Марин; он напоминает, что терпению все же пришел конец, что гордость все же берет верх над покорностью:
Велит им честь – прервут оковы,
Избавить царство – нужен миг.
Одним из итогов павловского 4-летия было более резкое осознание дворянством своих прав и достоинств: «дарование» их Екатериной – первый этап этого осознания; павловская попытка отнять вызывает «кристаллизацию», новый этап внутреннего освобождения, сопротивления.
Консервативная утопия Павла привела в движение разнообразные силы, о которых царь большей частью не подозревал.
На историческом распутье XVIII – XIX вв., в весенние годы, первые после французской революции, на заре великой русской литературы, русского освободительного движения – в этих условиях бури 1796 – 1801 гг. обостряли мысль, вызывали многообразные формы предчувствия и действия…
«Если бы тирания продолжилась еще, – утверждали современники, – камни, как говорится, восстали бы, ружья выстрелили бы сами по себе».
Пройдут еще десятилетия, и к павловской теме обратится Лев Толстой. «Я нашел своего исторического героя, – пишет он П. И. Бартеневу 31 марта 1867 г . – И ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю».
Он не возьмет на веру обычные отзывы о «безумном царе», но не сможет и доискаться настоящих источников, ибо тема была чересчур запретной. «Мне кажется, – записал он еще в 1853 г ., – что действительно характер, особенно политический, Павла I был благородный, рыцарский характер». Однако позже в одной из работ писатель замечает: «Да и тот человек, в руках которого находится власть, нынче еще сносный, завтра может сделаться зверем, или на его место может стать сумасшедший или полусумасшедший его наследник, как баварский король или Навел». Писателю удается получить нужные сведения только лет через сорок. «Нет ли у вас, – спрашивает Толстой Стасова (18 октября 1905 г .), – книжек или книжки об убийстве Павла, если есть и можно прислать – пришлите». В. В. Стасов, пользуясь своими должностными связями в Публичной библиотеке, высылает несколько заграничных изданий. «Читал Павла, – записывает Толстой 12 октября 1905 г . – Какой предмет! Удивительный!»; в другом месте: «…признанный, потому что его убили, полубешеным Павел … так же, как его отец, был несравненно лучше жены и матери…».
Лев Толстой не успел осуществить свои замыслы, но мы кое-что знаем о них. Великий мыслитель видел возможность развить свои любимые идеи; симпатизируя Павлу как личности, даже порою идеализируя его, Толстой тем не менее понимал его обреченность: даже самодержавный царь не может создать то, для чего нет исторической основы. Нельзя (по Толстому) «выдумывать жизнь и требовать ее осуществления».
Консервативная утопия. Неосуществимость ее была засвидетельствована кровью.
Глава VII
«Скоро это лопнет…»
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся…
Из 46 римских императоров было насильственно свергнуто 33; история Византии насчитывает сотни заговоров; в Турции и арабских странах были десятки «серальных переворотов». Быстро и часто офицеры, охрана, гвардия меняют южноамериканских диктаторов. В России за 76 лет, с 1725 по 1801 г., по одному счету – пять, а по другому – восемь «дворцовых революций».
Итак, дворцовый переворот – событие столь же «непристойное», сколь обыкновенное для целых стран, веков, эпох. Заговор 11 марта 1801 г. в этом смысле историческая частность…
Однако ни об одном из российских переворотов XVIII в. столько не размышляли и не писали, как о событиях 1801 г. Отметим еще раз интерес, серьезнейшие размышления, историко-художественные замыслы различных деятелей русской культуры и общественной мысли: Пушкина, Герцена, Толстого, Тынянова; вспомним заметки Вяземского, гремевшую в начало нынешнего столетия пьесу Мережковского «Павел I», в советское время роман О. Форт «Михайловский замок».
Март 1801 г. интересен историку, художнику, мыслителю. Некоторые черты этого события, отличающие его от остальных, парадоксальным образом помогают приблизиться к более общим, глубинным закономерностям российского XVIII и XIX вв., прибавить нечто серьезное к постановке проблемы власти, народа, идеологии, рассмотреть трагическую коллизию цели и средств…
«Фауст. Смерть императора Павла», – записал Гёте в своем дневнике 7 апреля 1801 г.
«Связи между двумя отметками нет никакой, но соседство их примечательно, – комментирует С. II. Дурылин, – работу или думу над важнейшим созданием своего гения Гёте поставил рядом с политическим событием, свершившимся в далекой России, – так показалось оно ему важно и значительно». Видел ли действительно Гёте вселенский «фаустовский» смысл в событиях 11 марта, остается, конечно, гипотезой. Вскоре, однако, великому немцу вторит юный Пушкин, как обычно, одной фразой говорящий очень много: «Правление Павла доказывает, что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы…».
Калигула или, например, Иван Грозный, Филипп II, даже Бирон для Пушкина соответствовали своим «непросвещенным» векам и нравам; но вот – проблема из проблем! Европейское просвещение, провозгласив важный принцип разума, как будто исключает саму возможность явления Калигулы (читай – полусумасшедшего, зверя, тирана). Если же такая фигура возможна, то либо новые времена «не столь просвещенные» и, стало быть, не исключаются рецидивы тирании, либо Павел – это последний, «случайный Калигула». Суждения современников и потомков показывают, что многие лучшие умы старались уловить сокровенный смысл столь простого и трагически обыкновенного дела, которое совершилось в Петербурге в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
Попытаемся же разобраться во всем по порядку. В 1796 г. законный монарх, как отмечалось, берет власть «штурмом», насилием, употребляя почти забытые методы опалы, ареста, шельмования. Увеличение в 7 раз дел Тайной экспедиции – только одни из признаков периода переворотов. Министр, губернатор, генерал при Павле редко уходят на покой безопально. Суворов отставлен и фактически под арестом. Зубовы свергнуты и заперты в поместьях под надзором властей. «Куракины завладевают местами», – коротко описывает состояние дел в конце 1791) г. внимательный и просвещенный наблюдатель Сергей Петрович Румянцев. «Клан Куракиных» выдвигает на важнейшие посты своих людей, опирается на фаворитку Павла Нелидову.
Поскольку самим Павлом и многими его современниками 7 ноября 1796 г. так и рассматривалось как контрпереворот по отношению к 1762 г., торжественное перехоронение Петра III было естественным, центральным действием этого контрпереворота (так же как унижение Алексея Орлова, одного из убийц Петра III, которому приказано сопровождать похоронную процессию).
Однако взаимосвязь двух разделенных третью века событий настолько бросалась в глаза, что оборачивалась уж против Павла: если он сам «возрожденный Петр III», то ему грозит возрожденный 1762-й, и незадолго до гибели встревоженный Павел воскликнет: «Хотят повторить 1762 год».
Изучая далее хронику павловского царствования, мы ясно видим несколько «малых переворотов», сходных с теми, что не раз происходили, «вошли в обычай» до 1762 г.; громоносные и быстрые перемены важных лиц в 1796 – 1801 гг. – запоздалая, но явная параллель к прежним «арестно-опальным» отставкам Меньшикова, Лестока, Бестужева и др.
Первый «малый переворот» после воцарения Павла состоялся летом 1797 г. во время коронации.
С. П. Румянцев конспективно записывает главное: «1797… Любовь императора к г-же Нелидовой прекращается. – Неприятное положение императрицы. – Коронация в Москве доставляет императору случай воспользоваться красавицами, спешившими ему понравиться. – Он останавливается на дочери Лопухина. – Отец едет с нею в Петербург. Его производство в генерал-прокуроры. – Его старинные связи с Безбородкой восстанавливают кредит последнего».
Обычная куртуазная интрига имела немалые политические последствия. За сравнительно мелкую провинность брат старинного друга царя Алексей Куракин после полугодового фавора «с треском» и опалою сходит с политической сцены, лишен должности генерал-прокурора. Отходит в тень и влиятельная фаворитка Нелидова, которой, например, за содействие в заключении русско-английского торгового договора было выдано английским послом Витвортом 30 тыс. руб.
«Отставка» Нелидовой повлекла за собою уход ее родственника санкт-петербургского генерал-губернатора Буксгевдена, и на его месте в 1798 г. появляется Пален. Как видим, и он «продукт» той интриги. Снова усиливается Ростопчин…
Клан Куракиных – Нелидовой сменяется партией Лопухиных и связанных с ними лиц.
Переворот 1797 г. был совершен (как почти все последующие) при активном участии бессменного фаворита, бывшего царского камердинера и брадобрея Ивана Павловича Кутайсова, который (по свидетельству многознающей В. II. Головиной) «сговорился с мачехой девицы Лопухиной Екатериной Николаевной, урожденной Шетневой, и ее любовником Федором Петровичем Уваровым (в недалеком будущем видным деятелем последнего заговора).
Косвенным результатом «лопухинского переворота» была не только перемена фаворитов, но и резкое ослабление политической роли императрицы (особенно близкой в последние месяцы с Куракиными и Нелидовой).
Вслед за первым, «малым заговором» последовали новые. В начале 1799 г. обрывается карьера канцлера Безбородки, по всей видимости, назревал новый «микропереворот», но канцлер успел умереть до изгнании. Известно, по многим источникам, что на похоронах Безбородки (которому царь был несомненно многим обязан в первые часы и дни правления) он был подчеркнуто равнодушен; когда Павлу выразили скорбь в связи с потерей опытнейшего государственного человека, он будто бы отвечал: «У меня все безбородки».
Место Безбородки занимает все возвышающийся Федор Ростопчин: 22 февраля 1799 г. его делают графом, 31 мая ставят во главе почтового департамента (оставляя и прежние должности), 29 июня дают орден св. Андрея Первозванного, а 25 сентября назначают «первым присутствующим иностранной коллегии».
Резкая отставка 7 июля 1799 г. второго павловского генерал-прокурора П. В. Лопухина, отца фаворитки; через полгода, 8 февраля 1800 г., увольнение от службы третьего, наиболее честного генерал-прокурора Беклешова и замена его П. X. Обольяниновым; немилостивая, «опальная» отставка влиятельнейшего дипломат! Семена Воронцова весной 1800 г.; сокрушительное изгнание – фактический арест – вице-канцлера Панина в конце 1800 г.; дело государственник) казначея Васильева, тоже в конце 1800 г.; наконец, опала и изгнание нового канцлера Ростопчина за 18 дней до гибели Павла – все это только наиболее крупные из «малых переворотов»… Все это повторялось эхом в губерниях. Значительная часть екатерининских губернаторов была «свергнута», да и административная карта перекроена (вместо 51 осталось 44 губернии).
«Иркутская летопись», например, сообщает колоритные подробности о внезапной царской немилости к грозному губернатору Борису Борисовичу Леццано, которого затем холодно принял сенатор-ревизор, «и тогда только самый ленивый на Бориса Борисовича не жаловался».
Обратной стороной «переворотов-низвержений» были «перевороты-вознесения», поднимавшие на важные должности самых неожиданных лиц. Г. Р. Державин, посланный вскоре после Павла в Калугу, собрал сведения о недавних бесчинствах губернатора Лопухина (свойственника самой Анны Петровны Лопухиной!). Державин насчитал 34 уголовных дела, в которых мог быть обвинен губернатор, «не говоря о беспутных, изъявляющих развращенные нравы, буйство и неблагопристойные поступки (…) как-то: что напивался пьян и выбивал по улицам окны, ездил в губернское правление на раздьяконе верхом, приводил в публичное дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку, и тому подобное, каковых распутных дел открылось двенадцать да беспорядков в течении дел до ста».
Карьера рижского губернатора П. А. Палена началась при Павле, как известно, с отставки и опалы (1798 г.) по случаю «чрезмерно горячей» встречи, устроенной проезжавшему через край опальному Платону Зубову (любопытно, что «капризное самодурство» Павла здесь соединилось с немалой проницательностью: Пален ведь не случайно так хорошо встретил Зубова, с которым имел старинные отношения; эти связи, как увидим, сыграют впоследствии роковую роль в заговоре 11 марта). Между тем вскоре после того случая, с 20 июля 1798 г., начинается восхождение Палена по должностной лестнице, а к 1801 г. он станет несомненно вторым человеком империи.
Мощное сосредоточение власти в руках фаворита было порождением общего павловского принципа централизации; по закону же (очевидному для автора оды «Вольность») при такой системе возрастала возможность любого беззакония, в том числе и опасного для самого правителя.
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, пи алтари
Не верные для вас ограды…
Уже говорилось о формулах, распространенных в образованном прогрессивном обществе, – «царь-террорист», «царь-якобинец», порожденных, конечно, чисто внешним сходством сильно централизованной власти двух противостоящих политических систем, а также «взрывчатым», фактически не опирающимся на закон принципом перемены государственных лиц, отправляемых во Франции на гильотину, а на Руси в жестокую опалу.
«Эта кутерьма долго существовать не может»
Перевороты «царским именем», естественно, создают питательную среду и для заговоров против особы государя.
«Где следовало искать трибунал, – писал родственник Павла, принц Евгений Вюртембергский, – который законным образом подтвердил бы, что как правитель Павел глуп? (…) Возмущение и борьба партий шли рука об руку, и последнее исключало законное решение».
Французский историк несколько десятилетий спустя заметит о главных российских заговорщиках, что эти люди, «которые при регулярном правлении были бы, возможно, великими гражданами, но при деспотическом режиме становятся преступниками».
Действия Павла создавали действия против Павла.
Сопротивление благородного сословия своему императору проходит несколько стадий.
Раньше всего – насмешка. Император был серьезен, дворянство же смеялось.
Много лет спустя крупные сановники николаевской поры еще будут вспоминать о павловских годах «как самых счастливых», ибо возможность разом все потерять придавала особую остроту каждой житейской радости…
Смеясь, грамотные подданные сочиняли стихи различного достоинства: составление эпиграмм на Павла считалось еще в 1797 г. хорошим тоном. В одном рукописном сборнике К. В. Сивков обнаружил вирши (которые приписывались Державину, вероятно по той же логике, по которой позже все запретное отнесут к Пушкину); стихи интересны именно своей непрофессиональностью, «массовидностью» и, по-видимому, сложены неким ротным рифмоплетом.
После утверждения, что Павел похож на Дон-Кихота, а не на Фридриха II, следовало:
Я пред всем скажу то светом,
Что на Фридриха похож
Только шляпой да колетом,
А отнюдь лишь не умом.
Более знаменитые рифмы преображенец Сергей Марин сочинил на гауптвахте (он сидел там разжалованный в рядовые за то, что сбился с ноги на вахт-параде). Эта небольшая поэма «О ты, что в горести напрасной…» – антипавловская пародия на известную в культурных кругах ломоносовскую оду Иову:
О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер!
Шумишь и сердишься всечасно,
Что ты давно не кавалер!
Внимай, что царь тебе вещает,
Он гласом сборы прерывает,
Рукою держит эспантон –
Смотри! Каков в штиблетах он…
Далее в стихотворении представлена целая программа, обширный перечень тех причин, что делали гвардейских офицеров недовольными.
Роль поэтов вообще велика в истории антипавловской оппозиции. Их «карманная слава» (распространенное выражение тех лет, относившееся к неопубликованным сочинениям) объяснялась общим повышенным спросом, жаждой пародии, насмешки в оппозиционной, грамотной среде.
Таковы строки на строительство Исаакиевского собора:
Се памятник двух царств,
Обоим им приличный,
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.
Сотни людей запомнили двустишия:
Не венценосец он в Петровом славном граде,
А варвар и капрал на вахт-параде.
Дивились нации предшественнице Павла:
Она в делах гигант, а он пред нею карла.
Популярным был следующий «разговор»:
Не все хвали царей дела.
– Что ж глупого произвела
Великая Екатерина?
– Сына!
Кроме этих и нескольких других русских эпиграмм В. П. Степанов приводит антипавловские тексты по-немецки и французски. Реальное же число стихотворных насмешек было еще большим. Так, при неудачном спуске корабля «Благодать» царь будто бы нашел в ботфорте листок со стихами:
Все противится уроду,
И благодать не лезет в воду.
Стихи часто дополнялись рисунками. Наиболее известной оказалась карикатура, опубликованная в Англии и перепечатанная 60 лет спустя в первом выпуске «Исторического сборника» Вольной русской типографии.
Уже не раз говорилось об анекдотах, часто вымышленных, иногда реальных. Однако взглянем на них типологически.
Известное число коротких историй сравнительно благосклонно к Павлу. Обычная структура подобных «позитивных новелл» такова: некто провинился или рискованно говорил с грозным царем, дело идет, казалось бы, к неминуемой каре, но все кончается хорошо…
Для примера выберем несколько историй, несущих оттенок возможного правдоподобия.
Из записок Т. Толычевой (со слов М. А. Соймоновой): старого дворянина оклеветали, Павел велит Н. С. Свечину (столичному генерал-губернатору в 1800 г.) высечь старика. Свечин, однако, жалеет несчастного, прощает его именем царя и возвращается во дворец. «Государь схватил Свечина за отворот мундира: Что там делается? – Там благословляют ваше имя, Ваше величество, потому что вашим именем я простил. Павел выпустил из руки отворот мундира, повернулся и вышел. Тем и кончилось дело».
Из рассказа современника: «Павел замечает пьяного офицера на часах у Адмиралтейства и приказывает его арестовать; тот не дается и напоминает: «Прежде чем арестовать, Вы должны сменить меня». Царь велит наградить офицера следующим чином: «Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»».
Более смешные эпизоды: полицмейстер Ваксин держал пари, что дернет Павла за косу на большом выходе. При проходе царя он взял его за кончик косы. Павел не оборачиваясь спрашивает: «Кто там?» – «Коса не по шву лежит», – отвечает Ваксин. Павел благодарит, пари выиграно.
Подобное же пари будто бы выигрывает князь Гагарин, поспоривший, что уронит Павла на разводе: упал к царским ногам, схватил на колени, начал целовать и повалил царя. Павел рассмеялся.
Куда чаще, однако, попадаются сюжеты иной структуры, выражающие определенное общественное мнение: анекдоты, однозначно недоброжелательные к царской особе (порою высмеивающие даже за добро).
Известная история, связываемая со многими лицами, в записях Д. Лонгинова выглядит так: «Кто не мог обойтись без очков, должен был оставить службу, потому что очки были воспрещены. Дибич (будущий Забалканский), росту самого малого, был переведен в армию за «неприличную и уныние во фрунте наводящую фигуру»».
Сохранилось немало сюжетов, родственных сюжету «Подпоручика Киже», – историй «о самозванцах» либо возникающих из небытия, либо заменяющих реальных людей.
Однажды Павел будто бы замечает человека в запрещенных одеждах – круглой шляпе и медвежьей шубе, велит Палену отыскать виновного и дать сто палок. Губернатор прибегает к обычному, как утверждали, приему: хватает некоего лакея и быстро уговаривает за 25 руб. взять все на себя; вскоре императору доложили об исполнении, а высеченный к тому моменту уж был далеко за городской заставой.
В заинтересовавшем Пушкина рассказе П. И. Полетики описывается ситуация столь же колоритная, сколь типичная: «Это было в 1799 или 1800 году. Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха. (…) Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот-ста наш Пугачев едет!» Я, обратись к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего…».
В этом эпизоде любопытен одинаковый страх дворянина и простолюдина перед «Пугачевым» (главный смысл прозвища, очевидно, в глаголе «пугать», с которым народ часто связывал имя великого бутовщика); но мы не можем пройти мимо очевидной параллели, резко обозначающей запутанные узлы разных видов «самозванства»: законный царь Петр III – самозванец Пугачев – новый законный царь Павел и он же Пугачев!
А. М. Тургенев в своих записках приводит анекдоты, где фигурируют не только фиктивные, самозваные личности, но и целая «самозваная битва»: царю приглянулась пригожая прачка, он ее берет во дворец и, желая угодить, назначает в ее честь ночной салют. В городе переполох – нужно срочно объяснить населению такую меру: Безбородко сочиняет не имевшую место победу (благо Суворов постоянно побеждает в Италии). Об этом факте составляется реляция, розданы награды, но впопыхах место битвы нашли не в Италии, а во Франции.
Итак, насмешка, ирония, постоянная готовность примыслить, заострить даже сравнительно нейтральные сюжеты…
Между тем некоторыми дальновидными наблюдателями замечена прямая опасность нараставшего в этих условиях «просвещенного цинизма» – такой насмешливости, которая разъедает и опустошает смеющегося (впрочем, помогая при случае делать любую карьеру). Пример столкновения «старой идейности» и «новой беспринципности» находим в записках И. В. Лопухина: камердинер Павла I, «ближний комнатный человек» (очевидно, Кутайсов), учит уму-разуму благородного правдолюбца Лопухина и советует поторопиться, пока царь не разгневался. «Вы философ, – говорит Кутайсов, – а двора, позвольте сказать, не знаете. Теперь вам случай, я верно знаю, так много получить, как уже никогда не удастся, ежели упустите его. Ленту ли вам надобно, государь тотчас ее наденет на вас, чин также получите. Если же вам надобна тысяча душ или больше, где вам угодно, то я берусь, по подаче вашего письма, вынести вам на то указ и позволю вам сделать со мною, что хотите, ежели того не исполню». Лопухин, отказываясь, отвечал временщику: «Придворные обстоятельства вижу тонее вашего. (…) Когда я сан буду просить увольнения и наград от него [Павла], не заслужа их, то я оправдаю гнев его».
Ярчайшим документом на эту тему является письмо Кочубея С. Воронцову (незадолго до фактического изгнания автора из России – 19 апреля 1799 г.): «Крайний эгоизм овладел всеми. Каждый заботится только о себе, [говоря]: «Нужно будет завтра позаботиться, чтобы мне дали крестьян». С места уходишь с крестьянами, снова поступаешь на место и получаешь новых крестьян. Это хитрость, которая проделывается каждый день. (…) Никто не смеет делать представления».
Признание крупного просвещенного государственного деятеля интересно как самоощущение его слоя: необходим идейный минимум для самосохранения, предотвращения морального распада всего просвещенного сословия.
Это реакция на замещение прежних хозяев новыми, Аракчеевым и Кутайсовым, не менее циничными, чем Потемкин, но лишенными того чувства границы, гарантий, необходимого просвещенного уровня, который соблюдало правительство Екатерины II. Это реакция на замену просвещенного абсолютизма непросвещенным и по существу более безыдейным.
Павловская концепция высокого рыцарства воспринимается теми, к кому она обращена, как извращение этой идейности: «Павел I лишил награду прелести, а наказание – стыда…» Эта мысль повторяется неоднократно.
Мы рассмотрели только один вид сопротивлении Павлу – насмешку. Были и другие. Уже говорилось, что усиление павловского сыска с лихвой компенсировалось недонесением, опасением донести, ибо реакцию Павла невозможно предвидеть…
Следующим, более высоким уровнем сопротивления павловской политике были уже крамольные политические слухи, например о том, что Екатерина II «была отравлена», разговоры о незаконном сокрытии завещания царицы в пользу внука Александра (мы еще увидим, какую роль сыграют позже эти мотивы). Павловская идея, ставившая царя выше закона, сталкивается с мнением об отсутствии у этого царя даже законных прав.
После опасных слухов и смелых мнений еще выше по оппозиционной шкале находим угрозы, более или менее открытое недовольство: враждебные настроения генералов и офицеров замечены еще в 1797 г. саксонским посланником.
Распространеннейшей формой разговора-угрозы была тревога за судьбу России, иногда искренняя, порою лишь маскирующая личные претензии: «Казалось бы, что долг государя, как отца, не огорчать нас. (…). В отечестве всякого рода люди потребны. Ежели властелин и сего не ведает, то горе его народу».
Формулы «горе его народу», «не огорчать нас» хотя и записаны несколько лет спустя, но несут свежий след отношения, предостережения тому, кто огорчает.
Впечатления и разговоры той эпохи воспринимаем и через посредство позднейших воспоминаний острого наблюдателя Ф. Ф. Вигеля: «Вдруг мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым, однако ж, в мундир прусского покроя с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков; Версаль, Иерусалим, Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплины и феодального самоуправления умел он соединить в себе с необузданною властью ханскою и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства».
В этих строках угадываются обломки былой полемики, когда сталкивались доводы «за» и «против» павловской системы. Вигель умело соединяет их в целое, но не находит смягчающих обстоятельств в «европейских» и «рыцарских» чертах.
Насмешки, шепот, пассивное сопротивление неизбежно должны были перерастать в более практические формы.
Для начала сама атмосфера взрыва, террора, заговора породила на разных общественных уровнях многочисленные «предсказания», а у Павла – серьезные опасения «большого переворота».
Еще в 1797 г. (из доноса хорунжего Токаревского) Павлу стало известно изречение секретаря конторы Херсонского адмиралтейского порта: «Россия имеет ум … и бог ведает, может так статься, как с батюшкою».
«Беспокоит меня то, – говорил смоленский губернатор Философов С. А. Тучкову, – что Павел слишком долго царствует, и я опасаюсь, чтоб, насмотревшись его примеров, молодые люди Александр и Константин не остроптивели».
Иностранная путешественница художница Виже-JIебрей, описывая свои российские впечатления 1800 – 1801 гг., утверждала, что «все были уверены в неизбежном восстании».
Мемуаристка, впрочем, записывает задним числом. Так же как и Е. Р. Дашкова, которая, живя в провинции, «не зная почему… вбила себе в голову, что в 1801-м Павла не будет».
Однако архивы сохранили свидетельства, несомненно, появившиеся до событий.
«Эта кутерьма долго существовать не может» (из письма той поры П. И. Салтыкова А. М. Тургеневу).
В уже упоминавшемся деле «О поручике Егоре Кемпене» видим, что выключенный из службы офицер 11 ноября 1799 г. в литовском местечке Румишки наставляет другого выключенного, корнета Матова (еще раз напомним, что выключенный – это не отставленный, а как бы изгнанный). «Выключка скоро лопнет, – объявляет Кемпен, – ибо гадали на кофейной гуще, и вышло… что государю три года быть на царстве, а после того окончить жизнь».
Испуганному собеседнику (который вскоре и донесет на рассказчика) Кемпен будто бы повторял: «Скоро это лопнет. Находютца, брат, такие люди, что его изведут».
Слух, что «изведут», не был изобретением выключенного поручика. В народе ходили неясные слухи, что, так же как Павел убил государыню Екатерину II, так и «Павел со всею своею фамилиею до царевны Елены младой убиты».
Писатель И. И. Дмитриев помнил, как его, в ту пору отставного семеновского капитана, вместе со штабс-капитаном В. И. Лихачевым вдруг схватили, обвиняя в заговоре на жизнь государя. К счастью для арестованных, выяснилось, что царь получил подметное письмо от крепостного человека Лихачева. Последовала сентиментальная сцена: придворные громко клянутся в верности, царь со слезами на глазах хвалит придворных и говорит царице: «Теперь я уверен, что крепко сижу на престоле. Я сейчас получил новую присягу».
По рассказам очевидцев Е. Ф. Комаровского и П. М. Волконского, этот эпизод относится к первым месяцам павловского правления.
Вскоре произойдет еще немало подобных эпизодов, и мы можем теперь понять сложную взаимосвязь ложных тревог, ошибок с реальными опасностями, угрожавшими верховной власти.
Часть II
Глава VIII
Конспирация
Великодушное остервенение…
Подробная история политического заговора, завершившегося государственным переворотом 11 марта 1801 г., важна и интересна, так как помогает увидеть сложные общественно-политические механизмы, позволяет сделать наблюдения над социальной психологией дворянства, чиновников, офицеров, солдат. Последний дворцовый переворот имеет некоторые существенные черты всех прежних заговоров этого рода, но в то же время события 1801 г. сопровождаются и первыми проблесками принципиально иных общественных явлений – тех, что вскоре разгорятся в русском освободительном, революционном движении.
Как уже отмечалось, более ста лет на публикациях об 11 марта лежал запрет: даже Шильдер в 1901 г . не смог напечатать в своем труде собранные им огромные материалы.
В XIX же веке русская эмигрантская печать толковала о «совершенно неизвестном у нас царствовании Павла» (Герцен); о «темном эпизоде русской истории». Крупная либеральная газета (редактируемая видным историком В. А. Бильбасовым) писала по поводу официального искажения прошлого: «Русская история должна пока притворяться, что не знает ничего, кроме того, что сообщают о ней учебники».
Учебные пособия больше столетия сообщали об «апоплексическом ударе», постигшем императора Павла Петровича.
Любопытно, что 11 марта оставалось куда более запретным и загадочным, чем предшествующий переворот (1762 г.), даже чем история декабризма. О свержении Петра III, возможно за давностью лет, довольно подробно писали С. М. Соловьев, затем В. А. Бильбасов, В. О. Ключевский. При этом в самом обширном исследовании были использованы (сверх официальных бумаг) пять записок непосредственных участников события, 16 документов очевидцев (в том числе 13 депеш иностранных послов), наконец, ряд существенных откликов современников, из которых семь датируются 1702 г.
Что касается 11 декабря 1825 г., то заговор молчания здесь оказался втрое короче, чем об 11 марта – исторически куда менее важном событии: ряд декабристов оставил воспоминания, некоторые из них еще дожили до лучших дней и увидели документы и мемуары о своем деле опубликованными – сначала в Вольной печати Герцена, а затем, пусть с цензурными купюрами, и в России. Так или иначе, но, в то время как на павловских днях лежало табу, российский житель располагал мемуарами Якушкина, Пущина, Горбачевского, Бестужевых и другими. Столетний перерыв между событиями 1801 г. и «разрешением» на них означал, что участники не сумели или, точнее, почти не сумели высказаться.
Из десятков мемуарных свидетельств о заговоре против Павла I только два (записки Л. Л. Беннигсека и К. М. Полторацкого) принадлежат непосредственным участникам переворота. Большая же часть рассказов записана людьми, находившимися далеко от дворца, порою даже в других городах, но запомнившими рассказы очевидцев; немало и «свидетелей третьей степени», т. е. тех, кто зафиксировал рассказ лица, в свою очередь пересказывающего версию участника.
По желанию вдовы Павла Марии Федоровны были сожжены в 1828 г . ее дневники, о которых известно, что они велись с 1770-х годов, содержали богатый материал о последних днях Павла и других сюжетах. Как только сходили в могилу важные участники и свидетели событий, власть принимала свои меры. В 1822 г. скончался фаворит Екатерины и один из главных врагов Павла – Платон Зубов. «Наше правительство, – вспоминал декабрист С. Г. Волконский, – следит за всеми, кто пишет записки. (…) Мне известно, что все бумаги после смерти князя Платона Александровича Зубова были по поручению императора Александра взяты посланными для этого генерал-адъютантом Николаем Михайловичем Бороздиным и Павлом Петровичем Сухтеленом и представлены государю. Оба они были в родственной связи с князем Зубовым».
Так же, по всей видимости, исчезли бумаги П. А. Палена.
Правительство Николая I заставило родственников важнейшего заговорщика Л. Л. Беннигсена отдать важные секретные бумаги; вдобавок, вероятно, была сделана попытка похитить то, что не было доставлено в Петербург. Тем не менее в последние годы XIX и начале XX столетия за границей и в России появились серьезные публикации беннигсеновых документов и воспоминаний.
Первые же заграничные публикации о перевороте 1801 г. появляются уже вскоре после события. Наполеон, разъяренный потерей такого союзника, как Павел I, явно инспирирует ряд сочинений, авторы которых пользуются агентурными и другими неофициальными данными. Этот слой литературы особенно плохо изучен; в первой трети XIX столетия такие исследователи, как Ллойд, Цшокке, Биньон, Аллонвиль и другие, часто заимствуя другу у друга одни и те же сведения, тем не менее используют документальные данные, которые оказались забытыми и полузабытыми в капитальных исследованиях и публикациях начала XX в.
Между прочим, большое число западных авторов опиралось в 1820 – 1830-х годах на один и тот же мемуарный документ, иногда появляющийся под названием «Смерть императора Павла. Отрывок из дневника современника». Самая ранняя его публикация зафиксирована в парижском издании «Revue historique» (1820 г.).
Известный французский публицист Ж.-М. Шопен (немало проживший в России как библиотекарь Куракиных) отмечал «осведомленность и смелость неизвестного автора». Шопен колебался, имеет документ русское или иностранное происхождение. Первое обнародование его на русском языке – в «Историческом сборнике Вольной русской типографии» ( 1859 г .) – обнаруживает, что Герцен и Огарев в ту пору не знали о более ранних публикациях текста. Сохранились, однако, списки, предшествующие герценовскому, вероятно доказывающие российское происхождение этого интересного и еще во многом загадочного документа.
Следует выделить ранние заграничные работы о перевороте 1801 г., во-первых, как источник информации для Пушкина, декабристов и их круга: ведь большая часть тех западных брошюр была им известна и определенным образом воздействовала на их представления, почерпнутые из бесед с очевидцами и современниками. Это видно, например, по «Записным книжкам» П. А. Вяземского, запискам А. О. Смирновой-Россет, М. А. Фонвизина и др. Во-вторых, достоинством тех работ является их близость по времени к описываемым событиям, открывавшая авторам такие возможности, которых позже не существовало.
Многие из прямых и косвенных свидетелей также оформляли свои воспоминания, впечатления за пределами России. Не случайно важное место среди подобных мемуаров занимают записки тех иностранцев, которые находилась тогда на русской службе, но позже покинули страну (Коцебу, Чарторыйский, Беннигсен); по происхождению к тем запискам примыкают воспоминания русского генерала II. А. Саблукова, который после 1801 г. постоянно жил в Англии и там написал свои замечательные мемуары. Они были напечатаны уже после его смерти в английском журнале, причем, вероятно, с купюрами.
Лишь небольшое число записок, конечно не без риска, было составлено в пределах России. Таковы, например, воспоминания декабриста М. А. Фонвизина, сочиненные в Сибири, а также записки некоторых важных должностных лиц (Гейкинга, Вельяминова-Зернова). Важнейший источник, основанный на рассказах главных вождей заговора, – записки А. Ф. Ланжерона. Переправленные во Францию, бумаги Ланжерона были использованы А. Тьером во втором томе его известного труда «История консульства и империи». Тьер, признанный европейский авторитет, придал весомость некоторым сведениям, раньше звучавшим легковесно и сомнительно. «История…» Тьера имела много читателей, книга не раз переиздавалась; для следующих поколений, например для Герцена и его круга, уже почти не встречавших прямых свидетелей 1801 г., это была главная печатная версия важного политического события (хотя понятно, что книга публиковалась в России с купюрами, так же как все другие западные издания, касавшиеся подобных сюжетов).
Только после 1905 г . появляется ряд российских публикаций, в том числе два издания (1907 и 1908 гг.) сборника основных мемуаров о заговоре «Цареубийство 11 марта 1801 года».
В советское время история политической борьбы в 1796 – 1801 гг. естественно входит во все общие и специальные курсы о России XVIII – XIX вв., получает дополнительную документальную основу, особенно по части социально-экономической и внешнеполитической. Новых материалов о самом политическом перевороте, однако, почти не обнаруживалось. Источниковедческий, исторический анализ известных мемуарных данных фактически не проводился. Сопоставление опубликованных текстов с архивными слоями также почти не делалось.
Попятно, что проблема переворота 1801 г. лежала как бы на периферии исторических задач, решавшихся советскими специалистами. До поры до времени почти все силы историков общественного движения XVIII – XIX вв. были направлены на разработку таких первостепенных тем, как декабрем и другие этапы русской освободительной борьбы и как народные восстания или главные литературные, философские течения. Некоторое забвение проблем внутренней политики, борьбы за власть между разными влиятельными группировками, однако, угрожало известным историческим «перекосом». Новые, свежие, современно осмысленные данный на одной области исторического знания вступили в какой-то момент в противоречие со старым (порой 70-летней давности!) уровнем освоения «соседних областей».
Разумеется, мы ни в коей мере не считаем предлагаемую в следующих главах историю политических событий 1800 – 1801 гг. достаточно полной, выявленной, исчерпанной: ранние этапы заговора будут представлены довольно сжато, характерные же детали, «анатомия» последнего дворцового переворота подробно разобраны в пределах последних месяцев 1800 и начала 1801 г.
Таким образом, делается попытка известного движения вперед в изучении события, не раз привлекавшего внимание русских мыслителей, писателей, революционеров. События, где видны начала многих начал наступавшего XIX столетия.
Первый заговор
В 1797 – 1799 гг., как это видно и по некоторым опубликованным, но несистематизированным материалам, существовала и развивалась антипавловская конспирация, в которой участвовали наследник Александр, его жена Елизавета Алексеевна, А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцов, П. А. Строганов, В. П. Кочубей; связь с наследником и его друзьями поддерживали Л. А. Безбородко и Д. П. Трощинский в России, бывший учитель наследника Лагарп из-за границы. На своих тайных собраниях эти люди толковали о политических делах в стране, искали наилучших форм для ее переустройства; при этом были составлены два документа: секретный «манифест» о будущем конституционном устройстве России (Чарторыйский в 1797 г.) и записка Безбородки «О потребностях империи Российской» (1798 г.), защищавшая принципы просвещенного абсолютизма.
Потаенные замыслы кружка, возможно, были как-то связаны с беспокойством, несколько раз охватывавшим гвардию в 1797 г.; есть основания думать, что на Александра и его приверженцев ориентировался и известный Смоленский заговор. Именно тайная защита друзей наследника, вероятно, помешала властям докопаться до всех корней смоленского вольнодумства.
Мы далеки от мысли видеть в конспирации 1797 – 1799 гг. сложившееся крепкое «тайное общество»; даже по сохранившимся документам видна разнородность лиц и пестрота формул (от «цареубийственных деклараций» у смоленских заговорщиков до умеренно-конституционных или просветительских формул при дворе). Однако нельзя совсем игнорировать единство действий и намерений у противников Павла. Субъективные их стремления – соединиться, уяснить цели – дополнялись мощными объективными факторами, тем нарастающим духом дворянского сопротивления, который мог легко объединить даже далекие друг от друга очаги и центры.
Однако к 1799 г. первая волна антипавловской конспирации явно идет на убыль. Один за другим попадают в опалу, отставку, высылаются за границу друзья наследника.
Первый заговор против Павла не дал ощутимых результатов. Тем не менее в нем виден зародыш многих будущих событий: во-первых, несомненна преемственность следующей конспирации (1800 – 1801 гг.) с предыдущей; во-вторых, в 1797 – 1799 гг. закладываются важнейшие основы будущей политики Александра I и его «молодых друзей». Нелегальные действия наследника против отца в 1797 – 1799 гг. – довольно весомое опровержение традиционной легенды (едва ли не во всех дореволюционных трудах об Александре I) насчет идеализма неопытного молодого человека, втянутого в заговор якобы против воли.
1799 год – важная веха в тайной истории того царствования.
«Именно с этой поры, – свидетельствует Чарторыйский, – Павла стали преследовать тысячи подозрений: ему казалось, что его сыновья недостаточно ему преданы, что его жена желает царствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к императрице и к его старым слугам. С этого времени началась для всех, кто был близок ко двору, жизнь, полная страха, вечной неуверенности».
Разумеется, и прежде, до этой поры, было им несладко. Но теперь «малые перевороты» почти исчерпаны.
Вероятность большого взрыва нарастает.
Второй заговор
Подробности последних павловских месяцев обсуждались и в то время, и после, рассматривались самими участниками для объяснения и оправдания своей позиции, анализировались учеными, вникавшими в предысторию события, а также политиками, литераторами, просто наблюдателями – порою из интереса, трудно формулируемого, из желания вникнуть в человеческий, общефилософский смысл разыгравшейся драмы; иногда, чтобы представить сюжет, острый, «детективный», где мельчайшие детали кажутся порою не менее выразительными, чем «общий фон».
Миновало лето 1799 г. Блестящие успехи Суворова в Италии сильно подняли авторитет «царя-рыцаря» и одновременно укрепили его самовластные представления.
Жена наследника Елизавета Алексеевна в опале и подозрении (как, впрочем, и царица Мария Федоровна); Чарторыйский выслан, Кочубей, Новосильцов за границей, Безбородко умирает, наследник особенно одинок.
Разные мемуаристы сильно расходятся в подробностях, но почти единодушны, называя с 1800 г. новых заговорщиков: Панин, Жеребцова, Витворт.
Никита Петрович Панин из семьи, чрезвычайно близкой к Павлу-наследнику, сын известного генерала Петра Панина и племянник знаменитого государственного деятеля Никиты Панина. Блестящий, умный дипломат, 29-летний тайный советник, он по прибытии из Берлина осенью 1799 г. получает повышение и становится вице-президентом коллегии иностранных дел (т. е. вторым человеком во внешнеполитическом аппарате империи после «первоприсутствующего» Ростопчина).
Согласно позднейшим сочинениям декабристов (совпадавшим с самооценкой Н. П. Панина), «воспитанный умным и просвещенным дядей, граф II. П. Панин усвоил свободный его образ мыслей, ненавидел деспотизм». Дело, конечно, не в исторической Немезиде, но в высшей степени характерном ходе вещей: Панин-племянник, во многом разделяющий старые взгляды отца и дяди, выступает мстителем за перемену программы Павла-наследника Павлом-царем, за тот отказ от «просвещенных принципов» и конституционных идей, который был вызван французской революцией и другими событиями!
Ольга Александровна Жеребцова, родная сестра фаворита Екатерины II Зубова, была личностью другого свойства: красавица, авантюристка. В 1840-х годах, почти полвека спустя, с ней познакомится А. И. Герцен, которому эта 80-летняя старуха станет сочувствовать и помогать в получении документов на выезд за границу. Они часто встречаются.
Искандеру нравились те черты Жеребцовой, которые выгодно отличали ее от измельчавших младших поколений, – он сравнивает ее со знаменитой княгиней Дашковой. Для 1800 г. ее фигура достаточно типична: и той энергичной целеустремленностью, которой отличался ее мир, и корыстной определенностью цели. В отличие от Панина она представляла партию обделенных, задетых; опала Зубовых лишила этот могучий клан огромных источников дохода и власти, но зато обогатила многообразными мечтами о реванше, которые и вынашиваются в особняке Жеребцовой на Английской набережной (в том самом доме, где первое время жил изгнанный Павлом из дворца опальный фаворит Платон Зубов, где и родственники Ольги Александровны Жеребцовой вскоре послужат заговору).
Наконец, третий участник – английский посол, аккредитованный при петербургском дворе с 1788 г ., опытнейший дипломат лорд Витворт, достаточно надежно связанный с двумя своими партнерами. Его дружеские и интимные отношения с Жеребцовой, столь часто обыгрываемые мемуаристами, подтверждаются, между прочим, поздними депешами русского посла в Лондоне С. Р. Воронцова. Разумеется, Витворт не мог и не хотел включаться в опасную интригу, пока Россия и Англия действовали заодно, против Франции; иное дело, когда осенью 1799 г. коалиция стала явно распадаться и Суворова отзывают домой.
Англия, вероятно, субсидировала заговорщиков.
Возможные дополнительные сведения о субсидиях 1800 г. могут лишь подтвердить существование внешнего фактора во всей истории (как был он и в переворотах 1741, 1762-го), но не уменьшить значения главнейшего, внутреннего мотива: ухудшающихся отношений царя с дворянством.
«Английское золото» – в лучшем случае катализатор, способный ускорить созревшие без него намерения.
Однако еще до охлаждения между Петербургом и Лондоном Витворт замечает (в депеше своему двору от 26 марта 1799 г.), что «Семен Романович Воронцов и Панин – англичане», т. е. сторонники русско-английского союза. Любопытно упоминание в одном контексте двух русских дипломатов: если не с самого начала, то, во всяком случае, очень рано, Семен Воронцов фактически становится «заочным заговорщиком». Из бумаг Воронцовых видно, что еще до приезда Панина в Петербург (конец 1799 г.) существовал важный дружеский треугольник – Витворт, Кочубей, Воронцов – в известном смысле прообраз будущего заговора, так как участник ранней конспирации, 1797 – 1799 гг., тут соединился с деятелями поздней, 1800 – 1801 гг.
Панин заменяет Кочубея в невидимом триумвирате. В конце 1799 – начале 1800 г. было три (а вместе с Воронцовым – четыре) заговорщика. Вскоре их число возрастает: адмирал Иосиф де Рибас, итальянец на русской службе, один из прежних клиентов Зубова, очевидно, привлечен Жеребцовой. «Человеком Панина» был вызванный в Петербург русский посланник в Дании Иван Муравьев (отец будущих декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых-Апостолов).
Наконец, Петр Алексеевич Пален, «ферзь» подготавливаемой игры, пожилой (55 лет), крепкий, веселый человек, мастер выходить из самых запутанных, невозможных положений (о чем рассказывались разные истории еще до 11 марта 1801 г.), знаток той единственной для государственного человека науки, которую сам Пален назовет пфификологией (pfificologie) – от немецкого pfiffig – «пронырливый». Тьер полагал (зная «Записки Ланжерона»), что «Пален принадлежит к тем натурам, которые при регулярном режиме могли бы попасть в число великих граждан, но при режиме деспотическом делаются преступниками».
«Талейран, Фуше, Бернадотт в одном лице», – заметит другой французский историк, А. Сорель.
В архиве Н. К. Шильдера сохранились разные материалы о том, что и Пален был из «клана Зубовых». Среди бумаг Платона Зубова за 1792 – 1793 гг. имеются доверительные письма и прошения Палена по разным делам.
Итак, вольность и жестокость, стремление к важной цели и признание любых средств: Пален был ярчайшим представителем того мощного клана «просвещенных циников», который прежде возглавлялся Екатериной II и Потемкиным.
Довольно рано участники заговора (Панин, Пален) установили тайные контакты с наследником Александром. В. Н. Панин (министр юстиции при Николае I) со слов покойного отца (Н. П. Панипа) сообщил А. Б. Лобанову-Ростовскому, что «его отец встречался с великим князем Александром Павловичем в коридорах Зимнего дворца».
Из этого рассказа Лобанов-Ростовский делал вывод, будто свидания Панина с Александром не могли быть ранее ноября 1800 г., так как двор переехал из Гатчины в Петербург только 1 ноября 1800 г. Однако первые встречи могли быть и до отъезда царской фамилии за город, состоявшегося (как это видно по камер-фурьерскому журналу) 14 мая 1800 г.
Наследник колебался, но Панин и Пален воздействовали на него доводами о «страдающем отечестве», о необходимых переменах, о важности предотвращения другой, возможной, но не контролируемой ими конспирации.
Александр, по словам Палена, «знал – и не хотел знать».
Чарторыйский же намекает на сокровеннейшую мысль патрона – остаться в стороне (запись сделана польским князем на основе неоднократных бесед с царем Александром I о событиях 11 марта). По мнению мемуариста, мстительная обида Александра на Палена, Панина и Зубовых была порождена тем, что они не обошлись без него, не выдвинули Брута, о котором бы наследник «ничего не знал». «Но такой образ действий был почти немыслим и требовал от заговорщиков или безответной отваги, или античной доблести, на что едва ли были способны деятели этой эпохи».
«Деятели этой эпохи…» Как не вспомнить Рылеева, который вскоре упрекнет «переродившегося славянина», что в нем не найти «ни Брута, ни Риэги»! Пройдет несколько десятилетий, и декабристы будут готовы к жертве, отваге, доблести, и не найдется недостатка в желающих… Но это – деятели другой эпохи.
Весна 1800 года
Между тем внутренние и внешние события беспрерывно обостряли ситуацию.
Павел и его канцлер Ростопчин быстро шли на сближение с Францией и разрыв с Англией. Нам теперь, с расстояния почти двух веков, не кажется абсолютной уверенность Панина и Воронцова, будто союз с Наполеоном был для России столь «губителен». Ростопчин разрабатывал для Павла теории относительного невмешательства России и европейские дела: нечто вроде Тильзитского размежевания, но без предшествовавшего Тильзиту военного поражения российской армии. Происходит выбор: либо война с Францией в Европе, либо столкновение с Англией на Балтике, на Востоке; вторая система выглядела для России менее кровопролитной, хотя страна была немало заинтересована в английском рынке, хотя наполеоновские планы мирового господства со временем все равно привели бы к войне с Россией.
Не стоит фантазировать: приведенные рассуждения нужны, собственно говоря, для двух выводов. Новая внешняя политика вовсе не была столь «безумной» в «нелепой», как это изображали противники ее в ту пору и после. Российское дворянство было заинтересовано в продаже леса и хлеба британцам, но этот фактор не следует преувеличивать. Моряк-декабрист вспомнит позже о патриотическом одушевлении молодежи в восторженном ожидании «сразиться с Джеками».
Во всяком случае, мы не знаем о чувствах вроде тех, что резко проявились в 1702 г. (нежеланно воевать с Данией, антипатия к Пруссии), вроде патриотического негодования после Тильзитского мира, в 1807 – 1812 гг.
И другое обстоятельство: крайне любопытна быстрая реакция Павла на перемены во Франции (очевидно, сыграл роль хитроумный Ростопчин!). «Он делает дела, и с ним можно иметь дело», – говорит Павел о новом французском диктаторе, говорит вскоре после «18 брюмера», ранее других, – понимает разницу между якобинской Францией и консульством.
Этот трезвый, не затемненный инерцией прежних лет взгляд на события – характерная черта павловского мышления; по той же логике, по которой отбрасывались второстепенные различия между церквами (главное – покорность, верноподданность), сейчас игнорируются формальные соображения; Наполеон рассматривается не по форме (консул или король), а по сути, в связи с тем главным, чем Павел мерит все явления, – характер власти, степень самовластия.
В этой сложной, быстро накалявшейся обстановке заговорщики приобретают сторонников, но притом и терпят немалый урон. Депеша Витворта своему кабинету от 18 марта 1800 г. перехвачена людьми Павла I. Прочитав слова, что «император буквально не в своем уме», царь вскоре высылает Витворта, и отношения с Англией фактически разорваны. Отозван со своей должности посла в Лондоне и Семен Воронцов; с большим трудом (уговорив Павла, что того требует здоровье) ему удается остаться в Англии «частным лицом» и продолжить заграничную конспиративную деятельность.
Вместе с тем два эпизода резко обостряют дворянскую неприязнь к самодержцу.
2 мая 1800 г. за резкие слова по поводу ордена св. Анны (носящего имя возлюбленной царя Анны Лопухиной-Гагариной) штабс-капитан Кирпичников получил 1000 палок.
Современники полагали, что этот исключительный даже по тем временам акт сыграл немалую моральную роль в предыстории заговора. В нескольких воспоминаниях история Кирпичникова представлена как оправдание заговорщиков. «Строже сего приказа, – замечает современник, – не было ни одного в царствовании Павла. Сие обстоятельство имело влияние на то событие, которое прекратило его правление».
Дворянство, офицерство увидели здесь признаки дальнейшего урезывания и личных свобод.
«Сегодня – 1000 палок, завтра – прольется кровь».
Был и другой эпизод – более значительный и много сильнее прозвучавший, чем первый.
Прощание с Суворовым
Общеизвестно унижение, которому подверг А. В. Суворова ревнивый к славе Павел. Царская немилость, очевидная еще за месяц до возвращения полководца, была раскалена эпизодом, записанным Н. И. Гречем: «Прошка! – будто бы обратился Суворов к слуге в тот момент, когда прибыл посланец царя граф Кутайсов. – Ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином».
В камер-фурьерском журнале 9 мая 1800 г. не отмечалось какой-либо почести, отданной царем умершему полководцу. Меж тем похороны генералиссимуса всколыхнули национальные чувства. Греч, которому в этом случае можно верить, вспоминает, как 14-летним мальчиком поехал с отцом, чтобы проститься с Суворовым. «Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова. (…) Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте, принадлежавшего потом Д. Е. Бенардаки. Перед ним несли двадцать орденов. (…) За гробом шли три жалких гарнизонных баталиона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России».
А. С. Шишков помнил, как многие, опасаясь царской немилости, не осмелились попрощаться с Суворовым, – и тем удивительнее, что «все улицы, по которым его везли, усеяны были людьми. Все балконы и даже крыши домов заполнены печальными и плачущими зрителями».
Державин, вернувшись с похорон, пишет замечательное стихотворение:
Снигирь
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиенну?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить па кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян все побеждать?
Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом,
Скиптры давая, зваться рабом,
Доблестей быв страдалец единый,
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! – что воевать?
Оппозиционный дух стихов несомненен. Единственность Суворова, невосполнимость потери противопоставлена павловскому пренебрежению к «лицу» (произнесший однажды «у меня все безбородки» мог бы так же сказать и о Суворовых).
«Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?»
Не обойдена и обида, бесчестье полководцу, который дает «скиптры» и зовется «рабом»; «страдалец», изнуряющий себя «для царей» и не имеющий должной награды…
Современница утверждает, что, «когда отпевание Суворова было окончено, следовало отнести гроб наверх; однако лестница, которая вела туда, оказалась узкой. Старались обойти это неудобство, но гренадеры, служившие под начальством Суворова, взяли гроб, поставили его себе на головы и, воскликнув: «Суворов везде пройдет», отнесли его в назначенное место».
Это были первые в новой русской истории похороны, имевшие подобный смысл: отсюда начинается серия особых прощаний русского общества с лучшими своими людьми (Пушкин, Добролюбов, Тургенев, Толстой…) – похороны, превращающиеся в оппозиционные демонстрации, выражение чувств личного, национального, политического достоинства. Павел, казалось бы столь щепетильный к вопросам чести, национальной славы, совершенно не замечает, не хочет замечать того, что выражают петербургские проводы Суворова: той степени национальной просвещенной зрелости, которой достигло русское общество…
Может создаться впечатление, будто мы завышаем общественный, исторический смысл этого события: обычно при анализе его подчеркивается тема обиды, массового сочувствия полководцу, но, пожалуй, почти не замечается новый – уже характерный для XIX в. – тип общественного, хотя и еще весьма ограниченного протеста. Если бы в России 1800 г. существовало последовательное, развивающееся освободительное движение, то подобные похороны полководца вошли бы в предание, в традицию, «сагу» этой борьбы (как будет, например, с громкими, «преддекабристскими» похоронами Чернова в 1825 г., с общественным сочувствием опальному Ермолову). Но русское общество в последний год XVIII в. еще не совсем понимает, сколь оно созрело: субъективно оно только выражает свое отношение к важному историческому факту, но объективно высказывается уже насчет общих, существенных проблем своей судьбы…
Грозные похороны Суворова были, таким образом, симптомом приближающихся событий 1801 г. и в известном смысле «предчувствием» 1812 г.
Проекты
По отдельным крохам, косвенным рассказам мемуаристов восстанавливаем планы заговора, определившиеся к весне 1800 г., но по сути не оставившие никаких документальных следов.
Первый пункт, на котором сходились Пален, Папин и Рибас, – устранение Павла.
Пален с редкой откровенностью объяснит Ланжерону четыре года спустя: «Я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово, [ … ] я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу, и губернии».
Серьезные расхождения Папина и Палена в средствах не противоречили тому, что, по-видимому, оба считали ситуацию удобной и необходимой для введения конституции; однако Панин видел способ в регентстве, а Пален – в уничтожении Павла I. Более того, Панин позже будет намекать, что арестованный Павел дал бы лучший повод для хартии (т. е. определенного ограничения царской власти, регентского совета), лучший, нежели царь убитый и замененный другим, «хорошим» и оттого «не нуждающимся» в конституционном ограничении…
Вопрос столь же важный, сколь и темный.
То, что не сбылось, имеет, естественно, немалый исторический интерес как одна из возможностей, как тенденция, как признак существования некой силы, определенного мнения, пусть и непобедившего…
Ту часть потаенных бесед, которая касается средств, мы «слышим» особенно худо. Знаем только некоторые подробности.
Александр медлит, проявляет нерешительность, но разговоры о регентстве и спасении отечества явно поддерживает.
Будущий самодержец благосклонно принимает и конституционные мотивы.
В 1800 – 1801 гг. российские конституционные идеи выдвигаются не впервые, однако при особых обстоятельствах; дело происходит вскоре после Великой французской революции, после крушения одной из самых импозантных абсолютистских систем.
Чем же Панин, Пален, Александр собирались ограничить самовластие в 1800 г.?
Обсуждалась (как видно из рассказа Беннигсена своему племяннику) роль Сената, который «как представитель всего народа сумеет склонить императора (к регентству) без всякого со стороны великого князя участия в этом деле».
Взаимные противоречия оставались, конечно, обоюдной тайной Панина и Палена. Более того, генерал-губернатор понял, что именно Панин с его нереалистическими идеями найдет нужные слова для воздействия на наследника; разговаривая с Александром, Пален, разумеется, ни разу не нарушит внешнего единства с вице-канцлером.
О «конституционных собеседованиях» 1800 – 1801 гг., столь интересных для историка русской общественной мысли, осталось в сущности несколько скудных, не очень выразительных слов. Тем внимательнее мы приглядываемся, например, к строкам из записок Головиной, сообщающих неизвестную подробность: «Пален добился для великого князя согласия – навести справки, каким образом [ … ] отречение производилось в других странах. Тогда у графа Панина начались собрания посланников. Графу Толстому было поручено спросить их».
Понятно, Пален и Панин могли поощрять Александра (и Елисавету) рассказами о совещаниях послов, но сами вряд ли решились бы на столь рискованные сборища и столь неосторожные разговоры… Но любопытно, что именно от графа П. А. Толстого декабрист М. А. Фонвизин слышал «одно важное обстоятельство, малоизвестное, но которое он, будучи тогда в Петербурге, мог знать по своим близким сношениям с главными заговорщиками. Акт конституционный [ …] опять здесь является на сцену, может быть с некоторыми модификациями. Папин, Пален и другие вожди заговора хотели воспользоваться им, чтобы ограничить самодержавие, заставя Александра в первую минуту принять этот конституционный акт и утвердить его своею подписью».
К сожалению, почти совершенно неизвестно, каков был характер конституционных идей Панина, насколько он руководствовался старыми принципами своего дяди, отца и Д. И. Фонвизина (политические права одному дворянству, выборность Сената и местных учреждений, в перспективе – отмена крепостного права).
Присутствие Сената в планах младшего Панина как будто подтверждает преемственность, отмеченную Фонвизиным-декабристом.
С. А. Тучков, познакомившись с Н. П. Паниным в Смоленске в 1807 г ., запомнил подробности, как Александр «дал Панину честное слово, что коль скоро вступит на престол, то непременно подпишет сию конституцию. Сочинение было кончено».
Наконец, А. С. Пушкин записал рассказ И. И. Дмитриева об участии близкого к Панину И. М. Муравьева в конституционных замыслах 1800 – 1801 гг.
Лето – осень 1800 года
К осени 1800 г. дело зашло далеко. Заговор едва не погиб, когда (по словам Палена) царь чуть не обнаружил у него конспиративную записку Панина к наследнику; в серьезную «мужскую интригу» вторгается прекрасная агентка Наполеона некая госпожа Бонейль (другой платной шпионкой Франции была актриса Шевалье – влиятельная фаворитка Кутайсова и Павла). Близость «красотки Бонейль» с Ростопчиным и одновременно с Паниным, судя по французским источникам, помогла компрометации Панина и тем облегчила русско-французский альянс.
Временный перевод Палена в армию и замена его Н. С. Свечиным на посту столичного генерал-губернатора тоже сильно осложнили позиции заговорщиков. Однако со Свечиным сумели сговориться. Отставка его последовала 21 октября 1800 г. В конце октября 1800 г. Пален, осыпанный милостями, возвращается на пост хозяина столицы. То был очевидный успех заговорщиков в их нелегкой игре.
Город меж тем все больше превращается в тревожное осажденное место; город, где завершаются последние – на несколько миллионов золотых рублей – строительные работы в Михайловском замке-гробнице…
1 ноября 1800 г. Павел возвращается в Петербург на зиму. 15 ноября из Царского Села прибывает по два эскадрона конногвардейского и лейб-гусарского полков. Почти вся гвардия в столице. Действующие лица занимают свои места. Трагедия вступает в решающую стадию. Каждый день все опаснее для монарха. И все рискованнее для заговорщиков.
Глава IX
Конец года и века
Не внемлют! – Видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
1800 году и XVIII веку оставались последние месяцы. Тяжелая, мокрая осень. «И погода какая-то темная, нудная, – пишет один из современников. – По неделям солнца не видно, не хочется из дому выйти, да и небезопасно… Кажется, и бог от нас отступился». Плац-парады, фельдъегери, аресты, разжалования. «На больших столичных улицах установлены рогатки; позже девяти вечера, после пробития зори, имеют право ходить по городу только врачи и повивальные бабки. 28 октября издан приказ об аресте 1043 матросов на задержанных в русских портах английских судах. Англия позже исчислит нанесенные ей убытки в 4 млн. руб.
Ростопчин сочиняет для Павла в противовес Панину головокружительный план будущего устройства европейских дел, и 2 октября этот план «высочайше апробован». «Дай бог, – пишет царь, – чтоб по сему было!» Основная идея: Россия и бонапартовская Франция объединяются и вершат все европейские и азиатские дела. О главном противнике, Англии, Ростопчин нашел столь сильные выражения, что Павел на полях откомментировал: «Мастерски писано!» Британский кабинет обвинен и в том, что он «вооружил угрозами, хитростью и деньгами все державы против Франции». Павел на полях: «И нас грешных», Резко критикуется Австрия за ее политические маневры во время похода Суворова и за «потерю цели» своей политики. Павел: «Чего захотел от слепой курицы!»
Перечисляя выгоды от союза с Францией, министр предлагает раздел Оттоманской империи, которая названа «безнадежно больной» (позже этот термин, как известно, употреблялся Николаем I и его дипломатами).
Зная идеалы своего суверена, Ростопчин завершает свой мемориал возвышенной фразой: «Если творец мира, с давних времен хранящий под покровом своим царство Российское и славу его, благословит и предприятие сие, тогда Россия и XIX век достойно возгордятся царствованием вашего императорского величества, соединившего воедино престолы Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй света».
Павел был очень доволен, но, помня постоянно о «неблагодарности рода людского», написал по поводу финала записки: «А меня все-таки бранить станут».
Нелегко анализировать этот удивительный документ (некоторые оценки будут предложены позже). Пока же заметим только, что в нем соединяются самые утопические планы с весьма реалистическими; между прочим, предсказаны многие события XIX в. – восточный вопрос, балканская проблема, объединение Германии.
Цели, однако, не соотнесены со средствами. Ведь именно идеи этой записки в конце концов стимулируют заговор.
Бурям, бушующим над столицей и миром, контрастно противостоит тишина, «идиллия», начинающаяся едва ли не за петербургской заставой; тот, кто был вытолкнут туда, думал уже совсем об иных вещах. Так, второй раз изгнанный со службы Аракчеев собственноручно заполняет в своем Грузине «Настольную книгу»; в те самые дни, когда уезжает Витворт, отчаивается Панин, открываются невиданные политические дали Ростопчину – в эти самые дни…
«1800 год.
20 апреля. Слита одна бутылка смородиновки и подслащена.
Вишни 8 бутылок с половиной. А сахару положено было 4 фунта ; из оных разбито две бутылки.
21 апреля. Изрублена сахарная голова.
Начал я сок березовый пить.
23 апреля. Люди и мальчики сели обедать на мызе под смотрением Настасьи.
Мая 12. Павлины выпущены в сад. Хмель посажен. Получено от головы свадебного масла 2,5 пуда, которое поступило к Настасье.
Мая 13. Получено денег с трех крестьян с каждого на половину рекрута по 350 рублей, а всего 1050 рублей, которые и отданы Агафону для дров.
16 мая. Отправлена барка с дровами в Петербурх, на коей 280 сажен.
21 июня. Писано к Антону остерегаться от Егора Иванова.
Октября 4. Изрублена сахару голова – 14 фунтов .
Ноября 9. Изрублена сахару голова – 14 фунтов . Оного числа стал совсем Волхов и был мороз 9 градусов».
Но, конечно, Аракчеев поглядывает на дорогу, дожидаясь, не зазвенит ли колокольчик, не позовет ли император.
Бывший посол Семен Воронцов, задержавшийся под предлогом болезни в Англии, с которой Россия вот-вот начнет военные действия, в отчаянии. Переписываясь с другим русским полуэмигрантом, вчерашним заговорщиком и будущим видным деятелем александровского царствования, Н. Н. Новосильцовым, Воронцов соблюдает строгую конспирацию, лимонный сок вместо чернил и т. п. Даже на английской почте он боится агентуры Павла и Ростопчина.
Письмо Воронцова Новосильцову от 5 февраля 1801 г. (отражающее состояние российских дел с запозданием на несколько недель) требует внимательного, «медленного чтения» и разгадывания того, что за строкой: «Это верно, что нельзя терять надежду; но до известного предела – то есть до тех пор, пока у меня остаются разумные доводы в пользу ожидаемых перемен. Но когда при всей необходимости и легкости перемен они не наступают – то из этого следует, что существует некий коренной порок, которого мы не видим и который нам противостоит».
По-видимому, Новосильцов и Воронцов не без оснований все время ожидают решительных перемен: конечно, знают о заговоре от Витворта, Панина; получая определенно окрашенную, одностороннюю информацию о «безумствах» Павла, они не понимают, как и чем царь еще держится. «Мы на судне, – продолжает Воронцов, – капитан которого и экипаж составляют нацию, чей язык нам не знаком. У меня морская болезнь, и я не могу встать с постели. Вы приходите, чтобы мне объявить, что ураган крепчает и судно гибнет, ибо капитан сошел с ума, избивая экипаж, в котором более 30 человек, не смеющих противиться его выходкам, так как он уже бросил одного матроса в море и убил другого. Я думаю, что судно погибнет; но Вы говорите, что есть надежда на спасение, так как первый помощник капитана – молодой человек, рассудительный и мягкий, который пользуется доверием экипажа. Я Вас заклинаю вернуться наверх и представить молодому человеку и матросам, что им следует спасать судно, часть которого (так же как и часть груза) принадлежит молодому человеку, что их 30 против одного и что смешно бояться смерти от руки сумасшедшего капитана, когда вскоре все и он сам утонут из-за этого безумия. Вы мне отвечаете, что, не зная языка, Вы не можете с ним говорить, что Вы отправляетесь наверх, чтобы видеть, что происходит. Вы возвращаетесь ко мне, чтобы объявить, что опасность увеличивается, так как сумасшедший по-прежнему управляет, но что Вы по-прежнему надеетесь. Прощайте! Вы счастливы более меня, мой друг, так как я более не имею надежды».
Отметим ожидание, знание, кто во главе, мысли об изоляции царя (число «30 против одного» может быть случайно, но, как увидим, отражает соотношение сил: в ночь переворота несколько десятков заговорщиков действует против одного Павла).
Воронцов, как видим, удивлен, что его собеседник еще не утратил надежды; оптимизм же Новосильцова, вероятно, питается какими-то особыми источниками: наследник прислал нечто обнадеживающее своему другу – тому, с кем откровенно беседовал в 1797 г. о будущих переменах, кого отправил за границу, отчасти для сохранения тайных связей.
Конец 1800 года…
Возможно, многие рассказы о тех днях родились задним числом. Однако в обстановке таинственности, страха, безгласности «неистовые слухи» всюду и обо всем.
Прежде вдруг являлись слухи о поражении Суворова, теперь же – «о гибели Кронштадта», о намерении Павла Петровича отдать Грузию мальтийским кавалерам.
Пален со своей стороны следит за каждым шагом императора, пользуясь, между прочим, болтливой откровенностью царской «прекрасной дамы» – Анны Петровны Лопухиной: ее родная сестра – невестка Жеребцовой, последняя же умеет плести интригу.
Но вот явный успех правящих в этой тайной, напряженной игре: петербургской полиции удалось подкупить лакея прусского посла графа Лузи, и в ноябре 1800 г. на стол Павла попадает копия депеши, адресованной берлинскому кабинету, – разные подробности, невыгодно представляющие русское эмбарго на английские товары. Иностранный посол может столь о многом знать либо от Панина, либо от Ростопчина. Последний, конечно, «вне подозрений», и вот уже под одного из главных заговорщиков идет мина…
Вскоре после того в секретном «симпатическом» письме послу Крюденеру в Берлин Панин предупреждает, что хотя Лузи пишет шифром, но у правительства «имеется ключ». Вице-канцлер ожидает опалы и, по-видимому, передает свои связи и явки верному Ивану Муравьеву.
С другой стороны, на опасного и мощного Ростопчина незримо наступает Пален, настраивая на свой лад еще более сильную придворную фигуру – Кутайсова.
Тонкий психолог Пален угадывает в Кутайсове ценнейшего союзника, ибо вчерашний брадобрей олицетворял для Павла идеальное послушание, исполнение, дружбу и, стало быть, пользовался максимальным доверием. Если другие верные Павлу государственные тузы подлежали нейтрализации, то Кутайсова готовили к роли слепого орудия заговора.
Именно Кутайсов помог осуществить осенью 1800 г. очень важную и хорошо продуманную паленскую комбинацию. Впрочем, ее авторами осведомленные мемуаристы считали также и Рибаса.
Несколько современников, расходясь в подробностях, сходятся в основном: заговорщики поставили целью усилить свою партию возвращением в столицу последнего фаворита Екатерины II и его братьев. Для этого Платон Зубов сватается к дочери Кутайсова, Марии Ивановне. Отцу лестно «сродниться с такою знатною фамилиею», и он ходатайствует перед Павлом.
Сама Жеребцова, не вдаваясь в подробности, утверждала, будто для возвращения братьев пришлось дать Кутайсову 200 тыс. червонцев. Посредницей была госпожа Шевалье. Передавали остроту самого Павла, который якобы сказал о желании Зубова «породниться с Кутайсовым», что это – «единственная разумная идея в его жизни».
На самом деле подкуп Кутайсова и Шевалье был только одним из элементов плана. Возможно, Пален хотел «растворить» слишком подозрительное явление Зубовых в других актах царского милосердия; он постоянно искал новых выгод для заговора. Так или иначе, но было использовано рыцарское великодушие, регулярно сменявшее у Павла периоды жестокой подозрительности; была использована и суеверная радость в связи с приближением 7 ноября 1800 г., четвертой годовщины правления, после которой (согласно предсказаниям) царю «нечего опасаться». Последовал указ от 1 ноября: «Всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключенным, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, паки вступить в оную, с тем чтобы таковые явились в Санкт-Петербург для личного представления нам». В тот же день милость была распространена и на статских чиновников.
Один из заговорщиков через несколько месяцев так опишет коснувшееся его событие (о котором он имел информацию самого Палена): «Можно себе представить, какая явилась толпа этих несчастных. Первые были приняты на службу без разбора, но вскоре число, их возросло до такой степени, что Павел не знал, что с ними делать».
Рассказ самого Палена, записанный Ланжероном, не противоречит только что приведенному, но куда более откровенно сообщает мотивы и способы дела: «Я обеспечил себе два важных пункта: 1) заполучил Беннигсена и Зубовых, необходимых мне, и 2) еще усилил общее ожесточение против императора.(…) Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих; он перестал принимать их, затем стал просто гнать и тем нажил себе непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать с голоду у ворот Петербурга». «Какая адская махинация», – комментировал Ланжерон собственную запись.
Возможно, правда, что весь расчет стал выглядеть столь эффектным уже задним числом: на первых порах Пален еще не мог учесть всего, что произойдет. Но так или иначе в течение последних месяцев 1800 г. весть о «первом ноября», о царской милости распространяется в самых дальних краях и приводит в движение немалое число отставных и выключенных.
Зубовы были несомненно вовремя предупреждены, ибо очень быстро написали на высочайшее имя о своем желании воспользоваться прощением.
17 ноября Платон Зубов, ссылаясь на указ от 1 ноября, просился «на верноподданническую службу государю, побуждаясь усердием и ревностью посвятить Ему все дни жизни и до последней капли крови своей». Фразы эти сильно выходят за рамки обычных уничижительных формул. Впрочем, слов не жалели. Подобные же прошения поданы Николаем и Валерианом Зубовыми.
Милости, выпрашиваемые заговорщиками, даруются: 23 ноября Платон Зубов возвращен и назначен директором 1-го кадетского корпуса. 1 декабря Николай Зубов получил высокую должность шефа Сумского гусарского полка. С 6 декабря Валериан Зубов во главе 2-го кадетского корпуса. В те же дни датский посол Розенкранц докладывал своему правительству, что князь Платон «встречен государем хорошо».
Николая Зубова с этих пор постоянно приглашают на приемы во дворец: Павел, очевидно, расположен к человеку, который первым известил его об апоплексическом ударе Екатерины II (и первым нанесет удар в роковую ночь 11 марта).
Князя Платона, как слишком уж видное лицо прошлого царствования, держат на известном отдалении, однако и он лично представлялся – перед царем проходит буквально парад будущих убийц.
Ланжерон несколько наивно комментировал стремление главы заговора заполучить дельных помощников – Зубовых и Беннигсена: «Насчет Беннигсена и Валериана Зубова Пален прав; Николай же был бык, который мог быть отважным в пьяном виде, но не иначе, а Платон Зубов был самым трусливым и низким из людей».
Однако дело было прежде всего в имени, в клане. Слишком много значил князь Зубов прежде; денежные, дружеские, феодально-патриархальные связи семьи Зубовых дополнялись и самим фактом возможного появления в заговоре братьев Зубовых, важных генералов, иэвестных многим солдатам, – к тому же высоких, видных, зычных. Все имело значение в конкретной боевой обстановке!
Что Зубовы «задрожат» в ответственный момент, Пален догадывался, но именно потому с первого для после амнистии бомбардировал письмами другого намеченного им соратника – Беннигсена. Эти письма произвели свое впечатление в литовском уединении, где 55-летний генерал, как ему казалось, доживал опальные дни в бесконечных тяжбах, изыскивая средства для воспитания пяти детей от трех браков и не подозревая, что главные события его биографии еще впереди.
Кандидатура Беннигсена была одобрена Зубовым. Хорошо изучивший бумаги Беннигсена, немецкий историк Бернгарди утверждал, что важную роль сыграло также «близкое знакомство генерала с Паниным».
Под покровом указа от 1 ноября вызываются нужные люди… Среди прочих вернулись Куракины, усиливая кружок вокруг императрицы, но и это обстоятельство, как увидим, будет учтено, использовано генерал-губернатором.
Впрочем, Пален недолго радовался своему успеху – прибытию Зубовых, недовольству других возвращенных. Противная сторона, немногое знавшая, но кое-что подозревавшая, в эти же ноябрьские дни предпринимает сильнейший контрудар.
Удаление Панина
2 ноября, на другой день после амнистии, Пален на обычном утреннем докладе спрошен царем насчет Панина; пройдет три месяца, и 16 февраля 1801 г. рассказ об этой беседе и последующих событиях по своим тайным каналам передаст в Лондон, Воронцову, верный панинский помощник И. М. Муравьев-Апостол: «Генерал Пален, чьи связи с графом Паниным не остались незамеченными сувереном, вошел в кабинет императора, и первым вопросом его величества было; видел ли Пален Панина и весел ли тот?
Я видел Панина, отвечал военный губернатор; но я его не нашел веселым. Ваше величество может быть уверенным, что тому, кто имел несчастье навлечь на себя вашу немилость, не придет в голову веселиться.
– Он римлянин, – сказал император. – Ему все равно».
Эту беседу, где Пален, естественно, чувствует себя как на бочке с порохом, предваряли острые события, явно инспирированные главным противником – Ростопчиным.
Немилость царя была, очевидно, результатом перехваченных депеш прусского посла. Ростопчин же, чтобы сообщить Панину о царском гневе, выбрал момент очень точно, когда вице-канцлер уже не мог отменить официального обеда с иностранными дипломатами. Итак, Панину объявлено «царское неблаговоление», а он «весело» обедает с послами; сам этот факт ловко обработан Ростопчиным, доложен Павлу и еще раз поставлен Панину в вину – «ему все равно, он римлянин».
Итак, утром 2 ноября Павел продолжает обвинять Панина, а Пален пытается, не раскрываясь, защитить союзника. Царь находит три недостатка у Панина: «педантичность, систематичность, методичность». Пален: «Не разбираюсь в политике: дело солдата – драться. Но слыхал, что метод и система совсем небесполезны в делах!» Император перебил Палена и спросил, намерен ли Панин теперь давать бал?
«Я не знаю, – отвечал губернатор, – но мне кажется, что Панин не мечтает ни танцевать, ни видеть танцующих.
– Ему все равно, – воскликнул император, – он римлянин».
Проходит несколько дней, и становится ясно, что политические дни Панина сочтены.
Генерал-губернатор и вице-канцлер спешно договариваются о плане действий: Пален знает, что готовится перевод Папина в московский сенат, и, рискуя навлечь новые подозрения, во время очередного доклада царю, 14 или 15 ноября, все же просит, чтобы опальному дипломату было разрешено «задержаться здесь в течение трех или четырех месяцев, пока не родит его жена».
Софья Панина родит сына Виктора (будущего министра юстиции) 1 марта 1801 г.; Пален стремится использовать повод для того, чтобы его гражданский коллега по заговору задержался в столице, явно надеясь, что за 3 – 4 месяца удастся совершить переворот.
Царь сначала соглашается на просьбу Палена, и 15 ноября было просто объявлено: «…вице-канцлеру Панину присутствовать в Правительствующем сенате», в иностранной коллегии его заменит С. А. Колычев. Впрочем Ростопчин не дремлет и находит еще какой-то повод для увеличения опалы. Не проходит, однако, и трех дней, как Панину предписано покинуть столицу. Муравьев-Апостол сообщит Воронцову, что Панин «с отвращением» отнесся к предложению (вероятно, Палена) просить о помощи фаворитку Гагарину, а «император не желал слышать о графе Панине». Жена попавшего в немилость сановника с трудом добивается разрешения поселиться в Петровско-Разумовском, близ Москвы.
Панин уезжает, успев 17 ноября написать симпатическими чернилами письмо Крюденеру в Берлин, умоляя посланника (как прежде Воронцова) «остаться на службе и не терять мужества». За этими строками и ожидание решающих перемен, и стремление сохранить дипломатические конспиративные каналы для заговора…
Казалось, теперь для одного из главных противников Павла была невозможна какая бы то ни было роль в заговоре, и тем не менее 30 декабря 1800 г. в послании к еще не выехавшей из столицы жене (отправлено Паниным по почте и, конечно, зарегистрировано людьми Ростопчина – Головина), по всей видимости, включена конспиративная фраза: «Господин Муравьев вспомнит, вероятно, то, что я ему говорил по поводу моего экипажа, заказанного в Лондоне; я прошу его уладить это дело».
Панин знал о тайной переписке И. М. Муравьева с Воронцовым, и отправка «экипажа» означает, вероятно, передачу какого-то шифрованного известия в Англию. Муравьев-Апостол помогает опальному шефу, как бы представляя его в заговоре.
Падение Панина ослабило, но не ликвидировало международные связи заговорщиков. Уход его был более важен в другом отношении: состав участников предполагаемого дела становился все более однородным, более практическим, «циничным»; благородно-сентиментальные краски переворота сильно блекнут.
Однако ноябрь 1800 г. оказался крайне неблагоприятным для заговора и по другой причине. Вслед за потерей Панина неожиданная угроза в связи с Рибасом.
Де Рибас
В уже упомянутой записи Пушкина за И. И. Дмитриевым содержалось любопытное утверждение престарелого писателя и бывшего министра: «План конституции и заговора начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла».
Итак, конец ноября 1800 г. Панин уже отставлен, а Зубовы еще не прибыли, когда разворачиваются следующие события. Кушелев, командующий флотом и один из безусловно преданных Павлу деятелей, тяжело заболевает. Докладчиком по морским делам, т. е. фактически исполняющим обязанности морского министра, делается Рибас (возможно, не без участия Палена). Однако через несколько дней, 2 декабря 1800 г., один из первых заговорщиков умирает на 50-м году жизни.
Это обстоятельство обросло позже подробностями и фантазиями (например, о том, что Рибас должен был заколоть царя отравленным стилетом, но вдруг захворал, а в предсмертном бреду покаялся…).
Куда менее фантастическим представляется рассказ о Рибасе историка, располагавшего в начале XX в. какими-то данными, неизвестными по другим источникам: «Ловкость докладчика, его уверенность в счастливом исходе войны (с Англией) и сделанные им предположения об обороне Кронштадта очень понравились Павлу, и он тотчас же начал оказывать ему благоволение; говорили, что коварный Рибас, польщенный этим, думал уже открыть императору планы заговорщиков».
Действительно, заговор в критической точке: Панин удален, а тут карьера сама идет в руки аморального авантюриста. Далее легенда-версия утверждает, будто Рибаса отравили накануне важных признаний: «Есть известие, что [Рибасу] было подано «по ошибке» вредное лекарство», и Пален неотлучно находится при умирающем, чтобы «не дать ему проговориться даже на исповеди».
Так или иначе, но со сцены сходит второй из основоположников конспирации. Отныне все нити исключительно в руках Палена.
Как видим, корабль заговорщиков сумел пока, хотя и с пробоинами, пройти через рифы, но события не позволяют успокоиться.
Война с Англией стремительно приближалась. Вместе с этим усилилась и аналогия, историческая параллель с 1762 г., когда Петр III готовил непопулярную войну с Данией и первоначальный плац переворота был связан с выездом царя в армию, возможным захватом столицы.
Напомним, однако, и важную разницу 1762 и 1801 гг. Теперь существует немалая, куда более сильная, чем в 1762 г., контригра сторонников власти: неприязнь к «датской войне» носила и для офицеров, и для гвардейских солдат национально-патриотический характер, в 1801 г. национальные чувства подобной роли в заговоре не играют…
Начало зимы
13 ноября 1800 г. составлены две инспекции для грядущей кампании; предполагаемое поле военных действий – Германия, часть которой придерживается антифранцузской и проанглийской линии.
21 ноября. В Париж к Наполеону отправляется специальный дипломатический представитель императора Спренгпортен.
26 ноября. Исключен из службы видный полководец фельдмаршал Н. В. Репнин.
4 декабря. Военный союз со Швецией.
11 декабря. Коцебу вызван к Пален у для организации причудливой, полуиздевательской-полусерьезной акции – вызова любого иностранного государя на поединок с русским императором (для решения международных споров!).
В тот же день царь, встретив на улице датского посланника, долго с ним беседует (так, что «все замерзли») и говорит, что «вооружает корабли», ибо не может терять времени, если англичане весной пройдут Зунд.
13 декабря. Римскому папе предлагается переселиться в Россию.
14 декабря. Пален у в предстоящем походе предлагается находиться во главе армии в Брест-Литовске, М. И. Кутузову – у Владимира-Волынского, Н. И. Салтыкову – у Витебска.
15 декабря. Запрет всякого экспорта в Англию.
16 декабря. Оформляется союз Скандинавских стран против Англии.
18 декабря. Фактический разрыв с эмигрантским французским двором Людовика XVIII, находившимся в России. 2 января 1801 г. его вышлют из страны, а Людовика XVIII лишат русской ежегодной пенсии размером в 200 тыс. руб. При этом в руки Ростопчина и Павла попадут, при помощи госпожи Бонейль, какие-то свидетельства о самостоятельных переговорах Панина с Бурбонами, и это усугубит опалу бывшего вице-канцлера.
18 (30) декабря. Первое прямое послание Павла к Наполеону! «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах, ни о принципах различных образов правления, принятых каждой страной. (…) Я готов Вас выслушать и говорить с Вами».
При дворе Наполеона сразу же оценят ситуацию! «Раздел мира между Дон-Кихотом и Цезарем».
21 (10) декабря (до получения письма от Павла). Первое письмо Бонапарта русскому царю. Идея союза двух стран, «при котором оружие выпадет из рук Англии, Германии или других держав»; первые идеи совместного раздела Азии.
29 декабря. Повеление Павла о поощрении торговли с Индией, Бухарой, Хивой; вырисовываются идеи индийского похода.
31 декабря – последний день XVIII в. Распоряжения насчет обороны Соловецких островов от возможного английского удара.
Государство живет в спешном, нервном ритме. Спешит разгоряченный царь, спешат и заговорщики, почти не замечая нового столетия.
Вербовка
Полковник копной гвардии Саблуков записывает: «Зимой 1800 года… мы слышали, что у некоторых генералов – Талызина, двух Ушаковых, Депрерадовича и других – бывают частые интимные сборища, устраиваются пирушки для избранного круга, которые длятся за полночь, и что бывший полковник, Хитрово, прекрасный и умный человек, но настоящий распутник, близкий к Константину, также устраивает маленькие «рауты» близ самого Михайловского замка. Все эти новости … показывали нам, что в Петербурге происходит что-то необыкновенное, тем более что патрули и рунды около Михайловского замка всегда были наготове».
Чередой идут обеды у Палена, Зубовых, Талызина (благо празднества по поводу прибытия шведского короля придавали пирушкам естественный вид).
Блестящий командир Преображенского полка Талызин появляется в «анналах» заговора осенью – зимой 1800 г. По свидетельству Головиной, Панин давно высмотрел молодого генерала и рекомендовал его царю в командиры главного гвардейского полка. Талызин утвержден в этой должности 14 мая 1800 г., в связи с чем Вельяминов-Зернов сообщает любопытные подробности: «Однажды поздно вечером Талызин, возвратясь домой, находит в своем кабинете на столе запечатанное письмо. Распечатывает – оно от графа Панина, который просит его содействовать Палену в заговоре против императора, говоря, что он уже рекомендовал его как надежного и верного человека военному губернатору. Талызин истребил письмо и ждал последствий. Фон дер Пален, увидя его во дворце, спрашивал при всех, получил ли он письмо от графа Панина, и, получив утвердительный ответ, просил его к себе в 6 часов на совещание. Тут они познакомились и условились. Вот как делают опытные заговорщики».
В Талызине, надо думать, Папин видел просвещенного единомышленника, представителя идейной части движения, к которой принадлежал и сам вице-канцлер. 33-летний генерал-лейтенант успел получить образование в Штутгарте, был умен, начитан и, подобно многим мыслящим деятелям той поры, принадлежал к мистикам, масонам. Не разделяя конституционных планов заговора, он был, по сохранившимся скудным сведениям, убежденным противником павловской системы.
Вскоре полковой командир уже присматривается к возможным союзникам среди офицеров полка, и в перевороте будет участвовать по меньшей мере 14 Преображенских офицеров.
В Семеновском полку, связанном с наследником, работа была еще проще. «Офицеров, – пишет историк полка, – Александр знал гораздо более, чем мог бы знать их сам командир полка». Наследник знал, даже помнил всех унтер-офицеров по имени. Командир полка Леонтий Иванович Депрерадович присоединяется к заговорщикам; Федор Петрович Уваров, шеф кавалергардского полка, хитрый, дальновидный любимец Павла, тоже делает ставку на Александра.
«Зондаж» явно ведется и в других полках.
Как и многие, Саблуков догадывается о заговоре и однажды делится со своим другом, знаменитым художником Тончи: «Он сразу разрешил мое недоумение, сказав следующее: «Будь верен своему государю и действуй твердо и добросовестно; но так как ты, с одной стороны, не в силах изменить странного поведения императора, ни удержать, с другой стороны, намерений народа, каковы бы они ни были, то тебе надлежит держаться в разговорах того строгого и благоразумного тона, в силу которого никто бы не осмелился подойти к тебе с какими бы то ни было секретными предложениями». Я всеми силами старался следовать этому совету, и благодаря ему мне удалось остаться в стороне от ужасных событий этой эпохи».
Полковник Николай Саблуков – яркая личность, относящаяся несомненно к высокопросвещенной, нравственной части дворянства. В юности он слушал лекции в европейских университетах, получил блестящее образование, интересовался философско-нравственными системами в духе небезызвестной нравственно-религиозной секты гернгутеров. После переворота 11 марта 25-летний генерал-майор, перед которым открывалась широчайшая карьера, не может более служить. Потрясенный увиденным, он подал в отставку, поселился в Англии, женился на дочери основателя Британской картинной галереи Юлии Ангерштайн, но в 1812 г., узнав о нападении Наполеона, срочно возвратился в Россию, прошел всю кампанию (Кутузов 7 декабря 1812 г. свидетельствовал, что Саблуков «был все время в авангарде») и, защитив отечество, опять его покинул. Лишь изредка Саблуков наезжал в Петербург, сблизился с Библейским обществом, был явно не чужд вольному духу 1820-х годов.
– Я Вас боялся больше, чем целого гарнизона, – признался Пален Саблукову утром 12 марта.
– И Вы были правы, – ответил офицер.
– Поэтому, – возразил Палеи, – я и позаботился Вас отослать [из дворца].
За этой особой позицией Саблукова целый слой российского просвещения, которому потемкинско-паленский взгляд на вещи не менее, а может быть и более, отвратителен, чем извращенное рыцарство Павла (последнего Саблуков описывает объективно и печально). Хорошо зная, что из офицеров, бывших в его полку в 1796 г., «всего двое остались в нем до кончины Павла Петровича», описав, как над его отцом едва не была учинена по приказу царя самая бесчеловечная и необоснованная расправа, Саблуков тем не менее несколько раз подчеркивает благородные намерения царя, низкий нравственный уровень павловского окружения. От Саблукова протягиваются ниточки к другим людям, иным формам сопротивления – это позиция идейного благородства, столь известная по лучшим людям XIX столетия…
Однако пассивность, неучастие подобных людей в каком-либо активном действии двух противостоящих сил, их многознание и недоносительство – признаки нараставшей, уже отмеченной нами не раз изоляции Павла I от своего класса; это делало царя при огромной самодержавной силе все более беззащитным; более того, вследствие нарастания самовластия, централизации разрыв царя с его опорой, социальным фундаментом даже усиливается.
Мы не знаем точных дат присоединения к тайному сговору различных деятелей. Для уяснения же связи между растущим числом конспираторов и внутренней структурой заговора рассмотрим одну типологически важную историю.
Пестель и Пален
Декабрист Николай Лорер вспомнит: «Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал? «Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей».
Очень близкий к Пестелю член Южного общества делает эту запись в 1860-х годах. Однако большое временное расстояние между фактом и воспоминанием не мешает нам признать рассказ очень достоверным. Во-первых, записки декабриста довольно точны. Во-вторых, существует много примеров (и перед нами, по-видимому, один из них), когда декабристы, делясь своими воспоминаниями с друзьями по каторге и ссылке, сначала вырабатывали устную версию мемуаров и только позже закрепляли ее в письме. В-третьих, рассказ Лорера поддается документальной проверке.
Как раз в Митаву, рядом с имением, где с 1801 г. жил Пален, прибыл в начале 1817 г . Павел Пестель, молодой кавалергардский штаб-ротмистр, адъютант генерала Витгенштейна и один из основателей, «старейшина», первого декабристского тайного общества – «Союза спасения».
Пробыв в Курляндии более года (до весны 1818 г.), Пестель создал в Митаве отрасль декабристской организации, куда принял четырех членов, и несомненно вел деятельность, подчиненную задачам тайного союза.
Встреча 24-летнего Пестеля с 72-летним Паленом, часто ездившим в соседний с его имением город, была естественной, и столь же естественно было начаться разговору о способах достижения тайной цели. Как уже говорилось, декабристы, за многое не одобряя деятелей 1801 г., относились к некоторым из них с интересом, известным уважением. Пален, который подчеркивал свое самопожертвование, свою правоту в деле 11 марта, который, как знали многие, был не чужд конституционных идей, естественно интересен Пестелю. Так же как Постель, несомненно, заинтересовал старика: ведь при всей разнице их мировоззрений формула, явившаяся полным «заглавием» первого декабристского общества, – «Союз истинных сынов отечества» – эта формула была из числа тех, которыми Пален охотно оперировал. Добавим и такое с виду второстепенное, но сближавшее собеседников обстоятельство, как известная степень гвардейского землячества у кавалергарда Пестеля и Палена, начинавшего службу в конной гвардии, поскольку кавалергарды сформированы Павлом из нескольких эскадронов конногвардейского полка. Существовала определенная преемственность, особая близость двух гвардейских частей. Наконец, несомненное обилие общих знакомых, связи петербургские и курляндские – все это позволяло говорить откровенно.
Не исключено, что обиняками или прямо зашел разговор и о какой-то форме участия старого генерала в «Союзе спасения». Ведь принял же Пестель в тайное общество, уезжая из Петербурга, князя Павла Петровича Лопухина, флигель-адъютанта Павла I и действительного камергера при Александре I, – он был, между прочим, сыном князя П. В. Лопухина и родным братом покойной к тому времени фаворитки Павла I Анны Лопухиной (Гагариной). Как видим, Пестель не исключал введения в общество старшего слоя, исторически связанного с прежними политическими событиями и переворотами.
Восстановить беседу двух представителей разных эпох, разных принципов общественного сопротивления было бы крайне интересно. Оба собеседника противостояли «тиранам»; оба – мастера тайной конспирации; оба размышляли о будущем политическом строе России, хотя старший хотел лишь ограничить, а младший – уничтожить самодержавие.
Надо думать, Пален изрядно завышал в беседе идейные цели своего заговора и таким образом сближался с позицией Пестеля.
Однако, говоря о «средствах», декабрист помнил недавние горячие дискуссии его товарищей о способах достижения цели, о перемене царствования как удобном времени для революции. Ведь всего за год до этого Лунин спорил с Пестелем, считавшим, что нужно сначала подготовиться, выработать программу, план; Лунин тогда иронизировал, что «Пестель хочет сначала энциклопедию написать», а лишь потом действовать, и предлагал план: захватить Александра I небольшой группой самых решительных заговорщиков по дороге из Царского Села в Петербург.
Пален – при всем отличии его старинных планов от нынешних – явно ближе к «лунинским методам»: на 12 апостолов найдется Иуда, и он не советует Пестелю расширять круг посвященных, советует действовать паленским методом, который дал результат…
Возможно, бывший генерал-губернатор вспомнит позже об этом разговоре, когда узнает о восстании декабристов на севере и юге, об аресте Пестеля. Пестель же, судя по тому, как он рассказывал Лореру о Палене, тоже кое о чем задумался. Идеи более строгого, централизованного, конспиративного образа действия, идеи железной диктатуры, разумеется, родились не под влиянием Палена, но, возможно, были той встречей отчасти стимулированы. Лорер намекал на это. Другой декабрист, Иван Горбачевский (впрочем, лично не общавшийся с Пестелем, но попавший на каторгу вместе с Лорером), запишет много лет спустя: «Пестель был ученик графа Палена, ни более, ни менее. Он был отличный заговорщик». Однако односторонность, несправедливость подобного взгляда были ясны даже тем, кто его высказывал. Лорер не может ведь ни на минуту забыть, что Пестель, в сущности, не успел восстать, что власть опередила, что среди членов тайного общества нашлись предатели.
Рассказ о митавской беседе Лорер сопровождает восклицаниями: «Какая истина! Зловещее пророчество сбылось!» Однако очевидно, что Пестель, учась, соглашаясь, отвергая, размышляя над чужим опытом, никогда бы не мог стать Паленом.
У того, старого генерала, его дело вышло, может быть, именно благодаря недостатку принципов; у этого, молодого полковника, не выйдет, и, может быть, обилие благородных идей отчасти помешает… Один считал себя Брутом – потомки не согласились; другой принесет в жертву себя, попадет в герои, мученики – совсем в другую категорию, чем смелый цареубийца Пален. Но в 1817 г . еще далеко до развязки…
Пока же подведем некоторые итоги. Интерес Пестеля, и, конечно, не его одного, к недавнему военному перевороту носил, разумеется, политический характер. Поскольку чисто внешняя, непосредственная цель – захват власти, столицы – совпадает и в дворцовом, и в революционном перевороте, было важно понять, чем можно воспользоваться революционерам и что необходимо отбросить из опыта Палена.
Запись авторитетного и памятливого соратника Пестеля резко оттеняет разницу двух заговоров: декабристское движение не могло по природе своей не пройти стадии коллективного, осознанного обсуждения задач тайного сообщества.
Но разве Пален не привлек многих? Разве в деле 11 марта не участвовали десятки людей?
Представление о долгом существовании обширного антипавловского «комплота» очень распространено. Между тем дело было много сложнее, и слова Палена, сказанные Пестелю, помогают многое понять.
Своею «исповедью» лидер 11 марта признает, что, держа в резерве когорту недовольных, зондируя, прощупывая именно тех, кто «молчит и действует», он до поры не открывает замыслов и почти никого не осведомляет о конкретном плане, сроке, даже целях, например объясняется с близкими соучастниками насчет регентства, сохранения жизни Павла при внутренней убежденности, что царя надо убить.
Фактически в заговоре 1800 – 1801 гг. наблюдаются три категории заговорщиков: первая – вожди, самые посвященные; о главных тайнах были осведомлены заранее, пожалуй, еще Зубовы, и то не все, так как опасались болтливости жены Николая Зубова.
Вторая категория – позже вовлеченные, но не участвующие в разработке стратегии: главные исполнители. Их роль огромна непосредственно перед действием и во время него. Это командиры полков Талызин, Депрерадович, Уваров. Это Беннигсен, исключительная роль которого в решающий момент, однако, позволяет перевести его в «первую категорию».
Третья – средние и младшие офицеры, которые отобраны по принципу их недовольства, неприязни, ненависти к павловской системе. Они, как увидим, не осведомлены до последнего часа. Не они вступают в дело – их отправят.
Если до ноября – декабря 1800 г. действовали почти исключительно лидеры, первая категория, то теперь пришло время главных исполнителей, не все знающих, но высматривающих верных подчиненных, которые уж не знают практически ничего.
Методы вербовки разнообразны. Один путь уже обрисован: обеды, осторожное зондирование, постепенное привлечение к клану Зубовых – Палена. Второй путь – усиление, закрепление преданности наследнику Александру офицеров, «намеченных к заговору». Позже, перед 11 марта, великий князь не раз сам будет говорить с тем или иным колеблющимся офицером.
Третий способ – разжигание и без того распространявшегося в дворянстве недовольства: вернувшиеся на службу и непринятые офицеры – существенный резерв, из которого мог черпать Пален.
Как видим, осенью 1800 г. заговор приобретает контуры, близкие к тому, что произойдет несколько месяцев спустя.
Крайне редко выходят наружу смутные сведения о возможном «брутовском» плане против Павла: психология просвещенного дворянства, магия царского имени затрудняют «простой путь» (пример которого давала Швеция, где в 1792 г. граф Анкарстрем убил выстрелом из пистолета Густава III). К тому же индивидуальный удар все равно требует обеспечения воинской силой, для того чтобы гатчинцы, преданные Павлу, не взяли инициативу в свои руки; зато в случае неудачи репрессии Павла могли бы сокрушить всех конспираторов. Не было гарантий…
Так или иначе дело шло к офицерско-генеральскому заговору, где особую роль приобретали люди максимально хладнокровные, деятели, не связанные традицией, освящавшей враждебную власть: так Пален ищет в Беннигсене солдата, кондотьера, без излишних сантиментов и предрассудков.
Последний появляется в столице вскоре после Нового года (сохранилось его письмо к родным от 18 января 1801 г.).
И по-прежнему день переворота откладывается по двум причинам: нужно завербовать некий достаточный для успеха минимум офицеров и генералов; требуется окончательное согласие наследника. Согласие на действие, на точный день и час.
В таких хлопотах встречали девятнадцатое столетие.
Глава X
Новый век
…Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор –
Но мне ли, мне ль, любимцу
государя?..
Последний новый год в жизни Павла совпал с началом нового XIX века. Царь встретил эти даты как будто в неплохом настроении и 7 января весело писал московскому генерал-губернатору И. П. Салтыкову по поводу своей предполагавшейся (но так и не состоявшейся) поездки во вторую столицу.
Хорошее настроение царя не передавалось подданным, тем более что оно чередовалось с растущей подозрительностью. И. И. Дмитриев, уже отставной и приехавший в столицу по домашним делам, «несколько раз, по воскресным дням, бывал во дворце и, несмотря на все прощение исключенных, находил все комнаты почти пустыми. Вход для чиновников был уже ограничен; представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь через наружные комнаты. Строгость полиции была удвоена, и проходившие через площадь мимо дворца, кто бы то ни были, и в дождь, и в зимнюю вьюгу должны были снимать с головы шляпы и шапки».
Государственный казначей и поэт Гаврила Романович Державин решился «накануне крещения 1801 года» отобедать у князя Платона Зубова в Пажеском корпусе, в тот же вечер «государь подошел и, осмотря его с ног до головы несколько раз, сам сел на софу и, велев ему против себя сесть на стул, смотрел прилежно в глаза … не покажет ли какого смущения, а через то не покажет ли своего с ним [Зубовым] соучастия».
Любопытно, что предполагаемая поездка Павла расценивалась пристрастными современниками как результат страха перед англичанами. С. Р. Воронцов писал Новосильцову (все так же, лимонным соком): «Мне кажется, что наш храбрец собирается удалиться подальше от Кронштадта к концу апреля, надеясь, что англичане не появятся до этого срока. Это достойно его. (…) Я не огорчаюсь его путешествием в Москву, где больше истинных русских, чем в Петербурге, и я надеюсь, что они отдадут должное этому ( … )».
Действительно, Москва жила своей, во многих отношениях отличающейся жизнью. Павловский надзор здесь, понятно, не так силен, и если во время коронации в 1797 г. московское общество, привыкшее к вольностям, было особенно травмировано, то теперь как будто пообвыкло и пользовалось преимуществом трехдневной дистанции от «вахт-парада».
Приехавший во вторую столицу в конце 1800 г. образованный самарский дворянин И. А. Второв нашел там «Академию музыкальную и танцевальную». 14 февраля 1801 г. в круглой зале Петровского театра «вся Москва», около 3 тыс. слушателей, присутствовала на первом исполнении «Творения света» Иосифа Гайдна. На сцене 300 лучших музыкантов – ситуация почти немыслимая для тогдашнего напряженного, запуганного Петербурга, где всякое значительное сборище казалось подозрительным.
Приезжий знакомится на концерте с Карамзиным, который представляет его своим молодым друзьям – Жуковскому, Андрею Тургеневу и другим членам недавно созданного Дружеского литературного общества.
Гражданские, патриотические мотивы в речах, звучавших в этом обществе в начале 1801 г., были совершенно необычны, инородны для духа, практики тех месяцев. Ю.М. Лотман, исследовавший это примечательное общественное явление, справедливо видит здесь важные идеи «раннего, утробного» этапа дворянской революционности. Так, юный А. Ф. Воейков в своей речи под видом прославления отца царствующего императора дает ему смелую памфлетную характеристику. Тайную канцелярию он называет «тиранским трибуналом, в тысячу раз всякой инквизиции ужаснейшим», призывает слушателей «бросить патриотический взор» на Россию до Петра III, «обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей»; на самом деле оратор рисовал картину, вызывавшую ассоциации с эпохой Павла I.
Финал речи Воейкова – просвещенный, патриотический, тираноборческий призыв: «Воззри на собравшихся здесь юных россиян, оживленных пламенною любовию к отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастья, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов!».
Хотя подобный ход мыслей, ведущий к проблемам политическим, вызвал на следующем заседании споры и возражения со стороны Жуковского и других «умеренных членов», однако 16 февраля 1801 г. (через день после Гайднова концерта) с «левого крыла» Дружеского общества прозвучала благородная речь Андрея Тургенева – о любви к отечеству: «О ты, пред которым в сии минуты благоговеют сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою стоят сыны твои!.. Но горе нам, если мы когда-нибудь забудем этот день, в который мы свободно произнесли обеты наши пред алтарем отечества». Близкой к позиции Тургенева была позиция Андрея Сергеевича Кайсарова.
Разумеется, эта группа литераторов не определяла всего спектра московских настроений (хотя представляла в павловское время едва ли не всю действующую русскую литературу). Разумеется, не только подобных молодых людей имел в виду С. Р. Воронцов, когда надеялся, что в Москве «много истинных русских». Ведь отношение Тургеневых, Воейкова и других к Павлу – тема деликатная, трудно выявляемая. Они, конечно, далеко в стороне от павловской консервативней идейности, но, может быть, еще дальше от цинизма заговорщиков; они готовы умереть за отечество, но и не обрадуются, узнав, как погиб «тиран».
Карамзин, едва ли не самый умеренный среди них, позже сравнит павловские годы с террором Ивана Грозного; другие же, вероятно согласившись в принципе, найдут в таком обличении ушедшего времени чрезмерное восхваление александровского…
Впрочем, столкновение Павла с просвещенной Москвой не состоится. В 1801 г. он приговорен к Петербургу…
Новый год… Любимое каменное детище, символ рыцарства Михайловский замок готов и ожидает царственного хозяина. 1 февраля двор и царь впервые там ночуют среди еще сырых стен, туманных от влаги камней. Павел особенно оживлен в последние дни перед великим постом (начался 3 февраля, и царю до конца его не дожить); в это время наследнику приказано давать балы, где присутствовали и могли легко обсуждать свои секреты многие заговорщики.
2 (14) января в Париж отправлен доброжелательный ответ первому консулу на его декабрьское послание. Почта между Петербургом и Парижем не прерывается. Стиль отношений хорошо виден, например, из следующих строк Павла (в письме к Наполеону 15 (27) января): «Не мне указывать Вам, что Вам следует делать, но я не могу не предложить Вам, нельзя ли предпринять или, по крайней мере, произвести что-нибудь на берегах Англии… что может заставить ее раскаяться в своем деспотизме и в своем, высокомерии».
Наполеон сообщает 27 (15) февраля 1801 г.: «Как, по-видимому, желает Ваше величество, 3 или 4 сотни канонерских шлюпок собраны в портах Фландрии, где я соберу армию».
Отношения отнюдь не были идиллией: Павел требовал (а Наполеон не давал) четких гарантий насчет передачи Мальты, настаивал на целостности Неаполитанского, Баварского и Вюртембергского королевств. Зато первый консул утверждал (а царь не соглашался), что Египет «должен остаться за Францией». Тем не менее дело шло к союзу; 8 февраля российским подданным разрешено торговать с Францией.
Исследователь, имевший позже доступ к секретным бумагам первого консула, свидетельствует, что «Наполеон посылал Павлу все памфлеты, публикуемые в Англии против него, и даже секретные документы, подлинные или выдуманные, где царь подвергался оскорблениям». 26 февраля 1801 г. «Санкт-Петербургские ведомости» публикуют явно инспирированный Наполеоном материал «из Парижа»: «Павел I есть единственный монарх, который в сии последние времена следовал внушениям великодушия и некорыстолюбивой политики…»
Сближение двух вчерашних антиподов идет полным ходом, делается все более практическим. Уже «Дон-Кихот и Цезарь» планируют атаку на английский берег, для чего русскому Черноморскому флоту предлагается соединиться с французским и испанским в английских водах, а войскам – занять Ганновер и пугнуть неаполитанского Фердинанда IV, «чтобы вел себя хорошо» (из письма Наполеона от 27 (15) февраля).
Неслыханные, полуфантастические планы, соответствующие «романтическому императору» и главному исполнителю, первому помощнику – Ростопчину.
В глубочайшей тайне, доверенной только нескольким избранным (в их числе наследник и, конечно, Пален), подготавливается индийский поход. В уже названной статье из Парижа автор мечтает, что Англии «не можно будет выгружать своих произведений ни на едином берегу, начиная от Зундского пролива до самих Дарданеллов».
Идея континентальной блокады, как видим, сформулирована за шесть без малого лет до ее провозглашения. Вообще, в эти месяцы мелькают многие внешнеполитические замыслы следующих лет и даже десятилетий! Индийский же план уже осуществлялся! 12 января 1801 г. казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбург а оттуда три месяца «через Бухарин) и Хиву на реку Индус». Вскоре 30 тыс. казаков пересекут Волгу и углубятся в казахские степи. Этот план и его реализация столь часто использовались для общих оценок павловского царствования, что мы опять прервем рассказ о ходе заговора, тем более что индийская идея – не последний элемент политической истории 1801 г.
К реке Индус
Хронологически первым отрицательным разбором индийского похода явилась незаконченная работа Беннигсена, где сравнивались «естественный план проникновения на восток Екатерины II» (персидский поход 1796 г., остановленный Павлом) и «безумная» идея самого Павла, который «то ли не знал планов своей матери, то ли не понимал их во всем объеме»; генерал жаловался, что «время упущено, ибо в Индии англичане теперь всё – а индусы ничто» (черновые «Записи Беннигсена об Индии», вероятно написанные между 1807 и 1812 гг.). Как будет сейчас показано, сам Беннигсен тоже не представлял себе в полном объеме «индийский проект» 1801 г. Между тем «безумный» план был, между прочим, отправлен на согласование и «апробование» в Париж, к первому консулу, и вернулся с вопросами и уточнениями.
Смысл плана – в совместных действиях русского и французского корпусов: 35 тыс. французской пехоты с артиллерией во главе с одним из лучших французских генералов, Массена (на его кандидатуре настаивал Павел I), должны двинуться по Дунаю, через Черное море, Таганрог, Царицын, Астрахань. Как и в египетском походе, в армии будут находиться инженеры, художники, ученые, предусмотрена даже окраска продаваемых сукон, «особенно любимая азиатами», и пиротехника для эффектных праздников. В устье Волги французы должны соединиться с 35-тысячной русской армией (попятно, не считая того казачьего войска, которое «своим путем» идет через Бухарию). Объединенный русско-французский корпус затем пересечет Каспийское море и высадится в Астрабаде (т. е. именно там, где следовало высаживаться, по мнению Екатерины II и Беннигсена). Весь путь от Франции до Астрабада рассчитывали пройти за 80 дней. Еще 50 дней на то, чтобы через Герат и Кандагар войти в главные области Индии… Если начать поход, как собирались, в мае 1801 г., то Индия будет достигнута в сентябре того же года. Комментатор воспоминаний Стедингка, уверенный в «безумии» Павла, явно смущен позицией Наполеона – правителя, которого в безумии никто не подозревает. Консул только спрашивал Павла: «Хватит ли судов?», «Пропустит ли султан?», а царь гарантировал суда, гарантировал свое воздействие на Порту и замечал затем: «Французская и русская армии жаждут славы; они храбры, терпеливы, неутомимы; их мужество, постоянство и благоразумие военачальников победят любые препятствия».
Между тем уже не в первый раз в ходе нашего повествования приходится доказывать, что в том безумии была «система», что требуется точный исторический взгляд на события. Поэтому обратим внимание на несколько обстоятельств, о которых в связи с индийским планом говорят мало или не говорят совсем.
Первое – это не раз высказанное желание Павла «встряхнуть казачков», убавить в военной обстановке их вольности и для того возложить на них главную тяжесть дальнего похода.
Во-вторых, индийский план хорошо сопоставим с египетским походом Наполеона (1798), возможно, порожден как его отзвук, так как Наполеон плыл к устью Нила, конечно имея в виду рано или поздно добраться до Ганга. Говоря о Египте, не забудем, кстати, что зимой 1800/01 г. эта страна была еще под управлением французов (французский корпус капитулирует только летом 1801 г.), что главный поход, через Каспийское море, мог дополняться в оперативных планах дополнительным движением на Восток из Египта. Павел I, правда, боялся чрезмерного французского влияния в Азии и, очевидно, сдержанно относился к «египетскому удару»; однако именно в марте 1801 г. к царю отправляется личный представитель Наполеона Дюрок, который должен обрисовать царю французский план дипломатического и политического нажима на Константинополь: турок попросят прогнать из Египта англичан, при этом оживет погибающий французский корпус, брошенный Наполеоном после его отъезда во Францию. Итак, главный удар (через Астрабад) мог дополниться движением русских через Среднюю Азию и французов из Египта.
Вот как оценивал эту идею советский исследователь, глубокий знаток проблемы: «Нельзя не признать, что по выбору операционного направления план этот был разработан как нельзя лучше. Этот путь являлся кратчайшим и наиболее удобным. Именно по этому пути в древности прошли фаланги Александра Македонского, а в 40-х годах XVIII века пронеслась конница Надир-шаха. Учитывая небольшое количество английских войск в Индии, союз с Персией, к заключению которого были приняты меры, и, наконец, помощь и сочувствие индусов, на которые рассчитывали, следует также признать, что и численность экспедиционного корпуса была вполне достаточной».
Однако это еще не все «резоны» индийского плана. Ведь именно в начале 1801 г. окончательно оформляется присоединение Грузии к Российской империи, что обогащало российские возможности в Передней и Центральной Азии.
Наконец, индийский план содержал некоторые важные подробности, практически до сих пор не изученные. Любопытные сведения на эту тему находятся во французской брошюре «Notice sur la mort de Paul I» («Заметка о смерти Павла I»), вышедшей в 1806 г . Вообще, европейские статьи и брошюры 1801 – 1807 гг. содержат интересные заметки и комментарии. Автор «Notice…» (очевидно, французский агент или одни из посланцев Наполеона в России) сообщает: «Я узнал во время моего пребывания в Петербурге детали павловского (индийского) проекта». Речь идет еще об одном, вспомогательном ударе против английских: владений в Индии, дополняющем основное наступление, – плане вооружить три корабля, находящиеся в Петропавловске-Камчатском, таким образом, чтобы они сделались боевыми фрегатами. Затем эти корабли должны были отправиться в Индийский океан и подавить английские суда, сосредоточенные в тех водах. К этому сообщению автор делает примечание (очевидно, также основанное на прямой информации из компетентных петербургских кругов), что на доставку пушек в Петропавловск «нужно всего пять недель», что все необходимые материалы также предполагалось доставить на Камчатку «в течение довольно короткого срока, на санях».
Ни в каких специальных работах об этом плане ничего нет. Однако известно, что действительно принимались меры к укреплению Камчатки в связи с возможной атакой Англии, а также Испании (с принадлежавших ей Филиппинских островов).
В Иркутске хорошо знали, что в 1801 г. был отправлен па Камчатку «Сомова гарнизонный полк».
Хорошо помнил эти обстоятельства В. И. Штейнгель, сообщивший важные подробности (сопоставимые с французской информацией) о том., как «родилась мысль о беззащитности наших восточных берегов и был послан из Иркутска Сомова полк для занятия Камчатки, Охотска, Гижиги и Удского острога».
Как видим, некоторые детали, сообщаемые как французской брошюрой, так и Штейнгелем, совпадают; очень вероятно, что в столице вынашивалась идея превращения камчатского оборонительного предприятия в наступательное.
Другое дело, что в России эта идея была чужда большей части людей, которые должны были ее осуществлять. Отсюда негодование, квалификация проекта как сумасшедшего.
Индийский план, как и многие другие павловские действия в январе – феврале 1801 г., целил в Лондон, в Сент-Джемский кабинет. Одним из показателей, насколько затея была серьезна, могут служить немалые опасения англичан. «Тревога почти всеобщая, – сообщал из Лондона секретный прусский агент, – особенно после того, как узнали о приказе императора Павла трем русским фрегатам выйти с Камчатки и перекрыть нашу торговлю с Китаем». Далее описываются страхи английского общества по поводу того, что французы еще в Египте; в конце письма рассматривается даже вопрос об экономических последствиях, которые будет иметь для Англии захват Индии противниками. Эта возможность считается вполне реальной, и агент уверен только в способности англичан удержать Цейлон, где могут обосноваться военные корабли.
В то же время агент противопоставляет испугу британской публики внешнее «спокойствие английского правительства». Там, очевидно, ожидают благоприятной развязки.
Характерен и оптимизм Новосильцова, несомненно прямо связанного с наследником. «Итак, – восклицает Воронцов в очередном послании к нему, – если Ваши надежды осуществятся, мое удовлетворение будет большим, чем Ваше».
Явные и тайные дипломатические почтовые пути, по которым шла важная переписка насчет заговора (и где не без успеха расставлял свои ловушки Ростопчин), – это наиболее горячий участок, центр поединка, место новых ударов и контрударов. На границах страны в эти дни ставится новое мощное почтовое заграждение – «кордоны военных и гражданских лиц, предназначенные для осмотра всей почты, причем письма опускаются в уксус под предлогом борьбы с заразою». Многое Ростопчин и его помощник Головин делают вслепую (иначе начались бы более широкие репрессии), но кое-что уже знают и продолжают контратаковать.
Именно в эти зимние недели Ростопчин сумел внушить царю новые серьезные подозрения против опального Панина, а также заподозренного Воронцова.
Панинское дело
Ростопчин открыто начинает новую атаку 17 января 1801 г. Умный, циничный, талантливый, он находится в фаворе и мечтает с помощью Павла достичь максимальных высот. «Ума острого, – запишет о нем Воейков, – памяти удивительной, образованный, словолюбивый, но гибкий царедворец; при всем желании быть прямым, еще не столь твердый на паркете, как Куракин, Лопухин, Кутайсов, он раболепствовал, хотя способен был к великим делам. (…) При Павле Петровиче он возвышался, обогащался и берег свою кожу». Возможности руководителя внешнеполитическим управлением были в первые недели XIX в. огромны. «Однажды, – вспоминает Д. Л. (Д. Н. Лонгинов), – Павел предложил Ростопчину на выбор: 1) быть канцлером, 2) получить Воробьевы горы в собственность под Москвою или 3) получить Вольтерову библиотеку, купленную Екатериною».
В другой записи Д. Л. утверждает, будто «Ростопчин успел однажды устранить намерение государя разлучиться с супругой и детьми».
Ростопчин, хитрый авантюрист, ориентируясь на Павла, всегда оставляет лазейку для других толкований его деятельности.
Через полгода в оправдательном письме С. Р. Воронцову Ростопчин изворачивается, преувеличивает свои заслуги, преуменьшает свою истинную роль, но не может скрыть огромных честолюбивых надежд, вызванных масштабом павловской внешней политики.
В те дни, когда Ростопчин наступает на заговорщиков, он особенно много работает над соединением Павла с Наполеоном, мечтает самолично отправиться в Париж, но несколько охлажден отправкой во Францию Спренгпортена, Колычева и других, «менее важных» посланцев вместо самого вдохновителя этой политики.
Перечисляя то, что на него «возводили», Ростопчин позже небрежно заметит: «Клевета меня не оставляла. ( …) Говорили, будто я сочинял письма, чтобы повредить графу Панину».
Между тем постоянная слежка за перепиской Н. П. Панина сочеталась с наблюдением за его домом; материалы о подозрениях, естественно, поступали и царю. Так, не ускользнули от верхов московские встречи Панина с Андреем Разумовским, бывшим послом в Вене (тем самым ближайшим другом и наперсником Павла-наследника, которого затем разоблачила в его глазах Екатерина II).
Возможно, контакты с Паниным стали одной из причин тщательного наблюдения и за Разумовским. Тогда же по инициативе Ростопчина (вернее, его друга почт-директора Головина) возникло дело в связи с одним перлюстрированным письмом. Перехваченный документ завершался неразборчивым росчерком, явно начинавшимся с буквы «П» и способным сойти за панинскую подпись.
На самом деле письмо было написано одним из друзей Панина и И. М. Муравьева-Апостола, очевидно осуществлявшим связь опального деятеля со столицей. Фамилия его была Приклонский. 28 или 29 января Ростопчин докладывает Павлу, что Панин «не унимается», ибо отправил только что в столицу полушифрованное двусмысленное письмо, в котором (на самом деле Приклонский, а не Панин) писал: «Я был также у нашего Цинцината», т. е. у некоего знатного лица, живущего в благородном удалении от суеты и света. Ростопчин объяснил Павлу, что Цинцинат – это опальный полководец Репнин и, стало быть, один важный изгнанник (Панин) ездит к другому и, без сомнения, конспирирует.
Как видим, заговор чувствовали, но искали не там, на ложных тропах… К тому же Ростопчину и царю показались шифрованным намеком также строки письма, посвященные «тетке Панина». И вот результат: 29 января в Москву понеслось собственноручное письмо Павла I генерал-губернатору Салтыкову: «Открыл я, граф Иван Петрович, переписку гр. Панина, в которой титулует он кн. Репнина Цинцинатусом, пишет о некоторой мнимой тетке своей (которой у него, однако же, здесь никакой нет), которая одна только из всех нас на свете душу и сердце только и имеет, и тому подобные глупости. А как из сего я вижу, что он все тот же, то и. прошу мне его сократить, отослав подале, да отвечать, чтоб он вперед ни языком, ни пером но врал. Прочтите ему сие и исполните все».
Папина вызвали, он объявил, что это не его письмо, Павлу доложили. Гнев царя, искусно разжигаемый Ростопчиным, разрастается. 7 февраля из Михайловского замка отправляется экстренный фельдъегерь и 9-го доставляет Салтыкову следующее «собственноручное повеление»: «В улику того и тому, о чем и кем дело было, посылаю к вам копию с перлюстрированных Панина писем, которыми извольте его уличить. И как я уже дал вам и без того над ним волю, то и поступите уже по заслуге и так, как со лжецом и обманщиком…».
Панин в холодном, неустроенном смоленском имении ждет возможного перевода в крепость, в Сибирь…
Одновременно наносится новый удар по другому представителю конспиративной цепи – Воронцову: весной он должен обязательно покинуть Англию во избежание конфискации его имущества и провозглашения изменником. Воронцов извещал об этом Новоснльцова в феврале 1801 г. Как только в Петербург пришли новые просьбы Воронцова со ссылкой на собственное нездоровье и болезнь дочери, последовал грозный указ 19 февраля о «взятии в казенный секвестр» имений графа и взыскании с него 500 фунтов штрафа по нерешенным финансовым делам посольства.
Воронцов ждет, мучительно надеется и в конце концов решается ехать; решение принято 29 (17) марта, через 6 дней после гибели властелина, но за несколько дней до того, как это известие достигнет Англии.
Однако вернемся к январю – февралю. Ростопчин рьяно интригует, очевидно ожидая немалых плодов наступления, но пружина интриги вдруг распрямляется и бьет по автору.
Внешне события выглядели так: скромный чиновник Петр Иванович Приклонский прорывается к царю, объясняя ему всю правду и разоблачая подлог с письмом Панина, учиненный Ростопчиным и Головиным. Царь признает ошибку и приходит в ярость против любимого министра.
Но в этой истории недостает важнейших элементов. Откуда Приклонский столь быстро узнает о противопанинском толковании его письма – это еще понятно: сам Панин пожаловался, копию послали губернатору в Москву.
Труднее представить, каким образом Приклонский столь быстро попадает в Петербург. Ведь все «вольные передвижения» крайне затруднены; очень и очень вероятно, что из столицы последовал срочный вызов, важный сигнал…
Наконец, самый сложный элемент: как быстро и легко Ростопчин разоблачен обыкновенным чиновником! А ведь даже тайный советник Иван Муравьев-Апостол был недостаточно крупной персоной для успешного доверительного доклада царю через голову своего начальства и против него…
Естественно, возникает тень Палена. Генерал-губернатор хорошо знает, кто его главный оппонент. Метод же действий Палена, кажется, очень сходен с тем надежным способом, которым были возвращены Зубовы: через Кутайсова. Ожидаемое «зубовское сватовство» продолжает работать на заговор, и не случайно, конечно, именно в это время, 10 февраля, Платон Зубов повышен в должности – назначен шефом 1-го кадетского корпуса.
18 февраля объявлено высочайшее благоволение 2-му кадетскому корпусу (т. е. Николаю Зубову). Последний с 16 февраля по 2 марта почти постоянно обедает во дворце.
Австрийский агент Локателли в те же дни докладывает своему двору об усилении фавора Платона Зубова, который «очень тесно связан с Кутайсовым».
Для еще более крепкого пленения Кутайсова тогда же был пущен в ход уже не раз применявшийся «паленский механизм».
Современник, со слов Палена, записывает эпизод, почти совершенно обойденный мемуарами других очевидцев: «Как ни старались скрыть все нити заговора, по генерал-прокурор Обольянинов, по-видимому, заподозрил что-то. Он косвенным путем уведомил государя, который заговорил об этом со своим любимцем Кутайсовым; но последний уверял, что это просто коварный донос, пущенный кем-нибудь, чтобы выслужиться. С целью усыпить Кутайсова [еще больше] Пален приказал [госпоже] Шевалье неустанно осаждать его, содействовал пожалованию ему великолепных курляндских имений Альт и Ней-Раден и посоветовал ему ни на минуту не покидать Павла, чтобы иметь возможность сообщать ему, Палену, каждое слово императора, даже сказанное им хотя бы случайно».
Любопытно, что оплачиваемая Наполеоном красавица Шевалье, сама того не подозревая, работала против своего шефа и помогала Палену в его сложной комбинации.
Однако рядом другая дама, тоже выполняющая инструкции Парижа, – госпожа де Бонейль. Она, по-видимому, непосредственно отчитывается перед главой наполеоновской секретной службы Жозефом Фуше. Согласно публикатору материалов по ведомству Фуше, Бонейль как будто угадывала контригру противной стороны и старалась работать на первого консула, сначала сблизившись с Паниным и выведав некоторые его тайны, а затем через посредство «покоренного» Ростопчина. В результате получилась ситуация совершенно в духе Александра Дюма – конкуренция двух авантюристок, подстрекаемых из одного центра, Парижа, но ненавидящих, не доверяющих друг другу; госпоже Шевалье, добившейся больших высот (благорасположение Кутайсова и самого Павла), а также поощряемой самим Паленом, было не слишком трудно представить царю Ростопчина как обманщика, «маскирующего двойную игру».
Итак, Шевалье побеждает, проигрывая…
В истории с письмом Приклонского – Панина мы не знаем многих подробностей и вынуждены прислушаться к сохранившемуся пристрастному рассказу Головиной, весьма расположенной к Ростопчину: «Пален коварно подготовлял гибель несчастного императора. Не надеясь удалить Ростопчина, представлявшего серьезное препятствие для жестокого преступления, задуманного им, он решился сам сделать последнюю попытку, чтобы вооружить императора против Ростопчина». Пален докладывает о невиновности Панина, царь не желает слушать, но в дело вмешивается Кутайсов.
В результате в нужный момент, к «нужному настроению» царя ему подают материалы против Ростопчина; при этом успешно апеллируют к рыцарским понятиям императора: по той формуле, которая сопровождала падение Ростопчина («Царь говорит, что ему нужен человек с прямым сердцем»), виден характер и направление успешного паленского доклада. «Царю-рыцарю» доказано двуличие его главного сподвижника, обнаружено стремление Ростопчина сделать императора орудием своей личной мстительности…
За клевету на Панина следует расплата.
Прежде всего 18 февраля 1801 г. отставлен почт-директор Головин. На другой день, 19 февраля, прусский посол Лузи уж знает об охлаждении царя к главе внешнеполитического ведомства.
20 февраля – официальное сообщение: «Ростопчин по прошению уволен от всех дел, причем кн. Куракину повелено вступить опять в должность по званию вице-канцлера, сверх того генералу от кавалерии фон дер Палену присутствовать в коллегии иностранных дел с сохранением должности санкт-петербургского военного губернатора и начальствовать над почтовой частью».
Свергнутый временщик пишет отчаянное письмо Кочубею, надеясь, может быть, таким путем поднять свой кредит у наследника Александра: «Составилось общество великих интриганов во главе Палена, которые желают прежде всего разделить между собою мои должности, как ризы Христовы, и имеют в виду остаться в огромных барышах, устроив английские дела. Они видят во мне помеху».
Перед отъездом из столицы Ростопчин пытается сделать последний ход – ищет прощальной аудиенции повелителя, но получает в ответ резкую отповедь и 24 февраля уезжает в свое подмосковное имение Вороново.
Определяя расстановку сил в момент крушения Ростопчина, австрийский представитель Локателли определяет (25 февраля 1801 г.) как «влиятельнейших людей первого ранга» Кутайсова, Палена, а также иезуитского патера Грубера; фавориты «второго ранга» – Гагарин, Обольянинов, Нарышкин, Строганов.
Пален управляет теперь Петербургом, почтой, иностранными делами, значительной частью армии.
Ростопчин проиграл – себя и своего императора. Последнее серьезное препятствие на пути заговора разрушено.
26 февраля «Санкт-Петербургские ведомости» извещают о двух многозначительных отъездах. Один – уже совершившийся; «граф Ростопчин, отставной действительный тайный советник и кавалер…» Другой отъезд – предстоящий: «действительная камергерша Ольга Александровна Жеребцова с дочерью ее Елисаветой Александровной и племянницей девицей Катериной Ивановной; при них польской нации девица Роза Немчевичева, немецкой нации скороход Фердинанд Ранфельд, арап Иван Кочанин и крепостной человек Никифор Яковлев».
Сестра Зубовых отъезжает неспроста, скорее всего для обеспечения операции из-за рубежа, для сохранения казны и «явок» на случай провала.
Через два дня начинается март 1801 г. …
Глава XI
Март
…Ид марта берегись!
Цезарь: Кто он такой?
Брут: Ид марта опасаться прорицатель
Тебе советует …
1 марта. Просьба австрийского генерального консула Виацолли «возвращена с наддранием»; за три дня до того он вдруг узнал о своей внезапной высылке. Повод – «неосторожность и неосмотрительность, с которой говорил и писал о своих делах».
В тот же день государственному казначею и поэту Державину отказано в просьбе об освобождении из Шлиссельбурга чиновника «отличных способностей»; в финансовом ведомстве нет ни денег, ни людей.
1 марта. Секретный докладчик (очевидно, Обольянинов) сообщает царю, что «граф Завадовский имеет жизнь и поведение одинаковые»: с крупного вельможи, бывшего фаворита Екатерины II, не спускают глаз.
2 марта. Павел рассматривает дело тобольского крестьянина Куляева «по 2-му пункту» (оскорбление величества). Суд приговорил виновного к ста ударам кнутом, наложению знаков на лицо, каторжным работам. Губернатор указывает на «неясность дела», Павел же, как видно, был в духе; к тому же перед ним сибирский крестьянин, а не «вздорный дворянин», и приговор вдруг смягчен: ссылка на суконную фабрику.
Добавим к этому, что Гёте, составляя хронику русских событий, запишет несколько недель спустя: «Суббота. Отправляется курьер к Бонапарту. Раздел значительной части Германии».
Курьеры – майор Тизенгаузен и обер-егермейстер Левашов – увозят также план поощрения и других союзников Павла за счет Германии: Дании предлагается Гамбург, Швеции – Любек; если же Пруссия «Не пожелает» занять Ганновер (вассально связанный с Англией), то с Пруссией произойдет разрыв и Ганновер будет предложен первому консулу.
Итак, сближение с Фракцией идет стремительно, но притом непросто, нервно. Посланец Павла Колычев подозревает, что цель Наполеона – поссорить Россию со всеми странами, и в шифрованной депеше выдвигает самый сильный, по его мнению, аргумент против поспешного союза с первым консулом – частые заговоры против него, неоднократные покушения: «Как обеспечить его жизнь? и разве не может он в короткое время умереть естественной смертью?». Эти строки, отправленные из Парижа, Павел уж не успеет прочесть…
3 марта. Вчера царь был сравнительно тих, сегодня же довольно гневен. Правда, действительному статскому советнику Хованскому разрешено выехать из Симбирской губернии в Москву, но зато генералу от инфантерии Львову «объявлено высочайшее повеление, чтоб он жил в деревне безвыездно».
На другое утро отставлены три измайловских офицера: капитан А. И. Талызин, подпоручики А. И. Мордвинов и К. И. Филатов (через день, впрочем, приняты обратно). В нескольких рассказах фигурируют «массовые аресты» начала марта: Саблуков говорит о 18 наказанных; анонимный мемуарист – о 26; другой источник сообщает, что «за последние 6 недель царствования свыше 100 офицеров гвардии были посажены в тюрьмы». Здесь важна не точность, а впечатление, когда несколько действительно случившихся арестов естественно «умножаются» и определенно оцениваются. Среди подобных эпизодов важное место занимает дело Рибопьера, разыгравшееся именно в эти дни и отразившееся во многих записках современников.
Гёте фиксирует в дневнике: «Воскресенье. Происходит дуэль между князем Четвертинским и Рибопьером, последний ранен.
Понедельник. Под уговором великого князя граф Пален должен замять дело. Нарышкин пробалтывается. Рибопьера сначала отправляют в крепость, потом высылают с семьей из города».
Великий поэт опять ошибочно переносит события на неделю раньше (не к 3 – 4 марта, а к 23 – 24 февраля), но верным художественным чутьем видит здесь важную сцену трагедии.
История юного Александра Рибопьера столь характерна, что представим ее несколько подробнее. Красивый молодой человек (ему к этому моменту неполных 20 лет) по рождению и связям принадлежит тому дворянскому кругу, который Павлу антипатичен «по определению»: отец – адъютант Потемкина (погиб при Измаиле); семья приближена ко двору благодаря близости с одним из екатерининских фаворитов – Мамоновым; в детстве А. И. Рибопьер был обласкан; Екатериной II. Павел ревнует к нему Анну Лопухину-Гагарину и удаляет с некоей полуфиктивной миссией в Вену, хотя при этом и производит в камергеры. В начале 1801 г. Рибопьер возвращается, очевидно не догадываясь, что ревнивое недоброжелательство императора – опасность страшная, и тут происходит история, подробно описанная самим «героем» много лет спустя.
Рибопьер ухаживает за некоей «девицей N»; соперник, князь Борис Святополк-Четвертинсний, заводит ссору; 3 марта 1801 г. они дерутся на шпагах, Рибопьер сильно ранен; царь решает, что поводом к поединку была честь Анны Гагариной.
Сохранилось специальное дело «Об отправлении в крепость камергера Рибопьера и высылке его матери из Петербурга» и параллельное ему продолжение Рибопьерова рассказа. Разыгралась подлинная война правительства с одним дворянским семейством: Павел отправил в ссылку мать и сестер провинившегося, конфисковал их имущество, запретил на почте принимать их письма, арестовал на сутки наследника (вовремя не представившего отцу рапорт о дуэли), наказал Палена.
В последующие дни каждое утро Павлу докладывалось, что Рибопьер в крепости и «находится в опасном положении» (7 марта), «в слабом и опасном» (8, 9 марта). Лишь 10-го появилась запись об отправлении Рибопьера в деревню, «коль скоро можно будет ему по болезни».
Сам пострадавший приводит, однако, немало примеров сочувствия, которое его положение вызывало у многих лиц. Даже генерал-прокурор Обольянинов (которому приписывали зловещую роль во всем эпизоде) делает разные послабления знатному заключенному: к нему снисходительны и смотритель каземата, и солдат, стоящий у дверей камеры.
Это знамение времени. Гнев царя ужасен, но даже преданнейшие ему люди не склонны буквально исполнять приказание.
Пален несомненно использует рибопьеровский эпизод как важнейший повод. Несправедливость, жестокость налицо: обиженная фамилия – очень видная, знатная; наследнику в просьбе о помиловании отказано, и он тем самым еще раз оскорблен.
Несколько важных записей об этих напряженных днях почти совпадают. Прежде всего, приблизительно одно и то же записывают наблюдатель событий Август Коцебу и Гёте (поэт, возможно, воспользовался позже именно записями Коцебу или своего знакомца, тоже литератора, Клингера, начальника 2-го кадетского корпуса).
Гёте: «Вторник 5. Граф Пален отстранен от двора, жена его также отослана со своим экипажем обратно.
Среда. Графу Палену внушают, что император вернет ему милость, если он прямо или косвенно, через гр. Кутайсова, попросит прощенья. Граф отвергает это.
Четверг. Палена опять призвали ко двору».
Коцебу: «Павел рассердился и не только дал почувствовать графу Палену свое неудовольствие, но даже оскорбил его в том, что было ему всего дороже; когда супруга графа, первая статс-дама, приехала ко двору, ей только тут объявлено было, что она должна вернуться домой и более не являться».
Присоединим к этим двум записям цитированные строки Головиной, что Павел гневался на Палена, но Кутайсов «добился прощения»; еще заметим, что жена Палена, обычно каждый день приглашаемая на ужин ко двору, отсутствует там 5 и 7 марта; кажется, мы наблюдаем момент чрезвычайно критический… Вместе со слухами об аресте «18…26…100 человек» Рибопьерово дело – фон, повод для окончательных решений.
Петербург тех дней похож на город, захваченный неприятелем (согласно Рибопьеру – «вовсе невеселый город»). Погода, по общему суждению, «ужасная», да еще объявлен с 1 марта десятидневный траур по случаю кончины герцогини Брауншвейгской. Каждый мартовский номер «Санкт-Петербургских ведомостей» содержит 35 – 40 фамилий отъезжающих за границу, и (учитывая правило трехкратного упоминания в газете о каждом отъезде) выходит, что 12 – 15 семей, иностранных и русских, желают каждый день покинуть опальный город. Это для тех лет очень много, тем более что летний сезон – обычное время путешествий – еще далек.
Для сравнения заметим, что уже в конце марта – начале апреля (при Александре I) в каждом номере газеты в 3 – 4 раза меньше объявлений об отъезде (26 марта – 14 фамилий; 29-го – 10, 1 апреля – 13 и т. п.).
Наконец, ползущие по городу слухи, будто Павел бил в лицо наследника, когда он просил за осужденных; что наследник вставал у одного из дворцовых окон с подзорной трубой, чтобы «следить за несчастными, отправляемыми в Сибирь, и передавать им пособие».
Слухи о переменах в императорской фамилии, о гигантском английском флоте, что движется к Зунду… Недаром один из первых приказов Александра I адресован русскому посланнику в Дании – «поставить в известность командующего английским флотом о происшедших переменах». Позже будут гадать, не был ли приказ Нельсону войти в Балтику результатом секретной информации лондонского кабинета о предстоящем дворцовом перевороте в Петербурге. Знакомство с документами британских политиков действительно создает впечатление нервного, напряженного ожидания. Так, в дневнике бывшего посла в России (а в 1801 г. одного из руководителей Foreign Office) мартовские записи почти совершенно не касаются России, Балтийского моря, Индии. И вдруг среди спокойных, деловых подробностей следующие строки: «Получены письма из Вены от 12-го марта. Все – балы и праздники. Позор и проклятие им». Так ощетинившаяся флотами и не жалеющая золота Англия аттестует австрийскую капитуляцию перед французами (только что подписан победоносный для Наполеона Люневильский мир между Парижем и Веной).
В феврале и начале марта 1801 г. царь по меньшей мере дважды дает «династический повод» для введения в дело уже не раз описанного паленского механизма.
Наследники
Сохранившийся документ от 21 февраля 1801 г. выдержан в самых торжественных тонах: «Нижеподписавшийся вице-канцлер кн. Александр Куракин, быв призван 21 февраля 1801 года его императорским величеством, имел честь стоять перед лицом его в Михайловском замке и в почивальне его и удостоился получить изустное объявление, что в скором времени ожидает рождения двух детей своих, которые, если родятся мужеска пола, получат имена старший Никита, а младший Филарет и фамилии Мусиных-Юрьевых, а если родятся женска пола, то … старшая Евдокия, младшая Марфа – с той же фамилией. А воспреемником их у св. купели будет государь и наследник цесаревич Александр Павлович и штатс-дама и ордена св. Иоанна Иерусалимского кавалер княгиня Анна Петровна Гагарина».
Как видно, в ход пущены главнейшие лица и санкции. В том же документе расписано, что крестить будущих детей в церкви Михайловского замка; их жалуют по 1000 душ на каждого и гербом.
Два старших сына Павла, а также Строганов, Нарышкин и Кутайсов подписали вместе с Куракиным и Обольяниновым эту удивительную бумагу, которую поздний биограф Павла объяснял «боязнию грядущего».
Эпизод формально не имел больших последствий: одна из возлюбленных Павла, камер-фрау императрицы Юрьева, на власть не претендовала; вскоре родились две девочки, но прожили недолго. Однако высокая торжественность необычного акта, не покрывавшего, но, наоборот, открывавшего грех и явно унижавшего Марию Федоровну, привлечение к церемонии наследника – все это имело, по мнению Павла, воспитательный, назидательный характер. Здесь иллюстрация безграничной возможности обходить многие принятые правила, та степень самовластия, при которой, скажем, права Александра ничтожны и легко могут быть подобным актом сведены на нет.
История эта быстро распространилась, очевидно направленная заговорщиками в нужном смысле (она вошла как достаточно существенная и в хронику Гёте). Прежде всего резко усилились старые разговоры о перемене царицы.
Павел до последнего вечера был, по-видимому, еще далек от развода, но слухи о возможности изгнания императрицы, подогретые Паленом, уже повторялись сотнями придворных уст, а от них и петербургская чернь подхватывает версию о возможной женитьбе царя на Гагариной, а еще более – о таковых же шансах мадам Шевалье.
Очевидец передает грубо-простонародную оценку событий – как «на Исаакиевской площади какой-то мужик показывал за деньги суку, которую звал мадам Шевалье».
Супруги Шевалье будут высланы буквально в первые часы нового царствования…
Впрочем, слух о «женах» императора был куда менее острым, чем вопрос о наследнике. В Дрезденском архиве (очевидно, по дипломатическим каналам) отложилась версия насчет идеи Павла I сделать своим наследником третьего сына, Николая, «не испорченного бабушкиным влиянием». Однако этот слух явно перекрывался другим.
Вюртембергская тема
6 февраля в Петербург прибыл и 7 февраля представлялся Павлу тринадцатилетний племянник Марии Федоровны (и стало быть, двоюродный брат Александра, Константина и других «Павловичей») – принц Евгений Вюртембергский.
В феврале и марте камер-фурьерский журнал не раз отмечает присутствие принца Евгения за обедом или ужином, в последний раз 2 и 10 марта.
Мемуары и рассказы самого принца достаточно любопытны. Они в различной степени основаны на почти не публиковавшихся дневниковых записях и достаточно точны. Кроме того, записки принца дополняются материалами его секретаря Гельдорфа, а также известного историка Т. Бернгарди.
На всю жизнь осталось в сознании принца удивление по поводу неожиданно пышной, несоразмерной его династической и политической роли встречи, которую устраивает Петербург.
Воспитатель Евгения Вюртембергского, генерал-майор Дибич, озадачен фавором принца; царственная тетушка Мария Федоровна явно смущена и предупреждает племянника, что тут не Карлсруэ и «следует помалкивать». Павел же вскоре передает Дибичу, что он «сделает для принца нечто такое, что всем-всем заткнет рот и утрет носы». Наконец, Дибич поучает воспитанника: «Никому не верь, они лживы, как кошки».
Тем не менее молодой человек охотно вступает в разговоры и вскоре слышит «городские толки», что «император безумен и так долго не может длиться», замечает, что «натянутые отношения отца с сыном ни для кого не были тайною». К дневниковым записям, прежде чем они были напечатаны, присоединились, конечно, позднейшие впечатления, но по обоим мемуарным документам принца видно, что непосредственно перед 11 марта 1801 г. его особенно внушительно предостерегают от опрометчивых шагов.
О чем же шла речь?
Сам Евгений рассказывает, как несколько лет спустя, в 1807 и 1811 гг. посетив Россию, он доискивался истины у своей тетушки и великих княгинь, особенно после того, как заметил возрастающую холодность Александра I.
«Только в 1811 году, – вспоминает принц, – меня заверили, будто Павел I предназначал меня в мужья своей дочери великой княжны Екатерины и с этим связывал определенные намерения. Все эти утверждения, впрочем, не основываются ни на каком письменном документе, и обо всем судили понаслышке».
Однако сам Евгений, как увидим, о многом догадывался еще в 1801 г.; положение принца в начале марта становится все щекотливее и опаснее.
Действительно, женитьба племянника императрицы Марии на старшей дочери Павла создавала бы новую династическую ситуацию. Хотя Павел оформил законодательно наследование по мужской линии, но можно ли сомневаться, что в нужный час была бы должным образом обоснована передача власти не сыну, а племяннику?!
Впрочем, не нужно слишком «завышать» реальность, твердость павловского решения. Его опасения, подозрения, поиски в эти дни новых верных людей (о чем еще скажем) – вот что приводит в движение и вюртембергскую идею. Это такой же элемент мартовского напряжения, как и документ о еще не родившихся Мусиных-Юрьевых… Другое дело – как все это влияет на заговор!
В центр пропаганды заговорщиков попали царские фразы о возвышении Евгения и некоем ударе, который должен воспоследовать. Очевидно, эти слова были в те дни «на слуху». «В один вечер будто бы царь это сказал у Гагариной» затем «то же самое Кутайсову, прибавя: «После этого мы заживем с тобой, как два брата».
Поскольку Гагарина не знала, что за «великий удар» готовится, – ясно, что анонимный автор воспроизводит подробности, которыми Павел будто бы поделился с задушевным другом Кутайсовым: «Этот великий удар состоял в заточении императрицы в Холмогоры, отстоящие в 80 верстах от Архангельска; место дикое, пустое, где несчастная фамилия Ульриха Брауншвейгского томилась в продолжение долгих лет. Шлиссельбург должен был служить местом заключения великого князя Александра; Петропавловская крепость была назначена великому Князю Константину. Пален и некоторые другие должны были погибнуть на эшафоте». Хотя имя принца-племянника тут не названо, но «методом исключения» он мог занять место устраненных. Евгений Вюртембергский прямо говорил об этом историку Т. Бернгарди в июне 1856 г .
Подробности «великого удара» впечатляющие – но говорил ли все это Павел на самом деле?
Много шепчутся при дворе в первые дни марта 1801 г., бесконтрольные же возможности Палена убавить, прибавить, использовать любой слух огромны.
Пален стравливал охотников и жертву, попеременно обращаясь к тем и другим.
В руках такого опытного мастера, как столичный генерал-губернатор, вюртембергская ситуация, так же как рибопьеровская, как мартовские аресты, – прекрасный повод объявить наследнику и заговорщикам о начале «контрнаступления противника».
Мы разбираем редчайшую историческую ситуацию, когда в таком крупном государственном деле обо всем знает только один человек; от его интерпретации зависит и ход дел, и уже полтора века – представления потомков о случившемся.
Существует много рассказов, записанных сразу за Паленом или восходящих к его информации (Ланжерон, Гейкинг и др.), где мы постоянно находим один мотив, один сюжетный стержень: еще немного – и было бы поздно; именно смертельная опасности угрожавшая заговору, заставляла действовать.
Пален вел такую крупную игру, что, пожалуй, уже не мог с какого-то момента отличить вымысел от реалий, образовавшихся вследствие этого вымысла.
Однако вернемся к событиям.
6 – 8 марта
Продолжается дело Рибопьера, и – что важнее – расширяются слухи о нем.
Генерал-губернатор, без сомнения, держит в поле зрения всех намеченных к участию в заговоре.
Теперь, пока точный срок еще не назначен, но близок, – именно теперь лидерам заговора есть еще время поразмышлять о будущем устройстве страны.
Коцебу, явно пользовавшийся рассказами своего соотечественника Клингера, пишет, что «граф Пален имел, без сомнения, благотворное намерение ввести умеренную конституцию; то же намерение имел и князь Зубов. Этот последний делал некоторые намеки, которые не могут, кажется, быть иначе истолкованы, и брал у генерала Клингера «Английскую конституцию» Делольма для прочтения».
Снова, к сожалению, мы не имеем данных, каков был смысл конституционных планов в марте 1801 г.: была ли «конституция Палена – Зубова» повторением прежних, панинских идей или в отсутствие бывшего вице-канцлера обрела новые контуры?
Начиная с 1870-х годов в литературе отмечалось, что П. А. Зубов и после восшествия на престол Александра I выдвигал (наряду с Г. Р. Державиным) проект ограничения самодержавия выборным Сенатом.
Недавние интересные разыскания М. М. Сафонова показали, что проект П. А. Зубова (обсуждавшийся в Негласном комитете 11 сентября 1801 г.) был более умеренным, чем план Державина: Сенат уже не, надеялся законодательными функциями, и «только изменение внутриполитической обстановки» удержало царя от утверждения «зубовского варианта» Весьма вероятно, что проект Зубова, представленный Александру, уже царю, был повторением или модификацией того плана, который обсуждался в марте 1801 г. Легко заметить, что и в раннем проекте Паниных – Фонвизина, и в более поздних ограничение абсолютизма естественно связывалось с Сенатом: здесь зарождалась та традиция, которая в совсем иной исторической ситуации поведет декабристов именно на Сенатскую площадь.
Пока Зубов и Пален «примеряют» к стране разные варианты ее будущего, другой важный заговорщик томится в безделье, нанося изредка «разведывательные» визиты. «Граф Беннигсен, – пишет княгиня Ливен, – который тоже нас в марте навещал, но не особенно часто, был длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя командора из «Дон-Жуана»».
Головина помнит, что «6 марта Беннигсен пришел утром к мужу, чтобы переговорить с ним о важном деле».
Разговор не состоялся, но Головина всю жизнь верила, что Беннигсен мог бы открыть заговор.
Не исключено, что Беннигсен действительно хотел прозондировать почву и, может быть, подобру-поздорову уехать из города, где он «без толку» сидел уже два месяца.
Наблюдательная придворная дама пишет об этих днях: «Недоумение и страх преисполняли все умы. В то же время навязывалась и мысль о приближении роковой развязки, и наиболее ходкою фразою было: «Так дальше продолжаться не может!»».
Как видим, Пален и Зубовы планируют в эти дни удар в глубочайшей тайне даже от своих: сначала приурочивают его к пасхе (после 24 марта), затем, сознательно вдохновляясь римскими прецедентами, ждут «мартовских ид», т. е. 15 марта.
8-е, пятница. Царь с утра много работает, рассмотрел 10 дел, быстро, легко, можно сказать, естественно переходит от произвола к милости: московскому губернатору Салтыкову послан выговор за неправильную бумагу, где названо имя юнкера, в то время как «юнкер не имеет прозвания»; даны строгие распоряжения насчет своевольного «якутского князца», нескольких российских и польских помещиков; московского глазного доктора Рейнера, арестованного за «неисправное лечение», Павел распоряжается не только отпустить, но и «на лечение от глаз отделять в гошпиталях и больницах особые покои».
Дальнейшее течение дня, видное по камер-фурьерскому журналу, лишь тонкая пленка над «темными глубинами».
Дело в том, что рано утром следующего дня, 9 марта, произойдут события, ускоряющие развязку. Включаются же эти ускорители еще накануне, 8-го…
«Подожди еще пять дней и ты увидишь великие дела». Эти слова, по свидетельству Коцебу (который слышал их от С. С. Ланского, а тот от своего друга Кутайсова), Павел «часто повторял» за последние несколько суток.
Часто повторял – очевидно, не был уверен. Однако слухи о царском контрударе сходятся с разных сторон.
Опираясь на наиболее точную (ланжероновскую) передачу рассказа Палена, можно заключить, что царь к вечеру или ночью 8 марта пришел к выводу, будто «хотят повторить 1762 год».
Что же узнал Павел и от кого?
Французский агент называет бывшего петербургского гражданского губернатора Мещерского – «личность низкую, испорченную, который, может быть, от угрызений совести или из страха, алчности, но написал Павлу, предупреждая о заговорщиках». Однако эпизод будто бы завершается на Кутайсове, который, получив важную предупреждающую записку, забыл, положив ее в карман… Сам же Кутайсов позже в разговоре с Коцебу решительно отрицал, что у него имелся подобный документ; записка-де в кармане действительно была, но совсем не о том: «Уже давно граф Ливен по болезни желал места посланника, и я обещал ему это выхлопотать у государя. В этот день оно мне удалось. (…)» Ливен благодарил письмом, Кутайсов «не распечатал».
Генерал Ливен, несколько расходясь в подробностях с Кутайсовым, повторяет, что писал именно такую, «невинную записку». Впрочем, даже если предупреждающий документ существовал – не введем ого в хронику 8 марта: до Павла он не дошел.
Судя по тревоге царя, явно не основанной на точных фактах, он имел какого-то неопределенного, косвенного осведомителя.
Нам помогает разобраться рассказ барона Гейкинга. Сенатор, бывший председатель юстиц-коллегии (живший в конце павловского царствования в Митаве, в немилости, но вернувшийся в столицу весной 1801 г.), он, как уже отмечалось, вскоре услышит веселые, откровенные признания земляка-курляндца Палена. В записках Гейкинга несколько ссылок на этот рассказ. Безусловно к самому Палену восходят и следующие строки (хотя и не сопровождаемые указанием источника): «Как ни старались скрыть все нити заговора, но генерал-прокурор Обольянинов, по-видимому, все-таки заподозрил что-то. Он косвенным путем уведомил государя, который заговорил об этом со своим любимцем Кутайсовым; но последний уверял, что это просто коварный донос, пущенный кем-нибудь, чтобы выслужиться».
Обольянинов, лично преданный Павлу хранитель престола, «око государево», обязан разыскивать и, конечно, может кое-что подслушать в возбужденном и болтливом Петербурге. Особенно если Пален ему поможет…
Австрийский агент Локателли тоже известит свое правительство, что Павла, предупредил Обольянинов.
Что же обнаружил генерал-прокурор?
По событиям следующего дня мы догадываемся, что Обольянинов подозревал императрицу, т. е. шел не по главному пути (или его искусно направляли?).
Приведем сведения, явно неточные, но удивительно дополняющие известные обстоятельства.
Гёте: «Пятница, 1 марта старого стиля. Великий князь Константин ругает своего отца, генерал-прокурор выдает. Император сам хочет привлечь его к ответу. Странным образом это отвращено. Константин должен принести присягу».
Присяга царевичей действительно была – мы знаем от Саблукова, – но это случится 11 марта. Немецкий поэт, однако, отмечает 1-е число, намекая на какие-то важные подробности. Помня, что в большинстве других случаев хронология записей Гёте ровно на неделю опережает события, можем смело предположить, что речь идет о 8 марта: генерал-прокурор будто бы ловит Константина (незамешанного члена царской семьи!). Мы не знаем больше никаких подробностей и только констатируем еще раз: 8-го Обольянинов предупреждает…
Что предпринял Павел, получив предостережение генерал-прокурора?
9-е, суббота
Камер-фурьерский журнал фиксирует события, начиная с «исхода 9-го часа утра». Однако задолго до того был не отмеченный журналом обычный утренний доклад Обольянинова. Сохранился перечень представленных им дел по Тайной экспедиции, ведь генерал-прокурор непосредственно возглавлял это учреждение.
Тогда же, думаем, генерал-прокурором было доложено о бунтовщиках и заговорщиках вообще, но эти главные слова в документе не отражены.
Затем Обольянинов уходит, наступает время доклада фон дер Палена. Приведем рассказ о нем: «9 марта я вошел в кабинет Павла в семь часов утра, чтобы подать ему, по обыкновению, рапорт о состоянии столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным; он запирает дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две и говорит наконец: «Г. фон Пален! вы были здесь в 1762 году?» – «Да, ваше величество». – «Были вы здесь?» – «Да, ваше величество, но что вам угодно этим сказать?» – «Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?» – «Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит; но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?» – «Почему? Вот почему: потому что хотят повторить 1762 год».
Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился и отвечал: «Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре». – «Как! вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне говорите!» – «Сущую правду, ваше величество, я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь – вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя; а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она преданна. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а нынче она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома; каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери; у нее двадцатилетние дети, а в 1762 году вам было только 7 лет». – «Все это правда, – отвечал он, – но, конечно, не надо дремать».
На этом наш разговор и остановился, я тотчас же написал про него великому князю».
Свидетелем важнейшего разговора вскоре останется один Пален. Но его мудрено проверить.
Головина вообще сомневается, что подобный разговор состоялся. Позднейший исследователь разделяет эти сомнения: Павел будто бы просто вызвал генерал-губернатора, а тот заверил, что царь может на него положиться…
Однако мы имеем по меньшей мере 10 записей этой сцены и должны исходить из того, что эпизод был. Другое дело – каковы действительные подробности.
Принимая за основу запись Ланжерона, вникнем в ее смысл: Павел боится «1762 года» т.е. замены на престоле императора императрицей, и генерал-губернатор подхватывает тему, дает объяснения насчет малых шансов Марии Федоровны.
Процитировав Ланжерона, послушаем других. Они в общем сходятся на том, что царь вспомнил в то утро своего отца, 1762 год, но тема Марии Федоровны у них почти неслышна. По рассказам, восходящим к Беннигсену, по депешам секретных агентов, по первым печатным заграничным описаниям тех событий Павел подозревает старшего сына (легко, впрочем, понять, что дальнейшее течение событий повлияло на версию задним числом). «Мне не нравится близость между моим сыном и Зубовыми», – восклицает царь, согласно английской версии.
Второй элемент беседы царя и заговорщика, ответ Палена, в общем тоже представлен разными современниками довольно сходно. Правда, племянник Беннигсена несколько снижает трагическую коллизию: Пален в ответ на царский вопрос: «Что у тебя для меня сегодня новенького?» – сунул руку в карман и, придержав там список заговорщиков (который узнал «по более толстой бумаге»), протянул царю лист со столичными анекдотами: «Государь громко хохотал и, несмотря на свою подозрительность, не заметил крайнего замешательства генерала». У других мемуаристов эпизод еще менее драматичен: Гейкинг передает реплику генерал-губернатора, лишенную эффектов: «Если что-нибудь и затевается, то я должен быть осведомлен об этом, я сам должен быть участником…».
Именно после столь обыкновенного разговора кажется совершенно естественной та сцена, которую запомнил бесхитростный семеновец: «Дня за четыре до 12 марта мы были собраны все в доме графа Палена у Полицейского мосту поутру до развода. По полном нашем съезде и по помещении нас в зале сего дома граф вышел к нам в полном мундире и, раскланявшись, сказал громким голосом: «Господа! До сведения государя императора доходит о существовании заговора в столице, но его величество надеется на вашу верность»». Мемуарист задним числом помнит, конечно, и «коварную улыбку» губернатора, но нам важнее указание «дня за четыре», т. е. около 8 марта!
Сильное снижение романтических подробностей мы находим и в записках Толя (по духу его версия близка к рассказу Гейкинга – и ведь оба ссылаются на Палена!): «Если сцена Палена с царем и не прямая басня, то легенда, над которой Пален в точение жизни имел обыкновение посмеиваться. Кое-что действительно было, но звучало совсем иначе, когда граф Пален сам рассказывал в своем кругу: император сказал ему однажды на утренней аудиенции известные слова («Говорят, что против меня имеется заговор и ты один из заговорщиков»); Пален же, смущенный и испуганный, не нашел сначала ничего лучшего, как на несколько мгновений задержаться в поклоне, чтобы собраться с мыслями и чтобы царь не мог ничего прочитать у него в глазах. Только после того, как он догадался быстрым усилием вернуть своему лицу обычное выражение, рискнул выпрямиться. Однако в спешке не нашел лучшего ответа, чем следующий (произнесенный все еще с опущенными глазами): «Как может такое случиться, когда у нас есть Тайная экспедиция?» – «Это верно», – ответил на это император, внезапно совершенно успокоенный, и оставил этот опасный предмет».
По Чарторыйскому, Павел объявляет Палену, что знает о заговоре. «Это невозможно, государь, – отвечал совершенно спокойно Пален. – Ибо в таком случае я, который все знаю, был бы сам в числе заговорщиков». – Этот ответ и добродушная улыбка генерал-губернатора совершенно успокоили Павла»».
Наконец, внук. Палена Медем тоже рассказывает просто и правдоподобно: царь подозрителен и объявляет, заканчивая разговор, о возможных заговорщиках: «Все пойдут в Сибирь».
Повторяем, что предпочитаем более простую версию, помня последующее стремление отставленного Палена романтизировать события, преувеличить угрожавшие заговорщикам опасности и тем представить себя как всеобщего спасителя.
Итак, самым достоверным элементом утренней сцены 9 марта являются усиливающиеся царские подозрения насчет заговора. Дальнейший же диалог, его направленность в сторону царицы или наследника или обоих сразу – тут мы во власти паленских версий… Даже Ланжерон находит, что Пален открыл ему далеко не все. Откровенно, цинично рассказывая о планах цареубийства, бывший генерал-губернатор, как отмечалось, опускал подробности своих интриг против других вельмож (они ведь еще здравствовали, могли отомстить!). В записи Ланжерона почти ничего о Панине, Ростопчине, кутайсовской интриге; наконец, ни звука о практических мерах, принятых в то утро царем для своей безопасности…
Если утром 9 марта действительно усиливается недоверие царя к царице, то отсюда рождается идея (осуществленная как будто 11 марта) заколотить дверь, ведущую в апартаменты Марии Федоровны.
К тому же царь опасается отравы и велит, чтобы «кушанья ему готовились не иначе как шведской кухаркою, которая помещена была в небольшой комнатке возле собственных его покоев».
Наконец, важнейшим контрударом Павла многие современники считали вызов в столицу двух опальных генералов. Речь идет о появлении людей, которые по своим старым должностям заменят Палена. Аракчеев – бывший военный генерал-губернатор, который теперь в Грузине, недалеко от столицы. Второе имя, называемое многими мемуаристами, – Федор Иванович Линденер, «второй Аракчеев», бывший комендант крепости, недавний руководитель следствия по «смоленскому делу». В прошлом он прусский ротмистр, которого еще Павел-наследник пригласил для обучения своих гатчинцев; для вызова же его в столицу весной 1801 г. требуется немало времени, так как Линденер находится в Калуге.
Согласно анонимному автору так называемого «Дневника современника», «император полагал, что (генералы) могут ему пособить в удалении своей фамилии, заточить императрицу и двух сыновей и тем избавиться наконец от всех тех, которые казались ему подозрительными».
До сути эпизода добраться нелегко. Мы опять находимся в центре двойного «паленского маневра». Он один держит все нити, знает всю правду, и даже на расстоянии почти в 200 лет наши знания обо всем происходившем очень от него зависят.
Преображенский офицер Козловский, находившийся тогда в Петербурге, несколько позже поведает С. А. Тучкову, что Павел посылал за Аракчеевым, но потом последовал контрприказ, и, «зная непостоянный характер Павла I, Аракчеев не был удивлен отменой приказа и поехал домой». Козловский прибавлял, что уж Аракчеев «никого бы не пощадил».
Мемуары Тучкова (записанные после 1812 г.) при всей их достоверности невольно отражают то устойчивое, «нарицательное» мнение, которое сложилось об Аракчееве в период военных поселений. Ухудшение последующей репутации зловещего фаворита Александра I обостряло восприятие его возможного «рокового» появления в марте 1801 г.; заметим, что, призванный Павлом, он должен был бы действовать против «своего» Александра.
Утверждали, будто Пален перехватил и на свой риск остановил царского фельдъегеря, отправленного за двумя генералами. Греч помнил, что «заговорщики, т. е. Пален и пр., приступая к подвигу, разослали приказы по заставам – никого не впускать в город. Полагают, что они хотели удержать за шлагбаумом графа Аракчеева, за которым послал император Павел».
Другие слышали, будто страшного противника остановили на заставе. Тот же Греч добавляет, что «Аракчеев прибыл уже по совершении катастрофы, явился к Александру Павловичу и в слезах повалился к ногам его».
Настольная книга графа Аракчеева по Грузинской вотчине, которую мы уже цитировали, не отражает никаких дворцовых и столичных бурь и не содержит сведений, посылали за хозяином в начале марта или нет.
Не имеется никаких достоверных данных хотя бы о кратком пребывании Аракчеева в столице в марте 1801 г. Кок известно, он был вызван Александром I в Петербург только 26 апреля 1803 г ., а 14 мая того же года назначен инспектором артиллерии. Правда, в настольной книге графа есть запись, свидетельствующая о несколько более раннем посещении столицы («1803 марта 23. Приехал я из Питербурха в Грузино»), но вообще в 1799 – 1803 гг. Аракчеев решительно не появлялся в Петербурге. Ситуация столь туманна, двойственна, что мы вправе заподозрить: а посылался ли вообще пресловутый вызов Аракчееву и Линденеру? Не есть ли это плод паленской хитрости – чтобы напугать колеблющихся, ускорить взрыв?
Безусловно только то, что в следующие два дня Пален максимально использовал механизм этой интриги и позже нарочито широко всем (но с разными оттенками!) о том рассказывает; заметим только, что об Аракчееве в 1801 г. отрицательно отзываться было совершенно безопасно, в 1804-м же (когда состоялась беседа Палена с Ланжероном) бывший фаворит Павла уже вернулся ко двору как фаворит Александра – и не потому ли «аракчеевская история» совершенно отсутствует в записи Ланжерона?
Кроме версии Палена имеется единственное серьезное свидетельство, что вызов генералам все-таки посылали.
А. А. Кононов, до 1799 г. адъютант Линденера, пишет: «В марте 1801 года Линденер с новыми надеждами, с новыми планами ехал в Петербург [из Калуги]». На одной из станций он узнает о кончине Павла и тут же пишет новому царю: «Моя преданность к родителям вашего императорского величества наделала мне много врагов в России; прошу всеподданнейше уволить меня от службы и разрешить вернуться на родину». Отставка и паспорт не замедлили. С этой же станции Линденер уехал в Пруссию, не видавшись даже с женою, которая до преклонных лет жила в своей деревне Воронежской губернии».
Судя по этим строкам, вызов от Павла существовал; крутой поворот в судьбе Линденера после переворота, так же как двухлетний «карантин», где выдержали Аракчеева, – все это, может быть, следы отношения Александра к той угрозе, которую заключало бы появление в столице двух самых суровых генералов «гатчинской школы».
Пален мог, разумеется, раздуть едва намечавшийся эпизод, но при этом верно уловил несомненное стремление Павла найти новых лиц, надежную опору; на одном полюсе этих поисков возвышение Евгения Вюртембергского, на другом – например, рассказ Вильгельма Кюхельбекера (записанный около 1820 г. его учеником Н. А. Маркевичем), как его отец, Карл Кюхельбекер (директор и устроитель Павловска), «в последние дни жизни императора [Павла] вошел в случайную милость царскую и чуть не сделался таким же временщиком, как Кутайсов. Павел не мог ужо обходиться без него».
Между этими стремительными привязанностями и возвышениями легко найти место двум призываемым генералам.
Заговорщики хорошо понимали, чем грозят им поиски новых людей: ведь это сигнал начавшегося контрнаступления царя. В 1762 г. поводом к атаке Екатерины II против Петра III послужили аресты нескольких верных ей офицеров, и в официальном манифесте царицы (от 7 июля 1762 г.) причина переворота объяснялась тем, что свергнутый царь желал «нас убить».
Как видим, в марте 1801 г. Пален разжигает, накаляет обстановку, чтобы не дать отсыреть заложенной взрывчатке. От него требуется великое искусство балансирования – не слишком горячить Павла, чтобы контрудар не последовал раньше срока, но и не дать царю способа смягчить, умиротворить сына.
Описанные вкратце многообразные события тех дней, попавшие во все главные мемуары о 1801 г., – это прежде всего свидетельство того, что думали, как смотрели на вещи в Петербурге; однако повторим, что сквозь печальную фантасмагорию не так просто увидеть печальную действительность. Вспомним, что в обстановке абсолютной безгласности даже самые трезвые заговорщики, получив обратно, от других, свои нарочито пущенные версии в дополненном виде, уже не могли отличить истины от первоначальной лжи, да и ложь ведь была типической, и уже неважно, невозможно было отличить беды сочиненные от истинных…
Однако через десятки вымыслов, фантомов вперед двигалась вполне реальная политика. Из хитросплетения версий несомненно выступает безусловное стремление, вдруг возникшее 9 марта, ускорить события. Повод, одновременно реальный и фантастический, тут несомненно был: происки Обольянинова, царские намеки в разговоре с Кутайсовым, а может быть, просто ощущение опытного лидера, что – пора! Пален встревожен чем-то важным, и любая версия о разговоре 9 марта – знак подлинной тревоги. Причина была – поводов сколько угодно! Палену очень просто использовать одну из типовых ситуаций.
Услышать же настоящий разговор 9 марта мы вряд ли когда-нибудь сможем; упомянутое уже «верхнее самозванство» здесь расцветает невиданным цветом: главнейший заговорщик будто бы объявляет царю, что является фиктивным, «самозваным» главой большого заговора, а сам является настоящим, несамозваным вождем цареубийц; царь обманут или хотя бы временно успокоен паленским обманом, но в то же время будто бы ведет «обман под обман», вызывая Аракчеева, и притом неясно, было ли на самом деле все это, каков был заговор, густо замешанный на самозваной фикции, опирающейся на жесткую реальную почву.
Так или иначе, но после семи часов утра 9 марта Пален, выйдя от Павла, выносит царю скорый приговор, и тут уж рассказ становится все более поддающимся проверке, так как на сцене не один Пален.
9 марта после семи утра – мы угадываем и знаем – Пален действует. Главное, первое звено – встреча с наследником. Прежде объяснялись посредством записочек. Согласно Ланжерону, и теперь Пален «написал» наследнику; вряд ли он изложил все тонкости беседы – скорее назначил тайную встречу. Пален (по свидетельству анонимного автора «Дневника современника» и других мемуаристов) действовал в эти дни на Александра также «с помощью некоторых приближенных к нему лиц» – Ф. П. Уварова, П. М. Волконского; тут же, конечно, и Елизавета Алексеевна, чувства которой к Павлу созрели.
Вряд ли Пален пренебрег хоть одной возможностью контролировать наследника, однако теперь, 9 марта, они должны встретиться с глазу на глаз, без посторонних. С известной долей вероятия вычисляем ту беседу, о которой, собственно, не сохранилось никаких мемуарных свидетельств: Пален ярко воспроизводит свой последний опаснейший диалог с царем; вдобавок, возможно, покажет некий документ, который можно истолковать как санкцию на любые аресты. Согласно Гейкингу, Пален попросил в то утро царя «соблаговолить дать … этот приказ письменно», так как он «напал на след некоторых обстоятельств», о которых он доложит «достоверные сведения». Государь написал приказ, и Пален удалился со спокойным видом, хотя и сильно взволнованный.
«Вполне вероятно, – вторит этим сведениям Евгений Вюртембергский, – что граф Пален использовал уготованную императрице судьбу как основной аргумент, заставивший великого князя принять решение». Наконец, Я. И. де Санглен утверждал, будто он видел тот самый документ, и сообщает разнообразные подробности: «Пален и Панин (!) выдумали дать подписать Павлу … следующие указы: императрицу Марию Федоровну заточить на вечные времена в Смольный монастырь; наследника – в Петропавловскую крепость, а великого князя Константина Павловича отправить в полк Скалона, стоящий в Сибири. Император особенно любил Константина Павловича и, подписывая указ, собственноручно прибавил: «Выдать Его высочеству цесаревичу 3 тысячи рублей на дорогу». (…) Я видел этот разорванный указ у Николая Федоровича Хитрово, моего соученика».
Н. Ф. Хитрово (1771 – 1819 гг.) – генерал, поверенный в делах во Флоренции, муж Е. М. Хитрово – дочери М. И. Кутузова (будущей приятельницы Пушкина). Свидетельство крайне любопытное! И тем не менее вопрос о документе остается темным, мемуары Санглена – сочинение столь же интересное, сколь и «гасконское» (по выражению современников, имевших в виду происхождение предков Санглена). Трудно вообразить, что эпизод выдуман, но легко представить, как много здесь напутано…
Позже, распространяя повсюду рассказ о подозрениях, угрозах, страшных письменных приказах царя, Пален как бы замыкал Александра в «кольцо свидетелей». Если и не говорилось, то подразумевалось, что в случае павловского контрпереворота имя Александра легко может всплыть на допросах в Тайной экспедиции. Тут важнейший психологический момент: наследник, усталый, ненавидящий и боящийся отца, тайно честолюбивый, оскорбленный, дает окончательное согласие.
Александр в заговоре
Участие или неучастие его в перевороте – одна из «тайн века». Дело было в репутации, в праве монарха, в праве подданных на освобождение от тирана.
В первое утро своего правления Александр бросится на шею шведскому послу: «Я несчастнейший человек на земле». – «Вы должны им быть», – отвечал посол.
Постепенно исторически сложились как бы три уровня, три слоя «александровской версии». Первый – безоговорочно лояльный: царь ничего не мог знать, подданные не должны обо всем этом думать. Подобный взгляд закреплялся диалогом между сыном и матерью, происшедшим 12 марта.
Мария Федоровна: «Знал ли ты?..»
Александр I: «Нет!»
С годами, однако, Александр все больше приобретает у мыслящих подданных репутацию «властителя слабого и лукавого» – это, понятно, не способствует вере в его полную непричастность. Складывается второй уровень версии – для многознающих участников и современников. Перед иными царю приходилось кое в чем сознаваться. Так, Адам Чарторыйский помнит: «Во время неоднократных бесед наших о событии 11 марта Александр не раз говорил мне о своем желании облегчить, насколько возможно, участь отца после его отречения. Он хотел предоставить ему в полное распоряжение его любимый Михайловский замок, в котором низверженный монарх мог бы найти спокойное убежище и пользоваться комфортом и покоем».
Пален и другие соприкасавшиеся с Александром заговорщики клянутся, что не желают убивать царя; наследник, естественно, должен им довериться – он согласен только на отречение отца, – а они обманули!
Вот типичный отзыв такого рода: «Ужасное сознание участия его в замыслах, имевших такой неожиданный для него, терзательный исход, не изгладилось из его памяти и совести до конца его жизни, не могло быть заглушено ни громом славы, ни рукоплесканиями Европы своему освободителю».
Эта версия заживет самостоятельной жизнью, вернувшись к Александру, и он полуповерит, захочет верить. Основное ядро истолкования – будто Александр знал, но мало, а сам не делал ничего. Чем меньше он знал, тем безвиннее; поэтому любой факт, подтверждающий, как много он знал и делал, был страшен и «не нужен».
Наконец, третья версия: как было на самом деле. Об этом еще не раз поговорим…
Пока же Александр в ответ на объяснения генерал-губернатора дает Палену carte blanche.
Окончательное согласие было, однако, лишь первым элементом беседы графа с принцем. Затем они обсуждают практическую сторону. Пален просит для переворота завтрашний день, 10 марта; Александр просит 11-е, и об этой просьбе Пален многим позже расскажет, понимая, что наследник не сможет опровергнуть: «Великий князь заставил меня отсрочить до 11-го дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных. Я согласился на это с трудом и был не без тревоги в следующие два дня».
В связи с расчетом наследника на семеновцев Валишевский сообщал, что «сохранилась записка великого князя, определенно указывающая на его сообщничество». При этом автор (располагавший большими связями при дворе и среди русской аристократии) извинялся, что «не может указать на источник этих сведений, но он безусловно верен».
Однако возвратимся к тому потаенному месту, где Пален беседует с наследником. Александр еще раз просит ничего не говорить брату Константину. Прислушиваясь к шепоту Палена и наследника, улавливаем и обсуждение способов – как увезти Павла из дворца (карета, которая доставит низложенного царя в крепость, и т. п.).
Снова возникает тема Сената – того учреждения, которое законным образом оформит все происходящее. Пален несомненно еще раз воздействует на «возвышенные чувства» царевича любезным ему образом представительного правления… В распоряжении заговорщиков по меньшей мере два компетентных гражданских лица: Иван Муравьев – «представитель Панина» и Дмитрий Трощинский, очевидно причастный к «первому заговору», 1797 – 1799 гг.
Итак, важный разговор Палена и Александра не только утвердил действия, но и образ действия, детали, способы. Много знающий Лобанов-Ростовский полвека спустя заметит: «Теперь уже достаточно выяснено, что катастрофа 11 марта 1801 года не была нисколько неожиданностью для Александра; все было сделано с его ведома, хотя он впоследствии отрицал, что кто-либо мог предполагать кровавую развязку».
Крупный чиновник, хорошо служивший четырем царям, не жалеет крутых выражений о преемнике Павла, стремившемся к достижению «исключительно личных целей благополучия».
В начале XX в. другой исследователь обратит внимание на то, что Пален (если б имел строгий запрет Александра на цареубийство) «не преминул бы принять, по крайней мере, вид человека, опереженного событиями, обманутого неверными сообщниками. Александр, со своей стороны, не воздержался бы, чтобы не выказать справедливого гнева этим изменникам». Ничего этого, однако, не случилось.
В общем, Александр замешан сильнее, чем думали даже осведомленные лица. Однако и он в марте 1801 г., конечно, орудие в руках Палена, человека, занимавшего в тот момент важнейшие должности государства.
Девять лет спустя Александр I заведет прехарактерный разговор о централизации. Секретарь императрицы Марии Федоровны Г. И. Вилламов записал следующую сцену между Александром I и петербургским генерал-губернатором Балашовым (2 сентября 1810 г.): «Государь высказал предположение, что Балашов, занятый своим министерством [полиции], попросит увольнения от должности военного губернатора. ( … ) Недели две ранее этого, говоря о революции 12 марта [1801 г.], государь заметил о неудобстве соединения слишком большой власти в одном месте. Примитивная причина революции – это соединение в руках Палена. Балашов возразил, что дело не в соединении, а в выборе лица и в руках Палена это, конечно, было опасно, но с другим лицом – это дать средство человеку помешать революции. Не кажется ли, что государь, который, по-видимому, почитает Балашова особой доверенностью, считает его за человека, которому опасно дать много власти?».
Таковы были попытки Александра извлечь уроки из событий 1801 г.
Однако вернемся к заговору.
После «вычисленной» нами беседы генерал-губернатора с будущим царем остаток дня 9 марта погружается для потомков в полумрак.
Павел, катаясь с Кутайсовым, возможно, опять намекает на «великие дела через пять дней».
В тот день, 9 марта, царь окончательно соглашается на совместную экспедицию с французами в Индию начиная с весны 1801 г. (под командованием Массены). «Обеденный стол их величеств» на 7 кувертов. К столу приглашены Строганов, Кушелев, Нарышкин, Кутайсов, Куракин. Затем камер-фурьерский журнал отмечает общение их величеств «с детьми и знатными особами» и обычный ужин, где, между прочим, присутствует статс-дама Пален. Начиная с этого момента Александру приходится демонстрировать способности незаурядного лицедея…
Пален же к тому субботнему вечеру почти все обдумал: наверняка известил Зубовых об утренних и дневных разговорах и о назначенной дате – 11 марта, предупредил Талызина, Депрерадовича и предложил порядок действий…
10 марта, воскресенье
С утра Павел как будто милостив: Рибопьер освобожден (но эта история уже поработала на заговор!), отпущен под надзор и другой узник крепости – майор Никита Алепин, сидящий более четырех лет за «неподтвержденную жалобу» и грубость ревизору-сенатору.
В тот же день архиепископ Амвросий (Подобедов) пожалован петербургским митрополитом, и этот факт тут же рождает слух, будто новый владыка нужен для расторжения старого царского брака и заключения нового.
«В исходе девятого часа… экзерциргауз, развод…».
Важный очевидец, принц Евгений Вюртембергский, помнит: «Утром в воскресенье я нашел государя не в лучшем настроении, чем вчера. Дибич во время военного смотра сказал мне, что государыня и оба великих князя, очевидно, в чем-то провинились. Государь пожал мне руку с благоволением, как бы желая сказать: «У меня сейчас нет времени с тобой общаться, но не сочти это за меньшее к тебе расположение»».
Затем главные действующие лица расходятся по своим делам. Александр, шеф Семеновского полка, успевает поговорить с верным офицером поручиком Полторацким: ему приказано «принять на себя вне очереди начальствование караулом» на другой день в Зимнем дворце.
Воскресный вечер. Камер-фурьерский журнал фиксирует, что «в присутствии их императорских величеств и их императорских высочеств и некоторых знатных особ в столовой комнате представлен был французский концерт, после которого их императорские величества со всеми бывшими на концерте изволили в столовой комнате кушать вечерний стол на 23 куверта».
Принц Евгений Вюртембергский, слушавший «французский концерт», многое замечает, например что даже выступление мадам Шевалье не очень привлекло внимание царя; что «великая княгиня Елизавета была тиха и печальна. Александр разделял ее грусть, царица испуганно смотрела вокруг и, казалось, хотела понять, какими новыми, несущими беду мыслями занят ее муж. Тот бросал только дикие взгляды, и я удивлялся, почему он в таком настроении не откажется от концерта. ( … ). После концерта государь, как обычно, удалился, но его удаление, ожидаемое дольше, чем обычно, сопровождалось поведением, ставшим мне понятным только спустя некоторое время. Когда открылись боковые двери, он подошел к государыне, стоявшей справа, остановился перед ней, насмешливо улыбаясь, скрестил руки, непрестанно пыхтя по своему обыкновению, что он делал, находясь в высшей степени нерасположения, и затем те же угрожающие жесты повторил перед обоими великими князьями. Наконец, он подошел к графу Палену, с мрачной миной прошептал ему на ухо несколько слов и затем пошел ужинать. Все молча последовали за ним, охваченные страхом. На мой вопрос: «Что это значит?» – графиня Ливен коротко ответила: «Вас и меня это не касается». За мрачным столом царила мертвая тишина; после ужина государь отстранил с насмешливой улыбкой свою жену и сыновей, которые хотели попрощаться с ним, и внезапно ушел, не простившись. Государыня заплакала, и вся семья ушла глубоко опечаленная».
В это время фрейлина, благожелательная к Евгению, шепчет что-то на ухо Дибичу; воспитатель позже объяснит, что юная дама говорила о возможных способах устроить принцу побег из дворца и спрятать его в подготовленном убежище. Как видим, вечер 10 марта предвещает самый зловещий ход событий.
Генерал-губернатор, покинув Михайловский замок, работает. «Воскресенье, – записывает Гёте. – Свадьба Жервэ, на которую Пален обязан прийти, но не приходит». Некогда Палену. Он с теми лицами, которые знают уже все или почти все: с Зубовыми, может быть, с «гражданскими заговорщиками»… Нет сомнений, что при распределении «завтрашних ролей» не раз названо имя генерал-лейтенанта Беннигсена, давно ожидающего и немало знающего…
Еще раз отметим важную черту заговора: многознание 4 – 6 человек, смутное ожидание и неточное предчувствие многих. Это один из главных способов, каким генерал-губернатор предохраняет дело от провала.
Прекрасно переданное в мемуарах Саблукова общее нервное, беспокойное настроение во дворце и в войсках было отчасти и результатом павловских контрманевров (уже было задумано перемещение полков). И не потому ли тревожные сигналы «со стороны заговора» почти не различались среди других источников беспокойства. Полицмейстер Касаткин-Ростовский получает известие от хозяина оружейного магазина, что у него куплено офицерами в один день девять пар пистолетов. Полиция собралась арестовать первого же покупателя, однако в том не преуспела. Чем больше мер предосторожности, чем больше таинственных распоряжений власти, тем более заговор попадает под опеку этой таинственности, тем он безопаснее…
Так оканчивается 10 марта 1801 г.
Глава XII
Одиннадцатое марта
И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами…
Понедельник шестой недели великого поста.
Царь встает между четырьмя и пятью утра, с пяти до девяти работает.
Утренние доклады Обольянинова, Палена. Помилованным накануне двум арестантам царь велит дать «по сту рублей на дорогу», потом был рассмотрен целый ворох донских доносов об оскорблении величества. Павел велит «отпустить всех без наказания».
11 марта утверждено шесть законов, в том числе именной «О дозволении киргизскому народу кочевать между Уралом и Волгой».
Царское настроение, однако, ухудшилось, когда Пален начал докладывать иностранные дела: подготовлен указ о запрещении вывоза любых товаров из страны – явный признак близкой войны. Отправляется курьер в Пруссию «со взрывчатым пакетом»: Фридриху-Вильгельму III предлагается вторгнуться в Ганновер, если же откажется, то Россия объявляет Пруссии войну (обо всем осведомлен и первый консул).
Пален от себя приложил к царскому рескрипту записку: по одной версии – «Император сегодня не в себе»; по другой – «Его императорское величество сегодня нездоров. Это может иметь последствия». Оба французских историка основывались на серьезной информации, поступившей к первому консулу, и в существовании паленской приписки, несмотря на разницу в «редакциях», сомнений нет. Она сделана человеком, знающим, что либо все сойдет победителю, либо снимут голову, а по волосам не плачут… Попутно заметим, что посланник в Берлине Крюденер (которому еще Н. П. Панин писал конспиративные письма!) все поймет с полуслова; Пален уверен в его соучастии и давно принял от сосланного вице-канцлера одного из «своих людей».
Утренний доклад Палена окончен; по ходу дела даны и устные распоряжения, которые сохранены для истории их исполнителями. Тревога (объявленная царем и понятая «визирем») за 2 дня, естественно, не улеглась. Саблуков видит и слышит, как отвечает Пален на вопрос царя о мерах безопасности: «Ничего больше не требуется. Разве только, ваше величество, удалите вот этих якобинцев» (при этом он указал на дверь, за которою стоял караул от конной гвардии) «да прикажите заколотить эту дверь» (ведущую в спальню императрицы). Оба этих совета злополучный монарх не преминул исполнить, как известно «на свою собственную погибель».
Перемещения караулов согласованы рано утром двумя главными людьми государства. Дежурный же генерал-адъютант, т. е. хозяин положения во дворце, в этот день – шеф кавалергардов и один из деятелей заговора, Федор Петрович Уваров (что, конечно, тоже «подгадано» не случайно!). «Вы якобинец, – скажет Павел вечером Саблукову. – Вы все якобинцы». Великий князь Константин, шеф конногвардейского «якобинского» полка, явно под сильным подозрением: высочайший гнев умело направляется «не туда».
Я. И. де Санглен напишет в своих мемуарах, что в этот день «Павел заставил присягать всю императорскую фамилию, за исключением малолетних, не вступать с заговорщиками ни в какую связь». Против этого места сохранилась помета другого читателя, Александра II: «Я никогда не слыхал ничего подобного». Саблуков, однако, подтверждает факт новой присяги старших сыновей Павла.
Вероятно, не стоит придавать этому обстоятельству слишком «роковой смысл»: царь подозрителен, как обычно, но просто события этого дня сильнее запомнились современникам, показались многозначительными.
Вернемся к утру 11 марта. С каждым часом Пален все более опасается помехи. Генерал-губернатор побаивается сильно сблизившегося с царем патера-иезуита Грубера, который ожидает приема после паленского доклада. Вспомним, что некоторые дипломаты уж сравнивают влияние Грубера с кутайсовским. Стремление иезуитов и папы поддержать благожелательного к ним Павла не вызывает сомнений. Поэтому Пален, нарочито будто бы, затягивает доклад и утомляет монарха, который уже но желает новой беседы. Грубер удаляется, Пален продолжает следить за безопасностью тайного дела.
В 9 часов Павел садится, как обычно, на лошадь и в сопровождении наследника отправляется «осматривать войска».
10 часов. Обычный плац-парад, развод караула в присутствии императора.
Царь не в духе. Согласно свидетельству Вельяминова-Зернова, Пален еще добавил масла в огонь: собрав офицеров гвардии на своей квартире (как это часто бывало), он объявил особое неудовольствие государя их службой и угрозу всех сослать. «Все разъехались с горестными лицами и с унынием в сердце. Всякий желал перемены».
С. А. Тучков в мемуарах, отличающихся точностью, приводит рассказ своего подчиненного П. Т. Козловского, как на разводе 11 марта царь разбранил этого офицера, угрожал ему и его роте, наследник же после окончания учения спросил: ««Отчего ты так скучен?» Козловский отвечал. «Александр взял его за руки и сказал тихо: потерпи немного, потерпи, скоро все переменится». – После сих слов, отойдя на несколько шагов, возвратился он к Козловскому и спросил его, знаком ли он с генералом графом Паленом. ( … ) Я бы советовал вам короче с ним познакомиться, он в великой милости у государя».
Аргамаков (занимавший важнейшую должность полкового адъютанта Преображенского полка) 19 лет спустя, обедая в московском Английском клубе с кузеном, Михаилом Фонвизиным и Матвеем Муравьевым-Апостолом, расскажет, что «11 марта 1801 г. ночью», когда зоря была уже пробита, 3-й батальон Семеновского полка повели в Михайловский замок, чтоб сменить преображенцев «под предлогом, что на другой день, 12 марта, Павел I будет рано смотреть Преображенский полк».
Так вспоминает Преображенский офицер, а вот свидетельство семеновца: «11 марта на разводе государь весьма прогневался на сменявшийся караул нашего полка второго батальона, кричал на батальонного шефа генерала Мозавского, а наследнику сказал: «Вашему высочеству свиньями надо командовать, а не людьми». Наследник вместо поклона отвернулся и закусил губу – «мы все это видели». Затем царь ушел, а наследник навестил сидящего на гауптвахте генерала Эмме и провел к нему жену с маленьким сыном, чем еще больше расположил своих семеновцев».
С конногвардейцами другие средства: сразу после парада полковой адъютант (и заговорщик) Ушаков передает приказ Саблукову дежурить по полку. Саблуков недоволен, так как его эскадрон заступает во внутренний караул и в этих случаях не положено к одному ответственейшему поручению прибавлять другое. Он ищет наследника или Константина, но не находит и только позже догадается, что этот непорядок – один из элементов паленского замысла: максимально изолировать нейтрального Саблукова и его солдат.
Постепенно к вечеру незримо перемещаются и крупные и малые звенья сложного механизма. В комнате перед кабинетом Павла замерли 29 конногвардейцев Саблукова, но вечером их сменят. «Через две комнаты стоял другой внутренний караул – от гренадерского батальона Преображенского полка. ( … ) Этот караул находился под командой подпоручика Марина и был, по-видимому, с намерением составлен на одну треть из старых Преображенских гренадер и на две трети из солдат, включенных в этот полк после раскассирования лейб-гренадерского полка. ( … ) Солдаты этого полка были весьма дурно расположены к императору».
Итак, преображенцы подобраны. Сергей Марин, поэт, автор «карманных стихов», на своем месте.
Главный же караул – во дворце и снаружи – занимают в этот день семеновцы, самый верный наследнику 3-й батальон, ради которого переворот отложен на день! Предоставим слово одному из прямых свидетелей и участников события; ужиная накануне у своей сестры, Олениной, 19-летний семеновский прапорщик Константин Маркович Полторацкий жалуется на гвардейскую службу, ибо приходится заступать в караул вне очереди: так приказал лично молодому офицеру его шеф, наследник Александр. «На другой день я снарядился, как положено; захватил денег, как тогда делали, ибо не было уверенности, что из дворца не отправишься прямо в Сибирь, и явился в Михайловский замок с капитаном Воронковым и подпоручиком Ивашкиным. Мы установили караул во внутреннем дворе и расположились на галерее, откуда нам приходилось в этот день без конца выходить и брать на караул перед Павлом I. Возбужденный мрачными предчувствиями, он выезжал множество раз, то на коне, то в санях. Мы ничего не подозревали о том, что готовится; генерал Депрерадович, который должен был нас во все посвятить к концу дня, среди своих треволнений совершенно о том позабыл…»
В этих строках много знаменательных примет: и молодой семеновец, готовый, как и всякий, прямо с поста отправиться в Сибирь; а тот уже не раз отмеченный паленский принцип – ничего не говорить большинству участников до последнего часа. Впрочем, Полторацкий лукавит, ссылаясь на собственную наивность; другой семеновец – начальник караула капитан Гаврила Иванович Воронков – запомнит и на следующий день расскажет то, о чем Полторацкий говорить не хочет; так же как юный прапорщик Ивашкин, «гатчинец» Воронков не знает по-французски, но запомнит, что вечером 11 марта перед ними появился важный человек, полковник Петр Волконский, адъютант наследника (будущий министр двора, важнейшее лицо двух следующих царствований). Он о чем-то говорит с Полторацким по-французски, затем с неожиданной для него щедростью угощает Воронкова и Ивашкина водкой. Рядом несет караул подпрапорщик Леонтий Гурко, настроенный против Павла, понимающий, как и другие толковые семеновские офицеры, к чему дело идет… Передвижение караулов – только одно из звеньев обширного палепского плана.
План
1. Нужные перемещения гвардейских полков: отодвинуть не слишком захваченных заговором конногвардейцев, измайловцев, но выдвинуть вперед преображенцев (Талызин), семеновцев (Депрерадович). В каждом гвардейском полку иметь хоть несколько офицеров, на которых можно рассчитывать: одни из них должны действовать в полках, пресекая возможный контрудар; другие – идти ко дворцу или во дворец (отсюда, кстати, разнобой в сведениях о численности заговорщиков).
И в этот день, и накануне Пален, очевидно, составил подробный расчет, как активизировать одних и нейтрализовать других (мы еще увидим все это в действии).
2. Солдаты ничего знать не должны, но к нужному часу быть у дворца тем гвардейским частям, которые сравнительно надежны, более преданны наследнику, более насыщены офицерами-заговорщиками. Это прежде всего 3-й и 4-й батальоны Преображенского полка, 1-й и 3-й батальоны Семеновского, на которые приходится приблизительно 30 офицеров-заговорщиков, т. е. по 7 – 8 на батальон.
Итак, полки вокруг дворца в строю, по команде «смирно» – это способ уберечься от неожиданного солдатского вмешательства, способ иметь всех постоянно на виду, а если заговор победит, солдаты тут же присягнут без сомнений и колебаний. Практика подтвердила, что в удаленном конногвардейском полку рядовые действительно максимально «своевольничали», не верили в необходимость новой присяги; а в полках, находившихся под ружьем, в строю «рассуждали» значительно меньше.
3. Серия встреч офицеров и генералов-заговорщиков во все расширяющемся составе, пока не настанет час перед самым делом (но не раньше!) объявить о бунте против Павла в максимально широком кругу. Отсюда план нескольких ужинов, объединяемых затем на квартире Талызина, самой близкой ко дворцу.
4. Идея двух офицерских колонн, которые войдут во дворец: одна – во главе с Паленом, другая – с Беннигсеном.
Час, когда была окончательно определена роль Беннигсена, крайне трудно установить. Если верить мемуарам генерала, то он еще днем ничего не знал:
«11 марта 1801 года утром я встретил князя Зубова в санях, едущих по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мною…»
Так начинается самая драматическая часть Беннигсенова рассказа. Сразу заметим, пока не вникая в детали, что, выходит, если б князь Зубов «не встретил» автора именно в последний день жизни Павла, то дальнейших событий не было бы.
Возникает задача отделения правды от вымысла.
Развернем одну главу записок Беннигсена – письмо А. Б. Фоку об убийстве Павла. Рядом с ним положим шесть записей, сделанных за Беннигсеном другими людьми: подробную заметку генерала Ланжерона (составленную сразу же после беседы в 1804 г.), рассказ Беннигсена генералу Кайсарову, записанный Воейковым (1812 г.); воспоминания Адама Чарторыйского, Августа Коцебу, лейб-медика Гриве, наконец, племянника Беннигсена – фон Веделя.
Записи, сделанные не в одно время, но – об одном времени и за одним человеком!..
Итак, 11 марта Беннигсен встречает на Невском Зубова, который приглашает ужинать. «Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: «Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе» – и добавил: «Князь Зубов скажет вам остальное». Я заметил, что он все время был смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивился, что он не сказал мне о том, что должно было случиться…»
Таким образом, всего за несколько часов до покушения генерал «ничего не подозревал». Воейков, однако, знает, что Беннигсен и Пален встречались не раз в феврале, и, без сомнения, Пален его вызвал, а не сам он приехал «по своим делам». Противоречие, конечно, снимается существованием трех этапов «посвящения в заговор». Очень вероятно, что до последнего дня Беннигсен был просто среди недовольных, готовых на многое, 11-го же выявилась его потенциальная роль, о которой Пален знал раньше самого исполнителя: роль фактического вождя «колонны цареубийц», которая отправится в покои императора.
Идею двух колонн позже не раз истолковывали как «двойную игру» Палена, который на случай провала Беннигсена будто бы хотел явиться и арестовать неудачника от имени Павла I. Шильдер вместе с Лобановым-Ростовским решительно и справедливо отвергает эту гипотезу: «Пален слишком хорошо знал, что гибель его в этом случае была неизбежна». Просто у Палена была определенная «социальная» репутация.
5. Подготовлен список людей, занимающих важнейшие посты и достаточно преданных Павлу; их в нужный момент должны арестовать или изолировать. Среди них командир измайловцев генерал Малютин, командир лейб-гусарского полка генерал Кологривов, а также Кушелев, Обольянинов, Кутайсов, Нарышкин. «Граф Пален позаботился и велел заготовить необходимые приказы, начинавшиеся словами «по высочайшему повелению» и предназначенные для арестования нескольких лиц в первый же момент».
Таков в общих чертах замысел переворота. Механизм заговора был запущен еще утром. Упомянутый капитал Козловский, возвратившись с неудачного парада, нашел на квартире билет от Палена с приглашением на вечерний ужин; т. е., пока офицер дошел до дому, наследник успел передать Палену о разговоре с потерпевшим, а Пален успел распорядиться. Подобные билеты на вечер получили, очевидно, несколько десятков человек…
При всех мерах конспирации несколько десятков билетов – это ведь сотни осведомленных лиц! «Заговор, – полагает Вельяминов-Зернов, – не мог бы успеть в этом убийстве, если б не было на то, так сказать, общего согласия».
Для истории общественной мысли, политических настроений последующего времени небезразлично, что в тот день, 11 марта, в роли нейтрального Саблукова или в ролях полузнания, предчувствия были десятки будущих значительных военных, политических и общественных деятелей; таковы, например, Н. Н. Раевский, Н. Г. Волконский (будущий Репнин-Волконский), И. С. Дорохов и многие другие.
Размышляя насчет единодушия почти всего столичного дворянского общества, напомним все же еще раз, что подавляющая часть участников заговора утром и днем 11 марта еще не знала, что дело произойдет именно сегодня.
При всем при том расстановка конспиративных сил была причудливой и громоздкой. Казалось, что Павел мог легко ее разрушить какими-либо внезапными действиями. Однако Пален через Кутайсова и других «не спускал с него глаз» и почти наверняка имел запасные варианты на случай контратаки. Но контратаки не последовало, а лидер заговора унес некоторые свои тайны в могилу…
11 марта «с 11 часов их величества изволили прогуливаться по городу верхом: его императорское величество с графом Кутайсовым, а ее императорское величество с фрейлиной Протасовой 2-й».
Город, как обычно, пустеет до часу дня: все боятся встречи с Павлом.
Около полудня
Писатель Август Коцебу, который работает над описанием Михайловского замка, у статуи Клеопатры беседует с царем. Быстро меняющееся настроение Павла в этот момент сравнительно спокойное, даже возвышенное: император долго и восторженно говорит о живописи и скульптуре…
Обед, как обычно, в час дня. 8 кувертов; приглашены обер-камергер Строганов, адмирал граф Кушелев, генерал от инфантерии Кутузов, вице-канцлер князь Куракин, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-шталмейстер граф Кутайсов.
Эти люди не участвуют в заговоре: Строганов, Кутузов, Куракин немало знают, но настроены нейтрально (не забудем, что последний – из партии Марии Федоровны). Кутайсов, Нарышкин, Кушелев намечены заговорщиками к аресту, по они-то как раз ничего и не ведают.
Пален же тем временем рассылает «билеты», проверяет караулы, планирует, кто будет спаивать склонного к вину измайловского командира Малютина и кто – играть в карты с Кологривовым. В гвардии около 500 офицеров, и почти все у него под контролем: один как союзники, другие – нейтральные или враждебные. Те, кто впоследствии, при Александре I, сделают карьеру, – важнейшие помощники Палена – Уваров, Депрерадович, Волконский будут помалкивать о своей активности 11 марта; однако если даже Александр, завтрашний царь, а сегодня еще наследник, лично вербует нужных офицеров, можно вообразить, как много в эти часы ездили, агитировали, вербовали командиры или влиятельные офицеры гвардейских полков.
После обеда. «В 4 часа ее императорское величество с фрейлиной Протасовой 2-й изволила выезд иметь в карете в Новодевичий Смольный монастырь и возвратилась обратно в 6 часов. Потом их императорские величества изволили в сей вечер препроводить время с их императорскими высочествами и знатными особами в гостиной комнате…».
За стенами же дворца все горячее… Уже пришли дни равноденствия, но все же рано вечереет, и тут-то заговор, любящий тьму, наполняется энергией.
Будущий начальник полиции Александра I, пока еще скромный офицер, Я. И. де Санглен позже расскажет, будто услышал «вечером 11 марта», как граф Головкин, показав в окно на Михайловский замок, произнес: «Этой ночью произойдет ужасная катастрофа»; затем от извозчика, который вез мемуариста в 11 часов через Невский на Васильевский: «Правда ли, сударь, что император нынешней ночью умрет? Какой грех!» – «Что ты с ума сошел?» – «Помилуйте, сударь, у нас на бирже только и твердят: «конец»».
Аналогичный эпизод приводится в других воспоминаниях: поздно вечером приходит домой секретарь императора Яков Александрович Дружинин, и плачущий истопник говорит ему о гибели Павла I – то ли неизбежной, то ли уже совершившейся.
Если верить Беннигсену, именно в эти часы он является к Палену, будто бы просить паспорт. Пален просит остаться и продолжить разговор у Зубовых.
Согласно преданию, сохранившемуся в семье Кюхельбекеров, «в самый вечер пред последнею ночью, увидя между дворцом и садом несколько ленточников, [Павел] послал [Карла Кюхельбекера] узнать, что значит это собрание. – Пользуются хорошею погодою, – сказал Кюхельбекер-отец, возвратись к царю. – Прогуливаются».
«Ленточники» – офицеры и генералы в лентах и звездах, в парадной форме, что имело в эти часы особенное значение и о чем еще речь пойдет…
Сохранился, наконец, любопытный рассказ Безака, видного чиновника при генерал-прокуроре, – будто сигнал к собранию заговорщиков «подан был пробитием зори четверти часа ранее обыкновенного, по приказанию военного губернатора Палена, сообщенному плац-майором Иваном Саввичем Горголи».
От 8 до 10 вечера
В 8 часов вечера камергер Толстой заходит к Палену, тот посвистывает.
По-видимому, именно опасность, тяжелые обстоятельства вызывают у этого человека веселость. «Но хотите ли лаффиту?» – эту любимую фразу, повторяемую генерал-губернатором при разных нелегких обстоятельствах, запомнили многие. Посвистывание – это сеанс «пфификологии».
В эти же часы садятся ужинать у Хитрово, двух Ушаковых, Депрерадовича. К 9 часам вечера в дом командира семеновцев приезжает полковой адъютант, и Депрерадович говорит ему: «Поди на полковой двор; там собран батальон в строю, обойди по шеренгам и раздай патроны сам каждому солдату в руки по свертку». Адъютант исполнил это приказание…».
Часа через полтора, когда ужин окончится, Депрерадович отправится к тому батальону и даст необходимую команду, но пока еще час не настал…
Во дворце меж тем скоро соберутся к вечернему столу. Ровно в восемь дежурный полковник Саблуков, собрав рапорты от младших дежурных (по каждому конногвардейскому эскадрону), идет, как полагается, во внутренние дворцовые покои – рапортовать шефу полка великому князю Константину. Неожиданно полковника останавливают – сначала лакей, потом камердинер Рутковский. Саблуков негодует, ибо нарушается порядок, и все же проходит к Константину и Александру. Испуганные великие князья шепотом сообщают полковнику, что они под арестом, и удивляются, как это он ничего не боится. Саблуков объясняет, что никого не боится, кроме своего прямого начальника, т. е. Константина, «точно так же, как мои солдаты не боятся его высочества, а боятся меня».
Вдруг из гостиной выходит царь; кажется, он только что рассматривал вместе с Нарышкиным и архитектором проект украшения Летнего сада, но ему сегодня не сидится на месте. При виде отца великие князья испуганно ретируются. Саблуков объясняет свое появление окончанием дежурства, но царь не очень доволен, ибо Пален успел ему внушить подозрение против конной гвардии.
Сам же генерал-губернатор непрерывно в действии. В десятом часу он отправляется к Зубовым – благо все главные действующие лица живут рядом (во дворце или около него), в нескольких минутах ходьбы или езды. Князь же Платон Зубов пока что сидит у генерала и писателя Клингера – вероятно потому, что оба они возглавляют 1-й кадетский корпус (Зубов – шеф, Клингер – директор), а Царь почему-то именно сегодня велел представить ему из корпуса новых пажей. К тому же пребывание одного из лидеров заговора у своего подчиненного выглядит в глазах Павла Служебным рвением и гасит подозрения…
В эти часы Аракчеев, если его действительно вызвал царь, находится в пути.
Павел же к девяти часам выходит к ужину. За вечерним столом накрыто 19 кувертов; приглашены великие князья Александр и Константин с женами, великая княжна Мария Павловна, будущая саксен-веймарская герцогиня и покровительница Гёте; рядом с высочайшими особами важные персоны: жена главного заговорщика статс-дама Пален и в виде особой милости ее дочь, фрейлина Пален, а также камер-фрейлина Протасова, фрейлина Кутузова 2-я, статс-дама Ренне, статс-дама графиня Ливен; здесь и обедавшие днем с императором Кутузов, Строганов, Нарышкин, а также обер-камергер граф Шереметев, шталмейстер Муханов, сенатор князь Юсупов – тот самый пушкинский вельможа, рассказы которого поэт услышит 30 лет спустя.
Из близких царю нет Кутайсова: он отправился к своей метрессе Шевалье. За столом снова сошлись и те, кто знает либо подозревает, и те, кто будет схвачен, и те, кто не подозревает, что станут важными действующими лицами предстоящей ночи (такова статс-дама Ливен).
Обед, ужин, как видим, важные элементы истории. Обе стороны весело ужинают, как бы набираясь сил. Впрочем, ужин, вино, трапеза – «вечеря» – это ведь удобнейшая форма соединения, легальная для «наружного наблюдения» и контролируемая хозяином – тем, кто собрал, пригласил. Для солдат единение – строй, для офицеров – застолье. Одни, стоя смирно, другие, орудуя ножом и вилкой, меняют правительство или наблюдают за переменой.
Позже участники этих трапез и любопытствующие их собеседники повторят, запомнят, сочинят (порою искренне!) ряд довольно ярких образов.
Во дворце обратили внимание на веселье Павла, получившего новый прибор с изображением Михайловского замка: «Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это был один из счастливейших дней в его жизни».
А вот другой, еще более впечатляющий рассказ, записанный со слов сидевшего за столом Н. Б. Юсупова, – и конечно, практически невозможно отделить действительный эпизод от того дополнительного смысла, который неизбежно придали ему случившиеся вскоре события: «Во время ужина великий князь Александр Павлович был молчалив и задумчив; император Павел, напротив того, был чрезвычайно весел и разговорчив. Заметив, что великий князь Александр Павлович не в обыкновенном расположении духа, император спросил у него: «Сударь, что с вами сегодня?»
– Государь, – отвечал великий князь, – я чувствую себя не совсем хорошо.
– В таком случае обратитесь к врачу и полечитесь. Нужно пресекать недомогание вначале, чтоб не допустить серьезной болезни.
Великий князь ничего не отвечал, но наклонился и потупил глаза. Через несколько минут великий князь Александр чихнул. Император сказал ему:
– За исполнение всех ваших желаний».
Другой документ представляет эту же сцену предельно драматично: «Отец и сын сидели рядом за столом. ( … ) Император думал, что его сын покушается на его жизнь; великий князь считал себя приговоренным к заключению своим отцом».
Наконец, рассказ осведомленного вельможи, князя С. М. Голицына, задним числом вводит самые зловещие предзнаменования в то последнее пиршество Павла I: «Ужин, как обыкновенно, кончился в половине десятого. Заведено было, что все выходили в другую комнату и прощались с государем, который в 10 часов бывал уже в постели. В этот вечер он также вышел в другую комнату, но ни с кем не простился и сказал только: «Чему быть, тому не миновать». Вот какое предчувствие имел император Павел».
Еще несколько мемуаристов знают о знаменательном обмене репликами царя с М. И. Кутузовым «на пути из столовой в спальню»:
«Вот как Кутузов мне рассказывал: «После ужина император взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало; я вижу себя в нем с шеей на сторону». Это было за полтора часа до его кончины (Кутузов не был посвящен в заговор)».
Согласно другой версии, шел разговор о смерти: «На тот свет идтить – не котомки шить», – были прощальными словами Павла I Кутузову».
При ретроспективности этих воспоминаний их можно и должно использовать как источник, свидетельствующий не только о тревоге, беспокойстве царя, но и о сравнительно небольших размерах этого беспокойства. Впрочем, за ужином и сразу после него Павел, конечно, не только вздыхал («чему быть…»), но и размышлял о мерах безопасности. Сразу после ужина (мы знаем от мемуариста, что это было точно в 21 час 45 минут) царь вызывает Саблукова.
Пока разыскивают Саблукова, Павел пишет записки Платону Зубову: «В 10 часов принесли первую записку от государя. «Скорей! Скорей!» – сказал Зубов улыбаясь и отправил пажей, поручив в своем ответе государю генерала Клингера его благосклонности. В 11 часов принесена была вторая записка, написанная в самых милостивых выражениях; государь с благосклонностью упоминал в ней о Клингере и спрашивал, что делает Дибич в кадетском корпусе. «Ничего хорошего и ничего дурного, – отвечал Зубов, – для хорошего ему недостает знания русского языка, а для дурного – власти».
Одновременно с принятием пажей Павел обходит некоторые посты в Михайловском замке.
«Шестнадцать минут одиннадцатого» – с такой исключительной, чисто дежурной точностью Саблуков фиксирует свою последнюю встречу с царем; конногвардейский караул удаляется. Снова появляется император в сопровождении дежурного генерал-адъютанта (и заговорщика) Уварова. Общение с конногвардейцем совсем не нравится Павлу, он выговаривает полковнику (по-французски), что его полк – «якобинцы». Саблуков пробует возразить, царь отвечает по-русски: «А я лучше знаю» – и вслед за тем приказывает как бы под невидимую диктовку Палена: «Выслать полк из города и расквартировать его по деревням. ( … ) Два бригад-майора будут сопровождать полк до седьмой версты; распорядитесь, чтобы он был готов утром в четыре часа, в полной походной форме и с поклажею».
Последнее, что Саблуков видит, – царь идет к себе, два гусара или камер-лакея становятся у первой двери его кабинета.
Идет спать и наследник, но за каждым его словом и шагом через несколько часов начнут жадно охотиться современники (споря, виноват он или не виноват). И вот доносятся важные слова Александра, обращенные к камер-фрау Гесслер, состоявшей при его жене: «Я прошу тебя остаться в эту ночь в прихожей до прихода графа Палена; когда он явится, ты войдешь к нам и разбудишь меня, если я буду спать».
Константин в течение многих лет будет повторять всем: «Я спал, как сурок, и ничего не знал». И действительно, известно, что старший брат не хотел его информировать, хотя уж очень было тревожно кругом, и нужен был особый талант, чтобы спокойно заснуть. Так, в другом крыле дворца 13-летний принц Евгений Вюртембергский переживает часы, которых не забудет до конца дней: генерал Дибич и другой наставник принца, фон Требри, входят и выходят, приводят каких-то людей, намекая, что они в тяжелую минуту могут защитить племянника императрицы (не для того ли Дибич ходил в 1-й кадетский корпус?).
«Подумайте, как моя детская сила воображения была захвачена сознанием всеобщей опасности, существование которой я так ясно читал на лицах всех присутствующих. Тем временем в безмолвной тишине размеренным шагом проходили полки, а темнота ночи и необычность военных передвижений в такое время придавали этим звукам своеобразие, неприятно на меня действовавшее…»
В комнате все громче звучат опасные слова, прерываемые призывами к осторожности и молчанию. В изложении принца (напомним, что оно основало на дневнике, обработанном позже) крайне интересны речи, которые ведет молодой капитан Дибич (будущий полководец и начальник Главного штаба): «Император тиран – таков был приблизительный смысл его речей; но, конечно, он и вполовину не столь дурен, как его выдают, чтобы возбудить ненависть и стремление к самообороне и чтобы таким путем совсем от него освободиться. После того как это произойдет, одни надеются получить милости и почет благодаря вступлению на трон старшего великого князя, другие готовят Павлу I судьбу Петра III и надеются добыть честь и славу от Марии Федоровны; есть еще интриганы, которые охотнее всего бросили бы в море всю императорскую семью и сели бы на их место». Дибич не верит в успех заговора.
Мы, понятно, не ищем буквальной точности в этих почти не цитировавшихся отрывках, но ловим здесь тогдашние мнения, отголоски, представления о событиях.
Опасность, щекотливость положения принца, невольного претендента на место Александра, представляются вполне реальными.
В «речи Дибича» любопытно перечисление партий, причем мы почти ничего не знаем о сторонниках Марии Федоровны и о тех, кто «бросили бы в море всю императорскую семью».
Как здесь отделить реальность от впечатления? Ведь в этой ситуации впечатление много сильнее, «самозваннее» реальности!
Тревожная напряженность, недоговоренность, перемещение караулов и в то же время новый столовый прибор, проекты Летнего сада… То-то и оно, что реплики «чему быть…», «вы якобинец», совершенно обыкновенные для подозрительного, нервозного, обвиняющего стиля Павла, здесь необыкновенны.
Царь закрывает внешнюю дверь; караульный солдат Агапеев припомнит, что царь молился у иконы в прихожей.
Впрочем, еще миг подождем закрывать эту дверь: появляется лейб-медик Гриве, дает императору какое-то питье (царь вызвал его и для того, чтобы поговорить о больном генерал-лейтенанте Ливене).
Несколько дней спустя рассказ медика попадет в секретную депешу британского агента Росса, адресованную не раз упоминавшемуся лорду Мэлмсбери: доктор поведал о подозрительности царя, особенно усилившейся «в последние десять дней». Вечером 11 марта царь не скрыл своих подозрений и против Гриве: пока тот взбалтывал лекарство, царь прошел до конца комнаты и, круто повернувшись, пристально глядя, сказал: «Кстати, мой дорогой, вашу совесть не мучит то обстоятельство, что вы лечите врага ваших соотечественников?» Доктор отвечал, что любой человек его профессии «не имеет другой цели, кроме лучшего выполнения долга человечности». Павел был этим удовлетворен и, обняв доктора, сказал: «Я не сомневаюсь и не сомневался никогда».
Одиннадцатый час… Дверь в комнаты Павла закрывается окончательно. Но и сквозь стены почти каждый шаг обреченного монарха видят «снаружи». Известно, что он проводит час у Гагариной, спустившись к ней по потаенной лестнице (и кажется, успев поговорить с мужем фаворитки). В ее комнате составляется и раздраженная записка больному Ливену: «Ваше нездоровье затягивается слишком долго, а так как дела но могут быть направляемы в зависимости от того, помогают ли вам мушки или нет, то вам придется передать портфель военного министерства князю Гагарину».
Именно в эти минуты на квартире Платона Зубова происходит совещание, которое вскоре уходит в тень последовавших событий, – между тем оно заслуживает подробного разбора.
Палена на той квартире нет: он у себя или быстро перемещается во тьме по одному из своих маршрутов. Несомненно, присутствует граф Николай Зубов, который заменяет хозяина; князь Платон, подобно оборотню, тоже «замечен» в разных местах: он проводит вечер и у Клингера, и временами появляется у себя (повторим, что расстояния невелики и нет ничего удивительного в быстрых, бесшумных перемещениях главных лиц).
Основной же рассказ о том совещании принадлежит Беннигсену: «От Палена я отправился к генерал-прокурору Обольянинову, чтобы проститься, оттуда часов в 10 приехал к Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая, и трех лиц, посвященных в тайну. ( … ) Князь Зубов сообщил мне условленный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, я не колеблясь примкнул к заговору».
Назвали, понятно, наследника, великого князя Александра. В другом рассказе Беннигсена (записанном Воейковым) оказывается, что у Зубова находились не три заговорщика, а «человек тридцать»; что все равно у него, Беннигсена, не было другого средства выпутаться: «Быстро я окинул мое опасное положение, в которое хитрый покровитель меня поставил. ( … ) Я протянул ему руку и отвечал: «И на жизнь и на смерть».
Он бросился обнимать и тотчас вывел меня из кабинета к обществу. «Наш еси Исаакий, да воспрянем с ним!» – вскричал, опять обнимая меня. Видно было, что это был пароль заговорщиков…».
О роли наследника «этот Беннигсен» высказывается много осторожнее, чем «первый» (который писал в 1801 г., когда события еще были свежи в памяти, а Пален и Зубовы – еще в силе). Однако позже события «быльем поросли»; царю неприятно вспоминать о собственном согласии, Пален и Зубовы давно изгнаны, и дело подается так, будто Беннигсена обманули…
На самом же деле в десять часов вечера 11 марта Беннигсен переходит из «третьего разряда» заговорщиков в первый. Но не это обстоятельство привлекает наше особенное внимание к разговорам на квартире Зубова.
Кто были те три лица, которых Беннигсен там встретил? «Одно было из Сената (Трощинский), и ему предназначалось доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора». Имя Трощинского вносит в число заговорщиков и племянник Беннигсена, записывающий со слов дяди. Наконец, Евгений Вюртембергский (информация Платона Зубова и Беннигсена) подтверждает, что «тайный советник Трощинский составил манифест, в котором император по болезни передавал власть великому князю Александру».
Тут возникает сюжет непростой и очень важный.
Трощинский
9 августа 1834 г. Пушкин заносит в свой дневник следующую запись: «Трощинский в конце царствования Павла был в опале. Исключенный из службы, просился он в деревню. Государь, ему на зло, не велел ему выезжать из города. Трощинский остался в Петербурге, никуда не являясь, сидя дома, вставая рано, ложась рано. Однажды, в 2 часа ночи, является к его воротам фельдъегерь. Ворота заперты. Весь дом спит. Он стучится, никто нейдет. Фельдъегерь в протаявшем снегу отыскал камень и пустил его в окошко. В доме проснулись, пошли отворять ворота и поспешно прибежали к спящему Трощинскому, объявляя ему, что государь его требует и что фельдъегерь за ним приехал. Трощинский встает, одевается, садится в сани и едет. Фельдъегерь привозит его прямо к Зимнему дворцу. Трощинский не может понять, что с ним делается. Наконец видит он, что ведут его на половину великого князя Александра. Тут только догадался он о перемене, происшедшей в государстве. У дверей кабинета встретил его Панин (так!) обнял и поздравил с новым императором. Трощинский нашел государя в мундире, облокотившимся на стол и всего в слезах. Александр кинулся к нему на шею и сказал: будь моим руководителем. Тут был тотчас же написан манифест и подписан государем, не имевшим силы ничем заняться».
Понятно, речь идет о событиях, случившихся несколькими часами позже и, казалось бы, не имеющих прямого отношения к вечеру у Зубовых.
В пушкинской записи соединились исторически довольно точные сведения, но полученные из устного пересказа. Б. Л. Модзалевский предположил (имея в виду осведомленных «общих знакомых» Трощинского и Пушкина), что, «быть может, именно Гоголь (а может быть, Сперанский) рассказал Пушкину про памятную ночь 11-12 марта 1801 г., когда Трощинский был вызван в Зимний дворец и здесь был встречей главою заговора против Павла – петербургским военным губернатором графом Петром Алексеевичем фон дер Паленом».
Пушкинская ошибка или описка (Панин вместо Пален) естественна при тогдашнем уровне таинственности и запретности темы. Однако всему образованному кругу пушкинской поры было известно, что именно Трощинский написал знаменитый манифест о восшествии на престол Александра I, что ему принадлежали сильно прозвучавшие в 1801 г. строки, где царь отрекался от политики Павла I и торжественно клялся «управлять богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великий». Не для того писал Пушкин в дневнике о Трощинском, чтобы повторить всем известное: его, естественно, занимают выразительные историко-художественные подробности – страшная ночь, камень, пущенный в окошко, неведение Трощинского… Последнее, пожалуй, главный мотив рассказа. И от кого бы ни узнал его поэт, явно слышен голос первоначального рассказчика, самого Трощинского. Это ему, старому многоопытному сановнику, на закате дней (а прожил он с 1747 по 1829 г.) нужно подчеркнуть свою непричастность к убийству Павла: «просился в деревню» и если бы Павел «на зло не велел», то уехал бы; в столице «никуда но является», но, «сидя дома, вставал рано, ложась рано». Это постоянное подчеркивание своего алиби почти назойливо. Тема продолжается: в то время как во дворце меняют царя, в доме Трощинского все спят, «никто нейдет», даже во дворце сенатор еще «не может попять, что с ним делается»…
Пушкин, никогда, по-видимому, не говоривший с Трощинским, прекрасно улавливает главный мотив версии и не имеет оснований в ней сомневаться; однако именно талантливо точной передачей истории поэт (сам того, вероятно, не подозревая) позволяет нам заглянуть в «подтекст», в исторические глубины, скрытые даже от современников.
Вернемся снова в 11 марта 1801 г. Трощинскому 53 года, и он успел к тому времени прожить многосложную жизнь (о некоторых обстоятельствах которой уже упоминалось выше): выходец из мелкой украинской шляхты (простые казаки просили позже разрешения хотя бы просто взглянуть на «одного из своих», вознесшегося до министерских должностей!), он окончил Киевскую духовную академию; позже выдвинулся, блестяще ведя канцелярию у генерала Н. В. Репнина, затем у А. А. Безбородки, наконец, у Екатерины II (в последние годы он был ее статс-секретарем). При Павле I его биография, как эхо, отразила перипетии карьеры шефа, покровителя и земляка Безбородки: 6 апреля 1799 г., в день смерти Безбородки, Трощинского увольняют с должности президента Главного почтового управления, а 14 октября 1800 г. отправляют в отставку «по прошению».
Далее идут месяцы жизни, о которых мы знаем по дневниковой записи Пушкина: Трощинский в Петербурге и якобы ни во что не входит. Но за несколько часов до роковых событий во дворце, за 4 часа до того, как окно в доме Трощинского будет разбито фельдъегерем, мы вдруг замечаем Дмитрия Прокофьевича на тайном совещании высочайшего ранга в доме Зубова!
Как же так?
Понятно, опорных документов почти нет, и приходится выдвигать гипотезы. Взгляды бывшего статс-секретаря Екатерины II нам известны: близкий к Безбородке (и Кочубею), он, конечно, разделял мысли о необходимости «умеренного правления», был сторонником либерального, просвещенного варианта самодержавной власти. Уже говорилось, что Трощинский был в курсе «конституционных мечтаний» наследника Александра и его молодых друзей, что мимо него не прошли тайные контакты этой группы с Безбородкой в 1798 – 1799 гг. (когда канцлер, очевидно с помощью Трощинского, составлял для Александра записку о своих принципах).
Позже, в царствование Александра I, Трощинский займет высокие государственные посты (министр юстиции и др.), но в конце концов, не приемля Аракчеева, окажется в оппозиции. Его имя привлечет внимание как украинских патриотов, так и декабристов. В знаменитом полтавском имении Трощинского Кибинцах в 1820-х годах будут нередко сходиться декабристы и люди их круга: братья Муравьевы-Апостолы, Капнисты, Бестужев-Рюмин. В. Ф. Раевский в своих воспоминаниях замечает: «Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшения, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества».
Прибавим к этому немалую покровительственную роль, которую отставной министр играл в жизни своего дальнего родственника Н. В. Гоголя, и попробуем теперь представить ту позицию, которую должен был занять Трощинский в начале 1801 г. – между десятилетиями «Екатерины – Безбородки» и годами либеральных надежд, декабристского соседства.
Итак, вечером 11 марта 1801 г. Трощинский приглашен к Зубовым – очень возможно, что по указанию наследника (отзвук старых контактов с Безбородкой, Кочубеем…).
Зачем же позвали сенатора?
Беннигсен помнит, что Трощинскому «предназначалось доставить другим сенаторам приказ собраться, лишь только арестуют императора». Это весьма правдоподобно, и о том еще скажем. Однако главная цель «гражданского обеспечения» операции – подготовить нужный документ об отречении Павла. Правда, историк начала XX в. сомневался: «Проект отречения – выдумка, имевшая целью смягчить впечатление цареубийства в глазах нового императора и общества». Однако сохранилось несколько свидетельств, что Пален и Зубов располагали какой-то важной бумагой – листом, который через час будет показан широкому собранию офицеров, а позже предъявлен Павлу I… Кое-что слышали о документе Саблуков, Коцебу, позже – Михаил Фонвизин. На память приходит и прежний манифест, составленный Чарторыйским по воле Александра еще в 1797 г. Наконец, последний весомый довод в пользу того, что документ существовал: не таков был граф Пален, чтобы упустить малейший способ воздействия на заговорщиков, сенаторов и подданных разного ранга… Та же логика, которая привела к приказу всем лидерам заговора явиться при параде, в лентах, орденах, – та же логика требует, чтобы под руками был звучный текст, манифест, явно одобренный наследником и придающий событиям вид максимальной законности. Изготовить подобный документ на день-два раньше противоречило бы паленскому принципу открывать карты в последний момент; но и без грамоты нельзя: наиболее удобный момент для ее рождения – около 10 часов вечера на квартире Зубова (что, разумеется, не противоречит тому, что автор бумаги получил предварительный сигнал Палена и что наследник вполне осведомлен).
Любопытно, что, как только в мемуарах возникает смутная тема документа или «хартии 11 марта», с нею постоянно связывается имя Платона Зубова: Зубов, изучающий английскую конституцию перед событиями, Зубов, будто бы заставляющий ошеломленного Павла что-то подписывать в последнюю ночь…
Все, конечно, очень туманно, но если идти по внешней аналогии, то и в 1762 г., и в 1825 г. действиям предшествовало создание «опорных документов». Надо думать, они существовали и в ночь на 12 марта 1801 г.
То, что за Трощинским пошлют еще раз четыре часа спустя, не только не опровергает, но и подтверждает его особую роль.
Дело в том, что в 10 вечера требовалась одна бумага, а в два часа ночи – совсем другая.
На квартире Зубова – независимо от того, что «держат в уме» главные заговорщики, – планируется операция по той схеме, что обещана наследнику: Павла арестовать, запереть, объявить сумасшедшим; Александра провозгласить регентом или императором (тут важная и трудно различимая в лихорадке тех часов подробность: наследник как будто согласен на регентство, но во всех репликах 11 марта звучит тема «завтра новый император»). Без сомнения, при этом упоминалась воля Екатерины II, ее желание передать престол внуку: тот самый мотив, который наутро в измененном виде даст формулу и для следующего манифеста – «управлять по законам и по сердцу августейшей бабка нашей».
Итак, документ об отречении, объясняющий высшими государственными соображениями низложение Павла; документ того типа, который обосновал 28 июня 1762 г. низложение Петра III (в тот день еще живого – убитого через неделю), – вот что, по всей видимости, было принесено на квартиру Зубовых или там сочинено.
Дальнейшая логика поведения Трощинского кажется ясной: он не пойдет на последнее сборище заговорщиков – там дело военное. Его задача – оповестить сенаторов (очевидно, тех, на которых можно положиться), чтобы они были готовы съехаться и утвердить (как в 1762 г.) случившиеся перемены, т. е. одобрить «манифест № 1».
Конечно, Трощинский не может уйти и от мысли: что будет, если переворот провалится и Павел возьмет верх? Скорее всего именно на этот случай в его доме особенно крепко заперли ворота, наглухо замкнули двери – и «никто ничего не знает»…
Стук в ворота, разбитые стекла «не планировались»; шум, наверное, вызывает ужас Трощинского, который решает, что все провалилось. Рассказ, записанный Пушкиным, передает (но, разумеется, односторонне) те чувства, которые действительно владели сенатором, пока его везли во дворец в третьем часу ночи.
Оказалось же, что Павел не победил, что нужен «манифест № 2», отражающий новый страшный поворот событий той ночи. Александр не случайно посылает именно за Трощинским, а не за каким-либо другим сенатором или «законником»: ведь он уже в заговоре, он все понимает, вдобавок он серьезный свидетель важного для Александра факта, что убийство не предполагалось, что именем Александра сначала составлялся другой манифест, предусматривающий другую ситуацию.
Разумеется, все, что сказано здесь о роли Трощинского, гипотеза. Документа нет: он был истреблен или глубоко запрятан в государственные архивы. Сохранять его было невыгодно заговорщикам, ибо выходило, что они «превысили полномочия». Александра же (вскоре потребовавшего полного молчания вокруг 11 марта) обжигало любое документальное свидетельство о конспирации, тем более документ, составленный, конечно, «от его имени».
Вообще историк должен с грустью констатировать, что события стимулировали истребление или, исчезновение важнейших документов о заговоре. Ранние конспиративные бумаги Александра и его друзей истреблены в 1797 – 1798 гг. (сохранилось только важное письмо Лагарпу и записка Безбородки). Обменивались важными записочками Панин и Пален с наследником; составлялись программные документы на случай разного хода событий: «первый манифест» Трощинского, какие-то конспиративные проекты Панина, Палена, Зубова, Ивана Муравьева – и все это исчезает, потому что Александру I невыгодно даже самое слабое воспоминание о тех бумагах (вспомним опалу И. М. Муравьева-Апостола)… Кстати, его имя тоже мелькает в документах о последних совещаниях заговорщиков, и он гражданский конспиратор, связанный с гражданским основателем заговора Н. П. Паниным.
Впрочем, имя Муравьева-Апостола мы встречали прежде в «конституционном контексте». Теперь же, вечером 11 марта 1801 г., «конституционных слов» почти не слышим. Речь идет о замене монарха завтра, гарантии же в любом случае рассматриваются как вопрос послезавтрашний. В этом, очевидно, пафос горького восклицания Александра в ночь с 11-го на 12-е: «Хорошо, господа, поскольку вы посмели зайти так далеко, доведите дело до конца: определите права и обязанности суверена; без этого трон меня совершенно не привлекает»; иначе говоря, 11-го вечером договаривались о схеме – «отречение Павла плюс манифест о хорошем царе Александре»; но, поскольку дело пошло иначе, предлагается (по крайней мере, на словах) новая схема: «убийство Павла плюс конституционные гарантии».
Конституционная партия была, конечно, сильно ослаблена отсутствием Панина. Однако вечером 11 марта на квартире Зубова и в других местах могли толковать о представительных учреждениях как любезных завтрашнему царю: ведь его «конституционные мечтания» не были секретом.
Декабрист Михаил Фонвизин (лицо заинтересованное, но появившееся в столице только через два года после событий 11 марта) пересказывает то, что сам «слышал от графа Петра Александровича Толстого, который был при Павле I генерал-адъютантом».
Со слов Толстого Фонвизин отмечает «одно важное обстоятельство, мало известное, но которое он, будучи тогда в Петербурге, мог знать по своим близким сношениям с заговорщиками». Речь идет об «Акте конституционном», которым будто бы «Пален, Папин и другие вожди заговора» хотели с первой минуты ограничить власть Александра. Смешение лиц и времен в рассказе декабриста (упомянут отсутствующий в столице Панин) позволяет думать, что речь идет о более ранней стадии заговора, но далее Фонвизин прибавляет, что «это намерение известно было и генералу Талызину, тогдашнему командиру Преображенского полка, одному из главных участников заговора и человеку, искренне преданному Александру. Талызин и предупредил его, что в решительную минуту от [Александра] потребуют принятия и утверждения конституционного акта, и убеждал его ни под каким видом не давать на то согласия, обещая ему, что гвардия, на которую Талызин имел большое влияние, сохранит верность Александру и поддержит его. Александр последовал внушениям Талызина и устоял против настоятельных требований Палена и Панина».
Рассказ кажется недостоверным, но, поскольку речь идет о Преображенском полковом командире Талызине, свидетельство его ближайшего подчиненного, Толстого, довольно весомо.
Так или иначе, ни «манифеста № 1» Трощинского, ни «конституции Панина – Палена» в архивах обнаружить не удалось. Мы можем лишь гадать, не было ли двух параллельных процессов: пока Трощинский занимался ближайшей задачей, не формулировал ли, например, Иван Муравьев «панинские заветы», проект ограничения самодержавия, и не отсюда ли будущая к нему немилость?
В общем программа-максимум заговора остается куда более туманной, чем программа-минимум: ликвидация Павла.
В 11 вечера и позже
Приближается назначенный час. Генералы выходят из квартиры Зубова в полном параде – «ленточники».
Он видит – в лентах и звездах,
Вином и злобой упоены,
Идут убийцы потаенны…
Важные генералы, мундиры, ленты и кресты – знак торжественного события и в то же время символ его законности, легальности: ведь и форму, и многие ордена они получили именно от Павла. После, в следующие дни, Платон Зубов демонстративно наденет запрещенную круглую шляпу. Сегодня, однако, он при павловском параде. Так выходят они в ночной Петербург…
«Немного позже полуночи, – утверждает Беннигсен (и по всей видимости, несколько ошибается: дело происходит до полуночи), – я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина и там ждет нас».
Они соединяются с Паленом то ли у входа, то ли уже войдя в здания близ Зимнего дворца, предназначенные для лейб-гвардейского корпуса. «Мы застали комнату полной офицеров, – продолжает Беннигсен, – они ужинали у генерала, причем большинство находилось в подпитии».
Другая запись рассказа Беннигсена: «Все были по меньшей мере разгорячены шампанским, которое Пален велел подать им (мне он запретил пить и сам не пил)».
Коцебу помнит, что Беннигсен нашел в комнате 40 человек; более точный Ланжерон говорит о 60. Впрочем, число меняется: подходят, подходят… К тому же некоторые заговорщики в карауле, другие в полках; отсутствует, к примеру, сам хозяин квартиры, Талызин.
180 человек – это общая оценка Саблукова. Ланжерон находит, что в столице было до 300 заговорщиков. Когда свергали Петра III, число активно участвовавших гвардейских офицеров было 30 – 40.
Меж тем в комнатах генерала Талызина к моменту появления лидеров пируют уже примерно час; идет «сводный», объединенный ужин, как бы эпилог нескольких конспиративных ужинов.
Мы уже знаем, что сюда пришли по «билетику» от Палена те, кто догадываются, но подробно, по часам, не осведомлены.
Кто же здесь, на «вечере» у Талызина (позже иные расценят эту ночь как настоящую встречу русского XIX в.!)?
Преобладают, естественно, обер-офицеры, от прапорщика до капитана включительно, – молодые люди не старше 25 – 30 лег; однако пришли и штаб-офицеры, до гвардейских полковников включительно. Большая же часть старших чинов – генералы Талызин, Депрерадович, Уваров, полковники Вяземский, Запольский, Арсеньев, Волконский, Мансуров, Кутузов – находится во дворце или при солдатах.
Что же привело сюда, к Талызину, десятки людей?
Прежде всего настоятельная рекомендация или приказ Палена и наследника (таковы Козловский, Аргамаков). Многие современники, даже сочувствующие (а позже декабристы), подчеркивали личные, своекорыстные мотивы у большинства собравшихся: один грубо обижен царем, другой сидел в крепости, третий мстит за собственный страх – простой, дворянский «цинический» или полуцинический подход!
Пушкин в оде «Вольность» гениально формулирует то, что говорилось в кругу Николая Тургенева и других ранних декабристов: Павел для них тиран, но – «падут бесславные удары…»; «на лицах дерзость, в сердце страх…»; и далее известные образы: «неверный часовой», «рукой предательства наемной», «о стыд! о ужас наших дней!», «звери», «янычары»…
Позже, в 10-й главе «Евгения Онегина», семеновцы –
Потешный полк Петра – титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей…
Были, мы знаем, и другие оттенки во взгляде «детей 1825-го» на «отцов 1801-го» (вспомним беседу Пестеля и Палена). Однако главное обвинение не снималось: тогда, 11 марта, шли на кровь и убийство не ради высокой цели, что еще могло быть предметом рассуждения и спора о Бруте и тираноборцах. Шли из корысти…
«В 1801 году, – запишет декабрист Никита Муравьев, – заговор под руководством Александра лишает Павла престола и жизни без пользы для России».
Не просто с этим согласиться или не согласиться. Пока же отметим только чрезвычайную трудность при выяснении истинных мотивов, двигавших заговорщиками. Большинство не оставило мемуаров, о своих целях мало писали и говорили. Однако даже «поверхностный смотр» участников обнаруживает разнородность их состава. Единство действий еще не означало единства мотивов. События временно сплотили идейных и циничных противников Павла… К тому же ночью с 11 на 12 марта вихрь событий, приказов не дает офицерам задуматься. Их почти не спрашивают – приказывают! Реальные отношения вождей заговора и рядовых участников совсем иные, чем у декабристов с их равенством и сравнительно широким обсуждением цели и средств. И там и тут структура заговора во многом предвосхищает структуру будущей власти: конституционное правительство в случае успеха декабристов было бы продолжением тайных обществ на ином уровне; «улучшенное самодержавие», которого добивались конспираторы 1801 г., предвосхищалось «самодержавной структурой» паленского заговора.
Итак, с 11 часов финальный ужин обер– и штаб-офицеров. Как и на предыдущих – много разговоров, обычных анекдотов и насмешек в адрес Павла.
И вот – кульминация. Открывается дверь, и входят вожди (все вместе или сначала Пален, а за ним Зубовы). Это 11 часов (Коцебу) или половина 12-го (Вельяминов-Зернов), после полуночи (Беннигсен).
В Михайловском замке жизнь уже замерла: внешние и внутренние ночные караулы, свечи, тишина. Павел уже вернулся от прекрасной Анны наверх в свою комнату… Из последних фраз, будто бы запомнившихся легкомысленной Гагариной, к нам еще раз долетает: «…завтра полетят головы».
Царь в постели; нетрудно вообразить кошмарную бессонную ночь Александра. Капитан Козловский, как и многие другие, вскоре узнает, что наследник не раздевался (довод в пользу участия его в деле). Ближе всего к его апартаментам расположились как бы представляющие его в заговоре Уваров, Волконский, а также полковник Николай Бороздин.
Что гвардия?
Преображенский полковой адъютант Аргамаков объезжает своих. Вскоре он сыграет важную роль в событиях, так как по должности имеет право входить куда угодно и когда угодно.
Историк кавалергардов, опираясь на рассказы Сафонова, Горданова и других офицеров, собрал материалы о своем полке в последний день Павла, но, не включив их в основной труд, поместил в приложение «для высочайшего пользования».
Еще перед вечером Пален, Уваров и полковой адъютант кавалергардов подпоручик Евсей Горданов встречаются во французском ресторане на углу Адмиралтейской площади и Гороховой. Оттуда Уваров поедет с Паленом к кавалергардам, а Горданову поручается проверить состояние караулов в Михайловском замке.
«Непосредственно перед происшествием все офицеры полка были собраны вместе и обедали, когда к ним вошел Уваров. Он спросил, «готовы ли офицеры пожертвовать жизнью за цесаревича Александра?». Офицеры отвечали утвердительно». О цареубийстве ничего не было сказано. Тогда же в полку был выделен караул, «на который можно было положиться», под начальством все того же Горданова.
Как видим, роль полковых адъютантов огромна; пользуясь своими исключительными служебными правами и возможностями «проходить всюду», они становятся важнейшими двигателями дела…
В измайловских казармах уже напоили допьяна командира полка Малютина, и целый полк, в общим слабо охваченный заговором, вполне нейтрализован.
Третий семеновский батальон на внешнем карауле.
«Трудно определить, – замечает Лобанов-Ростовский, – где было сообщничество и где недосмотр или умышленный недостаток бдительности в замке. Например, Павел Алексеевич Тучков (служивший потом уже, в 1812 г., генералом, одни из четырех братьев уцелевший в эту войну и скончавшийся в 1858 г. членом Государственного совета) рассказывал, что в эту ночь он был в замке при пушках; имя его в числе заговорщиков никогда не упоминалось, сам он ничего больше не высказывал, и, может быть, он узнал только о совершившемся факте; но как знать, какую роль играла в этой драме та или другая восторженная личность?».
Для уяснения социально-психологической ситуации мы стараемся, однако, не упустить периферии заговора. Тут будет уместно вспомнить, что уже не раз появлявшийся в нашем повествовании Саблуков докладывает именно в этот час командиру конногвардейцев Тормасову невеселый приказ о высылке полка из столицы. Солдаты не спят – готовятся к походу, начинающемуся в 4 утра.
У дома Шевалье специальные посланцы ждут Кутайсова, чтобы доставить к Палену, может быть, чтобы использовать трусливого, жалкого человечка, если придется говорить с Павлом… Но Кутайсова нет. Коцебу позже узнает, что он вернулся от француженки раньше времени…
Офицеры, пирующие за длинными талызинскими столами, встают, когда входит Пален с адъютантами Морелли и Тираном; Зубовы – «орлы», хоть на подбор; Беннигсен (согласно Воейкову) – «высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией» – резко выделялся своей наружностью «между круглыми, скулистыми и курносыми лицами русских генералов и сановников». А. М. Тургенев же помнит, что Беннигсен был «длинный, как шест, сухой, хладнокровный, как черепаха».
Тосты умножаются. По Вельяминову-Зернову, Пален и Беннигсен пьют «по одному бокалу», и Пален сейчас произнесет необыкновенный тост… Но пока что подходят опоздавшие, среди них Козловский. «Швейцар у дома Палена (очевидно, тот «полицейский офицер», которого запомнил Беннигсен), рассмотрев с большим прилежанием его билет, дал знак, по которому вышел лакей и проводил его по лестнице».
Козловский помнит большое собрание офицеров и генералов, «которые все были пьяны. Граф Пален, лишь только его приметил, как закричал: «А, Козловский, – ты должен поравняться с нами!»».
Существовала даже смутная версия, будто на ужин явилось несколько арестантов, выпущенных по приказу Палена из тюрьмы.
Итак, Пален пьет… здоровье нового императора.
Некоторые офицеры смущены, все молчат и ждут объяснения: только теперь, перед самой развязкой, карты раскрыты. Еще и еще раз вспомним беседу Пестеля с Паленом; прибавим и оценку Чарторыйского, понявшего тот ужин как способ «дать заговору созреть только среди двух-трех главарей и довести его до сведения многочисленных участников драмы только тогда, когда наступил момент исполнения».
Что происходит в следующие минуты?
Согласно Беннигсену и Чарторыйскому, была речь Платона Зубова; по екатерининской традиции (заговорщики ведь именно к ней обращались) Зубов здесь человек самый важный, ответственный – глава мятежного клана. В его речи основное – ссылка на Александра Павловича, санкция наследника на то, что сейчас произойдет.
Здесь центральное ядро всего эпизода: Зубов и Пален отпускают вперед грехи десяткам офицеров – именем завтрашнего Александра и вчерашней Екатерины; между прочим, доносится фраза о невыполненном завещании царицы – передать трон внуку, минуя Павла (формула завтрашнего манифеста Трощинского!).
Позже за Валерианом Зубовым запишут слова (очевидно произнесенные в полночь с 11 на 12 марта): «Императрица Екатерина формально приказала его брату Платону и ему смотреть на Александра как на их единственного законного монарха, служить только ему с непоколебимым усердием и верностью. Так именно они и поступали».
Присяга новому царю еще при старом – это важнейший элемент последнего собрания заговорщиков, о чем мало вспоминают мемуаристы, исследователи. Меж тем молчание современников связано со щекотливостью ситуации по отношению к новому царю. Завтра, когда рядовые заговорщики увидят плачущего Александра, все перемешается в их сознании: значит, обман! Он не хотел! Однако дело сделано…
Впрочем, и Пален с Зубовыми понимают, что, пользуясь именем Александра, представляют роль наследника весьма широкой, преувеличенной, более активной, чем тому бы желалось…
Опять мы видим в действии сложный механизм «двойного самозванства»: заговорщики идут с именем Александра, реальный же Александр не совсем совпадает с образом, который представлен заговорщикам, и еще более – не желает совпадать.
Однако дело сделано. Призрак, фантом Александра сработал, и это такая же часть процедуры, как ленты, мундиры, ордена… Да Александру уж и самому не разобрать, что произошло действительно с его ведома и что – вопреки его воле…
Итак, об александровском вдохновляющем имени большинство участников и современников той ночи предпочтут позже умалчивать, и потомкам представляется порою довольно упрощенная картина: офицеры пьют – затем идут убивать Павла.
Однако в высшей степени интересны соображения интимного собеседника Александра I и некоторых заговорщиков: «Пункт об отречении остался неясным; вероятно, каждый истолковал его себе по-своему, не очень стараясь вникать в него или же оставляя свою мысль при себе». Снова напомним, сколь по-разному (по крайней мере на словах!) трактовались наследником и заговорщиками такие коренные формулы, как отречение, регентство, новый император…
Осенью 1801 г. Лагарп будет безуспешно советовать Александру I взять, пусть с опозданием, всю ответственность за 11 марта на себя и судить цареубийц за превышение данных им полномочий. Век спустя немецкий историк найдет, что прямое выступление Екатерины II во главе заговора 1762 г. было более верным способом не выпустить управление стихией из своих рук, и прибавит: «Александр не имел мужества сам участвовать в заговоре и тем спасти отца». Эта не лишенная резона, но все же прямолинейно-наивная оценка совершенно исключает потаенное и в то же время хорошо угаданное Паленом желание Александра «умыть руки»; мечта наследника «спасти отца» существовала, наверное, только в той степени, в какой гибель Павла могла бросить тень на него самого…
Рассказывая о финальном ужине у Талызина, мы как бы раскладываем его на отдельные «медленные» элементы. Меж тем, согласно очевидцам, все шло быстро, ошеломляюще: ужин без генералов; Зубовы, Пален объявляют, что Павел будет свергнут именем Александра… Третий элемент возникает сразу – в вопросах подвыпивших офицеров, в ответах непьющих генералов.
Как поступить с Павлом?
Сложим воедино все быстрые, перебивающие друг друга голоса.
Пален говорит об английском примере – душевно больном Георге III, при котором учреждено регентство. Палену возражают, что царь может сопротивляться, – следует ответ, слишком многими услышанный, чтобы не быть сказанным.
Саблуков: «В конце ужина, как говорят, Пален как будто бы сказал: «Напоминаю, господа, чтобы съесть яичницу – нужно сначала разбить яйца»».
Козловский: «Заговорщики спрашивали Палена, как поступить им с императором. На это отвечал он им французской поговоркой: «Когда готовят омлет, разбивают яйца»».
Коцебу, правда, утверждает, что эти слова были произнесены уже около дворца, но никто ведь не мешал генерал-губернатору еще раз повторить поговорку. На пиру у Талызина она, во всяком случае, выглядит уместнее…
Некоторые из заговорщиков не удовлетворились ответом-афоризмом и постарались уточнить, что же Пален имеет в виду. Однако никто не услышит, чтобы осторожный генерал-губернатор произнес хоть слово об убийстве. После фразы об омлете и яйцах (согласно принцу Евгению) собравшиеся «пришли к единому мнению» и, «предусматривая, что Павел подчинится только насилию, решили заключить его в Шлиссельбург».
Итак, ясная формула о Шлиссельбурге; но притом допускающий самое широкое толкование рецепт насчет омлета… Зубовы и Пален, как уже говорилось, воздействовали на присутствующих не только устными заверениями, но и письменным документом – «манифестом № 1» Трощинского. Но тут уж к нам доносится спор о судьбе монархии и страны после переворота. В калейдоскопе разгоряченных мнении говорится всякое, например об опасности самодержавия вообще. Здесь присутствует князь Яшвиль, который несколько месяцев спустя напишет Александру о «несчастной России, которая со времени кончины Великого Петра была игралищем временщиков и, наконец, жертвой безумца. Отечество наше находится под властию самодержавною – самою опасною изо всех властей, потому что участь миллионов людей зависит от великости ума и души одного человека».
В ночь на 12 марта чаще восклицают, что нужен лишь хороший царь, а не конституция, и все же одно из крайних мнений было высказано столь громко, что не было забыто.
«Говорят, – пишет Саблуков, – что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу».
Саблуков верно понимает значение этого эпизода: как элемент переворота 11 марта он ничтожен; подобные мысли были совершенно чужды большинству заговорщиков. Однако уже само произнесение подобных слов (невозможных в 1741 или 1762 гг.) – это симптом нового вольнодумства. Пусть слова сказаны под влиянием вина, возможно, за ними нет подлинного глубокого убеждения, и все же сказано громко, сообщено другим, запомнилось…
Николая Бибикова упоминает среди заговорщиков и Вельяминов-Зернов; Беннигсен в эту ночь встретит «одного офицера по фамилии Бибиков во дворце вместе с пикетом гвардии». Племянник Беннигсена, правда, запишет за дядей! «…Бибиков с ротой семеновцев», однако в Семеновском полку не было в это время ни одного «подходящего» Бибикова. Зато в Измайловском полку, согласно списку офицеров на 28 мая 1800 г., значился штабс-капитан Николай Иванович Бибиков. Этот же офицер в качестве измайловского полкового адъютанта числится и в «Военных списках на 19 октября 1800 года».
Точность рассказа Саблукова, таким образом, подтверждается. Чин полковника, которым мемуарист награждает заговорщика, возможно, был получен гвардейским штабс-капитаном при переходе в армейскую часть или при выходе в отставку. К сожалению, ни по военным спискам, ни по слабо разработанному родословию Бибиковых пока не удалось проследить дальнейшую судьбу этого, может быть минутного, вольнодумца. Известно только, что 29 мая 1801 г. он произведен в капитаны, но утратил должность полкового адъютанта. Близкое родство измайловца с кем-то из декабристов не прослеживается, но, кто знает, не пресекли ль в конце концов карьеру Бибикова те громко сказанные слова, что дошли, естественно, не до одного Саблукова.
Найти еще материалы о Н. И. Бибикове было бы любопытно, но, повторим, не так уж принципиально важно: нельзя настаивать на буквальности саблуковской версии. Рядом с Бибиковым два других Измайловских штабс-капитана – Дмитрий Николаевич Вологовский (в будущем генерал, знакомец Пушкина и Герцена!) и Яков Федорович Скарятин: в ночь с 11 на 12 марта оба действуют и говорят чрезвычайно резко, пусть не в том роде, как Бибиков, но с той же далеко идущей решимостью. Радикализм Измайловских штабс-капитанов мог быть легко перенесен молвою с одного на другого (между прочим, в самом полном списке заговорщиков, составленном по памяти М. Фонвизиным, есть «Волховский, Скарятин», но нет Бибикова).
Припомнив в этой связи и сказанные 11 марта слова Дибича о тех, кто охотнее всего бросил бы в море царскую семью, и не углубляясь больше в неясные подробности, констатируем: крайнее, республиканское мнение или чувство, по крайней мере словесно близкое к тому, что прежде говорилось Радищевым и делалось в революционной Франции, – эта идея легкой вспышкой обозначит свое присутствие в ночь с 11 на 12 марта, исторически предвосхитит важные декабристские слова-мысли.
Однако вернемся снова в «окрестности» Зимнего дворца, к полуночи с 11 на 12 марта.
После разговоров или одновременно с ними офицеры вооружаются. «Из всех уст раздавалось имя Брута» – так запишет Евгений Вюртембергский со слов Беннигсена и Платона Зубова; мы видим, таким образом, большое разнообразие психологических «допингов», увеличивавших решимость мятежников: кроме парадной формы, манифеста и шампанского еще и Прут.
Козловский вспомнит, как Пален повел его в особую комнату со множеством оружия и сказал: «…Мы сен ночью готовимся переменить участь России и низвергнуть с престола тирана. Выбирай себе оружие, которым ты лучше умеешь действовать».
Растерянный Козловский положил за пазуху два пистолета.
В течение получаса или часа, пока ужинают у Талызина, несомненно, являются верные гонцы (выйти же из квартиры, конечно, никому не дают). После полуночи Палену докладывают, что Семеновский и Преображенский полки пришли в движение. Батальон преображенцев Талызин ведет к Летнему саду; Семеновский батальон Депрерадовича подходит к Гостиному двору. Пароль – граф Пален.
Солдат походом ведут ко дворцу. Все мемуаристы сходятся на том, что, получив сигнал о движении полков, Пален тотчас приводит в давно задуманное движение и несколько десятков офицеров, находящихся на квартире Талызина; эти люди – та главная, сокрушающая сила, которая должна вторгнуться в блокируемый дворец, окруженный безмолвно повинующимися солдатами.
Пален делит присутствующих на две партии, как обдумал прежде. Одну партию поведет сам – к парадному входу во дворец. Эта группа, так сказать, официальная: при ней находится генерал-губернатор с правом пресечь любую случайность, например арестовать любого сторонника Павла «именем закона». Другой авторитетный источник поясняет: «Пален и Уваров осуществляли надзор за внешней безопасностью». Как уже говорилось, главная задача шефа кавалергардов – охрана наследника. Но он, как и Пален, имеет официальное право быть в эту ночь везде (должность дежурного генерал-адъютанта!).
Другая партия, отобранная Паленом, – неофициальная, ударная. Формальный глава ее – Платон Зубов, но фактически – Беннигсен. Чуть позже генерал напомнит бывшему фавориту Екатерины, что «уже не время дрожать». Не зря Пален вызвал Леонтия Леонтьевича и не зря опасался, что Зубовы «задрожат». Решимость и твердость Беннигсена – залог успеха; но Платон Зубов при нем как бы представитель покойной Екатерины II.
К нескольким генералам присоединена группа офицеров.
Согласно Вельяминову-Зернову, техника была такова. Пален сказал: ««Покуда, господа, вам надобно разделиться – некоторые пойдут со мною, другие с князем Платоном Александровичем. Разделяйтесь!..» Никто не трогался с места. «А, понимаю», – сказал Пален и стал расстанавливать без разбора по очереди, одного направо, другого налево, кроме генералов. Потом, обратись к Зубову, сказал: «Вот эти господа пойдут с вами, а прочие со мною; мы и пойдем разными комнатами. Идем!» Все отправились в Михайловский замок. И Преображенский батальон пошел туда же скорым шагом».
Однако Пален вряд ли положился целиком на случай; скорее, нашел и включил в колонну Беннигсена тех, кто особенно ненавидел царя и был готов на месть: Яшвиля, Скарятина, Татаринова, Горданова – людей, к которым вождь заговора давно присмотрелся.
Две колонны должны сомкнуться во дворце.
Петербургская полночь. Безмолвно движутся две колонны офицеров и несколько гвардейских батальонов.
Глава XIII
После полуночи
Все спят. Прядут лишь парки тощи…
О той ночи несколько десятилетий рассказывали разные подробности – правдивые, вымышленные, анекдотические, жуткие. Как же в действительности развивались события? Попытаемся восстановить их ход…
Полночь с 11 на 12 марта. 3-й и 4-й батальоны Преображенского полка разворачиваются у Верхнего сада близ Михайловского замка и ожидают 1-й Семеновский батальон. Кроме командира Талызина с преображенцами совсем немного офицеров (по Вельяминову-Зернову – шесть человек). «Мне известно, – замечает мемуарист, – что к одному Преображенскому офицеру (П. С. Рыкачеву), который жил у своего родственника, приехал полковой адъютант Аргамаков с другими офицерами около 11 часов вечера и, остановясь у подъезда, послал звать его к себе в карету. Офицер был в халате и туфлях; он так и пошел к ним. Хозяин квартиры поручил ему звать гостей сих убедительно в комнату, но по прошествии получаса узнал, что они родственника его увезли с собою и что в карету к нему подали всю фруктовую одежду и все вооружение офицерское. Хозяин знал о заговоре, но, так как разговоры об этом прислушались, в досаде, что приятели не взошли к нему, не обратил на это ни малейшего внимания, так что без размышления лег спать».
Прекрасная иллюстрация к беседе Пестеля и Палена: на дело – прямо в халате, а разговоры о заговоре «прислушались», т. е. надоели…
Шесть офицеров на большую Преображенскую колонну, но неподалеку – еще около полусотни…
Две колонны заговорщиков идут разными улицами к Михайловскому замку.
Идти недолго, и мы будто слышим ночное движение офицерских и солдатских колонн: иллюзия народного «парижского» шороха, как перед штурмом Тюильри 10 августа 1792 г. Но только иллюзия…
Колонна Зубова – Беннигсена идет за капитаном Аргамаковым через Садовую к Рождественским воротам Михайловского замка. Однако оставим ее на время и возвратимся, прислушаемся к Преображенским солдатам, окружившим дворец.
«В Верхнем саду на ночь слеталось бесчисленное множество ворон и галок; птицы, испуганные движением войска, поднялись огромною тучею с карканьем и шумом и перепугали начальников и солдат, принявших это за несчастливое предзнаменование». Рассказ об этой ночной птичьей тревоге, о мрачном воронье воспроизводился на разные лады в десятках сочинений. Это воспоминание о собственном страхе, неуверенности.
В Преображенском строю тихие солдатские разговоры: «Куда идем?»
«Господа офицеры разными остротами и прибаутками возбуждали солдат против императора».
«Я слышал от одного офицера, что настроение его людей не было самое удовлетворительное. Они шли безмолвно; он говорил им много и долго; никто не отвечал. Это мрачное молчание начало его беспокоить. Он наконец спросил: «Слышите?» Старый гренадер сухо ответил: «Слышу», но никто другой не подал знака одобрения».
В том ночном строю офицеры осторожно намекают солдатам на близящееся «освобождение от тирана», говорят о надеждах на наследника, о том, что «тяготы и строгости службы скоро прекратятся». Все пойдет иначе. Солдаты, однако, явно не в восторге, молчат, слушают угрюмо, «в рядах послышался сдержанный ропот». Тогда генерал-лейтенант Талызин прекращает толки и решительно командует: «Полуоборот направо. Марш!» – после чего войска машинально повиновались его голосу».
Момент острейший. Позже, при других социально-политических обстоятельствах, у декабристов зайдет разговор: чем привлечь солдат и надо ли среди них вести агитацию?
С народом? Или для народа, но без него самого?
В среде декабристов, как известно, были разные мнения: все сходились на том, что привлечение рядовых необходимо, но расходились в средствах. Сергей Муравьев-Апостол откровенно беседовал с солдатами, особенно со старыми семеновцами. Пестель же склонялся к иной тактике, возражая против слишком раннего посвящения солдат: основная идея, что офицеры прикажут рядовым, куда и на кого идти, и они пойдут. Так вернее.
Декабристы выдвигали лозунги несравненно более народные, чем заговорщики 11 марта, – отмена крепостного права и военных поселений, облегчение службы… Но даже при таких «козырях» боялись, остерегались подключить к своему делу народную стихию. В конце концов и «южане», и «северяне», как известно, выдвинули на первый план в разговорах с солдатами идею хорошего царя – «Ура, Константин!». В ночь же на 12 марта 1801 г. было совсем мудрено убедить солдат, что «хороший царь» – тот, кто придет на место нынешнего. И тем решительнее лидеры заговора прибегают к традиционному использованию слепого солдатского повиновения, механического подчинения: «Кто палку взял да раньше встал…»
Обычное орудие приказа и принуждения перехвачено заговорщиками; сейчас оно не в руках Павла…
Преображенцы застыли в мартовском ночном холоде. Позже подходит и 1-й Семеновский батальон: «Ночью [в семеновские казармы] пришел Депрерадович и, обойдя по шеренгам, стал посредине и самым тихим голосом скомандовал: «Смирно! Заряжай ружья с патронами!» Во время заряжанья их беспрестанно повторял: «Тише, как можно тише». Наконец, довольно медля, спросил: «Все ли готово?» И потом, также весьма тихо, скомандовал: «По отделениям направо, марш!» Господа офицеры, тише нежели вполголоса, скомандовали (…) и путь свой направили к Михайловскому замку, идя сколь возможно медленнее без всякого шума и разговоров. Офицеры соблюдали молчание и рядовым приказывали то же».
Все это оказалось довольно долгим, что и было замечено разными современниками. Даже Гёте знал; что «Депрерадович ( … ) запоздал на 20 минут».
Простодушно-достоверную картину движения семеновцев ко дворцу сохранил рассказ М. Леонтьева: он спал, ничего особенного не подозревая. Приходит солдат, будит: «Ваше благородие, тревога, пожалуйте на линейку». Вскоре батальон, 500 человек во главе с полковым командиром, движется по Гороховой, Мойке, и встревоженные жители, кому запрещено выходить «после зори», выглядывают из окон, но, видя движущуюся массу солдат, в страхе прячутся внутри своих комнат. Во всем – тайна. Правда, поручик Кожин не выдерживает и, откинув надоевший павловский эспантон, произносит: «Не надо тебя! Теперь со шпагой служить надо». Однако Депрерадович, подобно Талызину, не считает нужным говорить лишнее; наоборот, разыгрывается небольшая комедия: солдатам намекают, что в городе «пожар», и адъютант Власов посылается якобы к коменданту – узнать точно, где горит. Власов, прогулявшись неподалеку, возвращается и сообщает: «Пожар в Михайловском замке, и комендант велел идти туда». Большинство верит, но когда подходят во тьме к экзерциргаузу близ замка и не видят огня, то начинают искать другое объяснение, а Леонтьев помнит: многие решили, будто всех «ссылают в Сибирь». Еще через полчаса Депрерадович тихо командует: «От ноги ступай за мной» – и ведет к замку через поднятый мост мимо новой статуи Петра I. Семен овцы видят своих же – 3-й батальон, стоящий во внешнем карауле, но – «ни слова». Замок окружен, рядом преображенцы – и мемуарист помнит, что «во втором часу пополуночи» он с отрядом в 30 – 40 человек замирает у подъезда, «что на Царицын луг», и ожидает дальнейшего…
Третьим же, караульным батальоном семеновцев распоряжаются в эти минуты Пален, Уваров, Валериан Зубов.
Итак, отдельные офицеры, измайловцы, конногвардейцы, кавалергарды, – среди заговорщиков, но без своих солдат: не нужно! Зато преображенцы и семеновцы – у дворца, семеновцы (с некоторой «примесью» преображенцев) – во дворце.
Позже Муравьев-Апостол запишет со слов товарищей: «Семеновцы заняли все посты в замке, кроме внутреннего пехотного караула, находящегося около залы, называемой уборной, смежной со спальней Павла I. Караул этот оставили из опасения, чтобы движением смены не разбудить императора.
На часах стоял рядовой Перекрестов и подпрапорщик Леонтий Осипович Гурко; последний потом рассказывал, что дверь уборной заперли накрепко ключом и, не зная, куда спрятать его, не говоря ни слова, спустили ключ ему под белье; он не успел опомниться, как ощутил неприятное прикосновение металла, скользнувшего по его ноге. При этом часовым было строго приказано безусловно никого не пускать».
Рассказ декабриста содержит обороты «приказано», «заперто»; действует как бы некая абстрактная сила. Так же невидимо устранена возможность случайной тревоги: около полуночи несколько фрейлин (Анна Волконская и другие) обнаруживают, что их комнаты заперты снаружи. В комнате принца Евгения Вюртембергского по-прежнему несколько испуганных воспитателей и друзей, боящихся, что принцу в эту ночь несдобровать. Разумеется, юноше запрещено выходить из его покоев и за ним следят.
Именно в полночь (по некоторым данным – в половине первого) люди Палена должны арестовать Обольянинова, Нарышкина, Малютина, Кологривова, Кушелева, Кутайсова, Котлубицкого.
Кутайсов, которого не нашли у Шевалье, был во дворце; услышав шум, «бросился бежать, выскочил на улицу в туфлях и сюртуке и, достигнув дома г. Ланского на Литейной, спрятался там и не показывался нигде до следующего дня».
«Пронырливый Фигаро, – замечает Саблуков, – скрылся по потайной лестнице, забыв о своем господине, которому всем был обязан».
Кажется, именно в эти минуты близ дворца появляется свободная карета. Пален все предусмотрел: если Павел останется цел, арестантская карета отвезет его в крепость. Позже она пригодится, по для другого.
Итак, вскоре после полуночи заговор обеспечен извне, и спящий Павел уже в двойном окружении караульных внутри замка и гвардейских батальонов вокруг него…
Колонна Беннигсена – Зубова входит во дворец через Рождественские ворота.
В замке
«Длинный Кассиус», – записал Гёте о Беннигсене, рядом Зубовы – Платон и Николай (одноногий Валериан остается с Паленом): «бруты» и «кассии».
Впереди все время Александр Васильевич Аргамаков – 25-летний племянник Дениса Фонвизина, писатель и поэт (поэты, как видим, играют немалую роль в деле), во внутреннем карауле стоит с преображенцами Сергей Марин.
Сколько же за Аргамаковым? Как разделились те 40 – 60 человек, что полчаса назад пировали у Талызина? Согласно хронике Гёте, «20 (офицеров) с Зубовым, 13 – с Паленом»; М. Фонвизин тоже замечает, что за Паленом пошло «меньшее число сообщников».
Из дальнейшего видно, что во дворец попадает примерно столько, чтобы потом (когда колонна расползется, частично рассеется) осталось человек 10 – 15.
Как войти в неприступный Михайловский замок?
Доносятся противоречивые версии, возможно относящиеся к разным эпизодам той ночи или толкующие об одном и том же. У верхних ворот страже будто бы объявляют (Аргамаков или Зубовы?): «Военный совет».
Согласно Вельяминову-Зернову, было проще: часовой-семеновец сделал знак – «проходи!».
У Пушкина – «Молчит неверный часовой…»
Позднейший читатель де Санглена, царь Александр II, как видно живо интересовавшийся подробностями, написал на полях его рукописи, что заговорщики прошли под Воскресенскими воротами – путем, который «выходил к передней комнате императора».
Пален, несомненно, обещал встретить колонну Зубова – Беннигсена во дворце. Что он нужен у главного входа – сомнений не вызывало; но почему же так долго его не видно? Очевидно, он «в первом этаже» – среди бесконечных коридоров (были предположения, что близ комнат Александра и Константина).
Сам Пален объяснит позже Ланжерону, что дал слово наследнику и потому, дескать, не участвовал в финальной сцене: вроде бы сам признается в двоедушии…
Да, Пален предпочитает, чтобы не его руками все завершилось, но притом ему ясно, что мосты сожжены. И, открывая собеседнику (например, Ланжерону) один из мотивов своей медлительности, он, конечно, тщательно умалчивает о другом: не таков был этот человек, чтобы положиться на волю случая. Он ясно понимал, что при всей твердости Беннигсена и азарте следовавших за ним события могут повернуться неожиданно. Невозможно предусмотреть все, что может случиться в огромном здании при сотнях «действующих лиц». Поэтому нет сомнений, что у генерал-губернатора был запасной вариант на случай, если Павел вырвется, позовет на помощь.
Слишком много семеновских и других верных офицеров уже находилось во дворце, и некоторые наверняка получили от Палена особое задание. Потом эту подробность постараются забыть, но все же А. Б. Лобанов-Ростовский, имевший исключительные возможности для сбора секретной информации, оставил следующую непубликовавшуюся заметку: «Офицеры, бывшие в заговоре, были расставлены в коридорах, у дверей, у лестниц для наблюдения. Так, мне известно, что Д. В. Арсеньев, бывший тогда в Преображенском полку… стоял в коридоре с пистолетом. Рискуя головою, заговорщики, по всей вероятности, положили не позволять государю ни спасаться, ни поднимать тревоги. ( … ) Если бы Павлу и представилась возможность спастись из своих комнат ( … ) то жизнь его неминуемо подверглась бы величайшей опасности на каждом шагу, так как заговорщики овладели этою половиной замка».
Сам Пален, думаем, обеспечивал надежность оцепления, гарантировал успех дела, если бы первая попытка сорвалась. Замечания современников и потомков, что он вел «двойную игру», верны не буквально, а «зеркально»: если Павла убьет колонна Беннигсена, значит, Палена при том не будет, он «умоет руки»; если же убийства в спальне не выйдет, дело завершит Арсеньев или кто-либо другой. По приказу вождя заговора, который никто бы не смог подтвердить…
Итак, царь находился как бы в двойном кольце убийц: беннигсеновском и паленском – не уйти!
Шум во дворце
«Смертный отряд», растеряв отставших, уменьшается «наполовину – до двенадцати или до десяти», даже до восьми человек; впрочем, некоторые из отставших еще догонят передовых…
«Беннигсеновцы», «паленовцы», караульные – все это создавало необычный для этого часа шум. Разгораются две тревоги, которые не могли не вспыхнуть.
Тревога Преображенская.
Тревога семеновская.
Преображенцы . Несколько мемуаристов рассказывают примерно одно и то же, расходясь в деталях. Два года спустя вновь поступивший в полк молодой Михаил Фонвизин узнает, что караульные солдаты поручика Марина в нижнем этаже заволновались: они ведь из самого привилегированного, государева батальона, который Павел частенько называет своей «лейб-кампанией». Их действия могли бы если не спасти Павла, то сильно помочь… Суммируя разные рассказы, видим, что Марии дважды или трижды останавливает своих караульных. Сначала к ним прибегает капитан Пейкер – главный начальник караула, семеновский офицер, но введенный в полк из бывших гатчинцев Павла. Он растерялся, спросил совета у офицеров, которые, чтобы выиграть время, посоветовали ему сделать доклад командиру полка, генералу Депрерадовичу, «что он и исполнил очень глупо и очень подробно».
Пейкер уходит сочинять доклад. Марин же командует своим: «Смирно! От ноги!» – и повторяет команду несколько раз. Когда же шум усиливается и караул готов кинуться на помощь царю, поручик-поэт (согласно Вельяминову-Зернову) пускает в ход сильнейшее средство: приставляет к груди одного из гвардейцев шпагу, а затем долгое время «продержал своих гренадер неподвижными, и ни один не смел пошевелиться. Таково было действие … дисциплины на тогдашних солдат: во фрунте они становились машинами».
В Марине (как и в Арсеньеве, Аргамакове) находим неповторимое сочетание жестокого, беспощадного заговорщика с прогрессивным просвещенным поэтом, другом многих будущих «арзамасцев». Снова обращаем внимание на разнородный «человеческий материал», на котором замешано 11 марта, на сочетание старинного переворотства с началами новых идей, с выработкой нового типа, «человека XIX столетия».
Семеновцы . Константин Маркович Полторацкий рассказывает правду (по-прежнему только преувеличивая свою наивность): пробегает один лакей, затем второй – «императора убивают!». «Старший на посту капитан Воронков исчез, я остался один. Второй лакей, дрожа всем телом, воскликнул: „Господин офицер, кто бы вы ни были, завтра станете первым человеком в России: бегите, бегите на помощь к императору, изменники его убивают“. Полторацкий „по некотором размышлении“ обнажает шпагу: „Ребята, за царя!“ Все бросились вверх по лестнице, но наверху показался Пален: „Караул, стой!“».
Более нейтральный и памятливый Михаил Леонтьев в эти минуты мерзнет в наружном оцеплении дворца, но уже на другой день слышат интереснейшие рассказы товарищей и родственников; он запишет (что особенно редко) версию не заговорщика, а сторонника Павла, капитана Воронкова («все сие происшествие, бывшее у них в караульне, сам мне рассказывавший…»). Капитан признается, что его, пьяного, унтер Михайлов разбудил сообщением о лакеях, которые подняли тревогу. Воронков не знал, что ему делать, и решил посоветоваться с Мордвиновым, «главным рундом» (т. е. офицером, обходившим посты), а также с Полторацким (!). Этих офицеров, однако, не оказалось на месте. «Посмотря на часы и видя первый час пополуночи, Воронков решился послать брата моего Владимира [т. е. брата мемуариста, Владимира Леонтьева]»; зеленого юнкера капитан отправляет на поиски ответственного офицера, а сам, не взирая на шум во дворце, не двигается с места (опасаясь: «вдруг все выйдет ложь!»).
«После уже [Воронков] догадался, для чего Мордвинов не ходил к главным рундам, ибо он давал время заговорщикам управляться с Павлом, а Воронкову спать». В подобном же умысле капитан уверенно обвиняет и Полторацкого, но признается, что «догадался после, а не тогда, когда и сам испугался, и видел еще прапорщика Ивашкина, прижавшегося от страха к знаменитому прапорщику Гурке» – тому самому, у кого уж ключ лежал в сапоге. Заговор кругом…
Беннигсен: «Мы повсюду находили караульных семеновцев, которые восклицали: «Рунд мимо, пройти рунду»». Семеновская тревога куда менее опасна заговорщикам, чем Преображенская…
Между тем, неся потери отстававшими, отряд убийц выходит к цели. «12 с половиной часов ночи».
Вдоль стен, многочисленных скульптурных украшений, портретов – в сыром тумане и свечном дыму – 10 – 12 беннигсеновцев с «дрожащим Зубовым» во главе входят в маленькую кухоньку, смежную с прихожей, перед царской спальней; но прежде чем войдут в тамбур, они должны пройти мимо караульного Агапеева, стоящего близ иконы. Этот эпизод почти исчез за другими, которые произойдут через несколько минут. Агапеев же, рядовой 3-й роты, 3-го гренадерского батальона Семеновского полка, 12 лет спустя покажет своему офицеру Матвею Муравьеву-Апостолу рубец от раны, полученной в ночь на 12 марта 1801 г.: «Когда заговорщики вступили в коридор, один из них, а именно граф Зубов, ударил Агапеева саблей по затылку так сильно, что тот упал, обливаясь кровью. Затем они постучались в спальню».
Ударил Николай Зубов; Головина, правда, утверждает, что бил Уваров, но шефа кавалергардов здесь нет: он близ Александра.
Тут же или рядом разыгрываются другие быстрые, почти невидимые схватки, о которых позже и не вспомнят, тем более что постараются представить дело совершенно мирным, стоившим лишь одной жертвы!
Рассказу, записанному другим декабристом, В. Ф. Раевским, должно верить: в конце 1827 г., по дороге в сибирскую ссылку, его приглашает обедать штабс-капитан, смотритель Московского тюремного замка (фамилию которого декабрист не запомнил). «После обеда разговорились, и он рассказал мне любопытный и страшный эпизод из его жизни. В 1801 году он был юнкером гвардии. В памятное число он стоял в карауле во внутренних покоях во дворце и в коридоре, который вел в комнаты императора Павла I. «Я ожидал уже смены в ночное время, часы уже пробили, как увидел, что несколько генералов шло прямо в комнаты государя. Сдача была: «никого не впускать» – я сделал на руку и остановил. В туже минуту на меня бросился офицер и два солдата, зажали рот, вывели вон и сдали в караульню, как важного секретного арестанта»».
Сопротивление погашено. Теперь надо войти в запертый тамбур перед царской дверью.
Постучали и, по одной версии, передали, что в городе пожар; согласно Беннигсену: «Мы дошли до дверей прихожей императора, и один из нас велел отворить ее под предлогом, что имеет что-то доложить императору». Английский агент утверждает, будто поводом для ночного вторжения было срочное известие, якобы пришедшее от Бонапарта, однако сам Ланжерон называет имя стучавшего в дверь: Аргамаков, обязанный утром, в 6 часов, подавать императору рапорт по Преображенскому полку. «Камердинер встает и спрашивает, кто он такой и что ему нужно. Аргамаков называет себя, прибавив: «Можно ли спрашивать, что мне нужно? Я прихожу каждое утро подавать рапорт императору. Уже 6 часов! Отпирайте скорее!» – «Как 6 часов? – возразил камердинер, – нет еще и 12-ти; мы только что легли спать». – «Вы ошибаетесь, – сказал Аргамаков, – ваши часы, вероятно, остановились, теперь более б часов. Из-за вас меня посадят под арест, если я опоздаю, отпирайте скорее». Обманутый камердинер отпер, и заговорщики вошли толпой».
Невозможно было все предусмотреть, но как ловко роковой отряд пользуется системой павловских регламентаций; если пожар – император должен его смотреть; если 6 утра – обязательный доклад дежурного. Разумеется, не исключалась «осечка», и тогда будут взломаны некрепкие запоры: главная охрана дворца была ведь с внешней стороны…
Однако обошлось. Два камер-гусара открывают дверь в тамбур.
Крики, минутное сопротивление…
Кто же на этот раз пускает в ход оружие? По Беннигсену – «один из сопровождавших меня». Коцебу уточняет – Яшвиль. «Возможно, выстрелили, но пистолет дал осечку, и тогда берутся за сабли», – записывает Евгений Вюртембергский.
Гайдук (или камер-гусар) Кириллов получает удар саблей по голове и падает, обливаясь кровью (он, впрочем, останется в живых, а императрица Мария Федоровна возьмет его в камердинеры). Другой гайдук с криком убегает…
Без шума так и не обошлось. Царь просыпается, дверь в его спальни заперта – но разве это серьезно?
Минуту или другую мощные гвардейские плечи упираются в легкую перегородку.
Тут Беннигсен-мемуарист и Беннигсен-рассказчик стараются умолчать о важной подробности, но рассказчик проговаривается Адаму Чарторыйскому: «…когда во дворце раздались крики, поднятые камер-лакеями Павла, шедший во главе отряда Зубов растерялся и уже хотел скрыться, увлекая за собой других; но в это время к нему подошел генерал Беннигсен и, схватив его за руку, сказал: «Как? Вы сами привели нас сюда и теперь хотите отступать? Это невозможно, мы слишком далеко зашли, чтобы слушаться ваших советов, которые нас ведут к гибели. Жребий брошен, надо действовать. Вперед!» – слова эти я слышал впоследствии от самого Беннигсена». Два других очевидца запомнят и передадут Воейкову фразу Беннигсена, сказанную в эти секунды: «Полумеры ничего не стоят».
У царя же сейчас как будто последний шанс: он дергает за звонок; по одной из версий – даже зовет Палена.
«Павел вскочил с постели, – продолжает свой рассказ Беннигсен, – и если бы сохранил присутствие духа, то легко мог бы бежать; правда, он не мог этого сделать через комнаты императрицы… но он мог спуститься к Гагарину и бежать оттуда. Но, по-видимому, он был слишком перепугай, чтобы соображать, и забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую, без полога, кровать, на которой он спал».
Потаенная лестница к Гагариным была, однако, хорошо известна Палену, и он, надо думать, предусмотрел этот случай.
Следующая сцена зыбка и неопределенна, за исключением ее результата. Попытаемся как бы разложить ее на основные элементы, эпизоды и вообразить рассказчиков рядом, припоминающих факт за фактом те события, очевидцами или современниками которых они были.
1) Саблуков, Лонжерон (за Беннигсеном): Павла не было, его ищут у кровати, перед ширмой, за ширмой. Беннигсен: «Я не искал…»
2) Беннигсен – Фоку: «Я поспешил вместе с князем Зубовым в спальню, где мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати перед ширмами». Ланжерону: «Мы входим. Платон Зубов бежит к постели, не находит никого и восклицает по-французски: «Он убежал!» Я следовал за Зубовым и увидел, где скрывается император».
Как видим, ганноверец старается не подчеркивать своей роли: «мы застали», «вместе с Зубовым»… Однако несколько человек свидетельствуют, что именно на Беннигсене все держалось: «Беннигсен с сатанинским хладнокровием подошел к постели, пощупал ее рукою и сказал: гнездо теплое, птица недалеко».
3) Чарторыйский (за Беннигсеном): «Павла выводят из прикрытия, и генерал Беннигсен, в шляпе и с обнаженной шпагой в руке, говорит императору: «Государь, вы мой пленник, и вашему царствованию наступил конец; откажитесь от престола и подпишите немедленно акт отречения в пользу великого князя Александра»».
4) Анонимный автор «Дневника современника»: «Павел не отвечал ничего; при свете лампады можно было видеть все замешательство и ужас, которые выражались на его лице. Беннигсен, не теряя времени, сделал верный осмотр в его комнатах. ( … ) Тут хранились войсковые знамена, также и великое множество шпаг, принадлежавших арестованным офицерам».
5) Здесь следует почти полное совпадение во всех рассказах. Платон Зубов вышел из комнаты, часть офицеров отстала, другие, испугавшись отдаленных криков во дворце, выскочили, и какое-то время Беннигсен находился с Павлом один на один.
Фоку Беннигсен сообщает кратко: «Я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами».
Ланжерону: «Я остался один с императором, но я удержал его, импонируя ему своим видом и шпагой».
Еще откровеннее генерал со своим племянником фон Веделем: оказывается, Беннигсен (вместе с вернувшимися в комнату офицерами) задержал царя, когда он «сделал движение в сторону соседней комнаты, в которой хранилось оружие арестованных…».
И тем не менее в 1812 г. генералу Кайсарову (со слов которого сделана запись Воейкова) сообщается нечто поразительное: «Привыкнув быть всегда впереди моего полка, я и тут был впереди маленькой колонны. Долго не понимал я, как случилось, что я очутился один в спальне императора, глаз на глаз с ним и держа обнаженную шпагу. После я уже узнал, что полупьяная толпа оробела, кинулась вниз по лестнице, а предводители их за ними.
Между тем император стоял в одной рубашке. У нас произошел разговор, не более 10 минут длившийся; мне показались они за вечность. Павел, дрожа от страха, стоял предо мною бледный, с всклокоченными волосами и до того растрогал меня своим раскаянием, своими слезами и особенно неведением многого, деланного его именем, что я готов был защищать его против целого света.
Настало молчание. Я вообразил, что коварство Палена и Зубовых придумало выбрать меня орудием их замысла; я поставил шпагу на пол и острием к сердцу моему и захотел заколоться.
Вдруг буйная толпа ворвалась с неистовыми криками в спальню, впереди были три брата Зубовы…».
Воейков, записав все это, справедливо заметил на полях – «ложь!». Однако не удержался от дополнительного комментария (тем более что давал свои записи на просмотр жандармскому генералу Дубельту): («Беннигсен рассказывал… желая смыть кровь праведника». Тут даже Дубельт не выдержал и написал Воейкову ответ: «Воля твоя, он не был праведником!».
Мы разбираем уникальные для мемуаров разночтения в пересказе одного эпизода одним человеком: нечто вроде речи Антония в шекспировском «Юлии Цезаре»…
Какой диапазон! От грозного вида и шпаги генерала, «импонирующих» Павлу, до той же шпаги, готовой превратить убийцу в самоубийцу…
Беннигсен выходит, возвращается с отставшими. Сцена в спальне продолжается. «10 минут» (Ливен), «полчаса или час» (Коцебу), «три четверти часа» (секретная английская версия).
6) Беннигсен – Фоку: «Павел поглядел на меня, не произнося ни слова, потом обернулся к князю Зубову и сказал ему: «Что вы делаете, Платон Александрович?» Царь, естественно, обращается к самому высокому чину, игнорируя Беннигсена и менее важных…
7) Платон Зубов произносит речь и требует отречения (Саблуков, Гейкинг). Коцебу все описывает проще: Зубов вынимает из кармана акт отречения; «Конечно, никого бы не удивило, если бы в эту минуту, как многие уверяли, государь, поражен был апоплексическим ударом. И действительно, он едва мог владеть языком и весьма внятно сказал: «Non, non! Je ne sous-crirai point!» (Нет, нет, я не подпишу»). «Акт» – это сочиненный Трощинским манифест: «текст соглашения между монархом и народом» (Саблуков); «черновик» (Чарторыйский).
Повторим, что не сомневаемся в существовании документа. Подписанный, он стал бы важнейшим государственным актом. Впрочем, Матвей Муравьев-Апостол (со слов Аргамакова, Полторацкого) полагает, что Павел все же подписал, «уступил настоятельным требованиям». Другие, однако, не подтверждают царской подписи, но слышат слова напуганного монарха:
«Что же я вам сделал?» (Аноним).
«…Просит пощады» (Вольяминов-Зернов).
Приняв одного из заговорщиков за сына Константина, восклицает: «И ваше высочество здесь?».
Английская секретная информация: «Павел потерял сразу присутствие духа, пролепетав всего несколько слов».
Больше всего свидетельств об отрицательной реакции царя: «Павел смял бумагу… резко ответил» (М. Фонвизин); царь ударяет или отталкивает Платона Зубова, обличает «его неблагодарность и всю его дерзость».
– «Ты больше не император, – отвечает князь. – Александр наш государь». Оскорбленный этою дерзостью, Павел ударил его; эта отважность останавливает их и на минуту уменьшает смелость злодеев. Беннигсен заметил это, говорит, и голос его их одушевляет: «Дело идет о нас, ежели он спасется, мы пропали».
Другой современник, Леонтьев, знает восклицание Яшвиля: «Князь! Полно разговаривать! Теперь он подпишет все, что вы захотите, – а завтра головы наши полетят на эшафоте».
По Санглену, подобные слова говорит Николай Зубов: «Чего вы хотите? Междоусобной войны? Гатчинские ему привержены. Здесь все окончить должно».
Иные рассказчики более сдержанны, но помнят, что царь громко отвечал Зубову, и его ударили, воскликнув: «Что ты так кричишь?» (Саблуков).
Вообще момент с «хартией» и павловской реакцией на нее – самое невнятное место всей трагедии. Куда более ясен, безусловен следующий миг…
8) Аноним: «Николай Зубов первый поднял руку на своего государя». Тот самый, недавно реабилитированный генерал-лейтенант, который 6 ноября 1796 г. первым известил Павла-наследника, что ого мать смертельно больна.
Саблуков: после того как Николай Зубов ударил царя по руке, Павел с негодованием оттолкнул его, «на что последний, сжимая в клаке массивную золотую табакерку, со всего размаха нанес правою рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. ( … ) На основании другой версии Зубов, будучи сильно пьян, будто бы запустил пальцы в табакерку, которую Павел держал в руках. Тогда император первый ударил Зубова и, таким образом, сам начал ссору. Зубов будто бы выхватил табакерку из рук императора и сильным ударом сшиб его с ног. Но это едва ли правдоподобно, если принять во внимание, что Павел выскочил прямо из кровати и хотел скрыться. Как бы то ни было, несомненно то, что табакерка играла в этом событии известную роль».
Современники, со слов очевидцев, спорят о деталях страшной картины.
Удар нанесен «мраморным предметом» (английская версия), «пистолетом» (другая английская версия), эфесом шпаги (шведская версия); Беннигсен утверждает, будто в этот момент он дважды повторял царю: «Оставайтесь спокойным, ваше величество, – дело идет о вашей жизни».
9) Вслед за тем Беннигсен выходит из комнаты, и не один. Чуть раньше или минутой позже окончательно исчезают Зубовы, прежде всего Платон. Причина или повод: новые шумы, разносящиеся по дворцу. Князь в полной форме лучше других может воздействовать на солдат; впрочем, аноним-современник знает, что Платон Зубов, выйдя из царской спальни, и не подумал идти к взволнованным гвардейцам, но «бросился тотчас к великому князю Александру». Вскоре туда же кинется и Николай Зубов…
Беннигсен: «В эту минуту я услыхал, что один офицер по фамилии Бибиков вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут» – так генерал напишет собственною рукою. Ланжерону же объяснено иначе: на Павла, «теснясь один на другого», двинулись подошедшие офицеры, кто-то из них погасил лампу, стоявшую на полу; «я вышел на минуту в другую комнату за свечой». Племянник Ведель записывает почти то же самое, но с одной существенной подробностью: «Когда раздался новый шум в смежной комнате, окружавшие Павла опять перепугались, но Беннигсен снова обнажил шпагу: «Теперь нет больше отступления!»»
Чарторыйский верит, будто именно уход Беннигсена развязал страсти. Так же думал или хотел думать Александр I. Зато Воейков знает более откровенное объяснение Беннигсена: «Я ушел прежде, чтобы не быть свидетелем этого ужасного зрелища».
Наконец, Фонвизин уж не имеет никаких сомнений! «В начале этой гнусной, отвратительной сцены Беннигсен вышел в предспальную комнату, на стенах которой развешаны были картины, и со свечкой в руке преспокойно рассматривал их». Эти картины, «изучаемые» Беннигсеном, встречаются и в рассказе, записанном М. Муравьевым-Апостолом (совпадение с версией Фонвизина объясняется тем, что оба декабриста запомнили рассказ Аргамакова, обедая с ним в 1820 г.): один из заговорщиков будто бы выскочил из царской спальни, чтобы сказать Беннигсену, что царь подписал или готов подписать отречение. «Услышав об отречении Павла, Беннигсен снял с себя шарф и отдал сообщнику, сказав: «Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Павла для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что Павел не последует примеру Анны Иоанновны?» Этим смертный приговор был решен».
Подобные речи в такой ситуации маловероятны. Все решалось секундами. Павла уже бьют – тут не до отречения… Вероятно, в записи декабриста соединились разные элементы события, но она верно отражает суть: Беннигсен – фактический лидер, трезво оценивший ситуацию, не сомневающийся (об этом, конечно, договорился с Паленом), что царю не жить; но перед самым финалом он делает то же, что Пален и Зубовы, – умывает руки.
Еще одна характерная подробность: племяннику Беннигсен расскажет, что, «выходя из комнаты, приказал князю Яшвилю охранять царя». Так вырисовывается образ «главных виновников», штаб– и обер-офицеров: полковник князь Яшвиль после ухода генералов – самый старший по чину среди оставшихся…
10) Беннигсен возвращается: «Вернувшись, я вижу императора, распростертого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончено!» Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции. ( … ) Напротив, прежде было условлено увезти его в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от престола».
Племяннику сообщено, будто его дядя кричал! «Стойте! Стойте!» Но Ланжерон при всей почтительности к Беннигсену не очень верит и пишет, что генерал «был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве».
Что же произошло в спальной комнате, пока выходил и возвращался Беннигсен?
Зубовых нет (лишь камердинер князя Платона). Там офицеры гвардии Яшвиль, Скарятин, Горданов, Бологовской, Аргамаков, Татаринов… Принц Евгений называет еще князя Вяземского. Сто лет спустя великий князь Николай Михайлович просит Шильдера сообщить имена «тех двенадцати», которые вошли в царскую спальню. Если к семи названным офицерам прибавить двух Зубовых с камердинером и Беннигсена, то недостает всего одного. Однако генералам, как уже отмечалось, нравится версия о главной роли «четырех пьяных извергов».
В те минуты, когда, казалось бы, никто не контролирует разгоревшиеся страсти, происходят молниеносные замены, «перестановки» основных действующих лиц. Главный – Беннигсен, но он не касается монарха и пальцем. Первым бьет Николай Зубов, но затем генералы устраняются, выходят, предоставляя заканчивать дело офицерам.
Знали ль генералы, что именно так дело пойдет?
Втайне они этого, конечно, желали; паленовское «не изжарить яичницу, не разбив яиц» подтверждалось. Позже Пален будто бы произнесет: «Дело сделано, но уж слишком».
События в зависимости от случая, конечно, могли повернуться по-разному. На прямое цареубийство не решились бы многие, способные к низложению Павла. Однако по Беннигсену: «Мы не дети, и, раз начав такое дело, нельзя отступать…» Каждый шаг вперед по дворцу, каждый удар по охране, каждая преодоленная преграда отрезает путь назад. Речь идет уже об инстинкте самосохранении убийц, помноженном на испуганное ожидание, что вот-вот ворвутся преданные царю люди. Шум за стеной и тревожные выходы из спальня Зубовых, Беннигсена – это поощрение к немедленным действиям.
Меж тем у дворца действительно усиливается ночная тревога. Леонтьев, воспоминания которого особенно внушают доверие, видит с улицы мелькание огней в дворцовых окнах. Семеновские солдаты шепчутся: «Братцы, во дворце что-то не здорово» – и готовы на помощь. Тут подскакал подполковник Вадковский и начал говорить о хорошей службе при Екатерине II, «подавая надежду на перемену правления, но солдаты молчали».
Меж тем во дворце колеблющийся капитан Воронков слышит удар колокола, означающий вызов караульных с оружием на главную гауптвахту. Он бежит со своими солдатами и понимает, что сигнал дал Пален, стоящий «с толпою заговорщиков, державших зажженные факелы» (очевидно, со своею колонной, которую повел с талызинского пиршества).
«Воронков поспешно скомандовал от ноги, приказал заходить караулу справа и слева в намерении окружить графа (делая все сие, как сам после признавался, в ужасе и не зная, что сам делал), но сей закричал в это время: «Ребята! У нас император Александр! Ура!» Воронков кричавшим с великим усердием солдатам «ура» хотел сие воспретить, закричав «цыц!». Но граф Пален, бросясь к Воронкову и схватя его за галстук, сказал ему: «Молчи, я тебя удавлю!» И, обратясь к явившемуся теперь поручику Полторацкому, сказал: «Извольте командовать на караул». Воронков жаловался, что Пален «едва было не удавил в самом деле его, и не мудрено: граф был высокого роста и мужчина здоровый, а Воронков маленький и толстенький».
По всей видимости, этот же эпизод с более откровенными подробностями, но и с немалой путаницей фамилий представлен в записи Матвея Муравьева-Апостола? «Главный караул занимал капитан Михайлов со своей ротой. Он был гатчинец, достойный образчик этих офицеров: грубый, безграмотный и пьяница. Солдаты этого караула тоже подняли ропот, что их не ведут унять шумящих. ( … ) Михайлов вывел солдат из караульни. Поднявшись по парадной лестнице, на ее площадке ему встретился граф Зубов и спросил: «Капитанина, куда лезешь?»
Михайлов ответил: «Спасать государя».
Граф дал ему вескую пощечину и скомандовал! «Направо кругом». Михайлов с должным повиновением отвел своих солдат в караульню».
Главная опасность для заговора не в том, что Павел выскользнет, но в возможной поддержке, которую он мог получить от солдат. «Найдись хоть один человек, – полагает Чарторыйский, – который бы явился от имени (Павла) к солдатам, – он был бы, быть может, спасен, а заговорщики арестованы. Весь успех заговора заключался в быстром его выполнении».
В первом часу ночи Пален идет по коридорам и лестницам к заветным комнатам, видимо точно рассчитав время.
На Павла накатываются средние чины – то самое «гвардейское дворянство», которое особенно ущемлено, лишено гарантий, считает правление с 1796-го «сумасшедшим»…
Измайловец, 20-летний штабс-капитан Скарятин, начал дело, закричав: «Завтра мы будем все на эшафоте».
Другие не помнят – кто первый, кто последний: кинулись полковник Яшвиль, майор Татаринов, Горданов, Скарятин…
Подробности страшны, иногда почти непередаваемы на бумаге. Пушкин писал о народной стихии – «бунте бессмысленном и беспощадном», но в эти минуты бессмысленность и беспощадность сопровождают бунт дворянский.
Кажется, ближе всего к истине запись, сделанная за Беннигсеном; смысл ее – что и самим убийцам мудрено было бы понять, кто же нанес последний удар: «Многие заговорщики, сзади толкая друг друга, навалились на эту отвратительную группу, и таким образом император был удушен и задавлен, а многие из стоявших сзади очевидцев не знали в точности, что происходит». Пушкин определенно утверждает: «Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го».
«Крики: «Павел более не существует!» – распространяются среди других заговорщиков, пришедших позже, которые, не стесняясь, громко высказывают свою радость, позабыв о всяком чувстве приличия и человеческого достоинства. Они толпами ходят по коридорам и залам дворца, громко рассказывают друг другу о своих подвигах, и некоторые проникают в винные погреба, продолжая оргию, начатую в доме Зубовых».
Беннигсен утверждает, что пытался унять опьяненных вином и кровью, что адресовал «страшные угрозы против убийц» (и мы верим, что теперь-то Беннигсену крайне выгодно так кричать!): он посылает за Зубовым. Князь Платон вскоре появляется и будто бы останавливает расходившихся офицеров: «Господа, мы пришли сюда, чтобы избавить отечество, а не для того, чтобы дать волю низкой мести». Так 12 марта 1801 г. закончилось царствование Павла I.
Глава XIV
Двенадцатое Марта
Хищности смертны багрятся…
На завершение переворота понадобится еще несколько часов. Здесь уже нет тайны. Здесь все почти на виду.
Около часу ночи Александр все знает.
«Я обожал великого князя, – вспомнит К. М. Полторацкий, – я был счастлив его воцарением, я был молод, возбужден и, ни с кем не посоветовавшись, побежал в его апартаменты. Он сидел в кресле, без мундира, но в штанах, жилете и с синей лентой поверх жилета…
Увидя меня, он поднялся, очень бледный; я отдал честь, первый назвав его «Ваше императорское величество».
«Что ты, что ты, Полторацкий! – сказал оп прерывистым голосом.
Железная рука оттолкнула меня, и Пален с Беннигсеном приблизились. Первый очень тихо сказал несколько слов императору, который воскликнул с горестным волнением: «Как вы посмели! Я этого никогда не желал и не приказывал», и он повалился па пол. Его уговорили подняться, и Пален, встав на колени, сказал: «Ваше величество, теперь не время… 42 миллиона человек зависят от Вашей твердости». Пален повернулся и сказал мне: «Господин офицер, извольте идти в Ваш караул. Император сейчас выйдет». Действительно, по прошествии 10 минут император показался перед нами, сказав: «Батюшка скончался апоплексическим ударом, все при мне будет, как при бабушке».
Крики «ура» раздались со всех сторон…».
Полторацкий видел то, что видел; но, вероятно, офицер был не первым, кто предупредил, что события идут… Упоминали о Николае Зубове, который будто бы раньше других появился перед Александром, но если это так, то он еще не мог сообщить о смерти Павла (ведь Зубов ушел до последней минуты). Полторацкий, а за ним Пален, Беннигсен беседуют с Александром, готовым вступить на трон, но еще не знающим подробностей того, каким способом устранен отец…
В течение тех «10 минут», что Пален и Беннигсен наедине с новым царем, мы, конечно, легко вычислим, о чем говорится. По Беннигсену, все было грубо и просто: «Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Пален, встревоженный образом действия гвардии, приходит за ним, грубо хватает его за руку и говорит: «Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии»». Звучат слова о спасении отечества, матери, жены, братьев, сестер Александра; о «виновных» пьяных офицерах-цареубийцах и невиновности Палена и Беннигсена, «не желавших» цареубийства, но «не имевших сил» остановить стихию; наконец, новому царю дается совет – как действовать, что говорить.
Слова по выходе из комнаты «все будет, как при бабушке» – общая идеологическая формула нового царствования. Надо думать, она содержалась уже в первом, теперь ненужном манифесте Трощинского; она попадет и в новый манифест, который скоро будет сочинен тем же Трощинским…
Четыре года назад, в мае 1796 г., Александр с негодованием и презрением писал другу о правлении бабки – теперь вынужден клясться ее именем.
Появляется Константин и позже вспомнит: «Платон Зубов, пьяный, вошел ко мне в комнату, подняв шум. (Это было уже через час после кончины моего отца.) Зубов грубо сдергивает с меня одеяло и дерзко говорит» «Ну, вставайте, идите к императору Александру; он вас ждет». Можете себе представить, как я был удивлен и даже испуган этими словами. Я смотрю на Зубова: я был еще в полусне и думал, что мне все это приснилось. Платон грубо тащит меня за руку и подымает с постели; я надеваю панталоны, сюртук, натягиваю сапоги и машинально следую за Зубовым. Я имел, однако, предосторожность захватить с собою мою польскую саблю…».
Вскоре Константин видит брата в слезах, пьяного Уварова, сидящего на мраморном столе свесив ноги, и, узнав о смерти отца, сначала думает: это «был заговор извне против всех нас». Последняя реплика Константина любопытна тем, что произносится в 1820 г. и, возможно, экстраполирует на события четвертьвековой давности недавнюю декабристскую попытку – действительный «заговор против всей династии».
Меж тем «ура!» новому императору, которое слышит Полторацкий, еще не всеобщее – это верные царю семеновцы. Сейчас главная проблема – как отнесутся солдаты? Пален отлично понимает ситуацию и объясняет новому императору, что только он один и может их успокоить.
Солдаты же с большой тревогой прислушиваются к дворцовым шумам.
Отрывочные и систематические рассказы о той ночи сохранили богатый спектр солдатских настроений и высказываний – от бурной радости до готовности переколоть убийц Павла I.
Ланжерон, по многим свидетельствам, восстанавливает следующую картину: «Граф Пален увлек императора и представил его Преображенскому полку. Талызин кричит: «Да здравствует император Александр I» – гробовое молчание среди солдат. Зубовы выступают, говорят с ними и повторяют восклицание Талызина – такое же безмолвие. Император переходит к Семеновскому полку, который приветствует его криками «ура!». Другие следуют примеру семеновцев, но преображенцы по-прежнему безмолвствуют».
Семеновцы приняли нового царя. С опозданием уступают преображенцы.
В других же, не выведенных к заговору полках сомневаются. Саблуков описывает весьма типичную сцену, как его конногвардейцы, получив перед выступлением в Царское Село внезапное известие о гибели Павла, близки к бунту и не отвечают положенным «ура!» на объявление, сделанное командиром полка генералом Тормасовым.
«На правом фланге стоял рядовой Григорий Иванов, примерный солдат, статный и высокого роста. Я сказал ему:
– Ты слышал, что случилось?
– Точно так.
– Присягнете вы теперь Александру?
– Ваше высокоблагородие, – ответил он, – видели ли Вы императора Павла действительно мертвым?
– Нет, – ответил я».
Столь частый российский «призрак самозванчества» витает над полком: все бывает! Если при царствующей Екатерине столько раз «воскресал» Петр III, то отчего бы и не воскреснуть Павлу?
Беннигсен, узнав, что конногвардейцы волнуются, сначала считает совершенно невозможным допустить солдат к телу Павла I, которое «приводят в порядок» три шотландских врача – уже знакомый нам Гриве, Гутри, а также будущий знаменитый лейб-медик Александра – Вилье; однако потом генерал объявляет, что, если конная гвардия так привязана к Павлу, «пусть поглядят».
Саблуков: «Два ряда были впущены и видели тело императора. ( … ) Прежде всего я обратился к Григорию Иванову:
– Что же, братец, видел ты государя Павла Петровича? Действительно он умер?
– Так точно, ваше высокоблагородие, крепко умер!
– Присягнешь ли ты теперь Александру?
– Точно так… хотя лучше покойного ему не быть… А впрочем, все одно: кто ни поп, тот и батька».
Слова солдата художественно выразительны; народный взгляд на царя и царей, Павел, который для них лучше Александра (несмотря на то что конногвардейцы были не в чести у покойного императора): «А впрочем, все одно…»
Колебание войска … Пока оно длится, переворот не обеспечен. Проносятся слухи, будто гусары уж разбили в городе кабаки. Немецкий историк записывает слова Беннигсена, что «он боялся, как бы солдаты по своей привязанности к покойному императору не были бы использованы для какого-нибудь безумного предприятия».
Власть не закреплена. «Tout le monde ordonnel (Все приказывают!)» – так представлялась эта ночь молодой императрице Елизавете Алексеевне. Часть откровенных рассказов молодой императрицы об этой ночи сохранилась в изложения близкой к ней особы: «Великого князя Александра разбудили между 12 и часом ночи. Елизавета, которая и легла всего за полчаса перед этим, встала вскоре после него. Она накинула на себя капот, подошла к окну и подняла штору. ( … ) Она различила ряды солдат, выстроенных вокруг дворца. Вскоре она услыхала многократно повторенные крики «ура», наполнившие ее душу непонятным для нее ужасом.
Она не представляла себе ясно, что происходило, и, упав на колени, она обратилась к богу с молитвой, чтоб, что бы ни случилось, это было бы направлено к счастью России».
Перед нами, конечно, смягченная, приукрашенная версия: может быть и «не представляя ясно» все происходящее, Елизавета, без сомнения, знает о заговоре, о плане замены монарха (так же как была в курсе «конспирации 1797 года»). В ночь с 11-го на 12-е ее видят во дворце в разных ситуациях спокойной, деятельной, внутренне, конечно, ничуть не скорбящей о вчерашнем императоре, но опасающейся разгульной стихии убийства и к тому же соблюдающей необходимый траурный декорум… В уже цитированном письме к матери от 13 марта она сообщает: «То, чего боялись давно, произошло» – и, «содрогаясь, как все души, обладающие хоть минимумом деликатности», добавляет, что «Россия, конечно, вздохнет после четырехлетнего угнетения».
В неустойчивой, тревожной ночи Пален, несомненно, действует на растерянного Александра с помощью Елизаветы. По рассказу Головиной, «великий князь возвращается с самыми сильными проявлениями отчаяния», передает своей супруге известие о гибели Павла и, очевидно повторяя рекомендации Палена и Беннигсена, говорит: «Я не чувствую ни себя, ни что я делаю – я не могу собраться с мыслями; мне надо уйти из этого дворца. Пойдите к матери и пригласите ее как можно скорее приехать в Зимний дворец».
Как видим, растерянный и подавленный Александр все же успевает сказать жене о двух главных делах, которые надо сделать. Первое – покинуть опасный Михайловский замок, по которому бродят пьяные офицеры, где не на всех солдат можно положиться, и переехать в Зимний дворец, гарнизон которого будет, конечно, обеспечен верными частями…
Вторая опасность – императрица-мать, от которой к Александру уже дошли первые известия. Сын не желает объясняться с матерью и, поощряемый решительными вождями заговора, спускается вниз, к карете, вместе с Константином (отъезд второго сына Павла – «мера безопасности» и для его жизни, и на случай возможного использования его против брата!). «Раздалось несколько голосов еще в темноте, – вспоминает семеновский свидетель. – «Государеву карету!» И теперь я не могу понять, откуда явилась сия карета! Приготовлена ли она была с вечера революционерами или подвезена тихо в то время, когда мы заняты были суматохою, в замке бывшею, сего никак не могу решить, но, как бы то ни было, подана двухместная запряженная четверней, а не придворная, ибо тогда придворные экипажи запрягались всегда парадными цугами, а когда и четверней, то все с шарами и парадно»; эта же, «с ямскими лошадьми», скорее всего была «собственностью частного человека»».
Карета, как отмечалось, вероятно, ожидала пленного Павла, чтобы отвезти в Шлиссельбург.
«Александр Павлович, – записало в камер-фурьерском журнале, – изволил отбыть в 2 часа ночи с великим князем Константином Павловичем из Михайловского замка в Зимний дворец, в прежние свои комнаты». Отъезд, похожий на бегство: без жены, без матери, без сестер и малолетних братьев…
16-летний семеновский подпоручик Роже де Дама (французский эмигрант, будущий русский генерал и французский министр в период реставрации) тоже заметил, что, «когда карета отъехала, ей преградили путь, но один из лакеев сказал: «Это великий князь!» Другой лакей возразил: «Это император Александр!» После чего семеновский батальон бегом сопровождал карету до Зимнего дворца».
Вместе с двумя членами царской фамилии в карете находится Платон Зубов; на запятках камер-гусар и Николай Зубов. Другие помнят на запятках верного Александру Уварова, третьи – самого Палена.
Пален, как и прежде, вездесущ. Он исчезает из Михайловского замка, полновластным комендантом которого назначен Беннигсен, успевает заехать домой и предупредить жену, «что отныне она может спать спокойно», появляется в Зимнем, снова в Михайловском, опять в Зимнем. Из Зимнего Александр и Константин отправляются – несомненно ведомые рукой Палена – к гвардейским полкам. Там уже поверили, что Павла нет, и наконец отвечают громким «ура!». В половине пятого утра присягнули преображенцы. С восьми утра присяжный лист в кавалергардском полку, где вслед за генерал-лейтенантом Уваровым расписываются 22 офицера. П. В. Кутузов приведет к присяге лейб-гусаров.
Не замедлило и гражданское обеспечение переворота: во дворец доставлен Трощинский, он пишет второй, тут же отсылаемый в типографию манифест о правлении Александра по заветам бабки…
За калейдоскопом событий той ночи плохо различимы другие действия по гражданской части. Между тем ведь еще накануне, в 10 часов вечера, когда Трощинский писал первый манифест, планировалось, как мы знаем, собрание Сената, которое утвердит и придаст законную форму всему, что случится…
16-летний Леонтьев, конечно, не слишком сильный авторитет насчет того, что происходило не у него на глазах, но он позже интересовался, расспрашивал и вот на чем настаивает со слов дяди-сенатора: «Александр в ту ночь отправился не только к полкам, но в Казанский собор, где уже собрались Сенат и Синод; быть может, заговорщики, собрав сии сословия, намерены были привести Павла I, дабы законно лишить престола». Далее мемуарист размышляет, как удалось собрать столь большое число важных особ, и отвечает: «Теми же средствами, как и мы, т. е. обманом», так как специальные офицеры еще прежде будто бы развезли сенаторам и архиереям «повестки» явиться к полуночи в Казанский собор, не сообщая, для чего это нужно: «Так, по крайней мере, рассказывал дядя мой, сенатор, действительный тайный советник Николай Васильевич Леонтьев, бывший там в соборе, но не знавший, зачем их собрали, до тех пор, пока не явился Александр I и прочтен был им манифест о смерти Павла I, в котором причиной оной выставлен был апоплексический удар».
Приведенное свидетельство крайне интересно и в то же время почти не находит подтверждения в других документах. Правда, Беннигсен, как отмечалось, писал, что Трощинский в 10 часов вечера обещал собрать сенаторов, и, вероятно, их доставляли на место служения примерно так, как самого Трощинского, – глубокой ночью с фельдъегерем. Однако многие свидетели и современники переворота, помнившие, как утром и днем 12 марта приносили присягу Александру, ни звуком не обмолвились о ночном заседании. Если оно было в самом деле, то молчание созванных понятно: ведь предварительный вызов в Казанский собор и последующее появление там Александра слишком уж резко обнаруживали, что участь Павла была решена заранее и с ведома его сына…
Так или иначе, но важнейший элемент государственного переворота, участие и санкция высших гражданских властей, – то, что так заметно было в событиях 1762-го, то, что предполагали декабристы в 1825-м, – все это во время гибели Павла проходит почти бесследно, почти тонет в двухвековом тумане.
Одно из немногих косвенных подтверждений описанного Леонтьевым события – рассказ уже упоминавшегося Безака, за которым «в первом часу ночи» приехал обер-прокурор 1-го департамента Сената генерал Рязанов, поздравил оторопевшего чиновника с новым государем и потребовал срочно ехать с ним во дворец. Следующий рассказ рисует обстановку той «переворотной» ночи, когда уже все совершилось, но еще не завершено, не оформлено, незаконно:
«Безак накинул халат и вскочил с постели.
– Эй, чесаться!
– Какое тут чесаться: надевайте мундир и спешите. Я довезу Вас до дворца.
Безак надел красный мальтийский мундир и поехал.
– Да, что генерал-прокурор?
– Он под арестом: я исправляю его должность».
Освещенный Зимний дворец был полон придворными, среди которых «несколько человек весьма навеселе». Пален предлагает Безаку подписать рукописный присяжный акт, уже подписанный всеми важнейшими чиновниками. Осторожный Безак читает и возвращает Палену лист:
«Я его не подписываю. В нем нет существенной статьи по генеральному регламенту.
– А какой?
– «И высочайшего престола его наследнику, который от его величества назначен будет».
– Правда, – отвечал Пален, – а мы все подписали. Хороши же мы!
Он отнес в кабинет, и государь своеручно вписал пропущенные слова между строками. Безак, подписав присягу, вошел в комнату государя. Александр I, бледный, с красными на лице пятнами, с опухшими от слез глазами, ходил в раздумье по комнате».
Много подписей на присяжном листе еще глубокой ночью, действия и акты, связанные с Сенатом, – все это отдельные сохранившиеся следы «гражданской кухни» военного переворота.
Меж тем, пока новая власть реально и формально укрепляется в Зимнем дворце, Казанском соборе, по гвардейским полкам, в Михайловском замке преодолевается последняя неожиданная попытка воспрепятствовать планам заговорщиков.
Ich will regieren
В переводе с немецкого – «Я хочу править». Это восклицание (с некоторыми вариациями) помнят многие участники и современники той ночи. Восклицание овдовевшей царицы Марии Федоровны, которая с часу до пяти отказывалась подчиниться воле сына и нового императора.
Ее разбудила статс-дама Ливен (вскоре после того, как Александр обо всем узнал в своих покоях). Горе императрицы, в последние месяцы полуопальной, но все же прожившей с Павлом 25 лет и родившей ему 10 детей; горе, смешанное с честолюбивыми претензиями на престол, – все это вылилось в громкую (при свидетелях!) декларацию, откровенное непризнание Александра собственной матерью. Тем скорее новый царь стремится покинуть Михайловский замок, где «бушует» императрица. Это была серьезная ситуация, которую, кажется, и Пален не предвидел…
Вообще от той ночи осталось немало довольно острых, порой грубых афористических выражений, и приходится гадать, то ли действительно в горячке говорили круто, а потом смягчали версию, то ли задним числом создавали фразы вроде паленовских обращений к Александру: «Государь, идите царствовать»; или тот же Пален в ответ на восклицание вдовы Павла: «Кто же правит?» отвечает «Об этом уже позаботились».
Затем Мария Федоровна делает три попытки овладеть ситуацией. Первое усилие – прорваться в комнату Павла – было отбито кавалергардом Гордановым. Рассказ Вельяминова-Зернова весьма откровенен: «Вдруг императрица Мария Федоровна ломится в дверь и кричит: «Пустите, пустите!» Кто-то из Зубовых сказал: «Вытащите вон эту бабу». Евсей Горданов, мужчина сильный, схватил ее в охапку и принес, как ношу, обратно в ее спальню».
Историк кавалергардов тоже знает, что Горданов воскликнул: «Я не могу пустить! Хотя все уже было копчено, но еще не прибрали».
Затем царица пробует прорваться на балкон и обратиться к войскам, но Палеи не дал и резко приказал семеновскому караульному офицеру: «Никого не впускать». Внук Палена Медем помнил, что этим офицером был будущий генерал Ридигер.
Наконец, последняя попытка Марии Федоровны – пройти к телу мужа другими комнатами, там, где расположился с караулом К. М. Полторацкий!
Константину Полторацкому суждено за одну ночь оказаться в центре уже третьего эпизода большой политики. Удаленный из покоев Александра, он командует 40 семеновцами на подходах к спальне, где изуродованное тело Павла приводят в порядок три врача. «Императрица Мария вошла, – вспоминает Полторацкий, – и сказала мне ломаным русским языком: «Пропустите меня к нему». Повинуясь машинальному инстинкту, я отвечал ей: «Нельзя, Ваше величество». – «Как нельзя? Я еще государыня, пропустите». – «Государь не приказал». – «Кто, кто?» – «Государь Александр Павлович».
Она вспылила, неистово отталкивая, схватила меня за шиворот, отбросила к стене и бросилась к солдатам. Я дал им сигнал скрестить штыки, повторяя: «Не велено, Ваше величество». Она горько зарыдала. Императрица Елизавета и великая княгиня Анна, которые ее сопровождали, захлопотали около нее. Принесли стакан воды; один из моих солдат, боясь, как бы вода не была отравлена, отпил первым и подал Ее величеству, говоря: «Теперь Вы можете пить» (этот солдат [Перекрестов] теперь офицер при великом князе Михаиле)».
Полторацкий утверждает, что долго противился просьбам и приказам Марии Федоровны, пока не появился Беннигсен. Он похвалил офицера и наконец разрешил доступ к телу Павла. Царица отправилась, «поддерживаемая Беннигсеном и мной; затем кинулась вперед, жалобно зарыдала, упала на тело императора и обняла его. Ее увели силой».
Рассказ, записанный одним очевидцем, вполне совпадает с наблюдениями другого, – Беннигсена. Однако при всей лисьей осторожности генерала; при том, что многие его видели подавшим руку Марии Федоровне (и он после не раз подчеркнет это обстоятельство как доказательство своей полной непричастности к убийству Павла), – при, всем этом Беннигсен многим расскажет о неискренности лицемерии, властолюбии императрицы. «Мадам, не играйте комедию», – будто бы сказал он ей в какой-то момент.
Своей рукой Беннигсен запишет: «Тщетно я склонял ее к умеренности, говоря ей об ее обязанностях по отношению к народу, обязанностях, которые должны побуждать ее успокоиться, тем более что после подобного события следует всячески избегать всякого шума. Я сказал ей, что до сих пор все спокойно как в замке, так и во всем городе; что надеются на сохранение этого порядка и что я убежден, что ее величество сама желает тому способствовать. Я боялся, что если императрица выйдет, то ее крики могут подействовать на дух солдат, как я уже говорил, весьма привязанных к покойному императору. На все эти представления она погрозила мне пальцем со следующими словами, произнесенными довольно тихо: «О, я вас заставлю раскаяться»».
Многие современники находили, что поведение вдовствующей царицы содержало немало показного, театрального, нарочито трагического (подчеркнутый культ убитого императора потом поддерживался ею всю жизнь).
Для всех свидетелей было очевидно проявившееся в ту ночь с 11 на 12 марта желание императрицы Марии самой возглавить государство.
Традиции женского правления, пример Екатерины II – все это было свежо в памяти. Надежды кружка Куракиных и некоторых других приближенных на воцарение Марии Федоровны также существовали: несомненные подозрения Павла, недоверие к супруге, усилившееся в последние месяцы жизни, очевидно, поощрялись Паленом, но, возможно, усиливали в противовес мечты императрицы о полновластном правлении. Однако все решило реальное соотношение политических сил. Мария Федоровна в ту мартовскую ночь была явно не готова к «своему» перевороту. В Михайловском замке она, конечно, могла рассчитывать на сочувствие солдат (демонстративный поступок Перекрестова, проверившего принесенный стакан воды, весьма показателен). Однако Мария не имела той популярности в гвардии, как прежде Екатерина II. Полторацкий не зря отметил ее плохой русский выговор; впрочем, ведь и Екатерина говорила не совсем чисто, однако была окружена надежными, деятельными, сподвижниками. 12 марта железный Беннигсен не давал царице даже шанса. К тому же при старшей императрице все время находилась младшая, Елизавета Алексеевна, и вдова Павла не могла сдержать раздражения по этому поводу.
Роль Елизаветы в той ситуации видна и по ее уже цитированному письму к матери: «Императрица Мария Федоровна у запертой двери заклинала солдат, обвиняла офицеров, врача, который к ней подошел, всех, кто к ней приближался, – она была в бреду. ( … ) Я просила совета, говорила с людьми, с которыми, может быть, никогда в жизни не буду говорить, заклинала императрицу успокоиться, я делала тысячи вещей одновременно, я приняла сто решений».
Отрицательный ответ Марии на неоднократные просьбы сына явиться в Зимний дворец (вестником оттуда был Пален и другие) будоражил, колебал и без того неустойчивый статус ночной столицы. «Беннигсен все еще опасался солдат, привязанных к Павлу», – записал Евгений Вюртембергский (со слов самого генерала): «Когда генерал Беннигсен пришел к ней, чтоб от имени нового императора просить ее следовать за ним в Зимний дворец, она воскликнула: «Кто император? Кто называет Александра императором?», на что Беннигсен ответил: «Голос нации». Она ответила: «Я его не признаю», и, так как генерал промолчал, она тихо добавила: «Пока он мне не отчитается за свое поведение». ( … ) Беннигсен снова предложил ей отправиться в Зимний дворец, и молодая императрица поддержала его предложение. Однако императрица-мать приняла это с большим неудовольствием и накинулась на нее со словами: «Что Вы мне говорите? Не я должна повиноваться! Повинуйтесь, если желаете»».
Без сомнения, в эти часы Марии Федоровне были предъявлены все реальные и вымышленные паленские свидетельства – о намерениях убитого императора сослать свою семью, о необходимом спасении страны и династии. Однако речь шла не о былом – о власти. Вдовствующая императрица бродила по дворцу, пока Беннигсен не сумел ее запереть, изолировать.
Один из мемуаристов заметил: «Не без труда уговорили Марию Федоровну отказаться от своих требований; так очаровательны прелести верховной власти, что и среди этой ночи ужаса они долго превозмогали еще в женщине такой добродетельной всевозможные опасности, страшный конец ее мужа, чувства матери и советы осторожности и рассудка».
Только, в шестом часу утра, убедившись в бесплодности сопротивления, Мария Федоровна отправилась наконец в Зимний… Вполне лояльный по отношению к тетке принц Евгений тем не менее включает в свои записи следующие впечатления Беннигсена:
«Императрица Мария Федоровна пошла в свою комнату и надела глубокий траур. После этого она спокойно поехала в Зимний дворец, причем народ, большими толпами собравшийся на дороге, ничего для нее не сделал, как она ожидала, и даже не проявил ни малейшего расположения ( … ). Она покорилась своей судьбе, только признав себя побежденной».
Так наступило утро 12 марта 1801 г. Государственный переворот заканчивался.
Один или двое раненых. Один убитый.
Заключение
Радость, «всеобщая радость» … К вечеру 12 марта в петербургских лавках уж не осталось ни одной бутылки шампанского… Раздаются восклицания, что миновали «мрачные ужасы зимы». Весна, настоящая встреча XIX века!
Век новый!
Царь младой, прекрасный…
За сутки вернулись, круглые шляпы! Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по тротуару – «теперь вольность»!
Так обстояло дело, если верить подавляющему числу мемуаристов (по меньшей мере 9/10 из их числа).
Так было, но было и не так.
Большая часть страны неграмотна, и она-то в лучшем случае равнодушна или (как в рассказе Коцебу): «Народ стал приходить в себя. Он вспомнил быструю и скорую справедливость, которую ему оказывал император Павел; он начал страшиться высокомерия вельмож, которое должно было снова пробудиться…»
Правда, убитый император не вызвал сколько-нибудь заметной волны самозванчества – вроде десятков лже-Петров III до него и многих лже-Константинов после; но все же и двадцать лет спустя ссыльный бродяга Афанасий Петрович добывал себе пропитание в Восточной Сибири, называясь Павлом Петровичем, а шлиссельбургские солдаты, разглядывая одного из заключенных декабристов, Г. С. Батенькова, справлялись (по его словам), «не я ли Павел Петрович, ибо в народе есть слух, что здесь Павел Петрович сидит».
Народного движения под своим именем Павел не вызвал, видимо, потому, что историческая ситуация не соответствовала известному стечению обстоятельств, которое порождает мощное «народное самозванчество». Прежде всего заметим, что начало царствования Александра I не погасило народных надежд на «царя-избавителя». Александр сравнительно популярен, его имя как наследника известно народу, он в расцвете сил, к тому же второй царь-мужчина после почти непрерывного женского правления в 1730 – 1796 гг.
Реакция неграмотной массы на гибель Павла в основном пассивная, молчаливая. Но помышляет о мемуарах большая часть грамотных. Однако даже среди немногих записанных воспоминаний нашлось несколько невеселых.
Отец Кюхельбекера, вернувшись из дворца, сообщает жене о цареубийстве и слышит в ответ: «Ты обязан был умереть там».
С отвращением глядит на «оргию» и просвещенный офицер Саблуков: «У меня нет ничего общего с этими господами…»
Однако то, что было ясно 15 – 20 лет спустя членам тайных декабристских обществ (что так много можно было сделать для России вместо этой оргии!), еще не было столь отчетливым в первую весну XIX в. Пушкин в 1822 г. оценит первые послепавловские годы как «дней александровых прекрасное начало…». Стих имеет несомненный теневой смысл: «прекрасное начало», а затем отнюдь не прекрасное, аракчеевское продолжение александровского царствования, но в 1801 г. новое правительство начинало реформы и нельзя еще было представить, как далеко они зайдут. Одна из программ нового курса была сформулирована Лагарпом.
16 октября 1801 г. Ф. Лагарп подает царю секретную докладную записку, где размышляет насчет предотвращения на будущее «ошибок предыдущего царствования и доктрин, проповедуемых на юге Европы» (очевидно, подразумевая французскую революцию).
Программа бывшего воспитателя Александра, конечно, весьма осторожна и умеренна. «Ужасно, – пишет Лагарп, – что русский народ держали в рабстве вопреки всем принципам; но поскольку факт этот существует, желание положить предел подобному злоупотреблению властью не должно все же быть слепым в выборе средства для пресечения этого». Путь к прогрессу для просветителя Лагарпа ясен: образование (насаждение грамотности, школ, университетов), а также разумное законодательство, но не из рук парламента или иного представительного учреждения, а волею самодержца (разумеется, в его просвещенном, александровском варианте). Следствием просвещения и законодательства должны явиться меры к постепенному ослаблению крепостничества (ограничение покупки и продажи крестьян, показательная эмансипация на удельных землях и пр.). Самое интересное в записке Лагарпа (в общем не противоречившей планам царя и его круга) – откровенный и во многом пророческий разбор тех сил, которые будут за реформы и против.
«Против»: все высшие классы, почти все дворянство, чиновничество, которое держится за табель о рангах, большая часть торгового слоя, «почти все люди в зрелом возрасте», почти все иностранцы, те, кто боятся французского примера.
Кто же «за»? Образованное меньшинство дворян, некоторая часть буржуа» «несколько литераторов», возможно, «младшие офицеры и солдаты».
Силы не равны, но Лагарп кладет на весы реформаторов авторитет самого императора и считает, что – довольно! При этом из обоих списков исключается «народ в своей массе», который, как понимает Лагарп, желает перемен, но поведет их «не туда, куда следует».
Субъективные цели швейцарского просветителя возвышенны. Он отдает дань уважения русской нации, которая «обладает волей, смелостью, добродушием и веселостью. Какую пользу можно было бы извлечь из, этих качеств и как много ими злоупотребляли, дабы сделать эту нацию несчастной и униженной». Тем интереснее, что в этом проекте мы находим не только многое из назревавшего в самом деле к началу XIX столетия, но и оценку противоречивых, сталкивающихся сил. Впрочем, ни Лагарп, ни кто-либо другой в 1801 г. не мог вообразить, что прогрессизм «нескольких литераторов» и «молодых офицеров» очень скоро выведет русскую освободительную мысль к декабристским рубежам. Сразу после убийства Павла еще нелегко было представить, сколь уже близко серьезнейшее размежевание внутри единого с виду дворянства, радующегося «новому, младому, прекрасному царю».
После гибели Павла следует ряд реформ («в Лагарповом духе»): восстановление «Жалованной грамоты», усиление роли Сената, известные послабления крестьянам (закон о вольных хлебопашцах), создание нескольких университетов, лицеев…
Можно сказать, что эти преобразовании явились побочным продуктом того взрыва, который прекратил павловское царствование. И все же то была не революция, не «революционная ситуация» – иначе социально-политические перемены в стране были бы больше…
«Из заговорщиков, – писал иного лет спустя декабрист Никита Муравьев, – желавшие только переменны государя были награждены, искавшие прочного устройства – отвалены на век».
Замечание справедливое не в буквальном смысле, но в целом. Александр I в разные периоды своего царствовании обращался к умеренным конституционным проектам (Платона Зубова – в 1802 г.; Сперанского – около 1810 г.; Новосильцова – в 1818 г.). Поэтому опала, удаление из столиц Палена, Панина, И. Муравьева, Яшвиля объясняются не просто их конституционными взглядами, а прежде всего нежеланием императора принять хартию «из их рук», под их давлением; стремлением диктовать, а не писать под диктовку и главное, сохранить незыблемость самодержавных основ, замаскировав или даже укрепив их известными уступкам.
В этом смысл и сохранившихся рассказов, достоверных или легендарных, о том, что ряд влиятельных деятелей (Талызин, Уваров, Новосильцов, П. М. Волконский) настоятельно советовали Александру I пресечь попытки некоторых заговорщиков ввести конституцию именно сейчас, в 1801 г. Поскольку же никакого конституционного ограничения самодержавия Александр I так и не допустил (опровергая тем самым и собственные, еще с 1797 г., либеральные идеи), декабристы имели право перед восстанием и в Сибири столь печально оценивать итоги 11 марта: «Искавшие прочного устройства отдалены на век».
Манифест, написанный Трощинским, объявлял, что отныне все будет как «при бабке», Екатерине II. На самом же деле возвращение к позапрошлому царствованию было, разумеется, невозможным, подобно тому как нельзя дважды ступить в один и тот же поток: история шла к 1825 и к 1861 гг. Буквальное возрождение екатерининского уклада было бы такой же утопией, как павловское «возвращение к Петру». «Екатерининские лозунги» на саном деле стали исходными для особой политики Александра, где планы «правительственного конституционализма» сочетались с аракчеевской реакцией. Это были попытки медленного, противоречивого движения вперед, уже недостаточные в новых российских условиях.
1801 год был весомым опровержением павловской системы, а1825 год – александровской. Однако тот режим, который пришел на смену режиму Александра I, после подавления декабристов, был тем «витком исторической спирали», который напоминал о витке позапрошлом, павловском.
Система Павла с ее особым, консерватизмом, предельной централизацией власти и определенно сформулированной «породностью» как бы предвосхищала то, что будет реализовано, но, разумеется, в другом виде, на другом историческом уровне: систему Николая I, так называемую идеологию официальной народности.
То, что не прошло, было отвергнуто дворянскими верхами в 1796 – 1801 гг., в ином виде всплывает после 1825 г.; однако между двумя подобными явлениями пролегла целая историческая эпоха: четверть века правительственного просвещенного либерализма и конституционализма, великая эпопея 1812 г., десятилетие тайных декабристских обществ, завершенное их неудачной попыткой взять власть. За это – время менялись взгляды основной массы дворянства, напуганного перспективой краха всего крепостнического уклада; развивались воззрения правящего класса на народ, на самодержавие. Только при таких условиях могла иметь успехи продержаться тридцать лет жесткая николаевская система. Но до этих событий было еще далеко,
А пока 11 марта 1801 г. происходит противоборство двух путей, двух методов, которыми могла двигаться российская система. I
Просвещенный или непросвещенный абсолютизм.
Первый – с идеологической установкой на европеизм, дворянскую интеллигентность при известном единстве просвещенной, лучший частя дворянства и правящих «циников».
Второй путь ориентирован на официальную народность или (для Павла) на некоторые черты подобной идеология, осваиваемые властью еще большей частью практически, эмпирически (тогда как в 1830-х годах С. С. Уваров и другие теоретики уже выдвигают соответствующие идеологические формулы).
И первым и второй варианты не предполагают существенных перемен в жизни основной части народа. В этом смысле для крестьян непросвещенный вариант не хуже просвещенного порою может показаться даже более приемлемым: вспомним непрерывное наступление на крестьян при Екатерине II, военные поселения при Александре I и, с другой стороны, определенные уступки крестьянам, солдатам при Павле I. Отсюда принципиальное отрицание первыми русскими революционерами обеих систем. При этом просвещенный вариант Екатерины – Александра, как более циничный, порою оспаривался с больше энергией и ненавистью.
Таков смысл предельно негативной оценки екатерининского царствования молодым Пушкиным. В другом случае, как помним, поэт представляет себя и свое поколение выбирающими между просвещенным Титом и полубезумным тираном Нероном:
…не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил,
Нерон же без него правдиву смерть узрит.
Исторический парадокс заключался в том, что декабристы отрицали систему просвещенной свободы, их породившую. Уже не раз говорилось, но повторим, что одним из самых значительных итогов послепетровского столетия был тип прогрессивного, культурного человека – в основном из дворян; то были лучшие плоды двух или трех «непоротых» поколений, ибо не могли явиться из времен Бирона и Тайной канцелярии ни Саблуков, ни Пушкин, ни декабристы.
Это был тот замечательный социально-исторический тип, которого не заметил Павел. Тот круг (куда более широкий, чем декабристский), которым основаны и великая русская литература, и русское просвещение, и русское освободительное движение. С ним связано все лучшее, что заложено в России XVIII – XIX вв.
Это были люди, длительное время укреплявшие власть своей поддержкой, соучастием, но постепенно отходившие в оппозицию, в липших людей, в революцию. Не углубляясь в схоластическое мудрствование «что было бы, если бы…», выскажем мнение, что в случае победы Павла над заговорщиками, в случав его длительного царствования развитие «пушкинско-декабристского» просвещенного слоя задержалось бы, остановилось. Это имело бы, полагаем, неизмеримые последствия для истории страны и народа. Александровская четверть века (независимо от воли тогдашних верхов) все же настолько укрепила, закалила тонкий слой образованной, мыслящей России, что его уже не могли уничтожить последующие «заморозки»:
Так тяжкий млат.
Дробя стекло, кует булат.
Генеральное направление российского просвещения, разумеется, не определялось одним или несколькими событиями, но были такие ситуации, которые как бы экзаменовали, испытывали на прочность…
Назовем в этой связи три важные, хотя и качественно неравноценные даты: 1801, 1812, 1825 гг. Они как бы ускоряют историю, «подгоняют» события (недаром Ланжерон говорил о «трех веках», прошедших на его глазах с 1790-х по 1820-е годы).
Первая из дат резко обозначает старинный дуализм – «такое рабство при таком просвещении». Вопрос о возможных исторических путях не решен, но остро поставлен.
1812 год необыкновенно раздвигает границы просвещенного самосознании, выявляет огромную силу всей нации, показывает, что историю делает отнюдь не узкий, элитарный круг. Декабрист В. Ф. Раевский однажды стихотворно выразил то, что происходило в 1812 г. с целым общественным слоем, поколением:
Тогда в душе моей свободной
Я узы в первый раз узнал,
И, видя скорби глас народный.
От соучастья трепетал…
Третья дата – 1825 год. Число дворян-заговорщиков ненамного больше, чем в 1801-м, но идея, цель, размах будто «заимствованы» у 1812-го: не дворцовая революция, но освобождение миллионов! Не конфликт дворян с «первым дворянином», но первое сильное столкновение российского просвещения с системой, в рамках которой оно вызрело.
В. И. Левин; заметил, что «перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой»
11 марта в этом смысле как бы на грани между «легкостью» 1741 и 1762 гг. и неимоверной трудностью 1825-го. Переворот 1801 г. был много труднее, рискованней, чем прежние; были моменты, когда дело, казалось бы, висело на волоске. И все же социальная изоляция Павла «отсутствие у заговора глубоких, «коренных» целей преобразования – все это было залогом «неминуемого» успеха. В этом было главное отличие тогдашних событий от декабристского дела и следующих этапов освободительной борьбы…
Субъективное представление «людей 11 марта» о своей исторической роли, было, впрочем, много шире, нежели объективные результаты. Часто употреблялись формулы «тираноборство», «освобождение от рабства», «подвиг Брута»…
Однако эти слова были лишь символом определенных намерений, оценкой того направления, куда шел век, но не большинство участников заговора.
В то же время ранний, «утробный» этап Дворянской революционности, преддекабристские элементы современные исследователи находят у молодых московских свободолюбцев, идеология которых сложно, противоречиво осваивала политические события 1796 – 1801 гг.
Многими чертами 11 марта 1801 г: – еще событие ушедшего XVIII столетия, но современникам и потомкам придется не раз задуматься и над странной, трагичной, противоречивой фигурой Павла, и над удивляющей, страшной исторической логикой заговора – «бесславные удары», падающие на «увенчанного злодея», и над тем, что постепенно новый смысл приобретают такие, например, важные, старые идеи и слова, как тирания, рыцарство, революция, народ.
11 марта 1801 г. было действительным началом русского XIX столетия – и не в том смысле, как это казалось дворянам, ликующим на улицах Петербурга.