
Лев Успенский

Имя дома твоего
Очерки
по топонимике
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы, наверное, читали книги Льва Успенского — «Слово о словах», «Ты и твое имя», «Почему не иначе?». Они рассказывают о языке, о его жизни, о его тайнах и секретах, о приключениях слов и имен, ведь имена — тоже слова.
В той книжке, которую вы держите в руках, речь опять идет об именах — только не людей, а мест.
Каждый из вас понимает, что слово «Ленинград» означает «город Ленина»; хорошо известно, почему и когда великий город на Неве был назван этим гордым именем. Но стоит задуматься над названиями Вологда, Рим, Париж, Москва, и вы почувствуете: не так-то это просто. В самом деле — откуда взялось слово «Вологда», что оно значит? Поди докопайся.
Докапывается до этого увлекательная наука топонимика, содружество трех наук: языкознания, истории, географии. Книга Льва Успенского «Имя дома твоего» написана для того, чтобы ввести вас в преддверие этой прекрасной науки, дать вам понять, чем она привлекает и что надо делать, чтобы там, в будущем, если вас к этому потянет, стать знатоком учения о географических именах.
Хотите услышать про две скалы в Крыму? Одну зовут «Ай-ай, мама!», другую: «Не бойся, детка!». Вы прочтете о них в этой книге.
Хотите установить, сколько Новгородов на земном шаре, узнать, что имя «Охотское море» происходит вовсе не от слова «охота», а от совершенно другого слова, да к тому же еще не русского? Хотите выяснить, почему...
Впрочем, нет смысла предупреждать вас. Открывайте любую страницу, читайте, и вы, несомненно, вернетесь к началу книги и дойдете не отрываясь до конца. Мало есть в мире более интересных вопросов, чем вопросы, связанные с языком, словами, именами. Желаем вам интересного чтения. {4}
ПРИСКАЗКА НЕОБХОДИМА
О чем речь?
Сейчас пойдет разговор о топонимике. А что это такое? Топонимика, говорят лингвисты, — составная часть языкознания. Точнее — часть его части, учения об именах собственных, ономатологии.
Слова бывают разные. Есть среди них имена нарицательные — «ребенок» или «гора». Есть имена собственные — Петенька или Казбек. Это известно всем. Но кто точно знает, какая между ними разница?
«Разниц», то есть различий, много, но вот что особенно бросается в глаза. Если я сказал «ребенок» — всем понятно, про что я говорю. Это слово можно без труда перевести на другие языки: по-французски — «анфáн», по-немецки — «Кинд», по-турецки — «чоджýк», по-японски — «кодóмо»... Попробуйте перевести на какой-нибудь язык слово «Ниночка». Ничего не получится: Ниночка останется Ниночкой даже у папуасов. Перевести имя собственное нельзя.
Слово «гора» легко объяснить другими русскими словами: «огромный холм», «очень большая возвышенность», мало ли как? А вот имя любой горы — Килиманджаро или Эльбрус — вы так объяснить не сумеете. Эльбрус — это Эльбрус; слово ничего другого не значит. Это просто название единственной в мире горы. Вот этой. В чем тут дело?
Связывая с вещью какое-нибудь слово, люди относят его обычно не к одной такой вещи, а ко всем таким, как она. Они стараются передать в слове все, что у этих вещей одинаковое, общее. Птица — это {5} каждое пернатое и в то же время не рыба, не зверь, не насекомое. Птицы все чем-то похожи друг на друга; это-то их сходство и воплощено в имени нарицательном: «птица».
Но иногда бывает нужно из длинного ряда похожих предметов выделить единственный один, отметить не общее с другими, а как раз, что он все-таки сам по себе, особый. Тут мы оставляем слово (имя нарицательное) в стороне и пускаем в ход имя собственное. Все горы — горы, а Попокатепетль — особая гора, вот эта. Все мальчишки — мальчишки, а наш Васенька — особый, отдельный, единственный.
Заметьте: множественное число «мальчишки» — естественное выражение, «Все мальчишки — сорванцы!» А сказать: «Вовки — умные мальчики» — нелепо. Нет такого разряда ребят — Вовки. Каждый Вовка — сам по себе.
В классе любой парень — ученик. Крикните: «Эй, ученики, ко мне!» — с места сорвутся сразу двадцать человек, кроме разве девочек. А скажите: «Ну-ка, Клюев, подойди сюда!» — и из-за парты с недовольным видом поднимается одно-единственное существо. Разве только у вас учатся два брата или два однофамильца...
В первом случае вы произнесли имя нарицательное, во втором — собственное. Первое значит: «каждый, кто учится», второе только: «этот вот мальчик».
Это — слово-указка, слово без вещественного значения [2]1. Клюеву, и Вадику Клюеву, и даже Вадиму Клю-{6}еву может быть и пять и тридцать лет. Он может быть дошколенком и космонавтом. Может быть отличным парнем и — так, дрянцом. По имени собственному вы о нем ровно ничего не узнаете.
Это не единственное, но очень важное для нас отличие.
Только люди?
Нет, не только люди обладают собственными именами: я уже говорил и о горах. А вот вам прелюбопытный случай из истории собственных имен.
Морские ураганы всегда привлекали внимание людей. Они называли их — каждый на своем языке — разными нарицательными именами. Слово «ураган», например, относилось к каждому страшному шторму тропической Атлантики. Слово «тайфун» означало точно такую же чудовищную бурю, но на Тихом океане. Этого было достаточно: человек не умел еще ни бороться с такими бурями, ни предугадывать их появление... Один тайфун, два; три, пять ураганов... Все они одинаковы...
Но человечество стало другим. Тайфун только зарождается возле Филиппин, а радио уже предупреждает Японию и Курилы:
«Этот тайфун дойдет до вас утром 17-го числа! Берегитесь! А тот? А тот пройдет мимо...»
Люди познакомились с бурями, так сказать, в лицо, научились их различать и используют эти различия в своих интересах. У тайфунов и ураганов обнаружились личные, собственные особенности. Понадобилось создать для них и собственные, личные имена.
Ученые далеко не сухари. Они забавники! Не знаю, почему пришло это им в голову, но они стали давать страшным разрушителям, могучим титанам-ветрам нежные девичьи английские имена. Вы можете теперь то и дело прочесть в газетах: «Нэнси» погубила сто человек возле Киото в Японии». Или: {7}
«БЕТСИ» СВИРЕПСТВУЕТ
Радиостанции США информируют о продвижении урагана «Бетси». Вчера он обрушился с необычайной силой на побережье Флориды. Согласно данным бюро прогнозов сила ветра достигает 150 миль в час...
Это напечатано в газете «Известия» 9 сентября 1965 года.
Странно, конечно; на мой взгляд, таким ураганам больше бы подошли имена пиратов и страшных разбойников: «Боб-Киллер» опустошил Гаити... «Джек Скоундрелл» движется к Марианским островам; готовьтесь!» [3]1
Но факт остается фактом: ураганы носят имена девушек. Мне же важно, что «Тайфун» — это тихоокеанская буря. «Борá» — черноморская. А «Энн» или «Джейн» — ничего не определяют: они могут свирепствовать и там, и здесь, всюду.
Таким образом, имена собственные могут принадлежать и людям и вещам, предметам и явлениям природы. «Моська» и «Жучка», а рядом «Кракотоа» и «Судома»... «Ваня» и «Маша», а тут же «Сириус» или «Вега» — яркие звезды нашего неба. Конечно, ономатология должна изучать все виды таких имен. Но, пожалуй, разумнее поручить исследование каждого их раздела особым специалистам. Есть «антропонимы» [4]2 — имена людей и «топонимы» [5]3 — названия рек, озер, городов, сел, улиц, горных хребтов, вулканов. Те живут своей жизнью, управляются своими законами, эти — своими. Так пусть же первыми ведает ономастика вообще, а вторыми — топонимика, учение об именах географических. Ей-то и посвящена моя книга, которую вы сейчас раскрыли на первых ее страницах.
Книга книге — рознь
У топонимики много преданных друзей, и книг о ней написано невесть сколько. Но ведь книга книге — рознь. Не за всякую следует с размаху браться.
Есть в составе топонимической библиотеки толстые ученые труды, из которых можно узнать о ней многое, почти всё. Беда одна: их чтение требует основательной {8} подготовки. Надо отлично знать языкознание, быть хорошим историком, сведущим географом, чтобы разбираться в них.
Топонимика — наука сложная, а в то же время — сравнительно молодая; даже самые лучшие ее знатоки спорят еще между собой по многим вопросам, судят и рядят каждый по-своему и в пылу споров совсем не заботятся о том, чтобы быть понятными для всех. Понимали бы специалисты, вот что им нужно. А ведь мы с вами пока что далеко не специалисты. Мы только хотели бы хоть что-нибудь обо всем этом узнать...
Есть превосходные топонимические словари, причем разные. В одних содержатся просто списки всех географических названий какой-нибудь страны или области... Одни названия, больше ничего. Топонимисты с восторгом роются в них, но сомневаюсь, чтобы такое чтение показалось увлекательным и вам: «Луга, Мойка, Нева, Оредеж, Оять, Тосна...» А дальше — что?
Другие словари много интереснее: в них даны не только имена рек или городов, но и объяснение: откуда взялось такое имя, какой народ его придумал, осталось ли оно в первоначальном виде или изменилось за долгие века и что теперь значит.
Выясняются прелюбопытные вещи: вероятно, имя Невы придумано не русскими, а финнами и значило на их языке «болотная река». Разве не интересно?
Но несчастье в том, что и тут между учеными возникают распри. Одни теперь утверждают, что это именно так, а другие раньше считали: имя «Нева» изобретено шведами и первоначально означало не «болотная», а «новая река»...
Мы же с вами, слыша эти споры, не можем даже примерно судить, кто прав, кто ошибается: [6]4 нам неизвестно, {9} как именно и та и другая сторона могли прийти к своим точкам зрения, как решаются топонимические задачи. Значит, не со словарей надо начинать.
В специальных журналах — языковедческих, исторических, географических — постоянно появляются отличные статьи по топонимике. Они касаются не всех сразу, а чаще всего отдельных названий. Вот венгерский профессор предлагает свое объяснение русскому имени «Урал». Вот другой языковед из ГДР сообщает, что в Германии, в тех местах, где когда-то жили западные славяне, он в старых бумагах нашел деревню с именем «Москва» [7]1, это меняет многое в рассуждениях о названии нашей столицы: если так — оно дано реке и городу не финнами, как думали раньше, а русскими, во всяком случае — славянами.
Очень увлекательны предположения и споры, содержащиеся в этих статьях. Но ведь и они доступны только тем, кто уже знаком с азами нашей науки, кто имеет хотя бы самое общее представление о том — как именно, какими способами и приемами люди ищут и находят истину в топонимических вопросах. Да и о том, для чего ее нужно искать.
И впрямь, люди представления не имели, что может значить имя Нева, а теперь докопались до его смысла. Но что это изменило на свете? Кому важно — значит ли оно «новая» или «болотная» река: ведь мы все равно зовем и будем звать ее просто Невой, как звали наши деды и прадеды. Так стоит ли ломать над такими вопросами головы? Может быть, топонимика и вообще не серьезная наука, а просто забава для бездельников, вроде карточных пасьянсов или игры в бирюльки?
Понимая, что от таких вопросов не отмахнешься, я и решил написать мою книгу, тысячную или десятитысячную книгу об именах географических.
Про эту
книгу
Когда я приступил к работе — и в ее разгаре, и при самом окончании,— у меня не было в мыслях написать ученый труд, прочтя который от доски до доски, каждый мог бы стать топонимистом. Не задумывал я даже самого простенького начального учебничка топонимики: чтобы {10} пользоваться и таким учебником, читатель должен стать прежде неплохим языковедом, осведомленным историком, знающим археологом и этнографом — должен разбираться в целой грозди наук. А я прекрасно понимал, что у моего читателя — вот у вас! — таких разносторонних знаний нет и быть еще не может. Поэтому я мечтал о другом.
Знаете, как бывает? Нет у вас никакого особенного тяготения к астрономии: ну да, звезды; но что в них интересного? И вдруг на какой-нибудь прогулке, в туристском походе, теплой темной ночью оказывается рядом с ними не астроном, а просто влюбленный в эту науку. И под синим небом, кишащим звездами, как муравейник муравьями, у ночного милого костра, лежа на спине и глядя ввысь, он начнет рассказывать вам то, что сам знает о бесконечно огромном мире небесных тел, о том, как человек за тысячелетия сумел проникнуть в его бездну... О том, как Галилей впервые увидал у планеты Сатурн что-то вроде рожков на кардинальской шапке, а потом и его знаменитые кольца. О том, как Леверье, не выходя из кабинета, пером на бумаге открыл новую планету Нептун и как астрономы у своих телескопов нашли ее точно на том месте, которое для нее вычислил математик... О том, как раздвоилась и рассыпалась комета Биелы, как таинственной чечевицей сияет в тропиках над Землей зодиальный свет... И вы слушаете, удивляясь новому, и, вернувшись домой, уже не можете найти себе места, пока не возьмете в библиотеке книгу по астрономии — и вас не захватит все сильней и сильней эта прекрасная наука...
Проходят годы, и из вас вырастает астроном. А спросте у вас, почему вы стали им, кто заронил в вашу душу первое зерно интереса к науке о небе, вы, возможно, даже и не вспомните ни о той теплой ночи, ни о том костре на берегу тихой реки, ни о том рассказчике...
Так вот, мне завидна роль такого первого рассказчика, на немудрящую повесть которого любознательные ребята клюют, как рыбы на насадку. Мне хотелось бы оказаться им. Потому что в таких случаях основное не уйма познаний, которые можно вложить в книгу, не сухая точность фактов и строгость их {11} объяснения, а искренняя любовь к тому, о чем ты задумал рассказать.
Конечно, имена мест — не звезды небесные. Но бросьте взгляд на карту любой страны, даже любой области каждой страны — они кишат именами географическими так же, как ночное небо бесчисленными звездами. И нет ни одного из этих имен, за которыми не стояла бы известная (а еще чаще — неведомая до поры, до времени), простая, а сплошь и рядом сложная и загадочная, его история. История его возникновения, его долгой жизни среди других имен, его изменений, его рождения и гибели.
Изучение звезд дает нам возможность познать жизнь Вселенной; изучение географических имен позволяет глубоко проникнуть в жизнь и прошлое человечества. За ними следят топонимисты. Но, как и у всех ученых, у них не всегда «доходят руки» просто, самыми доступными словами рассказать незнающим о их собственной науке. Так почему бы мне, не топонимисту по профессии, а писателю, чуть ли не с детских лет завороженному тайнами географических имен, не попытаться сделать это за ученых?
Попытаюсь. А вы — уговор дороже денег! — приступая к чтению этой книги, твердо имейте в виду одно: она не научит вас топонимике, не сделает настоящим умелым исследователем имен мест. Но, я надеюсь, она заставит вас по-новому прислушиваться и приглядываться к ним.
Вы увидите на Петроградской стороне Ленинграда надпись: «Бармалéева улица», и вам непременно захочется дознаться: как же так?
Корней Иванович Чуковский сочинил своего «Бармалея» совсем недавно, можно сказать, в наши дни. Корней Иванович и родился-то в 1882 году! А Бармалеева улица существовала уже по крайней мере за полвека до его рождения. Кто же и за что же ее так назвал?
Или поедете вы на электричке из Ленинграда в Пушкин, и попадете на платформу «Шушáры» и вдруг вспомните крысу Шушáру из «Золотого ключика» Л. Н. Толстого [8]*, ту самую Шушару, с которой сражался смелый Буратино. И опять то же самое: Толстой придумал имя мерзкой крысе недавно, а место под Ленин-{12}градом называлось этим именем сотни лет назад. В чем дело, и как такое могло получиться? Топонимика, помоги нам! [9]1
Если такие мысли и желание узнать — как, возникнут у вас, я, в сторонке, буду с удовольствием потирать руки. Потому что такое стремление выяснить, «откуда оно»,— уже без пяти минут топонимика. Оно не позволит вам ограничиться моей небольшой книжкой. Оно поведет вас к высокомудрым статьям и к пухлым словарям географических названий. И — коготок увяз, {13} всей птичке пропасть! — научит вас, при их содействии, многому, очень многому. А может быть, оно приведет вас, в конце концов, то ли на филологический, то ли на исторический или географический факультет университета, сделает археологом, географом или историком... Как семь городов Греции спорили некогда за честь числиться родиной великого Гомера, так целый ряд наук претендует на право считать топонимику своим отделом, своей частью... На самом же деле, чтобы двигать ее вперед, надо пользоваться данными всех этих наук.
А может произойти и другое. Если вас заинтересует наука об именах мест, вполне возможно, что, еще будучи школьником или только поступив в ВУЗ, вам удастся принять прямое участие в практической работе топонимистов... Вы займетесь собиранием географических названий ваших родных мест — вашего сельсовета, если вы живете в деревне, вашего района или квартала, если вы родились горожанином. А возможно, это даст вам занятие летом, в той области, куда вы ездите на каникулы...
Если это произойдет благодаря моей книге (или если даже этого не произойдет, но просто горизонт ваш расширится, и вы узнаете, какая интересная, какая увлекательная, какая необыкновенно щедрая наука языкознание), с меня и этого будет довольно. Тогда — счастливого плавания и неоглядных просторов! Мое дело было отшвартовать вас от берега, дальше вас поведут более опытные лоцманá...
Впрочем, это ведь все только присказка, необходимая, но присказка.
Сказка начнется только со следующих страниц. {14}
ИТАК — ТОПОНИМИКА
«— Я охочусь чаще всего в лесу Шантп, — проговорил господин де Камбремер.
— Он оправдывает свое название? — спросил его Бришо.
— Я не улавливаю смысла вашего вопроса...
— Я хочу сказать: много ли там поет сорок?
— Вот видите, — сказал господин де Камбремер, — что значит поговорить с ученым! Я уже пятнадцать лет охочусь в лесу Шантп, и никогда не задумывался, что значит его имя...» [10]1
М. Пруст. «В поисках утраченного времени»
«— Что ж, пора в обратный путь! — воскликнул Пенкрофф.
— Одну минуту, друзья, — остановил всех инженер Смит. — Мне думается, что надо окрестить и весь остров и все мысы, отмели и речки, которые мы видим...»
Вы помните, откуда это? Конечно, из «Таинственного острова» Жюля Верна. Пятерых смельчаков пригнало ветром на воздушном шаре из Америки на бедный клочок земли, затерянный в Тихом океане. Рискуя жизнью, они пробились сквозь ярость прибоя и собрались все на {15} твердой земле. Еще неизвестно, остров под их ногами или материк...
На шестой день после высадки, чуть отдышавшись, они карабкаются по обрывам самой высокой в тех местах горы... Да, они на острове! Они обречены на долгое, может быть, вечное, заключение на нем. Впервые они видят его сверху. И вот старший и мудрейший из них, всезнайка Сайрес Смит, вносит такое странное, несвоевременное предложение: заняться «крестинами» острова и его частей... «Разве у нас нет более важных дел?» — наверное, послышался шум возражений?..
Ничуть не бывало.
«— Отлично,— сказал Гедеон Спилетт.— В будущем это сильно упростит нам дело, когда придется говорить о каком-нибудь месте на нашем острове.
— Правильно! — согласился простак Пенкрофф, — удобно, когда можешь указать, куда и откуда идешь. А названия — это проще простого: возьмем их из «Робинзона», которого мне читал Герберт. «Бухта Провидения», «Коса Кашалотов»...
— Нет, — перебил его Герберт. — Лучше назовем заливы и мысы нашими именами. Именем мистера Смита, мистера Спилетта, именем Наба...
— Моим именем? — сверкнув белозубой улыбкой, вскричал негр Наб.
— А по-моему, правильнее будет придумать названия, которые все время напоминали бы нам родину,— возразил Гедеон Спилетт.
— Согласен,— проговорил Смит.— С главными частями острова так и надо поступить; это будет вполне уместно. Большую бухту мы можем назвать «Бухтой Соединения». Ту, широкую,— бухтой Вашингтона. Гора, где мы находимся, пусть будет горою Франклина, а озеро перед нашими глазами — озером генерала Гранта [11]1. Пусть эти имена напоминают нам родину и тех, кто ее прославил. Что же до ручейков, малых мысов и затонов, то я предлагаю выбрать для них имена, кото-{16}рые говорили бы о их очертаниях, о каких-либо особенностях... Речки же, заводи и затончики, которые отсюда не видны, но на которые мы, конечно, наткнемся, как только начнем исследовать лесистые пространства, будут получать названия по мере того, как мы станем их обнаруживать...»
Предложения были приняты единогласно.
Да и как было их не принять? Великий французский фантаст мог выдумывать удивительные вещи, но за всяким его вымыслом всегда стояло отличное знание всего действительно происходящего в мире. Так и тут: развернув перед читателем несколько способов называть географические пункты, «местá», он на деле перечислил как раз те из них, какие человечество чаще всего применяло и применяет вот уже бесчисленное множество лет.
Человек склонен всему, что он ни увидит, обязательно дать название. Да без этого ему было бы очень трудно разобраться в хаосе окружающих его предметов и явлений. Поселите себя мысленно в городе, где ни одна улица никак не называется: как вы объяснили бы соседу, где вчера вам удалось купить футбольную камеру и куда ему надо за ней пойти? Легко ли было бы послать вашу сестричку за грибами, если бы рощи, перелески, речки и озера вокруг вашего колхоза внезапно «онемели», утратили свои имена?
Стоит нам столкнуться с новой вещью, мы немедленно называем ее. Люди с наслаждением дают имена чему и кому угодно — травам и деревьям, зверям и зверюшкам. Они всегда привязывают к ним имена нарицательные, слова. Они с особой радостью прикрепляют к ним и имена собственные, как только животное, птица или рыба чем-нибудь выделились из ряда себе подобных, ухитрились «завязать с человеком личную связь».
На плоту «Кон-Тики», в щели бальзовых бревен, наполненной соленой водой, поселился крошечный краб. Едва выяснилось, что он плывет вместе с людьми, они немедленно «окрестили» его ханнесом, то есть «Ванюшей».
Французская подводная экспедиция у Лунных островов близ Мадагаскара обнаружила под килем корабля приставшую к нему рыбу-прилипалу. Рыба привязалась к морякам, стала ручной. И тотчас же она сделалась для них «Катериной». {17}
«...Катерина была крупной рыбой, длиной чуть поменьше метра, с белыми полосками по бокам... Катерина, как всегда, получила свою порцию объедков...» [12]2
Все рыбы остались «рыбами просто», «рыбами вообще», а эта стала Катериной: в глазах людей она приобрела особое значение, оказалась им для чего-то нужной...
Удивительно ли, что у людей испокон веков появилась склонность называть особым собственным именем и каждое примечательное для них место, которое они обнаруживали возле себя,— любую излучину реки, расселину горы, каждый уступ холма, поляну в лесу, источник среди пустыни... Сегодня это просто поляны и родники, но ведь завтра они могут понадобиться...
Не диво поэтому, что и жители «Таинственного острова» так единодушно одобрили предложение Сайреса Смита: оно удовлетворило их естественному «стремлению называть».
Жюль Верн заставил их поразмыслить над тем — а как же, какими именами следует при этом пользоваться? Они перебрали несколько различных способов.
Пенкрофф предложил поступить просто: взять книжку и перенести оттуда на место уже кем-то придуманные имена. Это неинтересный способ, но, надо сказать, и он, к сожалению, применяется. На Украине, например, была до революции деревня, которая звалась Мыс Доброй Надежды: помещик, владелец этой деревни, явно взял для нее имя «из книжки»; так Пенкрофф предлагал один из мысов своего острова назвать мысом Кашалотов, хотя кашалотами там и не пахло. {18}
Герберт — ученый мальчик — выдвинул другое предложение: называть все именами тех людей, которые это «все» первыми увидят. Так тоже очень часто поступали и поступают путешественники и исследователи. Баффинова Земля на севере Америки названа в честь китобоя Баффина, открывшего ее. Остров Гранта в Тихом океане окрещен по имени капитана Гранта, его открывателя (это не жюльверновский, а другой, исторический, Грант). Штат Пенсильвания в Соединенных Штатах носит имя своего первого владельца, некоего Вильяма Пенна, английского колониста. Жюль Верн знал о таком обычае.
Еще иначе посоветовал поступать Гедеон Спилетт. Ему казалось уместным придавать географическим пунктам названия, которые напоминали бы переселенцам Родину. Сайрес Смит одобрил и уточнил эту мысль и сразу же приступил к делу. По его мнению, родину лучше всего напоминают имена ее великих людей. Он немедленно начал крестить мысы и заливы фамилиями тех американцев, которых уважали и почитали его товарищи и друзья — «северяне».
Он в этом случае поступил так, как в XIX веке постоянно поступали все белые люди, европейцы и американцы, проникая в новые страны. Посмотрите на карту мира: всюду на ней вы увидите имена и фамилии великих, знатных, чем-нибудь прославленных, а иногда и просто высокопоставленных людей из разных (но всегда — европейских или американских) стран. Вот шумит и плещет водопад в тропической Африке. Около него написано: «Водопад Виктории», а Викторией звали ничем особо не примечательную, кроме очень долгой жизни, английскую королеву. Водопад назвали, конечно, англичане.
Вот возле самой Антарктики виден крошечный пустынный островок: его имя — «остров императора Петра I» — показывает, что открыт и назван он был русской экспедицией. Целая огромная страна на юге Африки еще недавно звалась Родезией. Господин Сессиль Родс, ее «крестный отец», был просто очень богатым негодяем, завоевавшим эту несчастную страну и наложившим на нее ярмо страшного угнетения. Родс был англичанином, и имя этой стране дали, конечно, его соотечественники. Сайрес Смит и его доблестные сотоварищи были амери-{20}канцами; вот почему и на островке, лежащем за тысячи миль от Америки, появились и «бухта Вашингтона», и «гора Франклина», и «озеро Гранта» — американцев.
Человек опытный и многознающий, инженер Смит предвидел и другое. Он сразу же сказал, что такие пышные имена следует давать только самым заметным, самым значительным подробностям их маленькой страны: горам, озеру, бухтам, самому острову в целом (они назвали его, как вы помните, «островом Линкольна» [13]1). Всякую мелочь — ручейки, лужайки, пригорки, торчащие там и здесь утесы — тоже надо называть, но как? Их имена должны соответствовать их внешнему виду — иногда и форме, порою — цвету, может быть, каким-нибудь особым приметам, даже случаям и происшествиям, разыгравшимся около них.
И тут ни Смит, ни Жюль Верн не придумали ничего нового. Так бывало до них, так бывает сейчас, так будет наверняка и впредь.
Стоит выехать из города куда-нибудь в дачную местность или, тем более, в настоящую деревню, и мы наталкиваемся повсюду на имена этого рода. Я пишу сейчас эти строки в Комарове, под Ленинградом. Оно названо в честь знаменитого ботаника В. Комарова. В двух километрах от меня лежит озеро Щучье, названное так, конечно, потому, что в нем рыболовы, к своему удовольствию, ловят немало щук. Неподалеку от Щучьего есть озера Красавица и Долгое. Ну, имя первого — дело вкуса; но, конечно, тот, кто его давал, был, по-видимому, восхищен живописностью берегов. Что до Долгого озера, то оно и верно напоминает скорее извивающуюся в сосновых лесах реку; его длина — с десяток километров, ширина нигде не достигает и полукилометра; именно — долгое [14]1. {21}
Наверное, каждый ленинградец был хоть раз на Черной речке — их у нас множество. Воды этих речек обычно окрашены в темно-красноватый цвет торфом болот, из которых они вытекают. На берегу одной из них, к великому нашему горю, состоялась в 1837 году роковая дуэль Пушкина с Дантесом. Речка стала «Черной» еще в одном смысле, потому что 27 января 1837 года — черный день в истории нашей страны. Но о ее воде можно сказать все, что я сказал только что: она вытекает из торфяников и кажется почти черной там, где глубина достаточна.
Ну что же, точно так все происходит и в «Таинственном острове». Имя «Утиное болото» ничем не отличается от названия «Щучье озеро»; имя «Красный ручей» от «Черной речки». Тот лес, в котором от новых робинзонов удрала красивая птица жакамар, они окрестили «лесом Жакамара», а проток, образовавшийся там, где инженер Смит взорвал скалистый перешеек между озером Гранта и морем при помощи заряда нитроглицерина, получил имя «Глицеринового ручья».
«Ах, вот оно что! Это и есть топонимика? — можете спросить вы.— Тогда где же здесь тайны, где секреты? Все ясно, как кристалл! Куда проще понять, почему речку с быстро текущей водой назвали Быстрицей, чем почему маленький худосочный человечек носит имя Лев, или почему дали инженеру из жюльверновского романа фамилию Смит (по-английски — кузнец, коваль), если он был не кузнецом, а инженером?»
В той главе «Таинственного острова», из которой я выписал столько цитат, действительно говорится о топонимике, но только об одной ее части. Об одной, так сказать, стороне. Сообразите сами, где занимались называнием мест наши герои? На необитаемом острове. Они были первыми поселенцами на нем. До них никто никогда не видел ни его рек, ни его лесов, холмов и долин. Никто и никак не мог их до того назвать. Вот почему положение Смита и его друзей было очень простым. Перед ними была как бы пустая классная доска и им сказали: «Напишите на ней, что хотите». Нетрудно написать. {22}
А представьте себе, что вы вошли в класс, где до вас протекло уже пять или шесть уроков. Черная доска вся исписана и переписана множество раз. Что-то стерто начисто, что-то проступает сквозь писанные наверху строки, что-то видно ярко и четко. И вам говорят: «Нет, писать не надо! Вы прочтите, что тут было сегодня написано с утра и до большой переменки...»
Тут, пожалуй, вы зачешете у себя в затылке. А задача топонимиста куда чаще похожа на такое задание. Ему реже приходится ломать голову, как назвать что-нибудь, доныне не названное. Ему постоянно, ежедневно и ежечасно приходится разгадывать — почему когда-то и кем-то было дано такое-то имя? Кто его дал? Что он хотел этим сказать? Кем он был, крестный отец этой горы или того городишки, и что значит слово, которое он для их названий употребил?
Подумайте, и поймете: это несравненно сложнее.
В самом деле, где в мире в XX веке остались места, на которые «не ступала еще нога человека»? На Земле,— пожалуй, только в Антарктике, да, может быть, на отдельных клочках Крайнего Севера да еще в бассейне Амазонки...
Ну что ж, проникая на огромный, люто холодный, ледяно-мертвый континент, лежащий вокруг Южного полюса, современные люди имеют все основания называть там все, как им заблагорассудится: они там — первые называтели.
Антарктику открыли русские. Действуя точно бы по совету Сайреса Смита, они принесли туда имена своих, русских именитых людей и героев. Отсюда на старых картах мы видим имена царя Петра I, полководца Суворова, мореплавателя Беллинсгаузена (он-то и открыл новый материк). За русскими туда прибыли вездесущие англичане и как бы повесили повсюду свои, английские вывески: «Земля Королевы Мери», «Земля Виктории» и много других. Американские экспедиции завезли за Южный полярный круг фамилию своего летчика и исследователя адмирала Бёрда (слово «bird по-русски значит «птица»). Как герои Жюля Верна, они назвали один из тамошних островков в честь Вениамина Франклина.
Прибыли норвежцы, и появились их названия: «море Амундсена», «Земля Королевы Мод»... Некоторые {23} посетители новых мест повели себя совсем как Герберт из «Таинственного острова», если бы за ним не приглядывали Смит и Спилетт: они начали называть разные пункты на берегах суровой Антарктиды именами вовсе безвестных людей — своих спутников, друзей, даже каких-то милых им женщин и девушек. Вот, например, земля Эдит Рони, а кто была эта Эдит, поди дознайся. Вот гора Марии-Луизы Улмер, и убейте меня, если я могу без сложных справок сказать, чем прославилась эта дама. Словом, помните, как там: «Моим именем?» — вскричал негр Наб, сверкнув белозубой улыбкой...
Есть тут и другие, уже знакомого нам типа, имена. «Остров Уайт» (то есть «белый») во всем подобен любой «Черной» речке или «Черной» горе. «Бухта Тюленья» ничем не удивительней «Щучьего озера» или «Утиного болота». Построены эти имена точно по смитовскому правилу: «Они должны говорить об очертаниях места, о каких-либо его особенностях».1 Все тут в порядке, и особенных загадок (если не вспомнить Эдит Рони и Марию Улмер) нет.
Еще вольготнее чувствуют себя люди, вырываясь за пределы Земли, в космос. Вот, например, Луна. Довольно занятно, как люди вели себя, давая издали названия всему тому, что видно в телескопы на поверхности нашего спутника.
Прежде всего надо заметить, что до самых последних лет, до 7 октября 1957 года, они могли распоряжаться только на «лицевой», обращенной к Земле, стороне лунного шара: вторая, тыльная, была надежно спрятана от нас.
Во-вторых,— вот уж, казалось бы, где можно порезвиться! — обитателей на Луне мы встречаем только в фантастических романах, оспаривать наши названия некому. Называй — не хочу!
Особенно резвиться никто, однако, не стал. Прежде всего люди нарисовали себе лунную поверхность по образу и подобию земной. Темные пятна они сочли морями, и зовут их упорно морями доныне, хотя уже отлично известно, что никакой воды там нет, что это равнины, пустыни, что угодно, только не моря. Странные кольцеобразные возвышения были приняты за кратеры вулканов, хотя и сегодня сомнительно, кратеры ли это. А может быть, выбоины, образовавшиеся при ударах о лун-{24}ную поверхность огромных метеоритов. А имена всего этого? Они мало чем отличаются от жюльверновских. На Луну, за 300 000 километров, люди перебросили все свое, привычное, земное.
Как Гедеон Спилетт, они переселили туда «Аравию с Синайским полуостровом, остров Сицилию (и вулкан Этну в его центре), Альпы, Апеннины, Карпаты, Средиземное море, Мраморное, Черное и Каспийское моря...» (Так посмеивается над лунными «наименователями» тот же Жюль Верн в другом своем романе «Вокруг Луны».)
Правда, на свободе они наградили нашу спутницу также множеством вычурных, претенциозных имен: повстречайся мы с такими на Земле, мы бы невольно поморщились... Жюль Верн острит, будто астрономы разделили весь лунный диск на грубую мужскую и деликатную дамскую половины. На одной бушуют страсти и ужасы: «Океан Бурь», «Море Ливней», «Залив Зноя». На другой — тишина и благорастворение воздухов: «Море Ясности», «Море Вздохов», «Озеро Снов», «Море Спокойствия»...
Это — шутки романиста. Лунную поверхность окрещивали люди ученые, астрономы (мы-то ведь видим на ней только смутные пятна: кто — человека, несущего что-то на закорках, кто — рыбака, закинувшего удочку, кто еще что-нибудь невнятное). Поэтому основная часть лунных имен (опять-таки по правилу Сайреса Смита) дана ими в честь и память великих людей прошлых веков, прежде всего физиков, математиков, астрономов, затем философов и представителей литературы и искусства. Вот почему мы находим там имена Тихо де Браге, Коперника и Кеплера, Архимеда и Птолемея, а рядом с ними географа Меркатора или древнегреческого поэта Гесиода.
Есть на Луне такое место, где близко друг от друга поднялись в вековечном молчании могучие лунные «цирки» — чудовищно холодные ночью, жарко раскаленные лунным, бесконечно долгим днем. Их имена: Архимед, Автолик, Аристилл...
Кто такой Архимед, объяснять нечего, это знает каждый. Автолик — греческий астроном и математик, жил в IV веке до нашей эры. Ученый Аристилл родился на острове Самос, может быть, еще при жизни Автолика. {25} Теперь названные в их честь гигантские цирки стоят над лунными равнинами треугольником и всматриваются с недоумением в одну точку между ними. В ту, о которую ударилась несколько лет назад советская ракета, прославленный «лунник» и где лежит теперь вымпел, доставленный ею на Луну.
Неслыханные события развернулись в последнее время и для Луны, и для Земли. 7 октября 1957 года другая ракета, поднявшаяся с космодромов СССР, обогнула наш спутник, как когда-то в воображении романиста это сделали в пушечном ядре колумбиады Барбикен, Николь и Мишель Ардан — два американца и француз. Но даже фантазии Жюля Верна не хватило, чтобы описать, что видно на той стороне Луны: он уклонился от этого под разными предлогами.
Советский телеглаз всмотрелся в «лунный затылок» и передал изображение на Землю.
Выяснилось, что «та сторона» во всем подобна «этой»: такие же колоссальные равнины — «моря», такие же циркообразные круглые образования — горы. С того дня прошло 10 лет, но никто, кроме нас не увидел еще этих морей и этих гор. И ученые Союза были вполне вправе наречь им такие имена, какие были признаны нами достойными.
На той стороне Луны появилось «Море Москвы» с «Заливом Астронавтов», чтобы вечно напоминать о нашей стране, ее столице, ее героях. Там есть теперь цирк «Циолковский» (вряд ли существует имя, более достойное увековечения в космосе, чем это) и цирк «Ломоносов» — название, звучащее на равных правах с такими именами, как «Тихо Браге» или «Кеплер», видимой стороны ночного светила. Есть неподалеку от них еще один цирк. Русские назвали его {26} именем француза-физика Жолио-Кюри. Вот вам существенное отличие от того,

ВИДИМАЯ
СТОРОНА
Океан Бурь
Море Ливней
Море Вздохов
Тихо
Коперник
Автолик
Архимед
Птолемей
Меркатор
Море Познанное
ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
Море Москвы
Залив
Астронавтов
Циолковский
Ломоносов
Жолио-Кюри
Давать имена лунным горам и морям — не простое дело.
{27}
что происходило некогда на «острове Линкольна»: там названия устанавливали очень хорошие люди, но американцы прежде всего; они думали об Америке, только об Америке и о ее героях. Мы — интернационалисты, и великий французский ученый, бывший великим гражданином своей страны, смелым борцом за всечеловеческий мир, умным и благородным сторонником коммунизма, для нас такой же «свой», как и лучшие сыны нашей Родины [15]1.
Но, если прислушаться к этим «новым» именам, они мало чем отличаются по своему характеру от тех, которые признали удобными и достойными для себя Смит, Спилетт, Герберт, простодушный Пенкрофф и немногословный Наб на вымышленном острове Линкольна столетие тому назад.
Все это просто и понятно. Вот только в современном мире на Земле осталось очень мало таких мест, где человек может поступать, как в Антарктике или на чуждых планетах. {28}
Континенты старой Земли, ее острова заселены людьми уже много тысячелетий. По крайней мере пять-шесть тысяч лет назад культура человека возросла настолько, что он уже научился «называть» каждый клочок окружающего его мира, каждый холм, каждую реку, каждый свой поселок тем или другим собственным именем. Я преуменьшаю сроки: случилось это, конечно, гораздо раньше; просто наше знание прошлых времен уже ничего не способно различить за пределами этих ближних тысячелетий.
А потом вся история человечества заполнилась неустанным передвижением племен и народов по лицу Земли. Почти нет на Земле таких мест, где мы можем поручиться, что народ, сегодня живущий там, жил там всегда и вечно; что, поселившись здесь века и века назад на пустом, необитаемом до того месте, он ни разу не уступал своей территории никаким пришельцам; что никогда в прошлом раз присвоенные им названия урочищ и поселений его страны не были заменены другими, что они остаются одними и теми же «ныне, и присно, и во веки веков»...
Вот я думаю сейчас: где такое было возможным? Даже в древнейшей стране мира — Китае — отдельные части его территории подвергались длительным нашествиям и передвижениям племен: маньчжуры и монголы повелевали китайцами и, конечно, приносили с собой на их земли свои совсем не китайских корней — названия. В свою очередь китайцы завоевывали земли соседей и меняли их топонимику. Причем меняли, как это всегда бывало в древности, не «организованно», не по какому-нибудь твердому правилу, а как придется, кое-что сохраняя из старых имен, кое-что заменяя новыми, кое-что только приспосабливая к своему произношению, к своему языку... Думается, даже в Китае можно найти в его топонимике заметные следы этих передвижений и перемещений.
Что же говорить о тех странах, на пространстве которых две, три, четыре тысячи лет все как в котле кипело, где творилась мировая история,— о странах Европы, Северной Африки, Передней Азии, Ближнего Востока?
Там, где сейчас живут французы, была некогда страна, населенная кельтским племенем галлов. Каждый {29} ручей, любой суходол и любой перекресток дорог носил галльское, кельтское имя.
Римляне Юлия Цезаря завоевали эту страну. Вместе со своими дорогами, со своими законами, со своими нравами они принесли туда и свои имена. Заливы и бухты, портовые города, источники минеральных вод, мосты и броды — все стало называться по-римски; но между этими новыми римскими названиями во множестве сохранились — переделанные или нетронутые — и старые галльские. Римлян, говоривших по латыни, на языке романского корня, сменили франки — германцы по языку и племени. И теперь можно найти во Франции такие районы, где река носит древнее гальское имя, старый брод на ней хранит в своем названии воспоминание о римских временах, а руины замка, возвышающиеся над ним, называются именем франкским, понять значение которого может только человек, знающий древнегерманские языки.
А к этому надо добавить, что на юго-западе Франции, у Пиренеев, рядом с галлами и среди галлов жили баски, народ еще не выясненного до конца происхождения и языка, жили иберы, по имени которых римляне звали Иберией Испанию. Тут, в Гаскони, по берегу Бискайского залива многие пункты носят имена догалльского происхождения. А Бретань, на западе страны, дольше других ее частей сохранила старый кельтский язык, общий с бриттами соседнего большого острова Британии (сравните эти имена: Британия и Бретань). А рядом лежащий небольшой полуостров Котантэн был много позднее захвачен северными германцами, скандинавами или норманнами (эта область и сегодня носит имя Нормандия); суровые викинги Норвегии и Швеции, огнем и мечом покоряя страну, насадили на ее землях свой, северогерманский язык и свои, северогерманские топонимы... [16]1 {30}
Эти народы, живя рядом, сопротивляясь и подчиняясь один другому, смешивались. Влияли и сливались друг с другом их языки. Менялись, приспосабливаясь, и названия мест: одни заменялись новыми, другие, скрещиваясь, образовали странные помеси, двуязычные гибриды; третьи получали новое звучание, сохраняя старый смысл; четвертые упрямо существовали в своем древнем виде, не подчиняясь никаким новым веяниям, и дожили, как окаменелости глухой и глубокой древности, до сих пор.
Вы представляете себе, какую пеструю смесь все это образовало за века и тысячелетия? Вам понятно теперь, что второй частью науки топонимики в каждой стране и является наука об изучении этих давно уже существующих на земле, проживших длинную и сложную историю географических имен. Их разгадывание. Их приурочение к тому или другому языку, к тому или иному народу.
«Понятно, — говорите вы, — какое это нелегкое дело». Я думаю, понятно, но не до конца. И, чтобы помочь вам в этом понимании, я начну сейчас с маленького рассказа о испытанном недавно мною самим затруднении.
Что значит — Артек?
Артек — всем известный, прославленный на весь мир пионерский лагерь. Он расположен в Крыму, возле курортного городка Гурзуф. Там встречаются каждый год ребята многих стран мира. Девочка из Перми или из Подмосковья может подружиться со своей смуглолицей ровесницей из кубинской Гаваны или из Гвинеи, лежащей на Атлантическом побережье Африки. Мальчуган-ленинградец — стать неразлучным со своим вьетнамским или чешским ровесником...
Значит, вы знаете, что такое Артек? Да, но вам неизвестно все же, что означает его имя. Артек? Как вам кажется, каково его значение? {31}
Года два назад я получил из журнала «Вокруг Света» очень вежливое письмо. Меня просили объяснить самим артековцам, откуда взялось, кем дано и что может означать название их любимого лагеря. Они пробовали выяснить это сами, не удалось. Запрашивали разные ученые учреждения, ответа не получили. Не могу ли я помочь им в этом?
Приятное и даже лестное поручение. Но известно: легче задать сто вопросов, чем правильно ответить на один.
Прежде чем рассуждать о значении любого имени, следует установить, какому языку оно принадлежит. По-русски «ма» значит «яма», углубление в почве, а по-японски «ма» — «гора». Если какое-нибудь место на Курильских островах или на Южном Сахалине называется «яма», трудно строить какие-нибудь умозаключения, пока не выяснено, кто его так назвал — мы или японцы? Значит, кто же мог быть автором имени «Артек»?
В Крыму, на протяжении его долгой истории, жил не один какой-нибудь народ. В самой глубокой древности его населяли дикие и свирепые тавры. Именно благодаря им и по милости хорошо знавших их греков мы до сих пор называем Крым Тавридой.
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля...
Это — Пушкин.
Кто знает, сколько крымских старинных имен могут оказаться так или иначе связанными с таврами, может быть, принадлежащими их языку?
С таврами в Крыму столкнулись древние греки. Они были отважными моряками и опытными колонизаторами. По словам {32} одного древнего ученого, они повсюду обосновы-
Десятки народов прошли через Крым. Кто из них дал имя Артеку?
вались по берегам морей, как лягушки по краям луж. На крымском побережье немало мест, сохранивших до нашего времени названия, данные им греками. Имя Ялта происходит от греческого «Ялитпа» и означало некогда, по-видимому, «приморская», «прибрежная». Название Симеиз значит «знак»; вероятно, греческие моряки считали путеводным знаком что-то на берегу этой бухты,— может быть, знаменитые колоссальные скалы «Диву» и «Монах», достоявшие тут до нашего времени [17]1. Не существующий сейчас город к востоку от Севастополя назывался Херсонес: слово это по-гречески значит «полуостров». У Керченского пролива процветало в древности множество греческих городов-колоний: Пантикапея, Порфмий, Мирмекий. Все это греческие слова: Мирмекий, например, означало по-гречески «Муравейник», «Муравьеград»... Может быть, и Артек такое же ископаемое греческое слово?..
В те самые времена, когда блистали и шумели на берегу греческие колонии, во внутренней части Крыма жили варвары — скифы. Скифы населяли тогда весь юг нынешней Украины, кочевали в бескрайных ее степях. Мы знаем, что многие великие реки южной Европы — Дон, Днепр, Днестр, Донец, Дунай — названы скифскими словами. В родственном скифскому осетинском языке слово «дон» и сейчас означает река: Ардон — она же Арредон — «бешеная река». То же самое слово, значащее «река», «вода», скрывается и в приведенных только что названиях наших больших рек. А если так, почему не допустить, что и некоторые из имен нашего Крыма — в том числе и Артек — могут быть скифского происхождения?
Утверждать этого нельзя, но и отрицать решительно — трудно.
В той же глубокой древности побывали в Крыму или приближались к его пределам многие другие народы; кроме звучных и непонятных имен — киммерийцы, савроматы (по-гречески — «ящероглазые») — от них ничего не сохранилось. Но ведь наверняка и они называли {34} как-то по-своему тамошние реки, долы, горы, поселения... Все, на что падал взор их «ящеричных» глаз.
Позднее в Крым прорвалось германское племя готов, точнее — остготов, готов восточных, потому что далеко отсюда, на Пиренейском полуострове, существовали другие, западные готы — вестготы.
Остготы основали даже в Крыму свое готское царство: автор «Слова о полку Игореве» с горечью повествует, как «готские красные девы, сидя на брезе синего моря» весело пели песни, бренча трофейным русским золотом, добытым от победивших Игоря-князя половцев...
Вслед за ними на побережьях крымского полуострова кое-где укрепились итальянцы — генуэзские купцы, свирепые колонизаторы. Мрачные башни их крепостей и в наши дни еще можно видеть в Балаклаве, в Судаке (тогда он носил имя Судгея), в том самом Гурзуфе, рядом с которым расположен Артек. Может быть, это от них пошло милое пионерским сердцам имя?
Лет за пятьсот до наших дней Крымом надолго овладели тюрки — крымские татары, вскоре попавшие в вассальную зависимость к турецкому султану. Они обосновались там напрочно: взяв в руки старый путеводитель по Крыму, вы встретите в нем тысячи и тысячи названий тюркского корня, то татарских, то турецких, потому что язык крымских татар, живших на южном берегу полуострова, вскоре стал очень близким к турецкому языку самой Турции.
Прославленная живописная гора у самого Гурзуфа, бок о бок с Артеком, напоминающая лежащего и пьющего морскую воду добродушного медведя, именуется Аю-Даг, «Медведь-гора» по-турецки. Высоко над хребтом Крымских гор поднимается Чатыр-Даг, и это опять тюркское имя. Оно значит Шатер-гора. Почти рядом с знаменитым Чатыр-Дагом есть другая гора. По-турецки она называется Демерджи — Кузнец-гора, но у нее есть и греческое название Фума — Дымящая...
Я не стал бы уж говорить вам, чтобы не сбивать вас с панталыку, что уже в глубокой древности в Крыму бывали и русские поселения. Город Керчь (греческая Пантикапея) входил когда-то в русское Тмутараканское княжество и назывался Корчев (это, может {35} быть, тоже значило что-то вроде Кузнецово). Я не коснулся этого подробно потому, что окончательно власть России в Крыму утвердилась лишь в XVIII веке, и с этого времени на таврские, скифские, древнегреческие, генуэзские, готские, киммерийские — какие угодно — названия стал налегать самый молодой и самый, казалось бы, легкий для разгадывания, слой: имена русские, новые, только что, почти что на нашей памяти данные...
Легкий для разгадывания? Как бы не так!
Вот вам два крымских имени, расположенных на карте неподалеку друг от друга: Херсонéс и Севастóполь. Любой языковед скажет вам, что оба они — греческого происхождения. Вероятно, и созданы они были древними греками примерно в одно время?
Вообразите, ничего подобного. Глубокой древностью веет от имени Херсонес: когда Владимир Киевский во дни наших былинных богатырей взял этот город осадным сидением, он был уже стар, имел незапамятно древнюю историю.
Имя Херсонес, то есть «полуостров», дано этому пункту греками в глубокой древности. А вот про лежащий рядом Севастополь этого никак не скажешь. Тут нас подстерегают неожиданности.
Да, бесспорно, сложное имя Севасто-поль распадается на два несомненно греческих слова. Сэбáстос значило у греков «достойный поклонения, почестей»; «пóлис» означало «город».
Но древние греки никогда не основывали тут поселения с таким гордым именем. Имя это создано не в четырехсотых годах до нашей эры, как имена других греческих колоний на нашем Юге, а в конце восемнадцатого века, считая с ее начала. Создано притом не древними греками, а современными русскими, хотя и на греческий лад.
Императрица Екатерина II вела сложную и рискованную политику. Воюя на севере со Швецией, на юге своих владений она имела в виду вытеснить Турцию из Европы, захватить ее столицу на Босфоре, нынешний Стамбул, древний Константинополь, и основать на Балканах новогреческое государство, послушное единоверной ему России. Править там должен был царь, происходящий из русского императорского дома. {36}
Планы эти разрабатывались очень тонко и дальновидно. Даже двоих внуков своих Екатерина приказала назвать с политическим расчетом: старшего — Александром, во имя Александра Невского, победителя шведов, второго — Константином: ему предназначалась слава и честь стать греческим баслевсом — царем в великом Цареграде — Константинополе.
Этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Но внутри самóй России, особенно на освобожденных от турок южных землях, возникла мода давать новым поселениям греческие имена. Следуя этому приятному императрице обыкновению, так именно были названы и Симферополь (в переводе — «Пользоград») и Мелитополь (Пчелиный город), и Ставрополь (Крестовый город), и многие другие города (Херсон — Херсонес; Одесса — по имени древнего поселения, стоявшего где-то неподалеку от нее, Никополь — «Город победы» и пр.).
Чему это учит нас? Да тому, что если бы даже мы с вами сейчас точно выяснили: «Артек — слово греческое», пришедшее из греческого языка, и значит то-то, мы бы, может быть, и утешили любознательных артековцев, но сделали бы еще очень мало как топонимисты. А кто его так назвал?
Выходит, что для решения топонимических вопросов мало хорошо знать язык. Надо ничуть не хуже знать историю; без ее помощи чистое языковедение может, чего доброго, завести в тупик.
Так или иначе, в Крыму появился ряд искусственных, «под Грецию», названий мест. Мода эта, начавшись в XVIII столетии, держалась очень долго.
До последнего времени там существовали (возможно, есть они и сейчас) отличные винодельческие совхозы со странными именами — по буквам греческой азбуки: Альфа, Дельта... До Омеги, последней буквы, включительно.
Казалось бы, вот уж настоящая глубокая греческая древность! А на деле — ничуть! Просто в конце прошлого и в начале этого века в Крыму жил очень богатый помещик, владелец множества небольших участков земли. Он приобретал их все больше и больше, заводил всюду виноградники, и ему надоело выдумывать для каждого из них оригинальные имена. И, чтобы избавиться от лиш-{37}них хлопот, господин Максимович повелел именовать их по греческому алфавиту, начиная с альфы и, так сказать, «гоня» дальше, до омеги.
Почему по алфавиту? Для быстроты, простоты и порядка. Почему по греческому? По русской азбуке: «имение А», «имение Бэ», «имение Вэ» — было бы нелепо. По старославянской — «Аз», «Буки», «Веди», «Ижица» — тоже нехорошо. Греческий алфавит его вполне устроил...
Не кажется ли вам эта история еще одним серьезным напоминанием: «Будь осторожен, как только дело коснулось топонимики»?..
Ну, так как же
с Артеком?
С Артеком — плохо: в топонимическом, конечно, отношении. По ряду признаков и оснований можно, конечно, было сразу же исключить из спора немало языков. Почти нет шансов искать в этом имени скифские или киммерийские корни. Трудно сомневаться в том, что и русский язык тут ни при чем. Больше всего оснований производить розыски все-таки в греческом и в тюркских языках.
Грецисты, специалисты по греческому, к которым я обратился, не обрадовали меня: «Вряд ли это греческое имя». Туркологи тоже не предлагали никаких более или менее подходящих гипотез. И вдруг — вы вообразите мою радость! — мне сообщают: «В романе писателя Новикова «Пушкин на юге» сказано точно: «Артек — татарское слово, означающее какую-то птицу».
Хватаю с полки этот роман. Ура! Вот небольшая сцена: Пушкин, разъезжая верхом в окрестностях Гурзуфа (а он в Гурзуфе жил несколько дней), попал в незнакомое место и спросил у встречного татарина, как оно называется на их языке? Ответ был: «Артек». Пушкин поинтересовался, что значит это слово? Татарин охотно объяснил: «Артéк по-вашему значит «перепелка».
Я готов был уже написать благодарственное письмо автору романа, но прежде потянулся для проверки за турецко-русским и русско-турецким словарями: а как это слово пишется (язык крымских татар почти не отличается от турецкого)? Увы! В турецком и крымско-татарском языке «перепел» зовется ничуть не похоже на Артек: имя ему «былдырчын». Так же именуют его {38} и многие другие тюркские народы [18]1. А как досадно: через побережье Крыма и Кавказа русские перепела, все лето кричавшие в наших хлебных полях свое «спать пора» или «пить подай», улетают осенью на юг, в Турцию и дальше. Тут перед полетом над морем они отдыхают и кормятся. Здесь их ждет беда: на них охотятся, их избивают тысячами. Как было бы естественно, чтобы какое-нибудь любимое место сборов и «жировки» перепелок получило бы по-татарски название «перепел».
***
Не показывает ли эта история еще раз очень ясно, как осложняется наука о географических именах, как только от вопроса о том, какими именами мы теперь обычно называем разные части окружающего нас земного пейзажа, мы переходим к следующему: что значат и откуда появились ранее прикрепленные к ним, до нас данные названия-топонимы?
Тут что ни имя, то новый и своеобразный вопрос. Тут почти никогда не удается две загадки решить одним способом, по одному правилу. Тут приходится сталкиваться и с общими историческими причинами, и с людским произволом, потому что хотя каждое имя было {39} дано в своей стране, в свою эпоху, в определенных географических и культурных условиях, но ведь прежде, чем стать общепринятым, оно появилось обязательно в чьей-то одной голове, стало известным сначала небольшой группке хорошо знакомых друг с другом лиц. А если это так — то рядом с большими, важными законами, которые привели к его образованию, всегда могли сработать и личные или семейные причуды маленькой группы людей, может быть, даже одного человека. Помещик Максимович сам, ни с кем не советуясь, решил назвать свои виноградные плантации по буквам греческой азбуки, и не знай я случайно, как это было, никогда не добраться бы мне до решения загадки, откуда взялись в Крыму эти «Альфы» и «Омеги»?
Как видите, решать топонимические задачи очень нелегко, если нет для того достаточных данных — и во внешнем мире, и в голове у исследователя.
Но нередко даже опытные мастера своего дела разумно остерегаются высказывать точное утверждение до тщательной, доскональной проверки всех хорошо известных фактов наново.
И так
и этак...
Название Лодейное Поле знакомо всем очень давно: так именуется небольшой городок на Свири — реке, соединяющей Онежское озеро с Ладожским. Знал я и ходячее объяснение этого имени. Петр Первый, намереваясь дать бой на Балтике шведскому флоту, задумал противопоставить его мощным линейным кораблям многочисленную армаду русских легких суденышек — галер. Для их строительства он избрал место, где оно могло производиться без помех, и в то же время соединенное с морем удобной водной дорогой — эту самую Свирь.
Галеры были в нужные сроки сооружены, вышли на морской простор, приняли участие в победоносных боях, а вокруг новой верфи начал нарастать город. Галера — большая лодка, по-старорусски — ладья или «лодия». Город получил название Лодейное Поле, «место строительства галер». Ясно?
Все выглядело очень стройно; никакие сомнения не приходили в мою голову, до самой советско-финской кампании 1939—1940 годов.
Когда началась эта короткая, но жестокая война, все советские люди стали тактиками и стратегами: читали {40} по сто раз в день сводки, отмечали на картах передвижения фронтов.
Мне посчастливилось добыть в магазине отличную карту советско-финской границы и прилегающих районов, с двумя огромными озерами, с перешейком между ними и тысячами интереснейших подробностей. Все свободное время я просиживал над ней.
Разглядывать любую карту — дело необыкновенно увлекательное: находишь не только то, что искал, но и множество сведений, которые тебе и в голову не приходили.
Разумеется, я увидел на моей карте город Лодейное Поле; в этом не было ровно ничего неожиданного: вот он лежит на реке, чуть восточнее синего пятна Ладоги... Тут ему и надлежало лежать.
Но затем внезапно, как раз на противоположной оконечности великого озера, в его северо-западном углу, возле Сортавалы-Сердоболя — я заметил другой населенный пункт. Он был расположен на тогдашней финской территории у самого озерного берега, возле одного из тамошних извилистых фьордов и, естественно, имел финское имя. Оно звучало так: Лáхден-Пóхья; по-фински это может обозначать что-то вроде «дно залива», «конец бухты»: вспомните название финского города Лáхти (залив) или нашего пригородного поселка Лáхта под Ленинградом, в начале Карельского перешейка, на берегу Финского залива.
Название поразило меня странным звуковым сходством:
Лáхден-Пóхья
Лодéйно-Пóле...
Два имени эти напоминали друг друга не в меньшей мере, чем, скажем, Сортавала и Сердоболь или Стокгольм и Стекольна. А ведь нам известно, что в этих двух случаях перед нами просто переделка одним языком имени, принадлежащего другому языку, соседнему...
Мне пришла в голову несмелая мысль: а так ли все просто в объяснении имени Свирского городка, как мне (да и другим) казалось доныне? Если русские, овладев на Ладоге в старину городом, носящим название Сортавáла, сумели перелицевать его на свой лад, {41} приспособив к своей речи и его звучание и смысл и превратив его в Сердобóль (сердце и боль) [19]1, то не могло ли и тут, на старой Карельской земле, произойти что-либо похожего?
А что, если, придя в глубокой древности (не при Петре, намного раньше) на Свирь, они наткнулись на ее берегу на место, носившее название Лáхден-Пóхья, «Конец залива». Оно показалось им странным и непонятным, но как это бывает часто, они не стали заменять его своим, а (это тоже случается сплошь и рядом!) лишь слегка изменили его звуки, подогнав к своим, русским словам. Из Лáхден-Пóхья могло получиться Лодéйное Пóле...
В следующий миг я пожал плечами: а зачем, собственно, такие сложности, если есть исторически правдоподобное, соответствующее фактам, языковедчески простое, со всех сторон удобное старое объяснение?
Так-то оно так, но...
Чем больше я размышлял, тем больше в этом старом толковании открывалось, на мой взгляд, подозрительных пунктов.
Во-первых, если допустить, что автором имени Лодейное Поле был Петр, кажется несколько неожиданным, что он назвал корабельную верфь до такой степени по-русски, даже на древнерусский лад. {42} Петр, создавая новые города и поселки, любил окрещивать их «на немецкий манер», голландскими, английскими, только не русскими именами. Свою новую столицу он назвал не Петровском, а Санкт-Питер-Бургом. Крепость, защищающую ее с моря, не Венцеградом, а Крон-Слотом, Коронным Замком. Ведь даже потешную крепостцу своих отроческих лет и ту он повелел именовать Прешпургом. Он называл лодки ботами, командиров — шкиперами. С чего бы вдруг на сей раз ему вздумалось галеры именовать ладьями, а верфь — полем? Очень не похоже на него!
Этого мало. Лодка на русском языке XVIII века звалась «ладья»; «лодьей» ее могли звать только жители тех частей России, которые «окают», говорят на «о». Но ведь Петр не был ни олончанином, ни ярославцем, ни нижегородцем. Москвич, он никогда не «окал», и уж если бы дал верфи такое имя, то стал бы писать его Ладейным, а не Лодейным Полем. А вот местные жители в межозерном пространстве могут «окать»; если имя это было старым онежско-ладожским именем, оно могло произноситься именно так: «Ло...»
Теперь — «поле»... Если обратиться к старым источникам, к словарям древнерусской речи, мы увидим, что слово «поле» в старину имело немало разных значений. Могло оно значить — плоская часть шляпы (и мы говорим «поля»); могло иметь тот же смысл, что и сейчас: «безлесное пространство, занятое нивами или пастбищем». Наши предки именовали «полем» бескрайную степь, тянувшуюся к югу от исконных русских земель: «Дикое Поле». «Полем» называлось в разные времена то «место, занятое войсками», «лагерь», то «судебный поединок и площадка, на которой он происходит», то «охота со сворой собак»: «отъезжее поле». Но сколько я ни искал, мне не попалось такого второго случая, в котором слово «поле» означало бы «верфь», «место строительства судов» или что-нибудь хоть немного на то похожее. Слово «поле» входит во многие «топонимы» в нашей стране: «Марсово поле» — в Ленинграде, «Девичье поле», «Воронцово поле» — в Москве, «Гуляй-поле» — на Украине, но никогда оно при этом не получает значения «строительная площадка». Нет таких названий, как «Тýрусное поле», «Тележное поле», «Избянóе поле»... Могло {43} ли в одном единственном случае возникнуть имя с таким своеобразным и исключительным значением?
Да и с другой стороны: у нас немало мест, где на берегах рек в том же начале XVIII века (или в конце XVII) тот же Петр I строил корабли. Такое происходило на Дону и его притоках. А ведь не осталось там никаких «Корабельных полей»... Почему?
Так рассуждал я тогда, в конце 1939 года, и полагал, что единственным объяснением могло быть вот что: Петр в спешке, не долго раздумывая, принял старое название понадобившегося ему места, которое ему подсказали местные крестьяне, рыбаки, лесорубы... Я не заглянул тогда в историю города Лодейное Поле; я не знал, что Петр Первый, видимо, даже ни разу не назвал его этим именем. При нем новая верфь, заложенная в 1702 году в семи верстах от древнего Пиркинского погоста, была известна просто под именем Олонецкой верфи. Только 83 года спустя, в 1785 году, выросший вокруг нее поселок был возведен в разряд городов. Только теперь он получил и свой герб, изображающий корабль в полной оснастке, и свое имя, дошедшее до нас: Лодейное Поле.
Это решает вопрос о времени, когда оно появилось. Но это не позволяет ответить на вопрос, откуда оно было взято? И все сомнения остаются в полной силе.
В 1939 году я не занимался вопросами топонимики вплотную: просто этот особый случай заинтересовал меня. Мне, вероятно, нужно было бы начать с консультаций у лингвистов-русистов; получилось, однако, так, что мне пришлось обратиться в первую голову к крупному финноведу (правда, он был в то же время и большим специалистом по славянским языкам), профессору Дмитрию Владимировичу Бубриху.
Я пришел к Бубриху не с пустыми руками; я принес с собой ту самую фронтовую пограничную карту. Два имени были подчеркнуты на ней: Лодейное Поле и — через озеро — Лáхден-Пóхья.
Начал я осторожно: что думает профессор о происхождении имени Лодейное Поле?
Профессор слегка удивился:
— Так ведь этимология тут общепринятая, голубчик! — сказал он.— Ладья и поле... Там же петровская верфь была... {44}
Тут я пошел с моей козырной географической карты. Я расстелил ее по столу и карандашом коснулся обоих названий: мол, смотрите сами...
— Гм... Довольно любопытно! — подумав, пробормотал профессор. — Я, знаете, как-то никогда не связывал эти имена... Гм!.. Гм!.. Оба — из двух элементов... Звучание... довольно близкое. Любопытно, весьма занимательно...
— Значит, связь возможна? — обрадовался я, и Д. В. Бубрих замахал на меня руками в ужасе:
— Что вы, что вы, голубчик! Я ничего подобного не сказал. Это следует взять на заметку, подумать. Надо тщательно проверить еще раз русскую этимологию (да, да! Пожалуй, кое в чем можно усомниться!). Надо досконально изучить, возможно ли по звуковым законам превращение финского «лáхден» в наше «ладéйн», их «пóхья» в наше «пóле»... Поверхностное сходство тут ничего не может доказать, не правда ли? Да, в смысловом отношении как будто можно допустить такой переход, но...
«По молодости лет» я был несколько разочарован такой нерешительностью большого ученого. Делать больше ничего не оставалось, я встал, свернул карту... Но вдруг, когда профессор уже протянул мне руку для прощания, новая мысль мелькнула у меня в голове. Не ученая мысль, любительская...
— Простите, Дмитрий Владимирович, еще вопрос... Странная идея... Ну, а если русские не переделывали финское Лахден-Похья в свое Лодейное Поле... Не могло ли быть, что это финны, захватив в древности на западном берегу Ладоги русский поселок Лодейное Поле (мог же там быть такой?), переработали его, непонятное им, имя в свое Лахден-Похья... То есть как раз наоборот...
Профессор Бубрих от неожиданности даже развел руками. По-моему, у него мелькнуло на миг подозрение: не задумал ли я подшутить над ним? Потом он вдруг рассмеялся:
— А что, дорогой мой? — воскликнул он, уже не без удовольствия.— А что? А почему бы и нет? Во всяком случае — такое допущение ничем не хуже первого... Но, само собой, и тут ничего решительного сразу сказать нельзя. Опять-таки — проверить, все тщательно прове-{45}рить! Надо пристально приглядеться: много ли подобных топонимов в Финляндии? Где они попадаются? Если возле наших границ — это одно. Где-нибудь на берегу Ботнического залива — это совершенно иной коленкор... Русским-то духом там небось никогда и не пахло, а?..
Засим необходимо проконсультироваться у фонетистов: возможна ли, по их представлениям, этакая метаморфоза?.. А чего же вы от меня хотели, коллега? Тяп-ляп — и гипотеза? Нет-с, это не получится. Да, если угодно, соглашаюсь: и то не исключено, и это в какой-то мере допустимо. Ничего не попишешь: топонимика! Но!..
Что я могу добавить к этому «от себя»? Очень простую мораль: в топонимике нет места тому, что обычно расценивается как «очевидность».
Даже если два имени звучат почти совпадая, топонимист поостережется утверждать, что их происхождение одинаково. Скорее — наоборот: слишком точное сходство насторожит его, заставит призадуматься...
Все отлично знают, что в Африке есть река Конго. Мало кому известно, что есть вторая река Конго — в Магаданской области, на нашем Дальнем Востоке. Что это — одно и то же имя, возникшее из одного корня?
Да само собой — нет. У африканских народов вообще нет самостоятельного слова «Конго»; они не употребляют его в качестве речного имени. Это сочетание звуков входит в разные слова, типа «ки-конго», «ба-конго», означающие страну, народ этой страны и т. п. Ливингстон не достаточно хорошо владел местными языками; он принял часть слова за целое слово и прикрепил вымышленное им имя Конго к реке, которую ее прибрежные жители из племени баконго звали Заир. Слово «заир» у них значило «вода», «река»...
А другое Конго, магаданское? А его имя раскрывают как якутское слово, со значением «спокойная»... Вот и гадай тут по звуковому сходству!
Одна река Дон течет в наших степях, вторая — на острове Великобритания. Довольно рискованно утверждать, что оба названия родственны друг другу (некоторые ученые все же идут на такой риск). Один город Брест, прославленный своей героической обороной, стоит у нас, на Западном Буге, другой — на край-{46}нем западе Франции. И снова — между этими двумя, совершенно тождественными по звукам именами нет ровно ничего общего. Это случайная игра созвучия.
Это одна сторона дела. Другая же сводится к тому, что осторожность и неторопливость в выводах — лучшая добродетель топонимиста. Вот уж где поистине: «поспешишь, людей насмешишь»...
Можно указать и на третью сторону. В топонимике редкость, чтобы изучение какого-либо, не совсем уж рядового и обычного, не совершенно ясного имени дало на сто процентов бесспорные результаты. Слишком многими причинами объясняется появление каждого из них, слишком быстро исчезают с течением времени то те, то другие обстоятельства, заставившие человека выбрать месту такое-то имя...
Сплошь и рядом даже самые крупные специалисты высказывают то или иное, казалось бы, со всех сторон подкрепленное доказательствами предположение... Но проходит время, иногда даже небольшое, и от этих доказательств новые работы не оставляют камня на камне; или дополняют их вновь открытыми сведениями, а они уж заставляют пересмотреть то, что казалось несомненным.
Поэтому, читая и эту книгу, да и другие, несравненно более строгие и глубокие топонимические труды, нельзя пока что требовать от них математической точности и бесспорности. Нельзя сердиться, если окажется, что один ученый толкует слово «Москва», как связанное с восточно-финским «моска-ава», «медведица», другой утверждает, что оно когда-то в зырянском языке произошло от словосочетания «моск-ва», означающего «коровья вода», а третий связывает его со словом «москатель» — всякие товары вроде красок, олифы и т. п. Вернее всего, что все эти гипотезы неправильны (последняя — уж вовсе бесспорно!), но вины ученых в этом нет: они ищут истину, а к истине ведут обычно не асфальтированные шоссе, а запутанные тропинки, прямо идти по которым трудно.
Почему? Да хотя бы потому, что в науке о географических именах то, что мы изучаем — сами эти имена, — обычно оказываются куда долговечнее, чем причины и условия, их породившие. {47}
Интеграл
в тайге
Знаете вы, что значит слово «интеграл»? Это — очень сложный термин высшей математики. Даже примерное значение его не так-то просто растолковать, не вдаваясь в бездны премудрости: интегралы изучают на вторых курсах технических вузов [20]1.
Так как же вы тогда объясните, каким образом в Сибири, в глухой Тазовской тайге, далеко от железных дорог и городов, появилось селение, носящее имя: Изба Интеграла?
Разыщите где-нибудь хороший большой атлас нашей страны. Найдите карту Западной Сибири. Здесь, среди необозримых лесов, на берегу реки Таз, чуть посеверней места, где в нее впадает речка с таким поэтичным, таким грустным именем Печалька [21]2, вы увидите надпись: Изба Интеграла.
Крайне странное сочетание слов; все равно что «логарифмическая соха» или «атомный овин»! Да и как оно могло попасть именно сюда, за сотни километров от ближайших культурных центров, с их институтами и университетами?
Было время, когда я, шутки ради, предложил группе молодых студентов-филологов ответить на эти вопросы, дать объяснение имени...
Догадки были неожиданными, споры — шумными. Большинству казалось, что слово забрело сюда с какой-нибудь инженерской экспедицией, зазимовавшей в тайге; она вела в заваленной снегом избе вычислительные работы, требовавшие применения интегрального исчисления. Какой-то важный интеграл был, наконец, «взят»; в память этого события и родилось имя...
Впрочем, нашелся один недоверчивый скептик. Ему такая разгадка казалась что-то уж слишком надуманной, претенциозной. «Дело было проще,— утверждал он.— Может быть, экспедиция, когда-нибудь в XIX веке, и зимовала тут. От скуки, засыпаемые пургой, ее члены не вычисляли, а дулись в карты, играли в винт (была такая чиновничья игра). Уезжая, начальник так и назвал надоевшее место: «В винт играл». А потом землемеры-то-{48}пографы, не зная этого, переделали простое имя, и нанесли на карты пышное «Интеграл»...
А на самом деле каково происхождение этого курьеза?
Карта перед вами? Вглядитесь внимательно в реку Таз. В разных местах по ее течению вы увидите много кружков, при которых имеются состоящие из двух слов названия. Первое слово очень часто — «изба», второе — чья-нибудь фамилия: «Изба Андреева» недалеко от «Избы Интеграла», «Изба Мамеева» много севернее, в нижнем течении большой этой реки. Случается, вместо слова «изба» стоит другое: «фактория». Это в таежных просторах давно, еще до революции, устраивали свои склады и опорные пункты то честные труженики — охотники за пушным зверем, а чаще — мелкие и крупные хищники, русские купцы, задешево скупавшие пушнину у остяков-зверобоев, втридорога продававшие им всякие необходимые товары... [22]1
«Изба Мамеева», «Фактория Артюхина» и вдруг: «Фактория Интеграла»... Опять этот «Интеграл»? Так, может быть, это тоже фамилия? Был же до Октября в Москве купец Мерилиз? Жила в Ленинграде семья, носившая фамилию Интролигатин... Почему бы не быть и ловкому дельцу Интегралу?
Не буду вас мучить дальше и открою секрет. В старых, двадцатых годов, справочниках вы могли бы вычитать: существовала в начале революции в Сибири мощная, богатая кооперативная организация. Основной задачей ее было вытеснить из тайги всевозможных Колупаевых и Разуваевых, свирепых эксплуататоров таежного населения. Для этого ей приходилось там, в тайге, не только продавать разные нужные людям товары, как делают все кооперативы, но и покупать у них добытые в лесной глуши драгоценные звериные шкурки. А кооперация, которая и продает, и скупает товары у своих членов, носит у ученых-экономистов название «интегральной».
Сибирский кооператив 20-х годов работал под фирмой «Интеграл» — и сейчас сибиряки знают и помнят {49} это название. Он основывал на Тазу и «избы» и «фактории»; «Изба Интеграла» получила свое имя так же естественно, как, может быть, задолго до того ее ближайшая соседка «Изба Андреева».
Видите? «Тайна» раскрылась очень легко и просто, но добраться до нее удалось лишь потому, что загадочное имя возникло совсем недавно. За сорок лет человеческая память не успела забыть, как это произошло. В наше время почти каждое событие мира отмечается в печати: про все теперь пишут в газетах, печатают в книгах. Все попадает в справочники и словари... Да, кроме этого, за три-четыре десятка лет и с самим именем еще не успело произойти ничего особенного: слово «интеграл» сохранилось в своем первоначальном виде.
А представьте себе какое-нибудь имя, которое родилось на свет не сорок — четыреста лет назад. Тогда не было ни газет, ни книг. Никто не вносил новые имена ни в словари, ни в справочники — особенно, когда речь шла о захолустных, глухих, еще только обживаемых местах. Русский человек, поселяясь в Сибири среди тамошних жителей, давал месту свое, не понятное им имя, а они изменяли его по-своему, и до следующих поколений оно могло дойти «похожим на себя до неузнаваемости». Поди попробуй теперь, через четыре века, разгадать тайны таких имен, дознаться, откуда они взялись и что значили первоначально?
Такое, конечно, происходило не только в Сибири, не только у нас — всюду на земном шаре. Вот есть в Эльзасе, в нынешней Франции, городок с полунемецким (Эльзас — пограничная область, много раз переходившая из рук в руки) населением, говорящим на немецком языке. Он называется Цáберн (по-французски — Савéрн). Ни немцы, ни французы не могут, опираясь на {50} свои языки, объяснить это непонятное имя: ни там ни тут слово цаберн
Изба Интеграла? А почему не сарай Дифференциала? Ответьте на этот вопрос!
— саверн — не имеет значения, и непонятно, откуда оно взялось.
А топонимисты доискались все-таки до его начала. Давным-давно, примерно в начале нашей эры, когда тогдашнюю Галлию и часть германских земель завоевали римляне, они проложили повсюду свои отличные дороги — единственные дороги в варварских, дикарских землях. В том месте, где стоит сейчас горный городок Цаберн, был либо перекресток таких дорог, либо какой-то остановочный пункт. Три римских трактирщика (они всюду таскались за медношлемными легионами Рима) открыли в этой дичи и глуши три придорожных постоялых двора, три кабачка, три таверны, или, по-древнеримски, трс табéрнас.
Узнаёте в этом табернас первоначальную форму нынешнего эльзасского Цаберн’а? Подумайте, какие сложные процессы должны были произойти, чтобы одно название превратилось в другое. Подумайте, какой глубокий интерес представляет сохранение древнего имени на протяжении стольких веков, пусть хоть в трудно узнаваемом виде: ведь через него, как через окошко, можно заглянуть в жизнь, протекавшую почти два, а то и два с лишком тысячелетия назад! Подумайте, легко ли было топонимистам раскрыть историю этого имени; какое блестящее знание прошлого, какое виртуозное владение древними и новыми языками понадобилось для этого... Подумайте и низко склоните голову перед топонимикой...
Может быть, вы думаете, такие задачи встречаются не так уж часто? Они возникают на каждом шагу.
Несколько лет назад я, перечитывая одну из книг великолепного писателя-географа В. К. Арсеньева «В Уссурийской тайге», наткнулся на сообщение, которого не замечал раньше. Оказывается, в бассейне реки Уссури, за десятки километров от ближней железной дороги, Арсеньев в начале нашего века обнаружил маленькое селение, скорее стойбище, Паровози [23]1.
Путешественник выражает полное недоумение по этому поводу. Никакие «паровозы» в те времена не {52} только не ходили в этих местах, но, безусловно, не были даже известны местным жителям. Никто из них не ездил на поездах, во сне не видел их. Но имя-то «Паровози» — налицо? Оно требует объяснения! А подите найдите его...
Великолепная, Великолепная, но и мучительная наука топонимика!
Милая речка Печалька и подозрительный Кия-Шалтырь
Нет, в самом деле, неужели вам не нравится это название: Печалька? Когда я впервые услышал его, мне сразу полезли в голову сказочные образы... Глухая глушь; над тихой речной заводью сидит, охватив колени руками, грустная девочка, бедная Аленушка... «Братец Иванушка, где ты? Речка Печалька, расскажи, где он?» Бывают же на свете красивые имена мест! [24]2
Однако топонимика рассуждает так: красота — прекрасное дело, но истина дороже всякой красоты! Сейчас вы узнаете, как воды речки Печальки унесли с собой мои сентиментальные восторги... Зато они одарили меня другим наслаждением.
Но начинать придется не с Печальки, а с Кия-Шалтыря.
«Понимаете, есть такой Кия-Шалтырь... Далеко ушел он от областного центра, от районных городов, от сел и деревень Кемеровской области, подобрался к Красноярскому краю...»
Так неожиданно начинался в «Литературной газете» за 13 октября 1963 года подписанный журналисткой М. Белкиной живой и интересный очерк, посвященный одной из сибирских новостроек. Очень весело, очень красочно М. Белкина рассказывает о двух своих, за три последних года, визитах в этот самый Кия-Шалтырь.
В 1960 году она с большим трудом туда добралась: никаких дорог не было.
«И врезались мне в память избушки. Тайга. Гора. Дождь. И еще — грязь. Грязь там особая, кия-шалтырская. Зазевался, и — нет сапог: стянет «глина четвертичного отложения, категория крепости — два-три», как пояснили мне топографы». {53}
В 1963 году М. Белкина прикатила в Кия-Шалтырь уже автобусом, по великолепному — «само под колеса стелется» — шоссе. Еще сквозь автобусные стекла на месте избушонок-развальцóв она увидела бетонный большой мост через реку, за рекой — город с двухэтажными домами, с гостиницей и парикмахерской...
« — Что, не признаете, как тут было?
Тайга была...
Спрыгнула с автобуса и увязла в грязи. Глина, «четвертичного отложения, категория крепости два-три»...
— Узнаю Кия-Шалтырь.
— Это — Белогорск!
— Белогорск?
— Комиссия из Кемеровской области приезжала, постановила: переименовать. Потому как неизвестно, что Кия-Шалтырь обозначает. Можно ли доверять географическому названию?»
А в самом деле — можно ли? Я говорю о таких случаях, как этот, когда название выглядит вовсе непонятно, и неизвестно, ни откуда оно взялось, ни что может значить.
Пусть корреспондентка «Литературной газеты» М. Белкина ведет за собой читателей по новенькому, только что вылупившемуся на свет, как из яйца, городку, получившему сразу два спорящих друг с другом имени,— мы задержимся над этим интригующим вопросом: доверять или нет?
Имя нового городка непонятно. Для кого? Для тех людей, которые в наши дни работают в этих местах, управляют строительством, возглавляют администрацию в области и в соседнем Красноярском крае. Для русских людей.
Оно непонятно им по двум причинам: во-первых, появилось оно очень давно, и, во-вторых, дано оно было месту как раз не русскими и не на русском языке. Кем же, и на каком? Не думайте, что установить это так уж просто!
Когда русский человек впервые появился здесь — а это было во времена Ермака Тимофеевича, может быть, чуть позже, — он застал тут древнее население края, немногочисленное, но издавна считавшее эти места своей родиной, знавшее их как свои пять пальцев и давно успевшее окрестить по-своему каждую падь в го-{54}рах, каждый порог на реках, каждый обрыв и крутояр над их течением. На своем языке или — на своих языках?
Дело в том, что до прихода русских история этих мест была не простой и не однообразной. Тут жили рядом друг с другом, соперничали, теснили одни других многие племена разного происхождения: и тюркские — чулымцы, хакасцы, шорцы, — и селькупские, близкие к ненцам, к северным финским народам. Приходил один народ, крестил горы и реки по-своему. Вытеснял его другой — перекрещивал их на свой лад, иногда просто заменяя имя другим, иной раз переделывая его на новый манер, а порою оставляя старое название: «Кто его знает, в честь какого бога или духа назвали место наши предшественники? Может быть, их бог был очень сильным и обидчивым? Дадим его жилью другое имя, а он рассердится и покарает нас... Пусть уж все остается как было...»
Затем появились русские и стали поступать примерно так же. И в результате образовалось великое множество проживших долгий век имен, когда-то, на каком-то языке имевших очень точное (и, вероятно, совсем простое, даже проще, чем по правилам «Таинственного острова» приданное) значение, но затем, при переходах от народа к народу, при сложных скрещениях и изменениях, превратившихся в малопонятные, хотя и звучные, чистые названия.
То, что некогда было значимым словом, именем нарицательным, а нередко и сочетанием слов, превратилось в имя собственное, не имеющее никакого определенного смысла. По крайней мере, значение это, глубоко спрятанное внутри имени, недоступно никому из людей, сегодня его произносящих... Но ведь оно же было известно когда-то? Оно таится там, в глубине этого пустого скопления звуков. И что, если в какой-то момент оно вырвется оттуда, воскреснет?
Все знают: имена бывают очень различными и по своему смыслу, и по той эмоциональной окраске, которую люди в них вкладывают. Нередко они строятся, чтобы передать преклонение, восторг человека перед удивительным, поразившим его воображение произведением природы: озеро Красавица, гора Высокая, ключ Малиновая вода, речка Серебрянка, деревня Красный Холм, река Красивая Меча... Красиво! Но ведь встречаются {55} на карте и мира и нашей страны названия совсем другого сорта и смысла. Помните у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо» деревни Горелово, Неелово, Разутово, Знобишино, Дырявино, Заплатово, Неурожайка? Хороши имена?
Не следует думать, что это вымысел поэта, что имена придуманы «для агитации»... В газете «Правда» (4 августа 1964 года) сообщалось об Указе Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Этим указом заменялись новыми старые названия деревень, таких, как Бесхлебичи в Пинском районе, Свиноупы (Городкский район), Неумываки (Минский), Гниляки (Глубокский)... На Полесье, по свидетельству газеты, до наших дней дожили поселки Мохоеды и Короеды, были в Белоруссии деревни Горечь и Скорбичи, Голодница и Синебрюхи. Я сомневаюсь, чтобы это название тоже имело неодобрительное значение. Вряд ли «синее брюхо» может быть признаком нищеты или голода. Не связано ли имя деревни с обычаем носить какие-либо синие жупаны или с прозвищем ее основателя: он спокойно мог передать его своему потомству. Но все может быть; так или иначе — имя, не вызывающее умиления.
Это характерно не только для старой России: подобных «плохих» имен хватало и хватает повсюду. У немцев не так давно еще существовали населенные пункты Ангст унд Нот, то есть «Страх и бедность», даже «Страх и нужда» и Гибиснют (не берусь точно перевести; нечто в духе: «Неподаваловка милостыни»). У американцев есть и Грейт Мизери Айлендс — «Острова великой нищеты», и Уорри — «Тоска». Французское местечко Крэвкёр лё Гран, расположенное неподалеку от Парижа (Арамис в «Трех Мушкетерах» застрял тут, во время путешествия трех друзей в Англию за бриллиантовой подвеской королевы), носит имя, означающее «Великая досада».
В Средней Азии у нас имеется место, с приятным названием Барса-Кельмез — «Пойдешь, так не вернешься». Была до революции на Военно-Грузинской дороге скала «Пронеси, господи!». Таких испуганных, неодобрительных, презрительных имен сколько угодно.
Кто может поручиться, что имя Кия-Шалтырь относится к первой, а не ко второй категории топонимов, что его изобретатель хотел запечатлеть в нем свои хоро-{56}шие, радостные, а не гневные, не горестные или связанные с глубоким отвращением чувства? Во всяком случае, прибывшая из Кемеровской области комиссия, по-видимому, такого ручательства дать не могла... А что, если Кия-Шалтырь на каком-нибудь, комиссии не известном, но ученым, может быть, и знакомом, местном языке означает что-либо вроде «Поселишься, жив не будешь», или: «Да будь ты проклят!», или что-либо еще почище?
Конечно, пока такое название носила бурно плещущая в таежных распадках река, беды не было никакой, Кто знал эту речку? Десятка два лесных охотников. Да именуйся она «Черная грязь» — пусть «Черная грязь»; «Прыжок росомахи» — и то не плохо...
Но все переменилось в наши дни. Недавние «чертовы кулички» становятся советской стройкой. Там, «куда Макар телят не гонял», ревут трактора и бульдозеры. Вчера имени Кия-Шалтырь не знали даже географы, Сегодня о нем написано в газетах, завтра радио расскажет о нем всему миру... И вот уж зарубежные картографы выписывают каллиграфическим почерком на новых картах слово «Kyja Chaltyr», и они вводят его во все справочники, и уже пишут о «кия-шалтырских нефелинах» [25]1, о тамошних бригадах коммунистического труда... И внезапно какой-нибудь старичок профессор открывает людям: «А слово-то это по-шорски или по-хакасски означает, скажем, «поди к черту» или «пропади ты пропадом»... Получится конфуз! Так не лучше ли поступить осторожнее: махнуть рукой на историю, оглянуться вокруг и подобрать (опять-таки в согласии с инженером Смитом) какое-нибудь самое обыкновенное, ничем не примечательное, всем понятное имя из тех, что говорят «об очертаниях, о каких-либо особенностях» места?
Тут наш вопрос, как река, разделяется на несколько протоков. С одной стороны, хорошо ли, что в нашей стране есть, как оказывается, имена, никому не понятные? Много ли их? Не следовало ли бы давным-давно их «расшифровать»?
Есть, как видно, и имена просто неизвестные или малоизвестные: вот же никто не знал до поры, до времени, что кто-то где-то зовет что-то (реку, ущелье, скалу) именно так: Кия-Шалтырь. {57}
Я сейчас не буду останавливаться на этом. Скажу лишь коротко: да, и непонятных и неизвестных имен у нас куда больше, чем известных и растолкованных. Это, разумеется, нехорошо: их приведение в известность и объяснение как раз и должны составить основную задачу нашей топонимики; ее хватит на множество специалистов и на долгие годы.
Но, с другой стороны, а не правильнее ли было бы, если бы местные администраторы, в Кемеровской области или в любом другом месте, столкнувшись с такой довольно обычной загадкой, вместо того, чтобы решать дело росчерком пера, все-таки обратились бы к специалистам, спросили бы у них: «А не ведомо ли кому-нибудь, что же все-таки может значить, какому народу принадлежит, на каком языке было создано таинственное, как заклинание, имя «Кия-Шалтырь»?
Тоже скажу коротко: конечно, так и следовало бы всегда поступать, но, к сожалению, русская топонимика еще очень далека от возможности на каждый такой запрос ответить быстро, точно и уверенно.
Наконец, как же поступили с подозрительным Кия-Шалтырем, и хорошее ли решение было найдено?
Решение было принято далеко не самое лучшее. Взглянули на карту или поговорили с местными людьми. Заметили, что неподалеку от Шалтыря есть вполне благополучная по названию гора Белая (что значит это слово — объяснять не надо), и окрестили новостройку Белогорском.
Чýдное имя! Есть уже один Белогорск в Крыму, есть другой Белогорск где-то совсем близко, в Казахстане, что ли... Есть неисповедимое число всяких других «горсков» (Зеленогорск, Светогорск, Дивногорск, Каменногорск — без конца и края, на севере, на западе, юге и востоке СССР). Такие имена надо давно уже запретить давать: скука сплошная! Но зато спокойно: никаких тайн, никакой прошлой истории, все ясно, как луна! [26]1 {58}
Прочитав статью М. Белкиной, я заинтересовался злополучным именем: а как бы все-таки узнать, откуда оно и что значит? Я написал самой журналистке, но она, естественно, сообщила, что ей это неизвестно. На месте ей объяснили, будто «алтырь» по-шорски — «золото», а что такое «ш-алтырь», никому неведомо. Я, как и в случае с Артеком, стал бить челом ленинградским туркологам. Туркологи тоже не обрадовали: «Если бы имя было Кияш-Алтырь, то Кияш в некоторых тюркских языках значит «солнце», а алтырь — склон холма... Однако на деле-то существует не кияш и не алтырь, а Кия-Шалтырь, приток реки Кии. Увы, это отпадает... А хорошо бы: «Солнечный склон», «Красная горка»... По другой версии, в других тюркских языках «кия» может значить «смелый», «храбрый», а «шалтырь» — «искусный противник, умеющий ловко ставить подножку в борьбе». Тоже неплохое имя для бурной реки, но беда, что такое значение можно встретить у киргизов, казахов, тувинцев, а никто из них тут никогда не живал... Но...
Самые же авторитетные знатоки этих языков просто качали головами и отказывались высказывать даже предположение; что ж, так, без точных оснований, гадать на бобах? Осторожность больших ученых бывает для профанов мучительной...
Во все это время я сотни раз разглядывал карты и этих, и окрестных мест, стараясь установить границу между племенами и народами, составить себе представление о других, рядом встречающихся именах... Взгляд мой бродил не только до Ки, впадающей в Чулм, не только вдоль Чулма — притока Оби, но и по соседним рекам. Вот тут-то и попалась мне на глаза впервые приятная речушка Печалька, приток Таза, реки, текущей параллельно великой Оби. {59}
Как и вы, я умилился, было. Но умиления этого хватило мне (хватило бы и вам, будь у вас перед глазами карта) буквально на считанные минуты. Почти тотчас же я перевел взгляд на другие притоки Таза и ахнул... Вот их недлинный перечень:
ПЕЧАЛЬКА, КАРАЛЬКА,
СИЛЬКА,ПЮЛЬКА,
ТАЛЬКА,ЧОСАЛЬКА (и озеро ЧОСАЛЬ),
ВАТЫЛЬКА,ВАРКА-СИЛЬ-КЫ,
ПОКОЛЬКА,ОЛЯГАЙ-КЫ.
Я думаю, при первом же взгляде на этот список вы подумаете: «А ведь русское слово «печаль» тут, пожалуй, ни при чем!» И впрямь, из десяти слов-названий только одна Печалька как будто содержит в себе русскую основу. Остальные образованы явно не от русских корней; что может значить «ватль», «карáль», «пль»? Видимо, сходство тут совершенно случайное; простое созвучие — и только. И особенно подтверждают это два факта: во-первых, наличие рядом с речкой Чосалькой озера, называемого Чосаль, и, во-вторых, присутствие таких, похожих и не похожих на остальные восемь, названий, как Варкасилькы и Олягайкы... «Кы», а не «ка»...
Наткнувшись на все это, я призадумался. Целый ряд рек имеет названия, которые в русской передаче оканчиваются на «—ка». Это — раз. Рядом есть речки, имена которых, уже не так сильно обрусевшие, не «оканчиваются на «— ка», а состоят из двух или трех слов, последним из которых является «кы». Это — два. Наконец, там же лежащие озеро и река отличаются тем, что озеро зовется просто Чосаль, а речка — Чосалька. Где-то я встречал что-то подобное...
Конечно, встречал, и неоднократно. Посмотрите на карту Дании — почти все реки ее кончаются на «о» Нерео, Суко, Оденсео, Конгео, Гудено... Странно? Нет! На других картах их имена написаны так: Гуден-о, Нере-о, Оденсе-о, а в датско-русском словаре вы узнаете: слово «о» по-датски значит «река, вода»... Забавно при этом, что, если я не ошибаюсь, в Дании есть и озеро Гуден, рядом с рекой {60} Гуден-о; совершенно как Чосаль, при Чосаль-ка... А в Швеции?
Многие шведские реки «кончаются» на слог «—эльв», то есть, иначе говоря, называются «Пите-эльв» — «река Пите» или «Луле-эльв» — «река Луле». Так не похоже ли, что и наше «—ка» в Печаль-ка есть только русская переделка слова «кы», которое на каком-то забытом теперь местном языке могло значить то же самое: «река»?
После долгих мытарств я получил наконец адрес человека, высокоученого и способного растолковать мне значение моего «Кия-Шалтыря». Им оказался профессор Андрей Петрович Дульзон в Томске. Профессор известен как наилучший знаток западно-сибирской топонимики, и я рискнул потревожить его.
Ученые — любезные и обязательные люди. Очень скоро я получил ответ, и этот ответ разрешил проблему не только самого Шалтыря, но попутно и милой речки Печальки.
«Глубокоуважаемый Лев Васильевич! — писал А. П. Дульзон. — Название Кия-Шалтырь образовано, вероятно, от названия речки Кийский Шалтырь... Вторая часть этого названия — шалтырь — тюркского происхождения... из кызыльского наречия хакасского языка и имеет значение «блеск, блестеть» (по-хакасски — «чалтыра»).
Название реки Кия, притоком которой является Шалтырь, в русский язык вошло тоже из тюркского (чулымо-тюркского) языка, где оно употреблялось в форме Кысу или чаще всего просто Кы. Русские заменили непривычный звук «ы» после «к» на «и» (а вы замечали ли, что в нашем языке «ы» после «к» не встречается?— Л. У.) и добавили окончание «я», подведя таким образом название этой реки под свой разряд имен женского рода. Но слово «кы» нельзя объяснить из тюркских языков. Скорее всего оно — селькупского (самоедского) [27]1 {61} происхождения: в селькупском [28]2 языке «кы» означает «река»... Несколько ниже и выше устья Кии встречаются и другие гидронимы (названия вод.— Л. У.) селькупского происхождения».
Радость моя, как говорится, не поддавалась описанию. Кия-Шалтырь, как выяснилось, — отличное, спокойное название. Оно значит: «Блестящая река», «Река блеска» — чего же лучше?!
Новый город отлично может унаследовать его. И тогда этим будет достигнуто сразу два результата: во-первых, он будет носить не стертое, как пятак, в десятках мест повторяющееся, стандартное имя, выдуманное по принципу наименьшего сопротивления, а имя красивое, своеобразно звучащее, свое, особенное. И, во-вторых, будет соблюдено необходимое почтение к прошлому не только русского, но и других народов нашей страны.
Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Хакассия — удивительные места, со своей особенной историей. Они овеяны былями тех — пусть малочисленных, но мужественных и гордых — сибирских народов, которые жили в этих местах, знали их, нарекали их воды и долы задолго до того, как сюда пришли русские.
Русский народ — советский русский народ — хранит в памяти предания не только своей собственной старины; ему близка и дорога история и его близких или дальних братьев, племен и народов, пути которых с некоторого времени слились с его историческим путем. У русского народа нет и быть не может стремления стирать с карты Родины имена, которые нанесены на ней этими братьями.
По-моему, следовало бы вернуть Кия-Шалтырю его сложное и красивое исконное имя, а впредь, когда встанет вопрос о переименовании любого места, прежде чем раз отрезать, семь раз примерить свои действия. С кем вместе примерить? Со знающими топонимистами.
А что же с Печалькой? Ну, с ней-то спокойно. Ее {62} никто не собирается переименовывать. И хорошо. И пусть она невозбранно течет рядом с Силькой и Талькой, возле Котыльки и Ватыльки, около Покольки и Каральки, неподалеку от более причудливых Варка-Силь-кы и Олягай-кы... Вот они бегут по тайге и по карте, как стайка веселых лесных девчонок, и шумят и журчат по-своему. Но топонимика переводит это их журчание на общепонятный язык.
Да, несомненно, в каждом из их имен завершающий его слог «ка» — это старое селькупское, самоедское или остяцкое — «кы» — река. Из селькупских языков оно перешло в тюркские, войдя в состав и тюркских имен. Когда это случилось, это «кы»уже утратило ясность смысла; теперь оно могло свободно сливаться с другими, тюркскими элементами. А затем прибывшие сюда русские, не владея ни селькупскими, ни тюркскими языками, взяли те же имена на вооружение и неминуемо постарались сделать их хоть отчасти, хоть по форме похожими на русские слова. В одних случаях они превратили чуждое им созвучие «кы» в удобное и приемлемое «ки», снабдили его русским окончанием «я». В других — сделали из него окончание женского рода существительных «—ка», и все утряслось к общему удовольствию.
Топонимист же приходит сотни лет спустя и кропотливо собирает эти переработанные имена, и очищает их от последующих языковых напластований, и вдруг обнаруживает следы пребывания того или другого племени там, где его давно нет, где уже все позабыли о его давнем или недавнем присутствии. Племя ушло, а имена, данные им, сохранились: «Несколько выше и ниже устья Кии, — пишет мне А. П. Дульзон, — встречаются еще другие гидронимы селькупского происхождения. На Нижнем Чулыме были две остяцкие (самоедские) «инородческие» волости».
Были! Теперь их нет, но о том, что они были, свидетельствуют сохранившиеся имена. Надо как можно быстрее зарегистрировать, закрепить, расшифровать и объяснить их, пока излишнее рвение малоосведомленных людей не превратило их всех в никому ничего не говорящие «Белогорски». {63}
Главное
различие
Не создалось ли у вас устрашающее впечатление: за какое географическое имя ни возьмись — каждое из них представляет собою непонятную загадку, требует мучительных усилий для своей расшифровки?
Так это или не так?
Стоит бросить даже беглый взгляд на карту РСФСР или на любой перечень существующих у нас географических имен, и вам бросится в глаза две ясно отграниченные группы их: понятные и непонятные. Или, лучше сказать, совершенно понятные и вовсе недоступные пониманию. Между этими двумя противоположностями можно указать множество имен «средних», которые, так сказать, «от ворон отстали и к павам не пристали». В самом деле: вот перед вами имя города Владивосток. Нет надобности размышлять над его происхождением, значением, формальным составом. Оно построено из двух слов, чисто русских. Слова эти — «владеть», и «восток». Значение их сочетания связано со стремлением Российской державы проложить себе прямой путь к Тихому океану; Владивосток значит: «опорный пункт страны на Дальнем Востоке», «крепость, помогающая овладеть Востоком, утвердиться на нем [29]1.
Не представляет трудностей определить и время возникновения этого имени: XIX век, время окончательного закрепления России на дальнем тихоокеанском побережье Азии. Словом, тут ясно и бесспорно все от начала до конца.
А теперь от дальних окраин обратимся к самому центру, самой сердцевине Руси. Вот верховья Волги, место древнейших русских поселений. Возле старинного Ржева впадает в Волгу небольшой приток, мало чем примечательный. Протяжение у него незначительное — около сотни километров. В справочниках о нем говорится с несколько пренебрежительной краткостью: «Берега у истоков низменны, в нижнем плесе — каменисты и возвышенны. В 20 верстах от устья есть малый порог...»
Видимо, ничего любопытного... Да, кроме названия, потому что имя этой текущей по старым тверским зем-{64}лям чисто русской речки несколько странно: Молодой Туд.
Что такое «молодой», не требует разъяснений. Но сможете ли вы хоть примерно подсказать мне, что может значить слово «Туд»? А раз вам это неизвестно, то и самое сочетание «тýда» с «молодостью» повисает в воздухе: как и откуда оно появилось на свет, нам с вами непонятно.
Этот гидроним (имя реки, озера, источника) интересует меня очень давно. Я копался во множестве источников, наводил справки, строил предположения, но тщетно: и сейчас мне неизвестно, что такое «туд» и почему он так молод.
Любопытно: на реке Туд стоит село Молодой Туд. В нем живет немало народа; его имя ежедневно поминают тысячи соседей. Все «тудичи» с детства до старости смотрят на реку Молодой Туд, купаются в ее волнах, пьют ее воду, ловят ее рыбу и представления не имеют, отчего они, река и село, называются так. На фронте я встретил почтенного майора, прирожденного «туднина»; он очень удивился, узнав, что я считаю имя его родного села странным. «А чего странного? Туд и Туд... Мало ли, как разные места называются: вон город Ржев тоже — поди разбери, что его имя значит...»
По-своему он был, если угодно, прав, этот майор. Конечно, название Туда, притока Волги, непонятно, но разве самое имя Волга много яснее, чем оно? С легкой руки А. П. Чехова фраза «Волга впадает в Каспийское море» считается образцом утверждения бесспорного до бессмысленности. А в то же время вряд ли кто-либо из моих читателей возьмется растолковать значение обоих упомянутых в ней имен.
Ленинград — очень ясно: город Ленина; Петрозаводск не вызывает недоумения: завод, построенный Петром Первым, город при этом заводе. Таких имен очень много: город Иваново, гора Магнитная, гора Благодать, город Днепропетровск... Мы отлично понимаем значение даже нерусских, иноязычных названий, когда они относятся к этому «открытому» разряду: «Порт Дарвин» — в честь великого Ч. Дарвина; «Ботани-бей» — «бухта растений, ботаническая бухта», «Сан-Франциско» — «город святого Франциска». {65}
Но рядом с каждым из этих «прозрачных» по значению названий мы в любой миг можем поставить хоть два, хоть три, хоть десять имен, смысл которых от нас скрыт и значение абсолютно неясно.
Ленинград понятно каждому, а вот что может значить слово Москва — подите растолкуйте.
Петрозаводск не вызывает сомнений, но смысл названия озера, на котором оно стоит — Онéго, вряд ли хорошо известен вам.
Города Иваново, Владимир, Ярославль — не требуют (или почти не требуют) комментариев. Но города Суздаль, Галич, Углич, Ростов, расположенные тут же поблизости, носят названия очень мало понятные.
Гора Магнитная — проще простого, гора Благодать — тоже. Но не будем уж ссылаться на имена гор Кавказа или Алтая: возле них живут иные племена; возьмем чисто русские области: Псковщину, Новгородчину... Гора Судома, горы Валдай — что это значит? Что значат названия таких исконно русских городов, как Тверь (его новое имя Калинин, кажется, понятно всякому), Псков, Порхов, Калуга, Тула, Кострома, Вологда, Пермь, Вятка, Рязань, Пенза, Тамбов? Посмотрите, какая странность: добрая половина (если не большая часть) самых старых, самых русских поселений нашей Родины носит названия, значение которых мы отказываемся опознать.
К именам этого рода никак не применишь всего того, что мы говорили, рассуждая о названиях «Таинственного острова» — ясных, понятных, организованных по нескольким очень точным правилам и от этого сáмого несколько скучных. Про наши имена никак не скажешь, что они скучны, какое там!
Как вам понравится село, именуемое Новая Ляля, а такое название встречается в Свердловской области. Что вы думаете о происхождении и значении имени Майор-Крест: вы найдете его далеко от Москвы, в Якутии. А река Мокрая Буйвола? Это не из юмористического рассказа: она течет себе, где ей положено течь, на Северном Кавказе. А другая река — Мачеха, в Поволжье, а населенные пункты: Материки (Волог. обл.), Марсята (Свердл.), Люксембурги (Гру-{66}зия)? А уже упомянутое мною Паровози? Как образовались они, кто их придумал, почему и зачем?
Может быть, Жюль Верн не учел каких-то способов называния, которыми пользуются люди? Может быть, нашим предкам было свойственно устраивать из «крестин» географических мест нечто вроде веселой «игры в чепуху»? Нашли новое озеро, основали поселок — и давай наперебой выдумывать для них название посмешней, в беспорядке сочетая звуки и слова своего языка, пересыпая их, как стеклышки в калейдоскопе, на все лады. Вот город. Назовем его, скажем, так: Мокторса? Нет, не интересно? А так: Атсорком? Тоже что-то не получается. Ну, а если Кострома? Отлично! И оставили имя Кострома...
Сейчас так не бывает, но, может быть, раньше было? Откуда же иначе могла запорошить просторы нашей Родины позёмка ничего не означающих слов, имен без тени значения? Бузулук — это ведь прямо курам на смех! Бугульмá... Крайне странно! А Кóтлас, а Вчегда, а Пяв-озеро, а город Балаклáва...
Погодите! Как вы сказали? Балаклава? Это сущая абракадабра! А ну-ка —
Абракадабру
под рентген!
Пересмотрите весь словарь русского языка: слов, похожих на «балаклáва», вы в нем, пожалуй, не найдете... Вот разве только «балк» — копченая рыбья спинка. А откуда оно у нас?
Специалисты-этимологи мгновенно укажут вам: этот простой «балк» мы взяли из тюркских языков. По-турецки «балк» — «рыба». У турок много слов этого же корня, родственных «балыку». Есть среди них и такое: «балыклавá», означает оно «рыбный садок», «пруд, где содержится живая рыба».
Где находится наш город Балаклава? В Крыму. Но ведь Крымом, как мы помним, долго владели татары, говорившие на языке, почти не отличающемся от турецкого.
Слово «балыклавá» было им совершенно понятно.
Вы не были в Балаклáве? Чудесный приморский городок этот лежит на берегах удивительной бухты — глубокой, отлично закрытой со стороны моря, моря очень обильного рыбой. {67}
Искони веков Балаклáва была родиной и пристанищем смелых крымских рыбаков. Есть у известного писателя А. И. Куприна прелестная повесть-очерк «Листригоны»; если не читали, советую прочесть. Повесть эта — гимн тихой, теплой, пропахшей морем и рыбьей чешуей Балаклаве и ее мужественным обитателям-рыбакам, смелым охотникам за белугою, опытным ловцам макрели, камбалы, лобана, кефали — всевозможных черноморских рыб...
Вот как описывает Куприн осеннюю Балаклаву девятисотых годов:
«...И на другой день еще приходят баркасы с моря. Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой. Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.
В воздухе много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива...»
Не город, а сущий «рыбный садок», «рыбное гнездо». Если бы ему давали имя русские, они могли бы назвать его Рыбинск или Рыбница. Но, будь вы турком, жителем этих мест, вероятно, вам показалось бы наиболее подходящим точное и приманчивое название Балыклавá. Подумайте: оно построено в полном согласии с правилами «Таинственного острова»: «Уткино болото» — где много уток; «Рыбный садок» — где уйма отличной рыбы. Старые хозяева Крыма так и поступили, не спрашивая наших с вами советов, а рус-{68} ские, унаследо-
По-
турецки «балыклавá»
означает
«рыбный
садóк».
вавшие от них Крым, оставили городу старое имя его, только слегка переделав его на свой лад. Из «Балыклавá» получилось звучное, но не имеющее прямого значения в русском языке название «Балаклáва».
Тот, кто хорошо знает Украину, скажет: «Есть еще очень похожие географические имена на нашем юге. В Харьковской области, на речке Балаклéйке, стоит небольшой городок Балаклéя... Рыба? Что-то не слышно, чтобы эта степная речка и городишко на ней славились своими рыбными богатствами! Тогда откуда же у них такие названия?
В наши дни Харьковщина — сердце Украины: никаких тюркских племен здесь и в помине нет. Но несколько веков назад украинские степи были еще диким полем, ничьей землей, власть над которой в разное время оспаривали и Киев, и Москва, и татарский Бахчисарай. В те времена степи были полны пернатой дичи, по бесконечным равнинам носились табуны диких коней — тарпанов, антилоп-сайгаков... В глубоких реках омуты кишели великолепной рыбой. И раз до наших дней дошло название Балаклéя и Балаклéйка, можно утверждать, что именно здесь этой рыбы было особенно много. Ведь по-турецки и по-крымско-татарски «рыбный», «изобилующий рыбой» — «балклы». Наверное, так — «Балыклы-чай», «рыбная река», — была названа и нынешняя Балаклейка, а затем по ней получил свое имя и поселок.
Если даже сейчас в этом скромном притоке Донца не сохранилось особенного рыбьего богатства, топонимика позволяет утверждать, что оно некогда было тут налицо. Топонимика не только объясняет нам происхождение названия, она дает возможность сквозь название взглянуть и на далекое прошлое того места, которое это название носит. И очень часто она может оказаться единственной свидетельницей тому, что было когда-то, что давно исчезло и от чего не сохранилось никаких следов нигде, кроме как в имени географическом.
Не могу удержаться, приведу еще один, тоже крымский, пример.
Никто уже теперь не помнит и не может утверждать, жили ли когда-нибудь в крымских степях дикие лошади. Ни наши деды, ни деды наших дедов их там не видели. {70}
Но было до недавнего времени в Крыму (не на побережье, а на сухой внутренней его равнине, куда редко забредает современный горожанин-турист) маленькое древнее селение с татарским именем Тарпанч.
Что значит это слово по-татарски? Тарпанчи — это «ловец тарпанов», «охотник на диких коней». А не может ли быть так, что когда-то на месте, так названном, жил, может быть, три или четыре столетия назад, смелый наездник, опытный ловчий, сделавший своей профессией небезопасное, но прекрасное занятие — погоню за быстрыми как ветер дикими табунами, отлов самых лучших кобылиц и жеребчиков и, вероятно, продажу их на шумливых конских рынках Востока... Достаточно того, что на карте Крыма совсем недавно было еще можно прочесть имя Тарпанч, чтобы сказать: тарпаны в Крыму водились. И поэтому-то очень грустно бывает всегда, когда старые полновесные названия стираются с карт, заменяясь новыми, случайными. Так же горестно, как если срубается древний, видевший столетия корявый дуб, и на его место сажают молодой кудрявый, никому ничего не говорящий тополь, точно такой, как на всех городских бульварах [29].
Можно упразднить татарское имя Тарпанчи, назвав это место как-нибудь по-русски: «Солнечное», «Степное», «Пролетарское» — одним из тех имен, которые одинаково пригодны и на побережье Финского залива, и возле Иркутска, и под Волгоградом. Но ведь они пригодны всюду именно одинаково, а то, старое, низким глухим голосом прошлого говорило именно свое и в своем месте, было нужно и уместно здесь и только здесь...
Следует ввести закон, позволяющий переименовывать города, озера, горы, даже деревни и улицы только в случае особой необходимости, только по разрешению самых высших учреждений страны, только после совещания с учеными специалистами. Потому что упразднить старое имя — это то же, что сжечь старинную книгу, то же, что на древнем потемневшем холсте написать веселенькими красками новую картинку — еще одну копию шишкинских «медведей» или «Девятого вала» Айвазовского. Это — варварство! {71}
Русские люди, расселяясь по пространству страны, которую они теперь с полным правом считают своей Родиной, двигались не по безлюдной пустыне; как и все народы той поры, они шаг за шагом осваивали земли, уже давно ставшие обитаемыми.
В степях нашего Юга задолго до славян кочевали хорошо знакомые историкам скифские племена, родичи нынешних осетин Кавказа, говорившие на языках, родственных древнеперсидскому. Жили тут и другие древние народы.
На севере страны наши предки столкнулись с западными и восточными ветвями финского племени. Еще за много веков до их прихода здесь, говоря словами Александра Блока, «чудь начудила да меря намерила...» Тут жили лесные народы, потомками которых в наше время являются эстонцы и карелы, коми-зыряне и удмурты, манси и ханты Северного Урала и Приуралья. Они жили, значит, все время изучали, исследовали свою суровую страну. Они знали ее, как собственный дом. Они каждому широкому потоку, стремящемуся к дальним морям, каждому похожему на голубой глаз северному озеру, каждой горе и каждой долине успели уже дать имена на своих языках.
Новые властелины далеко не всегда отвергали эти прежние имена и заменяли их своими. Очень часто они оставляли их, только приспособляя к своей речи, переделывая либо их звуки на свой лад, либо переосмысливая их значение. Поэтому великое множество таких имен стало русскими именами — как стали ими Балаклава и Балаклея на юге, Нева на крайнем западе, Кия или Печалька далеко на востоке Русской земли. Задача русского топонимиста, очевидно, и заключается в значительной степени в том, чтобы, зная историю русского народа, выяснить, от кого из своих предшественников позаимствовал он то или другое имя, как обошелся с ним, как перестроил его и почему оно получило такой, а не другой облик.
Казалось бы, сравнительно простая задача: надо только очень хорошо помнить прошлое нашей Родины и ее отдельных частей да знать языки тех племен и народов, с которыми мы встречались на ее просторах века и века назад. {72}
Однако мы с вами уже видели, что на практике все это оказывается далеко не таким уж легким занятием. Слишком много всевозможных обстоятельств запутывает обычно дело, когда человек задумывает назвать то или другое место. Слишком сложными оказываются приключения, которые раз созданное имя испытывает затем на протяжении веков. В результате на решение многих топонимических загадок требуется затратить очень большие усилия, и далеко не все они оказываются разрешенными к нашему времени.
Вот, кстати, и тот Молодой Туд, с которого мы начали эту главку. Я скажу честно: представления не имею, что это имя значит и как оно образовалось. Говорят, в восточно-финских языках есть слово «тод», и значит оно «болото». От этого слова — так думают некоторые — произошло название реки и городка Тотьма («болотная земля»). Может быть, и Туд — производное от этого слова?
Не думаю, чтобы это было возможно: история не знает восточно-финских племен в пределах нынешней Калининской области, да еще на ее юге, а в языке западных финнов не было такого слова. Но ведь здесь же, на Молодом Туде, можно было видеть в древности людей совсем другой племенной принадлежности; около села с этим названием еще недавно были заметны остатки старой литовской крепости... Может быть, розыски надо производить не в финских, а в балтийских языках? Может быть, имя создали предки теперешних литовцев и латышей: в древности родственные им племена занимали куда более далеко к востоку лежащие области и рубежи, чем теперь...
Да, топонимические орешки крепки, и разгрызать их скорлупу не так-то просто. Но зато случается, что скорлупа эта и впрямь оказывается золотой, а ядра «чистым изумрудом», и расколотый орех открывает перед нами такие глуби прошлого, оказывает такую помощь и историкам, и археологам, и этнографам, и языковедам, что ясно видишь: труд потрачен не понапрасну. {73}
ПО ВОЛГЕ ДО ТЫСЯЧИ НОВГОРОДОВ
Не назвать ли нам кошку — «кошка»?
С. Я. Маршак
Полсотни Аа
Слыхали вы такое название реки: Аа? Конечно, нет: так называлась, до того, как Латвия стала самостоятельной страной, теперешняя Лелупа. Лелупа — чисто латышское имя; оно образовано из «liels» — «большой» и «упе» — «река». А откуда взялось название «Аа»?
Его занесли в Прибалтику поработители-немцы. Если бы у вас была под рукой подробная карта Северо-Западной Европы, вы бы нашли на ней уйму рек, по имени Аа.
Я не преувеличиваю: в одной Голландии по справочникам числится 44 Аа, а сколько их течет в Западной Германии?.. Да и в Латвии Лелупа была некогда только самой большой и известной, но далеко не единственной Аа...
Что за странное пристрастие к имени и не слишком уж красивому, и несколько странному, а?
Переведем взгляд с северо-запада Европы на ее юго-восток. Вот по степям неспешно катит воды к Азовскому морю Дон. Это имя звучно, как удар колокола:
Как прославленного брата
Знают реки тихий Дон...
В Дон впадает его младший брат — Донец. Все понятно: по-русски Дон-ец значит «малый Дон». Но, спрашивается: почему на Северном Кавказе, в Осетии, {74} бурлит и прыгает по горным кругам целая семья других Донов: Арре-дон, Гизель-дон... Их там — десятки. Даже в далекой Шотландии есть река Дон:
На далекой Амазонке
Не бывал я никогда...
Только Дон и Магдалина
Превосходные суда...
Редьярд Киплинг вспомнил тут не наш Дон, а свой, шотландский.
Опять: рек много, имя — одно. Как это объясняется?
Займись вы подробным изучением имен западных рек, вы наткнулись бы рядом с множеством Аа на другие, почти такие же названия. Там, где говорят на германских языках, текут многочисленные «Aha»; это звучит почти как Аа. Есть там речки и ручьи по имени «Ах»: не очень похоже на «Аа», но весьма на «Aha». Встречаются и «Ахе»: тоже не большая разница. Наконец, в странах языков романских легко найти кучу названий рек и источников (особенно минеральных, целебных), составной частью которых является так или иначе переработанное древнеримское слово «аква» — вода: Аквисгранум, Аквилея, Экс и даже французское Э (есть и такое имя!). Лингвисты давно выяснили: древнегерманское «aha» и все сходные с ним слова, входящие в названия рек — близкие родичи этому старому «аква» [31]1.
Вернемся к нашим «Дóнам». Картина похожая: рядом с «чистыми Донами» вы, поразмыслив, заметите длинный ряд рек, в названиях которых тот же «дон» присутствует как бы в замаскированном виде.
Самая большая река Западной Европы зовется Дунай. Так по-русски: немцы зовут ее Донау: вот вам и знакомый Дон. Тот самый Днепр, до середины которого, по словам Н. В. Гоголя, редкая птица долетит, в глубокой древности звался Данапром, а его сосед Днестр — Данастром. Опять-таки близко к «Дон». В языке же осетин слово «дон» является именем нарицательным; оно просто значит «вода», «река». Именно поэтому на Кавказе так же много «донов», как {75} в Дании разных «о»: Ар-дон или Арре-дон значит, например, «Бешеная река» или «вода»...
Язык современных нам осетин состоит в родстве с языком древнего племени скифов, а скифы две тысячи лет назад жили там, где теперь простираются неоглядные южнорусские и украинские степи...
Ну как, проясняется картина? Далекие предки современных народов имели, оказывается, обыкновение рекам, которые текли у их ног, давать названия, означавшие — у каждого племени по-своему — одно понятие: «вода». Очень понятно, почему так получилось.
Вода и в наши дни важнейшее условие жизни; прежде всего — пресная вода. Это напиток, без которого не проживешь. Это — место обитания рыбы, вкусной и легкой добычи. Как только первый человек построил первый плот, выжег первый челн, вода стала лучшей дорогой и в лесах Севера, и в степях Юга...
Человек стал скотоводом: животные не могут жить без воды. Он начал возделывать хлебные злаки: какое же земледелие, если воды нет? Наконец, люди давно сообразили: река или озеро — лучшая крепость, самая непреодолимая ограда. Поселись на мысу за речной излучиной, оборонять надо только место, где мыс соединяется с материком. Построй деревню на сваях над гладью озера, над топью болота и живи в ней спокойнее, чем на суше... В древнем мире вода была великим другом человека, благосклонным к нему, хотя и грозным божеством...
Расселяясь по свету, тогдашние люди, вероятно, искали «хорошую воду» куда ревностней, чем «хорошие земли».
Вот небольшая кучка их — косматые богатыри-мужчины, крепкие мускулистые и длинноволосые женщины, полуголые жилистые ребята — и несколько собак из последних сил пробираются сквозь дремучий лес (а может быть — через выжженную солнцем полупустыню).
Пища — что: пищу можно захватить с собой, добыть по дороге... А много ли унесешь в дальний путь воды? Пересохли рты, покраснели глаза, головы тяжелеют от невыносимой жажды... То с подозрением, то с надеждой все глядят на вождя — старого главу рода: это он обещал привести своих детей в Страну Больших Вод... {76}
И вдруг — чудо совершается. Раздув чуткие ноздри, дождь вдыхает влажный воздух. Собаки кинулись вперед, в заросли... Старик раздвинул ветви и с торжеством возгласил: «Аа!»
Перед людьми открылась широкая река, неторопливо текущая по влажно-зеленой равнине. «Аа! — говорит вождь. — Видите: Аа!» И все, пораженные видéнием, охваченные радостью, повторяют за ним: «Да, ты сказал! Мы видим: Аа!», а может быть: «Мы видим: Дон!», смотря по тому, как звучало слово «вода» на языке этого племени...
Разве удивительно, что имя нарицательное «вода» могло превратиться затем в имя собственное: «Эта вода», «Наша вода», «Вода всех вод» — Аа или Дон; другие реки были не важны для этих людей; они могли и не знать их.
Удивительно иное. Столетия текут над миром, как воды его рек. Нет не только старца, крикнувшего свое «Аа!» тысячелетия назад; нет праправнука его прапра-правнуков. По тому месту пролегает асфальтированное шоссе, и по нему бегут такие стальные звери, что те люди, смотревшие в глаза разъяренных мамонтов, пали бы лицом в землю при виде самого малого из них. Тысячи раз вырублен лес в тех местах. Тысячи раз вырастал он снова. Поднимались города и разрушались города на берегу той реки. Их нет, и имена их забыты. А вот река, и сегодня текущая по этому месту, называется тем же своим именем: Аа.
Вот это — удивительно!
В Англии есть городок Стратфорд [32]1, прославленный тем, что в нем родился Вильям Шекспир. Он стоит на реке, имя которой англичане выговаривают Эйвон, а пишут Авон. Ученые свидетельствуют: в этом «Авон» спрятано дошедшее до нас из самой глубокой древности слово «аб»: когда-то и оно означало «воду», «реку»; в Азии много имен рек связаны с ним и его двойником «об»: Мург-аб, Сурх-об, Аби-Гурмак, Пенджаб (Пятиречье). Как видите, то же по смыслу слово-имя можно встретить и на другом конце нашего континента. {77}
Имена-мамонты
Имена рек — старейшины в мире географических названий; я имею при этом в виду имена больших, самых прославленных рек Земли.
Древние люди, гонимые голодом, холодом, свирепостью зверей и двуногих соседей, все время перебирались с места на место, все время как бы расталкивали локтями своих современников в борьбе за самые удобные для жизни места.
Бывало по-разному. То племя натекало на племя, как шумная река, ворвавшаяся в малое озерко: воды озера сливались с могучим потоком, растворялись в нем без следа. То пришельцы растекались по новому месту, как по болоту или песчаной пустыне, теряясь в ее песках, смешиваясь со старым населением. Но почти всегда они, принося с собой свои новые имена для холмов и лесов, для поселков и пустошей, названия больших потоков сохраняли благоговейно, принимая их от своих предшественников.
Мы не знаем в точности, почему они так поступали. Может быть, боялись обидеть богов этих чужих рек переименованием. Может быть, просто реку труднее перекрестить по-новому: ее имя так же длинно, как она сама; оно течет вместе с нею через области и страны; поди замени его на всем протяжении его пути! Так или иначе — великие водные дороги всюду и везде постоянно носят и сегодня имена, созданные в глубочайшей древности. Они переходят от народа к народу, от эпохи к эпохе. Первоначальный их смысл забывается тысячекратно, а они все живут.
Не всегда имя реки значит «вода». Очень часто его следует перевести как «река». «Назовем кошку — Кошкой!» — странное обыкновение, тем не менее мы его наблюдаем очень часто.
Вот, к примеру, священный Ганг — если не самая большая, то, конечно, самая прославленная река Индии. Ее овеянное легендами имя Гунга (Ганг — чужеземное произношение) так и значит: Река.
Вот, ближе к нам, воспетый целым хором западных поэтов германский Рейн. Не думайте, что это имя связано с немецким прилагательным «rein» — «чистый». Это древнее, еще догерманское, вероятно, кельтское слово: у кельтов оно звучало: «Ринос» — «река». {78}
А в более понятных нам славянских языках тоже встречаются такие названия? О да! На севере Адриатического моря впадает в него небольшая речка. На картах, составленных до второй мировой войны, вы могли бы прочесть ее итальянское название: река Фиумара; это слово означает «горная река». Теперь, когда земли эти, долго переходившие из рук в руки, вернулись к их исконным хозяевам — славянам, югославам, вы увидите на картах другое имя: река Речина. Но ведь «речина» как раз и значит «река»... Поистине опять: «Назовем кошку — Кошка!»
Эта странность как раз и говорит о великой древности таких названий. Они создавались во времена, когда люди мало и редко путешествовали, видели и знали лишь неширокое пространство вокруг себя. Его главная река оставалась для них рекой всех рек, единственной важной рекой мира: зачем же ей другое имя: Река, и достаточно!
Да что там глубокая древность! В дни гражданской войны я попал в глухой угол страны, в пинское Полесье. Полещуки, особенно женщины, потрясли меня: они всерьез спрашивали нас, солдат: «Товарищ, а товарищ? А неужто и за Гомелем люди ё?» Конечно для них их Князь-озеро было просто озером, река Припять — просто Рекой. Других-то они и не знали...
Подумайте, как часто старожилы, особенно в маленьких городках, живя на окраине, говорят, собираясь отправиться в центр своей Чухломы или Вытегры: «Давай съездим в город...» Древние римляне постоянно именовали свою столицу не Рома, как полагалось бы, а именно Урбс, то есть тоже Город: она была в их глазах самым главным, единственным городом Земли, несравнимым с другими. Не называете же вы вашего отца Петром Никитичем, а зовете просто «отцом». Этого для вас вполне достаточно.
Величайшие горы мира тоже нередко носят доныне имена, родившиеся в туманной древности и означающие только «гора», «горный хребет». Пеннины в Англии, Апеннины в Италии получили свои названия от кельтов: слово «пен» у кельтов означало «голова, вершина, гора». {79}
Карпаты, по мнению некоторых ученых, — слово того же корня, что и «хребет», и значило когда-то «горная цепь, горы» (есть, правда, и другие объяснения).
Слово «Альпы» связано с кельтским «alb» — «гора, высота». Имя Балканы восходит к тюркскому «balak», которое тоже значит «гора». Даже имя Арарата — живущие у его подножия армяне именуют его совсем другим словом — Масис — связывают с древними корнями этого же самого значения; хотя — в топонимике это постоянное явление — далеко не все ученые согласны с этим.
Вдоль самой длинной горной цепи мира, по всему Американскому континенту, змеится надпись: Кордильеры. Иногда ее же зовут: Анды. Истинное имя ее сложно: Кордельерас Де Лос Андас, то есть «Хребет медный». Совершенно ясно, что определение «медный» приросло к названию позднее, когда свирепые покорители Южной Америки успели уже ознакомиться с ископаемыми богатствами гор, сначала названных попросту «горами», «горной цепью» — Кордильерами.
Можно все это повторить и в применении к великим пустыням мира.
Сахара — слово арабское; оно означает «пустыня». Мы говорим: «Пустыня Гóби»; наши поэты тоже называют так этот гигантский лишай на теле планеты, но монголы произносят слово «гоби», считая его именем нарицательным, равносильно нашему «пустыня». Они говорят о «каменной гоби», о «песчаной гоби», «заилийской гоби». Сочетание слов «пустыня Гоби» значит «пустыня пустыня», только на двух разных языках...
Индейцы Америки называют свою пустыню Аризона — «место, где нет ручьев». Калахари Южной Африки в переводе — «место жажды»: вероятно, если бы каждый народ всегда жил на одном месте, никому его не уступая и не захватывая чужого, все имена походили бы на эти — были бы понятными, ясными, точно описывали бы самый предмет названия. Но такого не бывает или бывает очень редко. Нам приходится иметь дело с землями, над которыми множество племен пронеслись, словно тучи. Дождь географических имен изливала каждая из этих туч, и теперь почти во всех странах мира мы сталкиваемся с их самым причудливым сме-{80}шением. Может быть, только в пустынной Монголии или в холодной Исландии народы, живущие там сегодня, не знают и не помнят предшественников. Большинство тамошних имен мест понятны каждому жителю этих стран и чаще всего точно описывают на древнем языке ту или другую гору, озеро, перевал, речку. Но так бывает очень редко.
Я хотел поставить на этом точку, но сообразил вот что.
Большие реки носят имена, веющие глубокой древностью. А как же тогда мы видим в Африке, Америке, Австралии такие чисто европейские названия, как Амазонка, река Оранжевая [33]1. Рио-де-Ла-Плата (буквально: «река Серебра») или река Святого Лаврентия? Ведь они построены не из индейских или негритянских— из испанских, английских, греческих слов.
Да, конечно: люди почтительно относились к чужим именам в древнем, примитивном мире, где завоеватели и побежденные не слишком отличались друг от друга по своему развитию, по своей культуре... Разница в этом смысле между римлянами и галлами или между греками и скифами была не такой разительной, как между англичанином конца XIX века и зулусом или готтентотом. Для грека скиф был варваром, но таким же человеком, как он сам. А вот христианская европейская цивилизация принесла с собой отношение к «дикарям», как к полуживотным, невежественное презрение к обитателям далеких стран и ко всему, что те создали до встречи с пришельцами...
Исполнен грубого высокомерия самый термин «открытие новых земель». Белый человек стал считать как бы не существовавшими до его прихода страны, в которых обитали и которые великолепно знали люди других рас и племен. Он «открывал» страну Бенна в Африке, {81} где долгие века жили люди, создавшие свою, чуждую белым европейцам культуру. Он «открывал» давным-давно известные другим народам острова Тихого океана. И вел себя там так, точно пришел на пустое место, точно ни одна горная вершина, ни одна река там до него не была никем найдена и никем названа. Он считал себя вправе назвать их по-своему, не желая даже узнавать их исконные «нелепые», дикарские имена.
И все же это не всегда удавалось. Да, реку Оранжевую окрестили по-своему европейцы. Но имена Замбези, Луалабы даже они оставили нетронутыми.
Реки Святого Лаврентия или Святого Франциска были переименованы в честь сомнительных святых бледнолицых людей, о которых ровно ничего не знали истинные хозяева этих мест — индейцы. Однако имена Миссисипи, Миссури, Ориноко сохранились в неприкосновенности. По-прежнему Миссисипи значит «великая вода» по-индейски, и если Кордильеры — слово испанское, то Попокатепетль — «тот, кто курит», звучит, как и века назад, на том же языке, на котором «шоколад» — «чоколатль» и «томат» — «то-матль». Имя великого вулкана непонятно «белому господину», но он покорно повторяет его.
Впрочем, в топонимике больше, чем где-либо, нет правила без исключения. И в древности имя реки или горы не всегда сохранялось, когда менялись хозяева их. Привести этому примеры нетрудно.
Семь
кумушек над
колыбелью
одного
дитяти
В песне поется:
Волга, Волга, мать родная,
Волга — русская река...
А можете ли вы, русский человек, сразу сказать мне: что значит это имя: Волга?
Если вы живете на реке Великой, на Псковщине, вы отлично понимаете: Великая — значит «очень большая»; другое дело, что человек, давший реке такое имя, несколько преувеличил ее значение и размер. Он просто не видел ни Днепра, ни Дона; а рядом с ближними Соротью, Псковой, Плюссой Великая и впрямь велика.
А спроси вы у волгаря — что значит слово «Волга», он, всего вероятнее, пожмет плечами: «Волга — Волга и есть. Река!» Не странно ли это? {82}
Ученые-топонимисты не так уж далеко ушли от такого положения. Существовало множество объяснений имени Волга, но и сейчас еще нельзя сказать: вот так, и никаких споров.
Были попытки понимать слово Волга, как «священная», «чудотворная» — близкое к русскому «волхв» — «кудесник». Помните: «Волхвы не боятся могучих владык» в «Песни о Вещем Олеге»? Сравнивали его с именем самого таинственного изо всех наших былинных богатырей, полувоина, полуволшебника Вольги Всеславьевича...
Сомнительно, чтобы это было верно. Былинный Вольгá — это ведь поэтическое воспоминание об историческом лице Олеге, родиче Рюрика и Игоря. Он запомнился народу как человек мудрый и, может быть, даже ведун... Много лет спустя после его кончины на русском Севере, далеко и от тех мест, где Олег правил, и от тех, где он «сбирался отмстить неразумным хазарам», скандинавское имя [34]1 его было превращено русскими сказителями в «Вольгý»; в народе и поныне имя Óльга нередко произносится как Вóльга. Но все это случилось куда позднее того времени, когда могла получить свое название величайшая из русских рек. Ни к Вольгé — Олéгу, ни к «волхвам» оно, по-видимому, не имеет никакого отношения, как и более с ними сходное имя другой реки — Волхова.
Другие языковеды хотели бы установить связь между словом «волга» и финским «valkea» — «белый».
Это кажется более правдоподобным. В Финляндии много названий рек и озер связаны с этим словом: Валк-Ярви (Белое озеро), Валкеакóски (Белый порог) и тому подобное. Да и у нас можно найти косвенные подтверждения такой возможности.
Не так уж далеко от «Волгина верховья» — истоков великой реки — в какой-нибудь сотне километров к северо-западу, берет из озера Мстино на Валдае начало река Мста, текущая в Ладожское озеро. Имя Мста — финское; по-фински «мýста» — «черная». Если река, текущая с Валдайской возвышенности на северо-запад, названа финским словом «Черная», почему бы ее великой сестре, текущей оттуда же на восток и юг, не носить {83} названия «Вáлкеа» — «Волга»? Они образовывали бы тут очень красивую топонимическую пару двойняшек (см. стр. 237 и след.).
Вы уже знаете: в топонимике далеко не все самое правдоподобное оказывается истинным. Мы теперь придерживаемся совсем другой теории о происхождении имени Волги, теории чисто русской.
Слово «волга» значило первоначально «влага». Волга в представлениях наших предков — «великая влага», «вода всех вод», то есть по сути дела тоже «река». Вы не видите ничего общего между «Волгой» и «влагой»? А не случалось вам когда-нибудь из уст ваших матери или бабушки слышать жалобу: «Повесила белье просушиться, а к вечеру стало сыро, оно и отволгло»? «Отволгнуть» значит «насытиться влагой». Влага и Волга — очень близкие слова. Только «влага» — слово старославянское; по-древнерусски «влáга» звучало «вóлога».
Похоже, мы таки добрались до настоящей истины. Но тут-то она и начинается... У колыбели Волги собрались если не семь фей — крестных матерей со своими подарками-именами, то во всяком случае не меньше трех «назывателей». Они принесли ей три разных имени, и Волга — только последнее из них.
Неведомо, кто назвал нашу реку первым из этих имен, но мы его знаем. Оно звучало так: Ра. Древние греки и римляне знали это имя, но не были его авторами. Неизвестно, что и на каком языке значило оно, хотя предположений было немало. Русский языковед XIX века О. Сенковский приводит сообщение древнеримского историка Марциллина: «Недалеко от Танаиса (Дона. — Л. У.) течет река «Rha», на берегах которой — заросли лекарственного корня того же имени...» Этот корень — обычный ревень, по-латыни — «rheum», по-французски «rubarbe», то есть «rha barbarum» [35]2, — поясняет Сенковский.
Если бы это было на самом деле так, в наименовании обычного ревеня дошло бы до нас древнейшее из имен Волги, его последняя тень. Но так ли это? Скорее всего — нет.
Второе имя принадлежит уже более близким к нам {84} племенам. Те «неразумные хазары», с которыми воевал киевский Олег, звали Волгу — Итль; даже столица их царства, стоявшая на той же Волге, носила это имя. Много споров было по поводу его происхождения и значения; есть основания думать, что значило оно — нас с вами это не удивит — просто река. Хазары жили в местах, издревле населенных родственным им племенем волжских булгар. Вполне возможно, что слово «итль» значило «река» именно по-булгарски. Это тем более похоже на правду, что в языке современных волгарей — чувашей, потомков и родичей древних булгар — слово «итль» и сейчас значит «река». «Волга — Итль» — так они зовут сейчас реку, на которой протекла вся история их народа.
Вот вам живой пример отклонения от правил о неизменности названий рек: великая, величайшая из рек Европы сменила за полторы-две тысячи лет три имени.
Но этот же пример может послужить и объяснением самому себе.
Волга «узором виется» на протяжении не десятков — сотен и тысяч километров. И сегодня, плывя по ней, вы попадаете из одной климатической области, из одной национальной республики в другую, третью, четвертую... Русские и карелы, татары и чуваши, мордвины и марийцы живут и сейчас вдоль ее берегов. Болотный ручей, вытекающий из-под старого сруба у деревни Волгино Верховье, ничем не похож на могучую реку, впадающую в Каспийское море и собою напоминающую подвижное, текучее море.
Сегодня мы легко можем представить себе нашу реку во всем ее величии. Мы можем за два-три часа долететь на самолете от ее истоков до устья. Мы можем по телефону разговаривать из Валдая, около которого она начинается, с Астраханью, стоящей над концом ее течения. Мы видим ее на картах и знаем, какова она... А тогда, в глубокой древности?
Что знал хазарин, закладывавший первые камни своей столицы в дельте Итиля, о лесном ручейке, мирно журчащем за три с половиной тысячи верст от него, в чужедальной стране, в другом мире? Откуда северные люди — русичи, нарекая свою реку Волгой — Влагой, могли знать что-нибудь о далеком народе, именовавшем ее Итиль за сотни дней непреодолимо трудного пути {85} от них, там, на жарком юге? Кто знает, может быть, было время, когда все три имени Волги существовали если не одновременно, то попарно, в разных плесах ее, под разной широтой и у разных народов?
А что удивляться? Река не гора, которую, как бы велика они ни была, можно окинуть взглядом. Река не город и не озеро. Она — бесконечная лента воды, бегущей в неведомую даль, за тридевять земель, в тридесятые царства. Она — разная в разных местах. Не сразу придет в голову назвать всю эту водяную змею одним именем. Даже в языке одного народа многие реки именуются по-разному в разных своих частях.
Верхнее течение Конго носит название Луалаба. Одна из рек, образующих великий Нил, начинается с реки Кагера, ниже озера Альберта именуется по-арабски Бахр-эль-Джебель (Река Гор), а после впадения Голубого Нила — Бахр-эль-Абьяд. Да и Голубой Нил (по-арабски — Бахр-эль-Азрек) в верховьях зовется Аббай... Это можно наблюдать и на реках Советской страны. Многоводная Амý-Дарья у своего истока носит имя Вахджир, но нижнее течение Вахджира зовут Вахáн. Соединившись еще ниже с рекой Памром, Вахáн получает имя Пяндж и только после слияния Пянджа с Вáхшем превращается в Аму-Дарью...
Это, если угодно, совершенно естественно: ничего общего нет у неистовой горной речки, перекатывающей в бешеном беге гигантские камни Гиндукуша у своих истоков, с многокилометровой ширью величавой, кофейно-бурой от взвешенного в ней ила Дарьей, спокойно вливающейся среди камышовых островов в лазурную ширь Аральского озера-моря... {86}
На длинную реку одного имени не хватает.
У Аму их четыре.
Нет, разноименность рек понятна даже для одного времени, а уж на протяжении веков она представляется почти неизбежной. И тем не менее то, что я сказал, остается в силе: века и века многие великие реки земного шара сохраняют свои древние имена. А исключения остаются исключениями...
Чуден Днепр...
Ну что ж, как обещал заголовок на странице 74-й, я начал с Волги, а тот, кто сказал «Волга», должен сказать и «Днепр».
«Чуден Днепр при тихой погоде!» — воскликнул когда-то Гоголь. Но, надо сказать, «чýдным» должно признать и имя этой реки. Обычно люди довольно равнодушны к значению и происхождению окружающих их географических имен, но имя Днепра, кажется, всегда возбуждало интерес и внимание.
Известный в конце прошлого века языковед Д. Никольский вспоминает в своей статье, посвященной имени Днепра, такой случай.
Ученый стоял во время половодья на мосту через Днепр в Екатеринославе (теперь это Днепропетровск). Многие любовались вместе с ним буйным весенним бегом могучей реки. «Вот бежит-то, вот бежит! — с трепетом восхищения проговорил рядом какой-то мастеровой. — Недаром Днепр и назвали!»
— Почему же — именно Днепр? — удивился языковед.
— Да что, не видите, как он дно прет? Потому и зовут Днипро, что он дно пре...
Для таких наивных объяснений географических имен есть ученое определение: «народная» или «ложная этимология». Человек в простоте душевной слышит имя, не может понять (а хочет понять!), что оно значит, не желает примириться с его бессмысленностью, ищет мысленно похожие по звучанию слова и, подгоняя смысл, старается объяснить непонятное понятным. Один свяжет Днепр с «дно переть», другой с «да не пробуй» — кому что придет в голову. И все-таки нельзя таких людей осуждать: именно с их тщетных усилий началась наука топонимики. Да еще не так давно, лет сто-полтораста назад, и ученые мужи нередко предлагали и именам и словам вообще ничуть не более правильные объяснения. Утверждал же в XVIII веке человек очень образован-{88}ный, В. К. Тредьяковский, будто имя народа этрусков происходит из русского «хитрушки», ибо оные этруски на всякие хитрости были горазды, а слово «амазонки» возникло из нашего «омужóнки» — «омужчинившиеся, грубые женщины-воины»...
Что же говорит о Днепре наука?
У этого имени в русском языке нет никаких близких родичей; из русских корней его вывести нельзя. Это раз.
У Днепра, как и у Волги, современное имя его не было ни первым, ни единственным. Древние греки нередко упоминали знаменитую своими опасными порогами великую северную реку Борисфен: она текла по степям Скифии и впадала в Черное море — Эвксинский Понт, как они его называли, неподалеку от устья других, хорошо им знакомых рек — Данастра и Бронта; в этих названиях нетрудно угадать наши теперешние Днестр и Прут.
Плохо (а может быть — хорошо), что и греческое Борисфен такое же темное имя, как Днепр. Ни бесспорно расшифровать его, ни тем более вывести из него наше название пока что невозможно. Не удались и попытки найти корни нашего имени этой реки в тюркских языках. Кочевники-тюрки, соседи древних руссов в Поднепровье, именовали ее Узу или Озу; спустя несколько столетий генуэзцы окрестили ее по-своему: Эльси, Элекси [36]1. Ни одно из этих имен никакого отношения к слову «Днепр» явно не имеет. Что же делать?
Конечно, дать название Днепру мог только народ, обитавший у его берегов, пивший, так сказать, его воду. Имя его не славянское, не греческое, не тюркское. Может быть, оно скифское?
Скифы некогда заселяли весь степной юг Восточной Европы. И на всем этом пространстве мы — об этом уже говорилось — встречаем реки с именами, напоминающими друг друга: Дон, Дн-епр, Дн-естр, Дун-ай... Мы находим множество рек, носящих название Дон, в Осетии, у осетин, ближайших родичей давно исчезнувшего скифского народа. У осетин слово это означает и просто «река», «вода». Так не разумно ли допустить, что {89} имена наших южных рек как раз и созданы были скифами? Не означали ли они все по-скифски «река» с определением, о какой именно реке идет речь: ведь этот способ наименования дожил до наших времен: испанское Рио-Колорадо — «Река Цветная»; английское «Ред-Ривер» — «Красная река», коми-зырянская Сылва — «Талая вода», Вильва — «Новая река», Койва — «Птичья река»...
Предложено много более подробных толкований этих, так сказать, «Д-н имен» нашего Юга. Д. Никольский, о котором я только что говорил, допускал, что скифы, двигаясь по нашим степям с востока на запад, сначала наткнулись на первую безымянную реку, поразившую их своим величием. Как было свойственно древним людям, они «назвали кошку — Кошкой», дали реке имя Река, Дон.
Затем, двигаясь дальше, они вышли к другому могучему потоку. Вышли, вероятно, в том месте, где сжатая теснинами вода, клубясь и пенясь, летела по порогам между облизанных волнами скользких утесов... Белопенность стремнин поразила воображение кочевников. И эту реку они назвали, как было у них принято, Рекой, но добавили к этому слову другое, означавшее пену, брызги... Слово это — утверждает Никольский — звучало по-скифски, насколько мы знаем, как-то вроде «prh». Из сочетания «Дон+prh» и родилось имя Днепр.
Скифское слово зазвучало по-разному в разных языках.
У готского, писавшего по-латыни, историка Иордана (VI в.) — Данáпрус.
В скандинавских сагах Эдды — Данпáр. В древнейших славянских рукописях — Дьнáпр. У арабского историка Ибн-Саида (X в.) — Танáбор. На средневековой карте Мюнстера — Нéпер. У западно-европейских путешественников XVI в. — Днпер, Днпер, Данáмбер.
У восточных славян — Днђпр, Дніпро.
Как видно, имя Днепра возникло на много веков раньше, чем на его обрывистом берегу против устья Десны встала мать городов русских — стольный град Киев. {90}
Так или не совсем так, как рассказывал Д. Никольский, произошло крещение Днепра, поручиться трудно. Другие ученые раскрывают это имя, как скифское Дану-Апара, «задняя — по отношению к Днестру — река», думая, что его дали Днепру скифы, жившие западнее, уже на Балканском полуострове. Выводят его и из Данáпрас — по-скифски: «быстротекущий», «бурный»... Согласие установилось в одном: Днепр назвали Днепром, очевидно, скифы, и звукосочетание «дн» в нем, всего вероятнее, означало для них «река».
А что можно сказать про греческое Борисфен? Над ним мудрили немало. Тот же Никольский довольно остроумно доказывал, что греки просто вывернули наизнанку непонятное и непривычное им скифское имя реки. Взяв согласные звуки, входящие в оба эти названия — ДН — ПР и БР — ТН (греческое Бори-Сфен могло произноситься и как «Бористэн»), — он утверждал, что перед нами простая «перестановка — метатеза частей слова. Звуки Д и Т, Б и П часто чередуются в наших языках, а метатезы происходят постоянно, особенно при переходе слов из языка в язык. Если могло из немецкого «тэллер» получиться сначала наше «талерка», а затем — «таРЕЛка», то точно так же из Данапер могло у греков получиться сначала ПЕР+ДАН, а потом — БЕР+ТАН, БОР + ТЭН и, наконец, БОР-/ис/-ФЭН...
Остроумно, но вряд ли правильно. Современные топонимисты думают, что слово Борисфен скорее следует связывать с древнеиранским «ворустáна» — «широкое место», «ширь»... Очень возможно, что оно было также заимствовано через посредство скифов, ведь многие скифские племена были иранцами по своему языку...
Осталось сказать что-либо про самый западный Дон — шотландский... [37]1 До Британских островов скифы никогда не добирались, там и духом скифским не пахло... Случайное совпадение звуков? Вероятно. И, однако, есть топонимисты, которые даже название этой маленькой речки хотели бы связать с древним «дон» — «вода». Это утверждает, скажем, профессор Колумбийского университета США Марио Пей в статье «Что могут рассказать географические названия», помещенной в апрельском номере «Курьера Юнеско» за 1960 год... {91}
Овидиевы метаморфозы
Снова влечет меня дух воспеть измененные формы...
«Метаморфозы» великого римлянина Овидия — собрание легенд о всевозможных причудливых превращениях.
Античным богам ничего не стоило, как только им того хотелось, принять облик быка или лебедя, горлицы или камышовой тростинки. Не затруднялись они в гневе обратить прекрасную девушку в уродливого паука или — из добрых чувств — престарелую супружескую чету в пару деревьев, тесно переплетенных вершинами... Боги... богам все можно...
Изучая историю географических имен, невольно думаешь: что там Овидиевы превращения! У нас никаких богов и чудотворцев нет, а метаморфозы происходят не менее диковинные.
Чаще всего (я уже приводил этому отдельные примеры) они случаются, когда такое имя, топоним, переходит из уст одного народа в уста другого. Это кажется довольно естественным.
Французы зовут нашу Москву — Москý; мы, как бы в отместку, их Пари перекрестили в Париж. Мы именуем в мужском роде Рим — город, который его хозяева, итальянцы, любовно называют «прекрасная Рома» и изображают всегда в виде величественной женщины. Римляне не остаются в долгу: нашу Волгу они величают «Вóльга грандиозссимо» — «Величественнейший Волга», хотя, например, о Неве они скажут «Нва ла глориóза» — «прославленная Нева». При таком международном обмене всякое может быть. Но он вовсе не является обязательным условием для самых сложных превращений. Их можно наблюдать и в пределах одного языка.
Льгов
Льгов — небольшой городок Курской области на реке Сейме (Росоть — незначительный ручей). Как и повсюду у нас, во Льгове есть теперь несколько средних школ, Дом пионеров, кинотеатр, библиотека и кое-какая промышленность, но никаких примечательностей справочники не указывают. Может быть, их и нет, если не считать имени города.
В самом деле, откуда оно, и что оно значит? Вечный вопрос. {92}
Областной центр Льгова, Курск, стоит на ручье, именуемом Кур. Все понятно: имя значит Курск(ий) город, город на Куре, притоке Тускори. Имя соседнего Белгорода проще простого: Белый Город; возле него — меловые холмы. А Льгов? К каким русским словам можно протянуть от этого имени нити?
Вопросы риторические: вы на них ответить не можете при всем желании. Помочь нам могут только историки.
Историки знают: Льгов стоит на месте, где русские люди жили с незапамятных времен. Построили город на развалинах другого, еще более древнего поселения, городка, основанного здесь печальной памяти князем Олегом Святославичем, которого прозвали Гориславичем не за хорошие дела. Олег этот жил в дни похода Игоря на половцев, и в его память Льгов называется Льговом...
Как так? А вот как.
Имя Олег не славянское: оно взято нашими предками у скандинавов-варягов. У них были два имени: мужское — Хéльги, женское Хéльга; значили они «святой» и «святая» (вспомните в немецком языке слово «heilig» — «свято»). На Руси они превратились в Óльга и Ольгъ...
Странное правописание, правда? Оно, однако, совершенно законно для древних времен. Буквой «ь» наши предки пользовались в тех случаях, где они произносили в словах «гласный неполного образования», как говорят ученые: «е» не «е», «и» не «и»... Такой гласный имелся в обоих именах, но судьба у него была различная.
Он был очень неустойчив. Если на него приходилось ударение, он мог легко превратиться в самое настоящее, ясно слышимое «е». Если ударение падало на другой слог, «ь» просто-напросто исчезал. От него оставалась, как память, мягкость предыдущего согласного. Так и вышло: Óлега превратилась в Ольга, а Ольгъ — в Олег...
Поселение на Росоти назвали Ольгóвым городом. На «ь» ударение не пришлось, и это привело к двум последствиям. «Звук неполного образования» перестал звучать, оставив по себе лишь мягкость звука «л». А начальное «о» всего слова (ударение лежало очень далеко от него) тоже постепенно исчезло, атрофировалось. {93} ОЛеГÓВ начало звучать, как ОЛЬГÓВ, потом — как оЛЬГОВ, наконец — как ЛЬГОВ... Так и звучит оно уже много веков подряд, удивляя тех, кому неизвестны законы изменения звуков в нашем родном языке.
Видите — иноязычного воздействия не потребовалось. Сами русские люди создали имя, сами и преобразовали его точно так же, как преобразовывались и другие русские слова за то же время. Имя места оторвалось от имени человека, и восстановить эту связь, а значит, и раскрыть его первоначальное значение, может только топонимика, опираясь на то, что известно языковедам, историкам и географам [38]1.
Топонимисты и всегда работают в теснейшем контакте с этими науками; можно даже сказать, что топонимика и есть соединение этих наук.
Брянск
Нам ничего не удалось бы установить в связи с именем Льгов, если бы до нас не дошли кое-какие сведения о далеком прошлом самого города. Тот, кто занимается географическими именами, радуется каждому слову старой песни, любой строке летописи, всему, что рассказывают нам древние легенды и предания.
Вот город Брянск, с его знаменитыми лесами, еще раз прославленными в Великую Отечественную войну. Без древних документов было нелегко разгадать тайну его имени. «Б-р-я-н...»? С чем это может быть связано? С «брян-чать», что ли?
Летописи не один раз упоминают город, лежащий неподалеку от литовской границы, среди непроходимых трущоб. И самые старые из них называют его не Брянском, а Дебрянском. Точнее — Дьбрянском: мы уже знаем, что означал в те времена этот «ерик», следующий за «д».
Теперь все ясно. В древнем слове Дьбрь, означавшем «буераки», «лес», «ь», стоявший под ударением, уступил место позднейшему «е». Получилась наша «дебрь». А вот в слове «Дьбрянск» — «лесной, нахо-{94}дящийся в дебрях» — он постепенно исчез; осталось только мягкое «д»... Слово-имя было выбрано очень уместно: даже сейчас, пересекая на поезде Брянскую область, вы с утра до вечера едете, как по бесконечной аллее, между двумя стенами подступающих с обеих сторон к полотну сосняков, ельников, солнечных дубрав и влажных лиственных лядин...
Как все же Дьбрянск стал Брянском, вы и сами можете теперь сказать. После того как «ь» испарился, оставив после себя, как капля воды на бумаге, влажное пятнышко мягкости согласного, исчезло и это «дь» перед последующим «б»: его положение здесь было слишком невыгодным. От «дьб» осталось «б»...
Конечно, это не могло случиться взрывом, мгновенно. Название ленинградского пригорода Лесной ни при каких условиях не может за год или за два превратиться в «Сной», хотя условия для этого вроде и существуют. Язык никак не принял бы такого мгновенного преобразования.
Но у топонимов чего-чего, а времени всегда достаточно. За долгие века в речи многих сменяющихся поколений такие превращения переходят незаметно и беспрепятственно. Было понятное слово Дебрянск. Появилось загадочное имя Брянск. Когда это произошло, никто не укараулил, а теперь — поди-ка верни дело вспять [39]1.
Очень обидно?
Когда вы читаете у Пушкина в стихах: «от Рущука до старой Смирны, от Трапезунда до Тульчи», вы можете взять карту и найти на ней все эти географические имена... Смирна — в Малой Азии, Трапезунд — на Черном море, Тульча — на Дунае...
Но попробуйте разыскать имена, перечисленные Алексеем Толстым в таком четверостишии из баллады «Боривой»:
И от бодричей до Ретры,
От Осны до Дубовка,
Всюду весть разносят ветры
О победе той великой....
Их нет ни на каких картах. {95}
Пожалуй, единственное, что вы обнаружите — это городок Оснабрюк в Западной Германии — «Оснинский мост» в переводе на русский язык. Знаменитое святилище Ретра, или Радогощь, с его именем, произведенным от личного славянского имени Радогост, принадлежавшее западно-славянскому племени бедричей, или бодричан, после завоевания этих земель немцами было переименовано ими и получило ничего ни по-славянски, ни по-немецки не означающее название Ридегаст (возле нынешнего Гамбурга). Отзвук имени Дубовик, возможно, сохранился в названии Добин, в Шверине, а самое это название Шверин когда-то звучало, как славянское Зверин. Тот же Брунзовик, который упоминается в стихотворении А. Толстого строкой раньше («Генрих Лев... в Брунзовик пошел обратно...»), в устах немцев-завоевателей превратился в Брауншвейг.
Земли северной Германии, какой она была до второй мировой войны, полны переделанными до неузнаваемости древнеславянскими именами мест.
Был в Померании городок, называвшийся Бельгард. Имя похоже на другие немецкие имена, но ни одному немцу не понятен его смысл и значение. Теперь, когда Померания стала Польским Поморьем, этот город именуется Бялогард, и естественно: его древнее славянское имя было Бялиград, то есть Белогород...
Из древнего Помóрья немцы сделали свое Пóммерн — Померáния; никакого отношения к цитрусовому плоду, горькому померанцу, это имя не имело; оно тоже ровно ничего не значило по-немецки. Славянский Староград они превратили в Штаргард.
Да и в более южных германских провинциях таких онемеченных славянских имен пруд пруди. Вот Дрезден — западно-славянское Драждне, означавшее то же, что у восточных славян «древляне» — «лесные люди». Вот Лейпциг, по-славянски называвшийся Липецк... Германские завоеватели чаще всего не выдумывали для города или поселка совсем нового имени; они до неузнаваемости переиначивали славянское имя, обессмысливая его, но зато делая похожим на непонятное немецкое слово. {96}
Это происходило всюду, где власть оказывалась в руках немцев. В отличие от бодричан, от лужичан, от полабских сербов, чехи сумели сохранить свою культуру, остались живой и могучей, хотя и малочисленной, нацией. Но и у них долгое время селения и города именовались онемеченными именами; чешские названия запрещалось употреблять вслух и официально.
Кáрловы Вáры («вары» — по-чешски — «горячие источники») были известны всему миру как Карлсбад («Карлова купальня»); какой-нибудь моравский Вышков в Австрии звался Вишау, именем, которое и перевести невозможно: что-то вроде «Вишская долина»... Попробуйте догадайтесь, что за чисто немецким по обличью названием Эйбеншиц (оно может означать, да и то с натяжкой, нечто невразумительное, что-то вроде «тисовая защита») скрывается чисто славянское и милое Иванчице, связанное с именем Иван... Ну, разве это не обидно?
А знаете, как сказать и как когда... Всюду, где такая игра с географическими именами идет ради национального угнетения, сопровождая его, это не обидно, а гнусно и мерзко. С такой топонимикой народы борются всеми средствами. Те же чехи несколько веков как драгоценность хранили свои славянские имена мест под иноплеменным гнетом и дождались времени, когда они зазвучали, как единственные и подлинные.
Французский языковед и топонимист Альберт Доза не без юмора рассказывает, какое смятение охватило ученых Запада, когда после первой мировой войны внезапно на востоке Европы началась целая буря переименований. Город, известный до того как Лемберг, превратился в Львов; из австрийского Аграма возник югославский Загреб; чешское Брно сменило онемеченный Брюнн; на месте надписей Торн и Позен появились польские Тóрунь и Пóзнань...
Это была долгожданная неожиданность: славянские народы мечтали о ней веками. Делегации стран, получивших право на свободу, выкладывали свои имена на круглые столы мирных конференций как козырные карты. И дипломатам пришлось признать: топонимика — серьезное доказательство. Если город в день основания был назван Львовом, ясно: это город славянский, и немцам нечего делать в нем. {97}
И все же далеко не каждая переделка имени, его приспособление к языку другого народа, должна вызывать негодование и гнев... Не всегда это «обидно»...
Немцы переделали Иванчице в Эйбеншиц. Это была злонамеренная переделка: ее цель — стереть с лица земли культуру покоренных ими чехов. Но вот наши предки-московиты упорно называли город Аугсбург, лежащий в сердце немецких земель, Аушпорком... Почему? Только потому, что их языку трудно было выговорить не свойственное ему сочетание звуков: «гсб» после краткого «у» (я еще вернусь к этим произносительным затруднениям). Обижаться не на что: сами немцы много веков назад построили свое имя Аугсбург, изменив на свой лад римское Аугуста виндикорум. Из Аугуста получилось «Аугс—», вместо виндикорум (римское имя означало: «крепость Августа в стране вендов»), к нему прирос германский «бург» — «укрепленное место». Долг платежом красен... [40]1
Итальянцы называют группу низменных островков в Адриатическом море Бодулéи; они и не подозревают, что это название является переделкой чисто славянского названия Подóлье. Речи не было о том, чтобы унизить творцов этого имени — славян: итальянские рыбаки просто не понимали, что оно значит, и выговаривали его на свой лад и манер. Начинаются такие переделки просто «на месте», в народной толще.
Оказался на Украине столетие назад немец-помещик, господин Вейсбах (если {98}
Освободившись, поляки, чехи, все славяне восстановили свои родные имена мест.
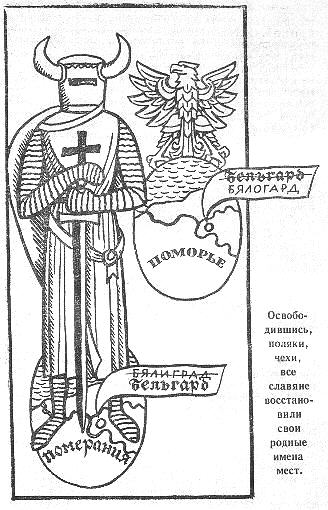
перевести эту фамилию, вышло бы «Белоречкин»). Он гордо назвал свое имение в собственную честь Вейсбаховкой. Соседи-крестьяне не понимали значения этого неудобопроизносимого имени. Они быстро сделали из него свое — тоже не очень-то осмысленное, но зато украинское по звуку и, я бы сказал, даже несколько бесшабашное: Безбахивка. Таким оно и осталось жить: оно значится так даже в энциклопедиях... Крестьяне вряд ли имели в виду причинить досаду барину, просто им было удобнее называть его собственность по-своему...
Любопытный случай в этом духе произошел с дедом Льва Толстого, князем Волконским. Человек хмурый и нелюдимый, князь в молодости был архангельским губернатором. Ему был подчинен и архипелаг Шпицберген, по-поморски — Грýмант.
Осев под старость лет в своем поместье, Волконский предавался приятным воспоминаниям. Ему пришло в голову одну из своих деревень переименовать в Грýмант. Слово это — поморское, значит — русское; но, по-видимому, оно является переделкой норвежского Грёнланд — Гренландия. Крестьянам в центральных областях оно было и незнакомо и непонятно, казалось чужим. Возражать помещику они, конечно, не могли, но обошлись с его выдумкой по-своему.
Из Груманта в их языке получилось сначала Угрумант, потом Угруман и, наконец, — Угрмы — имя, очень подходившее к тяжелому характеру владельца...
Как видите, очень многие переделки имен вызываются не плохими побуждениями, а понятным стремлением людей пользоваться именем удобным, легко произносимым и, по возможности, осмысленным.
Древние греки по всему тогдашнему миру разнесли очень распространенное у них название Триполис — Трехградье. Триполисы появились и в Африке, и в Причерноморье — всюду, куда проникали пронырливые торговцы-эллины. И везде имя претерпевало какие-нибудь превращения.
Триполи на северном берегу Африки арабы произносят как Тарабуль, турки — как Тараблуссы. На Балканах Триполисы превратились в Триполицы; у славян оказалось соблазнительно похожее на {100} «пóлис» — город — слово «пóле». И весьма вероятно, что прославленное археологами Триполье на Днепре, в пятидесяти километрах от Киева (это — центр важнейших раскопок), тоже было некогда греческим опорным пунктом на севере, факторией, и именовалось Триполис.
Значит, в любом Триполье можно заподозрить имя греческого происхождения? Пожалуй. А в бесчисленных Запольях, Опольях, Чистополях нашей Родины? Вот они не имеют никакого отношения к античной древности: их названия прямо связаны с русским, славянским «поле»... Хитрая вещь — топонимическое исследование!
Еще пример — западный (эти метаморфозы можно наблюдать повсюду).
Древние римляне умели завоевывать. Каждую покоренную страну они опутывали сетью дорог и укрепленных лагерей; по-латыни такой лагерь звался «кастéллюм», если он был не слишком велик (большие обозначались «кáструм»). Римские «кастéлли» поражали воображение «варваров», начинали играть огромную роль в их жизни. Не удивительно: ни у галлов, ни у германцев ничего подобного не было; не было даже слов для обозначения подобных грозных сооружений.
Все близкие к Риму народы переняли у него латинское слово «кастéллум»; все превратили его в названия многочисленных селений, выраставших возле таких лагерей, а затем начали подвергать эти имена — каждый народ на свой лад и по своим языковым меркам — причудливым преобразованиям и переделкам.
Вот почему, слыша сегодня гордое испанское имя Кастлья, топонимист без труда угадывает за ним римское «кастеллум»: геометрически четкие очертания строгого воинского лагеря легионеров как бы просвечивают в нем.
И, посещая в соседней Франции небольшие городки, в состав имен которых входят составные части, звучащие, как Шатó или Шатéль (Шаторý, Шательрó), он улыбнется, если француз скажет ему, что это чисто французские названия. Ему-то известно: это те же «кастéлли»; в их ближайших окрестностях археолог, порывшись, может выкопать остатки строгих, по линейке выверенных валов и «интерваллумов», над которыми {101} сверкали некогда на солнце золотые орлы и медные шлемы суровых центурионов.
Англия лежит за морем, но римляне побывали там. Город Ньюкáсл (его недаром пишут «Newcastle») — это «Новый Кастеллум», «Новый лагерь» тех же легионов. Испанцы придали римскому слову испанское звучание, французы — французское, англосаксы — свое. Но везде, во всех этих странах доныне живут древние, римских времен, названия, передаваемые из уст в уста уже почти две тысячи лет.
Эти метаморфозы говорят о многом. Задача вскрывать древние слова под многовековым наслоением изменений — благодарная задача: при этом как бы снимается с народного прошлого пелена за пеленой.
Венгрия. Озеро Балатон, стоившее немало крови Советской Армии в последнюю войну, но ставшее и свидетелем замечательной ее победы. Откуда его имя?
Возможно, это переоформленное в финно-угорском венгерском языке славянское «блато» — «болото». Задолго до прихода сюда из Приуралья угров, страшных завоевателей средних веков, самое имя которых во французском языке стало пугалом детей, сказочным «огр» — «людоед», здесь, в Паннонии, жили славяне. Камышистое озеро они называли Блато. Венгры не стали переводить это слово на свой язык («болото» по-венгерски «моцшар» или «лап» — ничуть не похоже). Они оставили его жить, и, без всякого дурного умысла, превратили в свое Балатон [41]1.
А вот правительство «двуединой» Австро-Венгрии, свирепо онемечивая и славян и венгров, превратив Балатон в свое Платен-зее (озеро Платен), запрещало употреблять старое имя, считая его дикарским, враждебным, упорно подавляя венгерскую культуру, национальную гордость венгров. Это уже другое дело.
Рóту тяжело
Трехлетний мальчик играл на дворе. Проходившая женщина обратила на него внимание.
— Мальчик, милый, как тебя зовут?
— Ва-ся! — серьезно ответил малыш.
— А меня Серафима! Ну-ка, скажи: Се-ра-фима... {102}
— Я такого слова сказать не могу,— насупился мальчуган,— мне рóту тяжело такие слова говорить...
Как мы только что убедились, многие превращения имен в топонимике объясняются этим самым «рóту тяжело».
Помню, как после тяжелого штурма венгерского городка Бешеньöтелéк [42]2 я спросил — не у трехлетки, у разгоряченного боем старшины: «Как называется этот городишко?» Старшина-танкист сердито, но и с обычным солдатским юмором взглянул на меня: «Не скажу вам, товарищ капитан... Такие города легче три раза взять, чем один раз выговорить...»
Когда имя переходит от народа к народу, перестройка его почти неизбежна. И, понятно, дело не обходится без недоразумений и курьезов.
Каждое имя — слово или было когда-то словом. Новый язык старается чужое слово подогнать под формы своих слов, часто вовсе не заботясь о его смысле. Возникают странности.
Молдаване-поселенцы назвали одну из деревень в Новороссии по-своему очень осмысленно: Валегóцулуй, то есть «Долина Гоци». Этот Гоци был прославленным в тех местах разбойником, вероятно — заступником бедняков, как постоянно бывает в народных преданиях.
Соседям молдаван, русским и украинцам, это название казалось странным, «не похожим на имя»... Разве бывают у имен такие окончания — «луй»? (См. стр. 244—245.) Они спокойно превратили его в Валегоцулово; теперь все в порядке: раз «—ово», значит — «село», а что слово Валегоцулово ничего не значит ни по-русски, ни по-молдавски — кому какое дело? Имя — и все тут!
На Дальнем Востоке русские колонисты наткнулись на речку с маньчжурским обоснованным, содержательным именем: Ниман — «река Горных Козлов». По каким-то причинам они расслышали его, как Иман; таким оно попало и на карты края.
Местные жители — удегейцы — из этого Иман сделали свое Има, так сказать, отрубив у обезглавленного {103} козла и его хвост. Зато бродящие по тайге за женьшенем охотники-китайцы, приняв это укороченное имя, прирастили к нему свое «хэ» — «река». Получилось Има-хэ, и вот уже русские снова начинают приспосабливать «непохожее» имя реки к своим образцам. Очень просто: они переделают ее в какую-нибудь Имаху.
Это более чем вероятно. Тут же около есть речка с китайским именем Цзы-Цзю-Хэ, то есть «девятая быстрая речка», по переводу путешественника и писателя В. К. Арсеньева. Русские поселенцы превратили ее сначала в Тетюхé, а затем сделали Тетихой... Почему? Ну как же! Тетюхе — что за имя для реки? А вот Тетха — это уж на что-то похоже: есть же у нас такие названия: Бычиха, Волчиха... Почему бы реке не зваться Тетхой?
По таким же основаниям чисто турецкое, каждому турку понятное название Ени-Гёль, «Новое озеро» (так до прихода русских назывался один из протоков Бугского Лимана в Причерноморье), получило у нас лишенное смысла, но короткое и звучное имя Ингул. Родилось даже производное имя — Ингулец, Малый Ингул, приток Днепра. Как видите, народам и языкам не так уж важно, чтобы имя места было осмысленным, удобопонятным. Куда важнее, чтобы форма его не казалась дикой, непривычной для данного языка.
Именно поэтому пышное и длинное Санкт-Петербург народ быстро превратил в короткое Питер: Барин «слезы вытер, сел в свою карету и — уехал в Питер...» [43]1
По этим же причинам Ораниенбаум — меньшиковская резиденция возле «Питера» — давно уже стала Ранбóвом, хотя первое имя значит «апельсиновое дерево», а второе — не значит ровно ничего. И настолько подобные превращения подчинены общим законам языка, что в совсем другой части России городок, названный властями Ораниенбургом, даже в официальных бумагах вскоре превратился в Ранненбург (Рязанская область; с 1948 г. он зовется Чаплыгин).
Это происходит всюду, где языку оказывается «против шерсти» звуковой состав нового имени, где «рóту тя-{104}жело» его произносить и выговаривать. Об этом обязательно должны помнить все те, кого народ уполномочивает изобретать в наше время новые имена для новых поселков, морей и озер.
Когда же вступает в дело еще и «значение имени», перед метаморфозами открывается еще более широкий «оперативный простор»...
Генуэзцы Алешки
Русские моряки давно знают: лучшие боцманы выходят из Алешек на Днепре у самого Херсона. С детства перед глазами — неоглядная ширь реки; весла, паруса, плавание... Волей-неволей проходишь «морскую практику».
О том, как на флотах ценились уроженцы Алешек, рассказывает в одной из своих морских новелл адмирал флота и интереснейший писатель И. С. Исаков.
«Уроженцы Алешек»... Вот уж чисто русское, народное имя! Алеша-попович, русский богатырь... Видно, основали это поселение два каких-нибудь тезки, оба — Алексеи; не пять же их оказалось там сразу?!
Позвольте! Речь идет об Украине. У украинцев нет ни имени Алексей (есть Олéкса), ни уменьшительного Алеша. Алеша по-украински будет Олéсь. Почему же в сердце Украины поселок оказался названным на великорусский лад? Что-то тут не так!
Действительно, не так. Имя этого селения не украинское и не русское. Предполагают, что оно осталось нам от тех очень далеких времен, когда в нижнем течении Днепра еще основывали свои колонии и фактории пронырливые генуэзцы. Они основали и это поселение, дав ему имя Элисэ, может быть, связанное с генуэзским же названием самой реки, на берегу которой оно стояло (см. стр. 89), может быть, оно и означало Днепровск.
От генуэзцев в этих местах не осталось и воспоминания. Данное ими имя не могло сохраниться в своем первоначальном звучании. Оно превратилось в устах местного населения в Алешки [44]1, а письменное изображение его стало даже читаться и пониматься на далеких флотах как Алёшки... Вот какая вышла странная история! {105}
Эта история — далеко не исключение. Очень часто с течением времени старое имя получает новый — бывает, прямо противоположный — смысл.
Все знают ставшее в наши дни знаменитым имя Братск. На месте старинного Братского Острога на Ангаре, самой прославленной из сибирских рек, скованные советским человеком воды вращают мощные турбины Братской гидроэлектростанции. Не мне вам рассказывать про нее. Но вот самое имя Братск, откуда оно взялось?
Половина из нас, конечно, пожала бы плечами в ответ на этот вопрос. Самое характерное для нашей страны имя, говорящее о братстве, о дружбе между людьми и народами... Поселок Мирный, город Братск — какие же еще нужны объяснения? А они нужны. Село Братское, около которого был еще в середине XVII века заложен Братский острог — маленькая крепостца, названо так, по утверждению историков, по близкому соседству с бурятскими землями. О «братстве народов» тогда тут никто не думал. Крепость была построена, чтобы держать в повиновении «братские народцы», бурятские племена Приангарья; чтобы выжимать из них тяжелый «ясак» — подать. Племенное имя «буряты», возможно в ином произношении, означало когда-то «лесные люди». Русские сибиряки не понимали этого и переделали его на «братские». Крепость, воздвигнутая в краю «братских людей», естественно, получила название Братского, то есть «бурятского», Острога. Радостно, конечно, что в наши дни это имя-недоразумение приобрело новый смысл, стало по-настоящему советским. Но корень его именно в таких топонимических метаморфозах, могущих иной раз завести прямо-таки невесть куда...
Заглянем еще дальше, на самую восточную окраину нашей страны. Ее омывает суровое, вечно холодное, но богатое морским зверем и рыбой Охотское море.
Видимо, оно и названо так по этим своим качествам: море охотников, море звероловов и рыбаков?.. А ведь нет!
Охотское море получило свое имя по сравнительно небольшой речке Охоте, впадающей в его воды. Это бывает: Карское море названо по реке Каре; так случилось и тут. Но уж река Охота, наверное, как {106} раз и была сущим раем для промышленников, добывавших тут зверя и птицу, раз ее назвали так...
Придя в эти края, русские землепроходцы спрашивали у местных жителей — ламутов (теперь мы зовем их эвенами), как называется эта река? Ламуты отвечали: «Окат», потому что на их языке слово «окат» значит «река». Русские же и услышали не «окат», а свое «охота» и поняли его по-своему, как название, как имя собственное. Возле устья реки Охоты они построили порт и назвали его Охотск, а вскоре и море, куда она впадала, стало Охотским. И имя это обошло теперь все страны мира, звучит на всех его языках, значится на всех географических картах... Имя-ошибка... Впрочем, дальше мы вернемся к таким именам и найдем им немало примеров. (См. стр. 204 и далее.)
На Урале есть гора Шелковая. Очень приятное имя: и звучит по-русски, и намекает на какую-то особую красоту места — трава ли на лугах этой горы мягка, как шелк, лапы ли уральских лиственниц особо шелковисты...
А ведь на деле и тут происхождение имени, вероятно, совсем другое. В финских языках есть слово «селькэ», оно означает: «продолговатая возвышенность», «ледниковая гряда холмов». Есть на Руси такие места, где само слово это обрусело: в Карелии и на Онеге «сельгами», или «шельгами», зовут каменные подводные гряды, мели. А вот тут, на Урале, гора «Шельговая» мало-помалу стала горой «Шелковой»...
Именно так и никак иначе? Ну, в топонимике вообще не полагается ни присягать в своей правде, ни прозакладывать за нее голову; во всяком случае, это предположение считается сейчас довольно правдоподобным.
Если вам такой ход: «сельга» — «шелковая» — кажется маловероятным, может быть, полезно напомнить, как возникло само русское слово «шелк». Его прародичем является латинский топоним Сэрэс — Китай. Из Китая вывозили шелка. Прилагательное «сэрикус» — «китайский» стало значить «шелковый». Слово проникло в древнегерманские языки и зазвучало тут уже как «силехо», а в Скандинавии — как «сильки». Вместе с заморскими товарами по Великому водному пути из Варяг в Греки какое-то из этих слов проникло и к на-{107}шим предкам. Оно осело здесь, дав слова «шелк» и «шелковый»...
Если из «сльки» мог получиться «шелк», то почему же «сéльга» не могло породить «шелковую» гору? В языке может быть далеко не «все», но очень многое... [45]1 Ученые-топонимисты нередко много спорят насчет того или другого имени, выдвигают не одно, а несколько объяснений его. Иногда игра долго идет вничью: перевеса нет ни на одной стороне.
Вот, скажем, имя Холмогоры, места, где родился великий помор Михаил Ломоносов, села на Северной Двине.
Топонимаческие холмы и горы
Холмогоры? Какой же чудак усомнится: так только русский человек мог назвать место, и притом — какое? Где холм на холме, гора на горе... Оно звучит вроде: «Овраги-буераки» или: «Топи-болота»... Но в том-то и сложность: никаких особенных круч и долин у Холмогор нет. «Поверхность Холмогорского уезда,— пишут старые словарники Брокгауз и Ефрон,— имеет ровный характер...»
Само село (нынешний город), лежащее на берегу Курополки, двинской протоки, «с остальных сторон окружено роскошными лугами, орошаемыми речкой Оногрой...» Даже если на каких-нибудь лугах и попадаются возвышенности, кто же эти луга назовет «Холмогорами»?
Другая «загвоздка»: старые грамоты зовут село не Холмо — Колмогорами. Не известно случаев, чтобы в русском языке слово «холм» почему-либо превращалось в «колм». Так, может быть, оно тут и вообще ни при чем? Но если нет холмов, есть ли горы? Ученые давно отказались от «очевидного» объяснения этого имени, а «неочевидных» было предложено несколько.
Лет сто назад были историки, которые всю древнюю {108} культуру Руси приписывали влиянию скандинавов варягов. Они утверждали, что Холмогоры — переработка варяжского названия Новгорода; скандинавы звали его Хольмгардр — «Островной город»; вот тем же именем назвали они и село на Двине. А потом имя обрусело.
На первый взгляд — убедительно. Но скоро вся теория «норманистов» рухнула: факты ей противоречили. Пришлось отказаться и от Хольмгардра — Холмогор.
На смену пришло иное объяснение. В древнефинских языках слово «кáльма» значило «смерть», «могила»; слово «кáри» — «остров». Не назывались ли Холмогоры первоначально «Остров мертвых» — Кальмокари?
Позвольте, а почему бы?
Это не так невероятно. Археологи говорят: прямо против Холмогор лежит на Двине островок, где земля скрывает множество древних захоронений. Сюда, на Куростров, древние финны — «чудины» — свозили дорогих им мертвецов, чтобы предать их прах родной земле. Куростров, конечно, мог называться «Островом мертвых», а позднее имя это могло перейти на селение на другом берегу двинского рукава Курополки.
Есть и несколько иное толкование. Вторая часть имени, «горы», может быть выведена не из «кари» — «остров», а из «кар» — по-фински — «город». Тогда слово «Холмогоры» преобразовано из Кальмокар, «Город мертвых». И это никак не бессмыслица: древние люди обычно именовали кладбища именно так; например, у греков они назывались «некро-полис» — «город мертвецов». То же могло быть в обычаях и у древних финнов, не так ли?
Не столь давно я узнал о еще одном варианте решения. И. В. Сергеев в своей интересной книге «Тайна географических имен» высказывает мнение, что первую часть имени Холмогоры надо понимать, и верно, как финское слово, но только — как слово «кóльмо» — «три»; вторая же часть, чисто русская, так и значит: «горы». Холмогоры — это «Тригорское», «Тригорье», только «горы» тут являются не в своем обычном смысле — «возвышенность», «высота», — а в специальном северорусском значении; «высокий берег». {109}
Все бы хорошо, не совсем понятно мне только, что могут означать слова «три берега»?.. Тригорье — очень ясно; «Трехбережье»... что-то сомнительно. Смущает и сочетание финского числительного с русской основой имени. Мы с вами еще будем иметь случай внимательно вглядеться в имена-гибриды, состоящие из разноязычных частей; на свете их множество, но такой гибрид, как этот, выглядит редким исключением.
И. Сергеев приводит такое доказательство своей правоты. У нас на Севере, говорит он, тысячи названий, в которые входит часть «гора» или «горы». Может ли быть, чтобы все они были финского происхождения? Невероятно!
Конечно, невероятно, но никто этого и не утверждает, Мы уже видели: в России уйма имен, оканчивающихся на «— поль» или «— полье», но некоторые из них произошли от греческого «полис» (Мелитополь, Ставрополь), другие — от русского «поле» (Чистополь, Каргополь). То же и с «—полье»: Заполье, Ополье — от «поле», а вот Триполье на Днепре — от греческого же Триполис... В топонимике никогда нельзя стричь под одну гребенку.
Да ведь рассуждение И. Сергеева можно было бы распространить и на первую часть имени Холмогоры. В нашей стране много имен, в которые входит слово «холм»: Красный Холм, город Холм на реке Ловать... Много! Неужели же все они связаны с финскими словами — с «кáльма» или «кóльмо»?
Конечно, нет. А вот «холм» в слове Холмогоры, по-видимому, связан. Так то же самое может быть отнесено и к «горы»... Моржегоры — одно, Святые Горы — другое, Холмогоры — третье. Выстраивать их в один ранжир недопустимо.
Вот почему я предпочитаю рекомендовать вам те решения, которые исходят из финского «кáльма»: их подтверждает археология, раскопки на двинском островке.
Что же в результате споров? Мы не без труда выбрались из топонимических «холмов» и «гор», «трущоб» и «буераков». Но из них мы — еще раз! — вынесли самое полезное сведение: самое простое в нашей науке далеко не всегда оказывается самым верным. {110}
И за
рубежом — тоже
Прежде чем начать путешествие по дальним странам, задержимся на бывшей русской границе с Финляндией, у маленького курортного городка Сестрорецк на Финском заливе под Ленинградом.
Почему он Сестрорецк? Он стоит на Сестре-реке: она-то и была русско-финской (а затем и советско-финской) пограничной рекой до 1939 года. Почему она названа так: Сестра?
В нашей стране не одна река с таким именем. Есть еще одна Сестра, в Московской области, приток Дубны. Есть еще несколько мелких речушек-тезок. Казалось бы, имена их всех значат одно: «дочь тех же родителей», ан не так-то просто.
Конечно, и тут вопрос о каждой реке надо разбирать отдельно. Я буду говорить о единственной Сестре — той, над Разливом (огромной запрудой), на которой стоит прославленный шалаш, где в 1917 году скрывался В. И. Ленин. Другие Сестры, возможно, и «сестры», а вот эта...
Когда при Петре I устье Невы и подступы к Выборгу стали русскими, наши предки нашли тут лесную реку, носившую шведское имя Систер-Бек — «Сестрин ручей».
Шведы не принесли это чисто шведское имя сюда с собою из Скандинавии. Они взяли за основу старое финское имя этой реки — Сьестарйоки. «Йоки» — «река», а «сьестар» показалось им похожим на их шведское «сюстер» — «сестра». На деле же Сьестарйоки означало Смородинная речка [46]1, как русская былинная Смородинка. Наверное, по берегам ее, как на многих северных реках, густо кустилась и темнела ягодами пахучая лесная смородина.
Русский язык, как и шведский, — язык индоевропейский. Слово «сестра» в обоих звучит похоже. Русские приняли шведское имя, но заменили в нем «сюстер» на «сестра», и «бек» — на «река». Так и получился новый гидроним, с русским словом «сестра» по происхождению не связанный. Это были все народные, не законодательные замены, но их принял и официальный язык. {111}
Вот вам история имени, как ее излагает академик Яков Грот. Что же, однако, случилось с ним после Грота?
У маленькой Финляндии были долгие счеты обид к царской России. Получив свободу из рук Ленина, финское правительство занялось спешным уничтожением на своей карте малейших следов русского владычества. Как это часто случается, руководили этим далеко не всегда знающие специалисты, не историки, не языковеды. Им и в голову не пришло, что Сестра — старая финская Сьестарйоки. Они уничтожили этот «явный русизм», заменив его новым названием: Райайоки — Пограничная река (мы, русские, со своего берега, продолжали, конечно, называть Сестру по-прежнему; создалась река с двумя именами, только имена эти лежали по ней вдоль, простираясь до половины ее ширины).
Спору нет, финны имели право поступить так. Но им следовало бы знать, что слово «райа» — «граница», «край», вовсе не исконно финское слово. Это переделанное русское «край». Финский язык не выносит скопления согласных в начале слов. Финские масляничные извозчики — вейки в дореволюционном Питере,— торгуясь с седоками, обычно так и ворчали сердито: «Рицать копеек — рáйний сэнá!» То есть: «крайняя цена»...
Получился топонимический анекдот: из патриотических соображений финны заменили финское по происхождению имя на имя по происхождению русское...
Очень осмотрительными надо быть при всяких спешных переименованиях!
Всюду одно
Я не знаю, какими языками вы владеете, мои читатели. Поэтому из богатой россыпи подобных превращений, пестрящей на картах мира, я продемонстрирую перед вами немногие, существо которых можно разъяснить и не многоязычнику-полиглоту.
Вы слыхали про зáмок Альгамбру в Испании? Это памятник испанской истории, в каком-то смысле такая же эмблема этой страны, как Кремль или Петропавловская крепость нашего Ленинграда — эмблемы России. Бессмертный Козьма Прутков неда-{112}ром даже стихотворение «Желание быть испанцем» начал так:
Тихо над Альгамброй,
Дремлет вся натура...
Разница в том, что кремль по-русски значит «огороженное, укромное место»; оно, вероятно, одного корня с «у-кром-ный», с «за-кром»; а вот Альгамбра по-испански не значит ровно ничего. Тот, кто знает только испанский язык, не объяснит вам, откуда оно взялось.
Опять выручают историки. Между VIII и XV веками Испания испытала сильное влияние мавров, то есть западных арабов. Арабами создано в ее границах много замечательных архитектурных сооружений, в том числе и знаменитый Келаат аль Хáмрах — «Красный замок». Вот из этого-то арабского словосочетания и получилось затем в испанском языке облетевшее весь мир слово-имя Альгамбра. Километрах в ста пятидесяти к северу от Гренады с ее Альгамброй течет не менее прославленная река: «шумит, бежит Гвадалквивир». В нашем представлении имя Гвадалквивир такое же типичное испанское имя, как, скажем, Иваново — русское. А ведь и оно совершенно не понятно испанцу — жителю той речной долины. Гвадалквивир — это Вади аль Кабир — «река Великая» — на том же мавританском языке.
Упомяну уж и третье испанское название — Гибралтар. И это — в прошлом — сочетание арабских слов: Джебель—эль—Тарик — «гора Тарика», одного из мавританских полководцев, первым переправившегося здесь в Испанию...
Бывает, имя-слово наследуется не одним, а несколькими народами. Как я уже показал вам на примере римского «кастеллума», каждый народ тогда изменяет его на свой манер. Так случилось и с арабскими названиями Аль-Хамма. Они означали места горячих минеральных источников, древние водолечебницы-купальни: по-арабски «альхаммам» значит «баня».
Теперь несколько местечек на Пиренейском полуострове носят имя Альгама; в Италии, на полуострове Апеннинском, есть курорт Алькамо. Тут и там действовали разные фонетические законы; арабское слово {113} изменялось не с бухты-барахты, не как вздумается, а совершенно закономерно.
Закономерность радует топонимиста. Благодаря ей он может добраться до того, как то или другое современное имя должно было звучать десять или пять столетий назад не только там, где оно было когда-нибудь записано и сохранилось в этой записи. Он узнает это чисто теоретически, потому что знает законы таких изменений.
У великого французского писателя Мопассана есть рассказ. Автор приехал в провинциальный городишко Жизор и встретил там приятеля школьных лет, великого патриота этой глухой дыры и к тому же заядлого топонимиста. В его представлении Жизор — замечательнейший из городов Франции. Его имя означает «Врата Цезаря»! Как из «Врат Цезаря» могло получиться «Жизóр»? Очень просто.
По-латыни «Врата Цезаря» звучало «Цезáрис Остиум». Это название затем стало произноситься: «Цезáрциум», «Цезóрциум», «Гизóрциум» и, наконец, «Жизор»... Просто?
Не пожимайте плечами: все можно придумать! Мопассан использовал данные топонимистов. Альбер Доза, большой ученый, спрашивает: можете ли вы представить себе, как из древнеримского имени Вапинкум могло получиться современное французское Гап? И приводит такую лесенку превращений:
Вáпинкум — Вáппум — Вáппу — Гáп...
Все эти формы найдены в разное время в старых документах. Но, если бы документов не было, топонимист мог бы обойтись без них: каждая ступенька лестницы закономерна и необходима!
Из римского Медиомáтрицес должно было получиться и получилось немецкое Метц. Греко-римское имя Базлеа — «Царственная», название крепости в Альпах,— должно было сначала превратиться в народном римском языке в Бáзила, чтобы потом стать немецким Бáзелем и французским Бáлем... Когда топонимист в своих разысканиях руководствуется знанием этих законов, он добивается точных результатов; нередко они подтверждаются случайными открытиями в старых пергаменах; да, так оно и было. А не подтверждаются — не надо: он может поручиться за свои построения. {114}
Вот еще несколько примеров причудливых приключений древних имен в языках западных народов.
На Лазурном берегу Франции, на ее средиземноморском Юге, насупротив друг друга лежат на берегу небольшой бухты два городка с непонятными французу названиями: Ницца и Антиб.
Это древнегреческие торговые гавани. Одну из них греки окрестили очень ясным каждому из них гордым именем Никáйа — город богини Победы, крылатой Ники (так же, как наш русский Никополь). Второй же, менее важный, городок они окрестили просто Антиполис — «Город напротив». Подразумевалось — напротив Никáйи, через залив от нее.
Официально этот второй городишко теперь именуется Антиб. Но в языке французов-южан, провансальцев, его название и сейчас звучит Антбула; один говор отрезал конец древнего слова, другой — изменил его, но сохранил в целости.
Случается, перестройка имени усложняется до чрезвычайности. В Англии начатки топонимики преподают даже в средней школе. Герберт Уэллс в одном из своих романов пишет вот что о школьных уроках своего героя: «Учительница рассказывала им о древних названиях, и как они искажаются с годами. Она говорила о Брайтельстоне, превратившемся в Брайтон, о Лондиниуме, ставшем Лондоном и о Портус-Леманус, который сократился до Лина».
Эта учительница имела все основания включить в свой список и городок Карлейль на западе Великобритании. История его имени крайне затейлива. В глубокой древности, когда Помфрет был Понтефрактом [47]1, Карлейль (Карлайл) именовался Лугуваллум. У этого имени не вполне ясное кельтское начало и латинское окончание «валлум» по-латыни могло значить: «насыпь, вал, частокол у военного лагеря».
Когда римлян в Англии сменили завоеватели саксы, они сократили старое, не понятное им имя до Луэлл, но зато прибавили к нему свое слово «Caer» (Каэр), город Каэр-Луэлл, город Луэлл. Из этого саксо-кельтско-римского сочетания с течением века и получалось современное Карлайл (Карлейль), а также {115} и фамилия Карлейлей, известная в Англии... Весьма сложно, и ведь это далеко не предел запутанности.
Все знают теперь Браззавиль, столицу свободной части Конго, некогда бывшего французским Конго (за рекой Конго, где правил предатель Чомбе, был город Леопольдвиль). «— Виль» по-французски «город»; что же значит «Бразза —»?
Сочетание звуков тут явно не французское; может быть, начало слова взято из каких-нибудь африканских языков? Представьте себе, нет: оно славянского происхождения.
У берегов Югославии лежит в Адриатическом море остров Брач, древняя вотчина балканских славян, долгое время принадлежавшая, однако, Италии. Славянское Брач [48]2 итальянцы переделали в свое Брацца. У них появилась фамилия графов Брацца, владетелей этого острова и его правителей.
Спустя какое-то время одна из ветвей этого графского рода переселилась во Францию. Французы не знают итальянского «ц»; графы Брацца стали здесь графами Браззá. Пьер, граф Саворньян де Бразза, в середине XIX века оказался известным путешественником по Африке, открывшим своей стране путь для проникновения в богатое Конго; в его честь и был впоследствии назван город Браззавиль, ставший столицей этой французской колонии. Он носит свое имя даже и теперь, после освобождения этой части страны от колониального ига.
Выходит, что один из городов Центральной Африки назван именем, корни которого ведут нас на славянский островок в далеком Адриатическом море... Очень любопытная с точки зрения топонимиста история! Другой пример, тоже весьма злободневный. Столица американской полуколонии, Доминиканской республики, долгое время называлась Сьюдад де Сан-Доминго — «город святого Доминика» [49]3. Уже на нашей {116} памяти свирепый диктатор, фашист и гангстер Рафаэль Трухильо переименовал ее в Сьюдад Трухильо, город его имени: в Доминиканской республике власть Трухильо была беспредельной. Печально, но с этим приходилось считаться.
Странным могло показаться одно. Почему второй город Трухильо вы можете найти в Западном Перу, у берега Тихого океана? Почему штат и город Трухильо имеются в Венесуэле? Неужели отвратительного тирана увековечивали и за пределами его страны?
Отгадку нужно искать по другую сторону Атлантического океана, в Испании. Тут, в провинции Касерес, на берегу реки Тамухи с незапамятных времен высятся стены еще одного, самого древнего Трухильо: он существовал за два почти тысячелетия до того, как на острове Карибского моря родился человек с грязной и кровожадной душой, ставший президентом в Сан-Доминго. Почему этот город был тоже назван так?
Вот как пишут испанцы это название: «Trujillo»; они произносят как «х» букву, которую другие романские народы называют «йотом» или «жи». Это имя некогда, в римские времена, выговаривалось как Тýррис Юлии — «Юлиева крепость», «Юлиева башня» — очевидно, в честь великого Юлия Цезаря.
Мало-помалу испанские переселенцы разнесли название своего городка далеко по колониям: есть Трухильо еще и в Гондурасе. Образовалось много городов-тезок. А кроме того, многие выходцы из любого такого Трухильо стали называться по месту своего рождения тоже Трухильо; есть же у нас люди по фамилии Москвитины или Новгородцевы... Получил такую фамилию, к стыду великого Юлия Цезаря, и мерзкий бандит Рафаэль Трухильо.
Теперь он свергнут; город снова стал Сан-Доминго, но топонимисты всего мира занесли эту поучительную историю в свои картотеки и анналы.
***
Я мог бы долго перечислять один за другим такие западно-европейские топонимические истории и «дней минувших анекдоты». Я мог бы добавить к ним столько же наших отечественных происшествий. Но несколько их я уже приводил и ограничусь, пожалуй, одним случаем. {117}
«Прекрасно озеро Чудское!» — всем памятна эта строка из стихотворения поэта Языкова. Оно лежит на севере Псковской области, на ее границе с Эстонией. По своему названию оно не одиноко: под Ленинградом есть станция Чудово. Неподалеку есть несколько деревенек, называющихся Чудиново. Далеко, в Пермской области, имеется Чудская гора... Откуда такое пристрастие к именам с этим корнем?
У Александра Блока в одном стихотворении говорится о России:
Чудь начудила, да меря намерила...
Поэт играет здесь созвучностью между распространенными в языке глаголами и двумя древнерусскими этнонимами, именами живших рядом с Русью финских племен. Имя «меря», вероятно, родственно черемисскому «мари» — «мужчина», «муж», «человек»; это «мари» стало теперь и русским наименованием народа, который до революции звался «черемисами». Оно значит «люди», — на свете бесчисленное множество племен и народов называет самих себя так.
Что же до «чуди», то история этого этнонима сложнее. Славяне называли «чудинами» финнов, главным образом западных, но порою и других. Но взяли они это слово из совсем других — германских — источников.
Славянам и русским были хорошо известны восточные готы, древнегерманское племя, обитавшее одно время в наших южных степях, в Крыму и поблизости. Сами готы называли себя «тьюдд»; слово «тьюдд» значило «народ», то есть было почти что синонимом черемисскому «мари»: «народ» и «люди» — одно и то же.
Русскому слуху это германское «тьюдд» звучало и слышалось как «чудь»: именно от него образовалось затем наше слово «чужой» (первоначально — «чудской, не русский»), а также — «чудить» — «поступать не по-нашенски, нелепо», «чудак» и т.п.
Когда же готы исчезли с горизонта восточных славян, наши предки перенесли их русское название на других своих соседей — иноплеменников. Так «чудью» для них стали финские племена Севера и Северо-Запада; так и лежавшее в их землях огромное, богатое рыбой {118} озеро стало Чудским озером... Довольно занятно, что название это, если стать на историческую точку зрения, значит, собственно, «готское»; готы тут и не бывали...
Древнее «тьюдд» имело свои судьбы и в других языках. Оно по сей день живет в итальянском «тедеско» — «немец», во французском «тюдеск» — «грубый, неуклюжий, варварский»...
Вот вам и «прекрасно озеро Чудское»!
А польза?
Честно говоря, я думаю, что вы узнали немало довольно любопытного. Но может встать вопрос: а пользу какую-нибудь знание этих курьезных историй и сведений приносит, или это просто забава ученых мужей для тренировки ума, вроде раскладывания этакого «ученого пасьянса»?
Есть во Франции, между городами Шартром и Орлеаном, обширная область Бос (Beauce) — плодороднейший край, житница страны. История Бос всегда была полна неясностей.
Вот, например, местные легенды рисовали древнюю Бос покрытой дремучими лесами. Историки и археологи страстно протестовали: не было там никаких лесов! Но ботаники колебались: может быть, не было, может быть, были...
И тогда Альбер Доза (это имя я уже упоминал) предложил проверить дело данными топонимики.
Доза рассматривает само слово «Beauce». Оно оказывается связанным с кельтскими словами, означавшими «лесная прогалина», «лужайка в лесу». Оно так же происходит от кельтского слова, означавшего «светлый», как современное французское «поляна» — «клэрьер» от «клэр» — «свет»... Там, где есть лесные поляны, не может не быть леса. Это — раз.
А кроме того, на территории Бос встречается великое множество названий, селений и урочищ, за которыми стоят — теперь уже не кельтские, а латинские — слова, значащие: «лес». Брийé — это в прошлом Бргиа Сильва — Бригийский лес. Грюйе — Крóдиа Сильва — Кродийский лес... Если бы нынешний Брянск лежал на совсем пустом месте, среди чистого поля, одно его имя — Дьбрянск — было бы доказательством {119} того, что в былые дни он тонул в лесных дебрях. Так же и тут.
Вывод оказался ясным: безусловно, область Бос была некогда лесистой, и ее леса изобиловали веселыми светлыми полянами, лужайками, опушками... Споры прекратились: топонимика разрешила их.
Вторая сторона дела. Некоторые историки Франции настойчиво утверждали: в дни великого переселения народов вся Бос подверглась полному опустошению, была начисто разорена варварами. Прямых свидетельств этому привести нельзя, но предполагать-то можно.
А что говорит топонимика?
И опять же Доза указал на интересную подробность. В то время как там, во Франции, где разорение установлено по летописям, по документам, встречается всюду много названий, произведенных от слов «руины», «развалины» (на севере страны постоянно попадаются Мезьéр’ы; это имя произведено от латинского «масэриа» — «развалина», «стена». На западе — свои топонимы с тем же значением, на юге — свои). А вот в области Бос таких имен нет совершенно. «Топонимика, — справедливо говорит Доза,— неминуемо отметила бы разорение, катастрофу, если бы они действительно опустошили и обезлюдили страну». Раз этого нет, не было тут и такого разгрома...
Как видите, наша наука показывает удивительную способность узнавать не только о том, что было когда-то, но и о том, чего не было. Это куда более трудная задача.
Может она иногда как бы рентгеном просветить древнюю землю, открыть то, от чего на поверхности не осталось и воспоминания.
Урочище Сюссак возле города Руана (в той же Франции) расположено среди песчаных дюн. Тут есть сравнительно молодой, искусственно насажденный сосновый лес. Раньше — по общему мнению — это был вековечный пустырь, на бесплодных песках которого никогда никто не селился.
Но вот именем Сюссак заинтересовались топонимисты. Подозрительно: такого типа имена характерны для римско-галльской эпохи, для ее земельных владений, обычно населенных поместий. Археологи долго отказы-{120}вались начать тут раскопки: безнадежно! Наконец — попробовали. И сразу наткнулись на фундаменты и остатки стен самой настоящей галло-римской виллы... Торжество топонимики оказалось полным: она предсказала заглазно то, чего никто не знал и не видел. Так в свое время математик Леверье кончиком вычислительного карандаша отыскал в небе неведомую планету, не видимый простым глазом Нептун.
Топонимисты справедливо гордятся такими возможностями. Доза уверенно пишет: «Опираясь на данные топонимики, археологи сумели отыскать истинную прародину кельтов в Южной Германии, вопреки тому, что предполагали до того историки, искавшие ее в совсем других местах...»
Вы спросите, почему я доказываю пользу топонимики одними только зарубежными примерами? Разве нет таких же ярких достижений у нас?
По ряду причин русская топонимика долго была задержана в своем развитии. Только в наши дни для нее наметилась полоса расцвета. Надо надеяться, скоро русские топонимические исследования начнут оказывать все большее и большее воздействие на смежные с ней науки.
Первое, что нужно для этого,— собрать и углубленно изучить как можно больше названий тысяч, десятков тысяч наших рек и речек, больших городов и самых маленьких деревушек, имена ручьев, источников, болотец, ничтожных холмиков и лужаек, и, прежде всего не тех, которые рождаются сегодня, а самых старых, проживших долгие века, видевших очень многое.
Для такой работы нужны умелые, грамотные люди — топонимисты-собиратели, топонимисты-исследователи. Они не рождаются готовыми: их надо обучать уже начиная со средней школы.
Появятся кафедры топонимики в вузах. Возникнут ученые общества и школьные кружки. Все это скоро будет, и — кто знает? — может быть, именно вы, мои сегодняшние читатели, заинтересовавшись впервые топонимикой по этой книжке, потом, много позже, отдадите ей лучшие годы своей жизни...
Вы не раскаетесь в этом: топонимика вознаградит вас. {121}
Тысяча Новгородов
Я мог бы поставить тут сколько угодно других заголовков: «Десять тысяч ворот» или «Броды и базары»... Они точно так же соответствовали бы моей мысли.
Вот о чем мне хочется вам рассказать. На свете живут народы разных рас, различного цвета кожи. Они говорят на множестве различных языков. На первый взгляд — все у них непохожее: нравы, обычаи, внешность. Но думают и чувствуют они все, в общем, одинаково. Черные, белые, желтокожие — люди есть люди.
Это очень важное наблюдение, и его великолепно подтверждают географические имена всего земного шара.
В Западной Германии есть город Штутгарт. Имя довольно неожиданное, оно значит «Конный завод», «Конюшня»: «штýтэ» по-немецки — «кобылица».
Казалось бы, можно идти на спор, что другого такого названия не может найтись в мире; видимо, оно — результат какой-то случайности. Но вот перед вами кусок карты Ирана. Вот город, возле которого стоит надпись: Исфагань. И если вы спросите у персоведов, иранистов, что значит это слово, вам ответят: «Оно значит «конюшня», «конный двор».
Откуда такое совпадение? И в Древней Германии и в Иране были времена, когда войско состояло в основном из конницы: вспомните средневековых рыцарей, тяжеловооруженную кавалерию, игравшую роль наших современных танковых войск. Коннозаводство было в великом почете. Места, где разводили или содержали лошадей, обрастали целыми поселениями рабочих, скупщиков и перекупщиков, по-разному связанных с этим делом лиц. Могло случиться так, что вокруг образовывался город, и он получал имя «Конный двор». В Германии, как в Иране, потому что все народы мира, развиваясь, проходили одинаковые ступени истории. Всюду жизнь шла сходно, действовали одни законы, возникали примерно одинаковые явления.
Житель каждого городка обычно склонен думать: «Имя моего города — одно во всем мире». А постоянно, если поискать, оказывается: в другой части земли есть второй такой же городишко, называемый так же, {122} а там — третий, четвертый... Часто мы лишь потому не замечаем этого, что названия-то эти звучат на разных не знакомых нам языках.
Великий американец Марк Твен — большой мастер «вкручивать очки» читателю. С самым серьезным видом он любит преподносить ему за глубокую научную истину разные смешные выдумки. Поэтому я не поручусь вам, вычитал ли он откуда-нибудь или сам — на смех — сочинил такое «древненемецкое предание» [50]1.
«Карл Великий, король франков, искал для своего войска брод через реку Майн. Внезапно он увидел: к реке направляется лань... Лань перешла реку вброд, а за нею переправились и франки. Так им удалось одержать большую победу (или — избежать крупного поражения), в память о которой Карл приказал заложить на том месте город и назвать его Франкфурт, что значит «Франкский брод» и раз ни один из остальных городов так назван не был, то можно смело утверждать, что во Франкфурте подобный случай произошел впервые...».
Старый лукавец, этот седоволосый умница с Миссисипи! «Раз ни один из остальных городов так назван не был»! Он-то великолепно знал, что это чепуха!
Брод в старину и сейчас — вещи совершенно разные. В древности каждая переправа через реку была чрезвычайно важным, замечательным и привлекательным местом. Река — «голубая дорога»; но она же — особенно для людей прошлого — всегда была и «голубой преградой на пути». К переправе — к паромной, лодочной, к мосту или броду — отовсюду тянулись тропы и дороги; возле нее скапливались и оседали надолго и друзья: купцы, лодочники, содержатели постоялых дворов, чиновники, и враги: разные темные людишки, ожидавшие возможности в суете поживиться чужим добром. Вырастало селение, потом — городок; и, если он вырастал у моста, он получал имя «Такой-то мост», если у брода — «Такой-то брод: Франкский — Франкфурт, «свиной» — Швейнфурт, «Брод на излучине» — гальский Камбо-ритос, нынешний Шамбор во Франции, в департаменте Луары и Шера. {123}
Трудно нам теперь решить, почему брод возле английского старейшего университетского городка получил название Бычьего брода, Окс-форд’а, но свое имя он передал этому небольшому древнему селению. Навряд ли это было намеком для будущих студентов, предложением не «плавать» на экзаменах, а смело идти через все препятствия... Были ли тут славные пастбища, на которых паслись «жирные говяда», утонул ли некогда в реке какой-то бык — кто теперь знает?
Важно, что «Бычий брод» в мире не один. Пролив, отделяющий Европу от Азии, называется издревле Босфором или Боспором; это греческое слово означает буквально то же самое: «Бычий брод» [51]1. Есть и еще один Босфор — киммерийский; он лежит между Черным и Азовским морями; надо полагать, его имя принесли сюда с собой колонисты-греки, с берегов того Босфора, первого. Есть типичный тезка английского Оксфорда в Западной Германии — немецкий Оксенфурт, в Баварии. Есть множество других «фуртов» — бродов — в этой стране, и не меньше того у нас в России всевозможных «Ореховых бродов», «Глубоких бродов» — о них я еще скажу в другом месте и под другим углом зрения.
Но ведь я мог бы начать разговор не с переправ, а, скажем, с тех мест, имена которых связаны с происходившей некогда возле них рыночной торговлей и значат «рынок», «место купли и продажи».
Таких мест столь много, что их еще никто не учел, не зарегистрировал на всех языках мира. Собрав их все вместе, мы получили бы основательный томик, и разобраться в нем мог бы только настоящий полиглот.
Для нас с вами первым примером подобных имен может служить наше Торжок, имя маленького городка между Москвой и Ленинградом, в Калининской области. Торжок и значит: «маленький торг, рыночек». Город лежит недалеко от примечательного места — Вышнего Волочка, через который проходил древний путь из реки в реку, из северо-западных новгородских областей в восточные московские и замосковские просторы. Был ли где-либо поблизости другой, больший «торг», мы теперь сказать не можем, но этот маленький «торг» — {124} Торжок — стоял тут, на торговой дороге с Волхова на Волгу уже в самом начале XI века...
Интересное слово «торг»: оно живет одинаково, в сходном значении и в русском и в скандинавских, германских языках. У шведов рыночная площадь и сейчас «torg»; трудно даже наверняка сказать, чье это слово и кем позаимствовано у кого, нами у скандинавов или ими у нас? Но финны, несомненно, получили его от нас: приморский портовой город Турку на крайнем юго-западе Финляндии носит имя, которое представляет собой закономерное видоизменение русского слова «торг». Турку значит «рынок», «базар», «торжок». Шведы переименовали город в Або — «Поселение у воды», но, получив самостоятельность, финны восстановили древнее его имя.
Русские издавна жили бок о бок с тюркскими племенами; многие их слова кажутся нам «нашими», исконно русскими, так давно они вошли в наш язык. Мы отлично понимаем, что любое местечко, в состав имени которого входит слово базар, означает «рынок». Старый крымский городок Кара-су-базар — это «Чернореченский рынок», и в «Базарной балке» возле Симферополя тоже, несомненно, некогда велась торговля.
Но куда больше на свете таких «торжков», имена которых мы не связываем с этим понятием, не зная языков, на которых они наименованы. Случается постоянно, что и сам хозяин страны — народ, владеющий местом с таким названием, не подозревает о его значении.
Неподалеку друг от друга существуют два городка: во французской Швейцарии — Фрежюс, в Италии — Фриули. Их жители называют себя фрежюсцами и фриульцами, но, если они не топонимисты, могут и представления не иметь о значении этих слов.
А оба названия значат одно: оба они — переработка латинского словосочетания «Forum Julii», то есть «Юлиева торговая площадь», «Юлиев торг».
А тут же рядом, во Франции, живут имена, в которые входит измененное галльское «— магос»; оно тоже значит «рынок», «торг» [52]1, и другие, составной частью {125} которых является германское «маркт» — слово того же значения.
Всюду и везде люди на протяжении веков и веков торговали между собой. Всюду и всегда они выбирали для этого наиболее удобные, самые доступные для встреч площадки: на перекрестках путей, на речных переправах, на узких перешейках между непроходимыми болотами и бурными озерами. Отсюда и Базар-Джама, «рыночная балка», в Крыму, о которой я уже сказал; отсюда и звучное имя канадской столицы Оттава — «место торговых встреч» [53]2 по-индейски. И этот город возник там, где два века назад встречались для меновых сделок гордые и несчастные истинные хозяева Америки — индейцы — с лукавыми и безжалостными поработителями — бледнолицыми.
Переправы, торговые площадки... Таким же всеобщим вниманием издревле пользовались во всех концах мира целебные источники, всевозможные минеральные, особенно горячие, ключи. Сильно поражали они воображение древних людей.
Мы говорим Тбилиси, и имя столицы Грузии означает «Горячие ключи». Но тоже самое значит по-английски имя Хот Спрингс в Северной Америке, и Агуас Калиентес в Мексике, и Сыджак-Су в Турции, и Горячеводск у нас на Северном Кавказе...
Это все «горячие воды», «кипучие ключи» на разных языках. Несомненно, такие названия есть во всех странах мира, где только бьют из-под земли таинственные, вечно курящиеся дымом целебные струи.
Множество городов и местечек земного шара носят имена, означающие либо «воды», «источники», либо же «бани», «купальни». Вот короткий список самых известных:
Бани, купанья Воды, родники
Банья Лука — Югославия [54]3Аахен — Западная Германия
Баден-Баден — Западная ГерманияЭ, экс — Франция {126}
Экс Лёбéн — ФранцияКарловы Вары — Чехословакия
Альгама — ИспанияКисловодск — СССР
Алькамо — ИталияЖелезноводск — СССР
Минеральные воды — СССР
У кого есть разноязычные словари и подробные географические карты, может без труда расширить этот перечень во много раз.
Как видите, такого рода названий на свете более чем достаточно. Но все-таки я недаром озаглавил этот раздел книги: «Тысяча Новгородов».
Ученые указывают: на конкурсе наиболее часто входящих в наши топонимы слов первое место заняло бы, вероятно, слово «новый».
Это по-человечески понятно. Жители какой-нибудь деревни почувствовали, что им стало тесновато на старом месте. Часть из них собирает скарб и, захватив с собой старые вещи, дедовские обычаи, собственные пристрастия, перебирается на новое место. Рождается или Новая деревня (в Ленинграде есть такой район как раз рядом со Старой деревней), или Новая Ивановка, если родной поселок звался просто Ивановка.
Поселенцы в новых местах обнаруживают в лесу невиданное ими озеро. Оно напоминает им то озеро Жуково, которое плескалось там, далеко, на их родине. С удовольствием они нарекают его Новожуковским озером: приятно на новых местах вспомнить старые угодья. Подобными примерами пестрит любая подробная карта страны: Новая Гребля, Новая Водолага, Новая Ляля, Новоивановка, Новолюбино, Новопестерево... Можно поручиться, что их {127} основали выходцы из Гребли, Водолаги, Ляли, Ивановки, Любина, Пестерева...
В развитых странах место рождения покидают часто, отправляясь за темные леса, за синие моря, и жители больших городов, смелые искатели приключений. Им тоже бывает теплее на новом месте, если город, основанный за тридевять земель от родного дома, получит старое имя с добавлением «новый».
Часто так и бывает: надо думать, что Новоминск в Польше у Варшавы назван так теми, кому был дорог просто Минск в Белоруссии. Новая Русса получила свое имя, конечно, с оглядкой на Старую Руссу под Новгородом, расположенную не так уж далеко.
А бывает, имя не повторяется. Вновь основанное поселение просто нарекается Новым Городом, Новгородом: для его жителей и так понятно, о каком старом городе думали они.
Это обыкновение — чрезвычайно древнее, и мир переполнен в наши дни бесчисленными Новгородами, только название это звучит повсюду на разных языках.
Наших русских Новгородов не стоит, собственно, и касаться особенно подробно: все мы их знаем. Это — первый и главный из них: Господин Великий Новгород на Волхове; это Нижний Новгород на Волге, Новгород Северный на Десне, Новгород Волынский на берегах маленькой Случи, Новогрудок (то есть Новый Городок) в Гродненской области. Обратите внимание на Нижний Новгород (теперь это город Горький [55]1): его имя, собственно говоря, может быть понятно, как «дважды Новый Город».
В самом деле, пока существовал один только Новгород на Волхове, никому не могло прийти в голову звать его, для отличия, верхним; спрашивается, а от чего отличать? А вот как только возник второй, младший по возрасту одноименный город, отличка-определение понадобилось. Слово «нижний» приобрело двойное значение: «расположенный на низу, в Низовской земле», но в то же время и «основанный при уже существующем просто Новгороде», который нет смысла переименовывать в «Старый» или «Верхний», потому что именно с него начат счет. {128}
Но это вещи общеизвестные. Поговорим о зарубежных, иноязычных «новых городах» — Новгородах: их не каждый сумеет найти и опознать на карте мира.
Где расположен древнейший из нам известных Новгородов Земли? Пожалуй, можно это почетное звание условно (пока не нашли чего-либо еще более старого) присвоить африканскому Карфагену. Финикийцы основали его как свою колонию за восемь — девять столетий до начала нашей эры. Они дали ему имя Карт-Хадашат; на их языке это значило: «Новый город». Картаго — Карфаген — это уже позднейшая римская переделка непонятного римлянам названия.
Финикийцам он казался «новым» по сравнению с городами, расположенными на их родине. Карфагенцы скоро стали относиться к нему, как к старейшему из их собственных городов,— они тоже оказались заядлыми колонизаторами. Приняв эстафету из рук предков, они стали основывать в Средиземноморье свои колонии. По крайней мере одной из них они придали то же самое имя: нынешняя Картагена в Испании ясно говорит нам об этом. Вполне возможно, что сами карфагенцы говорили о ней, как о «Северном» или об «Иберийском» Карфагене. Для них она была вторым, новейшим Новгородом.
А который из Новгородов мира следует признать самым огромным, самым грандиозным? Это Нью-Йорк (по-английски «новый», в староанглийском языке слово это значило то же, что в древнерусском «город»: спрятанное в стенах поселение-крепость). Правда, тут нельзя без оговорки: величайший из американских городов был назван не прямо по маленькому английскому Йорку — «городку», он получил имя в честь одного из герцогов Йоркских. И все же слово «Нью-Йорк» значит «новый город», а ведь его населяет около десяти миллионов человек!
Попробуем Новгороды других стран перечислить в виде небольшой таблички.
В германских языках «город» — «штадт», иногда «бург» (город-крепость). Все возможные германские Нойбурги и Нойштадты — это всё Новгороды; их очень много. {129}
У англичан им соответствуют Ньютоуны и Ньюборо (английский язык тоже принадлежит к числу германских). Сюда же относятся и Нью-Йорки; это мы уже знаем.
Шведские и вообще скандинавские (то есть северогерманские) Новгороды именуются Нюстадтами и Нюборгами; это иное произношение тех слов — названий. Как только Финляндия освободилась от чужестранного владычества, она свой Нюстадт переименовала в Ууси-Каупунки, это прямо значит «Новый город» по-фински.
На юге Европы — широкая область господства «романских», родственных древнеримскому, языков. Тут множество городов, в имени которых есть римское (латинское) слово «вилла». В Испании, Португалии, Италии стоят тамошние Новгороды — Вилланова, Вилла-Нуэва, во Франции — Вилльнёв и Нёйвилль. Но в то же время в такие имена может входить как составная часть и итальянское «чивитта», испанское «сьюдад», английское «сити», французское «ситэ»: это всё — производные от латинского «цивитас» — «город» слова. Видите, как совершенно по-разному звучат потомки одного древнего слова в различных новых языках. Поэтому если вы встретите где-либо на карте город Чивитта Нова, это будет тоже Новгород, как и Нью-Сити или французское Ситэ-Нёв...
У подножия Везувия красуется, может быть, самый прекрасный из Новгородов Земли — Неаполь. Его имя вам нетрудно разгадать: вы знаете, что греческое «полис», «поль» значило когда-то именно «город». А «на» — это, конечно, «ново».
Древние греки были опытными и предприимчивыми колонизаторами: свои Неаполисы они разбросали по всему извест-{130}ному им миру. Неаполь Скифский —
Это «Новгороды» Запада.
А сколько их в Азии, Африке?
Ищите и отыщите!
именовался город, древние руины которого откапывают сегодня советские археологи рядом с другим, уже не греками названным, городом Симферополем, Пользоградом.
В тюркских языках немало слов со значением, близким к «город»: «шехир», «кермен», да, пожалуй, и «кала» или «кале» (правда, «кале» — это скорее «крепость», но были времена, когда каждый город был крепостью и каждая крепость — городом). Еникале назвали турки вооруженное поселение возле нынешней Керчи, и имя это значило «новая крепость», или «новый город». Приглядитесь к картам Турции и нашей Средней Азии; может быть, вы и найдете там такие имена.
Их можно было бы разыскать и во всех остальных странах мира. Я не сомневаюсь, что есть Новгороды китайские, японские, индийские... [56]1 Впрочем, не владея этими языками, я высказываю только предположение, а разыскивать такие восточные Новгороды предоставляю знатокам.
***
Раз уж зашла речь о «новых» городах и весях, как не сказать два слова и о тех, которые удостоены звания «старых»?
Правда, есть крупные ученые (тот же Доза), которые утверждают, что такие топонимы должны встречаться редко: «новость» отличает населенный пункт или природное урочище от всех других; «старость» не является такой отличкой: все обжитые места — стары. С чего бы мы начали вдруг старейшину наших городов, Киев, звать «старым»? Появись еще один Киев, мы бы скорее назвали именно его «новым», и дело с концом...
В Соединенных Штатах множество городов — тезок городам других стран и частей света. Там есть Москва, как в России [57]1, есть Вифлеем, как в Древней Иудее и в государстве Израиль, есть Мемфис, как в Египте. Но ведь ни русские, ни египтяне не стали называть свои города «Старая Москва», «Старый Мемфис», {132} узнав, что за океаном появились их двойники. Да и американцы не вздумали бы поступать так.
Это все верно, и тем не менее названий, начинающихся со «старый», на свете отнюдь не мало. У нас рядом с малоизвестной Новой Руссой есть очень известная Старая Русса. Недалеко от Новой Ладоги имеется Старая Ладога. О Новой и Старой Деревнях внутри нынешнего Ленинграда я уже говорил.
Вот что рассказывается в книге писателя С. Баруздина, которая так и называется: «Новые Дворики»:
«...Видна деревня. Непонятно, почему она называется Старые Дворики... Отец говорил, что это было испокон веков, когда еще французы на Москву шли. Тогда деревня сгорела; она просто Дворики была. Ну, а отстроили на старом месте деревню,— назвали Старые Дворики...»
Если судить по повести, название Новые Дворики появились много позднее, уже после второй, Великой Отечественной войны. Как видите, и так бывает.
Все, что я сказал, можно повторить и о зарубежных странах.
В Италии есть город Чивитта Веккиа — Старгород; я уже о нем говорил. Вероятно, такое имя не родилось вместе с только что основанным городом. Вот когда он «устарел», когда где-либо в стране появился «новый город» (может быть, тот же Неаполь), это имя могло быть присвоено «старику».
На Испанской земле имеется такая же реликвия далекого прошлого, город, по имени Мурвиедро — «Старая стена». Наверное, когда первые домишки его встали тут на своих незатейливых фундаментах — очень давно, в глубоком средневековье, — над ними уже высились в загадочном молчании древние даже тогда стены полуразрушенной римской крепости. Услышишь такое название — Мурвиедро, и пахнет на тебя далеким, как вечность, прошлым, ушедшей юностью народов, дымами исчезнувших цивилизаций...
Охраняйте старые имена, берегите их звучание: они — экспонаты великого музея топонимики. Они расскажут нам еще о многом... {133}
***
Хочу добавить для самых любознательных.
Понятие «новый» может иногда выражаться не только прилагательными «верхний» и «нижний» [58]2, но и «малый» и «большой», да и другими эпитетами. Оно может как бы незримо скрываться в них. Если между Москвой и Ленинградом есть станция Малая Вишера, то, конечно, кажется нам, должна быть где-то и «просто Вишера», ведь нужно же сравнение с чем-то... На самом деле «просто Вишера» не селение, а река; она течет тут же неподалеку. Есть и вторая речка, Малая Вишера, приток «просто Вишеры»; станция была названа именно по ней. Забавно, что рядом, на той же дороге, имеется и разъезд Большая Вишера. Перефразируя слова славного английского сказочника Льюиса Кэррола, «тут странность заключалась в том», что Малая Вишера — всем известная большая станция первого класса, а Большая Вишера — никому почти неведомый полустанок.
Но и это можно понять. Названия оба поселка получили тогда, когда дороги еще не было; первый был меньше, второй — больше. А железный путь, изменив соотношение между, ними, имена оставил по-старому...
Подобьем итоги. Мне хочется, чтобы вы уверились в том, что при очень большом своеобразии — и национальном, и языковом, и зависящем от времени и места, — с каким народы решают вечно новую задачу изобретения географических имен, всюду и всегда они особенно охотно используют некоторые приемы, которые являются и всеобщими и как бы вечными.
Пестрота этих названий, то, что почти каждое такое имя создается на свой лад и образец, делает работу топонимиста-толкователя особенно увлекательной и особенно трудной. Эти задачи не удается решать «по правилам», как некоторые математические.
Но вот ведь оказывается иногда возможным нащупать и какие-то постоянные приемы, общую манеру эти имена давать. Открываются такие законы, которые общи для всех племен и рас; появляются общечеловеческие модели географических названий. Это уже не затрудняет, а облегчает топонимическую работу. {134}
ЕСЛИ РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛКАМ...
Мы накопили много материала, встречались с самыми разными топонимами, наблюдали их — тоже весьма различные — приключения на историческом пути.
Что, если попробовать разнести все же их, для порядка, по каким-либо рубрикам и группам? Правда, как я только что сказал, все они крайне различны. Каждый из них (или почти каждый) выглядит таким же особенным и неповторимым, как живое существо или, может быть, лучше сказать, как те горы и реки, города и поселки, именами которых они являются. Подумайте сами: что на свете разновиднее, чем две долины, три ручья, даже если они текут совсем рядом?
И все же какие-то разряды среди них можно различить. Что удивляться? Ведь даже приглядываясь к вашим товарищам, мальчуганам и девочкам, вы видите: хоть каждый из них на свой образец, а между некоторыми лицами, походками, характерами мерещится сходство. Вот Оля Ц. У нее свое все, но есть чуть заметное сходство с Ниночкой Костенко. А Виктор Глотов чем-то напоминает Петю Ребрикова; ничем не похож, а ухватка Петина. Так и с именами.
Для начала попробуем присмотреться к тому запасу слов и понятий, из которого черпают люди свои географические имена. Вернемся как бы вновь на жюльверновский «Необитаемый Остров»... {135}
Вывески —
памятники — монументы
Историк-топонимист С. Веселовский сообщает: на землях между двумя великими русскими реками — Волгой и Окой — больше 50% названий человеческих поселений составляют такие, в основе которых лежат личные имена людей — основателей или владельцев всех этих хуторков, деревень, сел и починков.
По мнению Веселовского, они являются как раз и самыми древними, и самыми «прочными» — устойчивыми на протяжении долгих лет.
Похоже на правду: западные языковеды и сегодня, заговаривая о таких отыменных топонимах, ссылаются на библию и на античные предания.
Вот, например, Каин: он был вторым мужчиной мира, ведь это старший сын «первого человека» — Адама. Первый основанный на земле город он будто бы назвал именем своего сына, Адамова внука, Енохом (по толкованию языковедов-гебраистов имя Енох значило по-еврейски «посвященный» или «посвящающий»).
Спору нет, рассказ вызывает подозрения. Всего-то на Земле обитала, по его же прямому смыслу, одна-единственная семья, один род Адама и Евы. Как же могла она разрастись с такой быстротой, чтобы их внуки (другим людям неоткуда было взяться) могли населить целый город?
Ну ясно, ученые Запада не дети: они и не вкладывают в эти «сведения» полной веры. Они просто понимают их как свидетельство великой древности такого способа называть поселения. Они проверяют библейские данные мифами и преданиями античного мира. Греки рассказывали, будто Византию (по-латыни — Бизанциум) основал в VII веке до нашей эры некий переселенец из Мегары, по имени Бизас. В его честь город и носит свое имя.
Это, конечно, верно; то же самое мы постоянно наблюдаем вокруг себя, когда называются не великие города, а деревушки, маленькие села, починки (от слова «почин», то есть «начало»), заимки. Очень часто их названия связываются с именами или фамилиями, если не их «основателей» (А. Доза верно говорит: «Города основываются; деревни — возникают»), то их первожителей, самых первых поселенцев. {136}
Я взял лист бумаги и написал на нем (многие из вас могут повторить этот опыт) названия деревень, окружавших то псковское сельцо, в котором прошли мои детские годы. Написал без выбора, все самые ближние.
Из двенадцати имен девять оказались связанными с человеческими именами: Коськово, где некогда жил Костько, Константин; Исаково — от какого-то Исаака; Назаркино — по уменьшительному имени Назарка, и так далее и тому подобное. Девять из двенадцати. Семьдесят пять процентов!
Рядом нашлись, конечно, такие, которые явно не имели отношения к людским именам: Липовицы или Концы. Но сколько угодно оказалось и сомнительных. Деревня Мешково, например. Название явно связано со словом «мешок», но слово это, вероятно, было некогда прозвищем какого-то зажиточного человека. Я сам знал такого: до революции он гордо кичился прозвищем «Золотой мешок», а после нее стал называть себя Васей Горьким...
Почему я так подробно говорю об этих тонкостях? Может быть, кому-нибудь из вас, читателей, выпадет на долю всерьез заняться топонимикой, искать и собирать названия наших малых селений и деревень. Надо заранее знать: за кажущейся простотой «отыменных названий» таятся немалые трудности.
Казалось бы, просто: Василёво — от Василия, Данилово — от Данилы, никакой хитрости.
Но допустим, вы в Псковской области попадете в деревню Кушкин берег. Откуда это Кушкин? Может быть, сокращенное «кукушкин» или искаженное «кошкин»?
А на самом деле Кýха, Кýша, Кýшка — псковские уменьшительные от имени Акулина; они дожили там до самой революции. «Кушкин берег» — «Акулькин берег».
Неопытный собиратель, встретив имя Ермаково, предположит, чего доброго, что жители деревни решили увековечить в ее названии память покорителя Сибири. А в действительности Ермаками там же на Псковщине, да и в других местах, испокон веков зовут запросто и Ермолаев и Еремеев... Фамилия Ермаченковы {137} вполне равна книжной Ермолаевы, и, несомненно, деревня Ермаково обязана своим именем не прославленному Ермаку Тимофеевичу (он-то, кстати, тоже был, возможно, либо Ермолаем, либо Ермием, а то и Германом), а какому-нибудь местному жителю, матерому деду Ермаку, никогда и не бывавшему в Сибири.
В детстве я далеко не сразу сообразил, что деревня Польшинó названа не в честь страны Польши, а по ласкательному Польшá — Павлуша, Павел; что пустошь Мóнино могла когда-нибудь принадлежать Филимóну, Петрéшкино — не Петрушке, а Петрéшке.
Тому, кто думает заняться изучением географических имен, надо великолепно знать русские имена личные, а это целая наука. Ведь у них имеется не только довольно сложное настоящее, но и очень запутанное прошлое.
Как вы думаете — каково происхождение имени города Ростов? Вы не ответите на этот вопрос, если вам неизвестно, что в Древней Руси у имени Ростислав была уменьшительная форма Рост. Видимо, каким-то Ростом-Ростиславом и был уже в девятом веке основан Ростов Великий [59]1. К нашему времени уже никто не помнит об имени Рост, и название города перестало в наших глазах выглядеть, как отыменное.
Таких случаев сколько угодно. Вторая столица Украины, огромный Харьков, по преданию, возник на месте хутора, принадлежавшего некогда вольному казаку Харько, то есть Харитоше, Харитону. Очень может быть, что это так и есть. От ласкательного Осташко, то есть Евстафий, получил свое название живописный Осташков на ласковом озере Селигере в Калининской области. Я не знаю, кем он был, этот Остафий-Евстафий, чье имя как бы навеки занесено на топонимическую мемориальную доску нашей страны, но что ж, бывает, слава человека проходит, память о нем исчезает, а какая-нибудь его статуя или памятник все еще стоит, удивляя потомков. Топонимы часто оказы-{138}наются такими нерукотворными памятниками давно усопшим людям.
Иногда случается, что имя человека доходит до нас в имени места, облеченном в древнюю, уже не понятную нам форму. Не каждый знает, что в названии Ярославль это самое «ль» значило то же, что теперь значит наш суффикс «-ов»; Ярослав-ов город. Таково же происхождение имен Изяславль, Переяславль, связанных с именами Изяслав, Переяслав. В народе же последнее из них давно уже объясняется, как «место, где один князь перея славу у другого»; народ уже не понимает и не помнит этого своего древнего «-ль».
Еще неожиданней кажется обычно, что и окончание имени места Радонежь было некогда таким же суффиксом принадлежности — Радонегов починок! Кто же теперь помнит древнерусское имя Радонег? Оно было языческим, и вполне возможно, что даже сам современник и советник Дмитрия Донского, Сергий, прозванный Радонежским, не знал значения имени маленького городка Радонеж в 55 километрах от тогдашней Москвы.
Я уже упоминал западно-славянское географическое имя Радогощ; оно построено в точности как Радонеж, но связано с именем Радогост, а не Радонег.
Видите: чтобы разбираться даже в русских «отыменных» топонимах, надо знать многое: и современные, и древние имена, и полные, и уменьшительные их формы. В иноязычной топонимике этого рода ориентироваться с налета еще сложнее. И дорастает до своего потолка эта сложность, когда мы встречаемся с именами, претерпевшими большие звуковые изменения при переходе от народа к народу.
Есть названия, прошедшие сквозь строй веков в почти не измененном виде. Константинóполис — Константиноград — получил свое греческое имя в IV веке нашей эры. У него было, кроме этого, много других имен: русские звали его Цареградом, норманны — Мюккльгордом, турки Истанбулом, но его второе по древности имя и сейчас звучит во всех европейских языках почти как в день рождения (первым именем было Визáнтий), храня память о его основателе — Константине Великом. {139}
А вот его ближайший сосед Адрианополь в языке турок превратился в Эдирн. Это было не сознательное переименование, просто так турки произносят это слово. Император Адриан, заложивший его стены в далекой Фракии, не понял бы, что речь идет о его собственном детище.
Европейцы все-таки и сейчас называют Эдирнэ Адрианополем.
Но никто, решительно никто не зовет теперь город на Пиренейском полуострове так, как в свое время окрестили его римляне. В честь Цезаря Августа они назвали свой оплот в далеком краю гордо: Цезараугустэа. Смена языков камня на камне не оставила — не от города (город стоит!) — от его пышного имени. Теперь он именуется по-испански Сарагóсса, опять-таки не замена — переделка...
В той же Испании, на ее северо-востоке, глухо кипит ненавистью к фашистскому режиму индустриальная, рабочая Барселóна. Единицы из тех, кто произносит это слово, знают, что оно означает, по сути дела, Барцна колóниа — карфагенская колония, основанная семейством Барку, из которого вышел великий воин Ганнибал. Финикийская фамилия Барку означала «молния» — неплохое имя для грозного врага, чуть не сокрушившего Рим!
Римляне разбросали имена-памятники по всей Западной Европе. Вот город Кёльн в Западной Германии, тот самый, который славен одеколоном, «кёльнской водой» по-французски, изобретенным в нем. «О-де-Колонь»... О — вода, де — предлог принадлежности, Колонь — Кёльн. Город основан как Колониа Агриппина, Марком Агриппою, полководцем.
Вот французский Орлеан, городок в живописной Луарской долине. Теперь он, как говорят справочники, «славится своей спаржею», а ведь когда-то это была грозная твердыня Аурелиáнум — создание Клавдия-Люция-Валерия-Домиция-Аурелиана, «одного из деятельнейших римских цезарей», если верить энциклопедиям. В этом Орлеане в 1946 году жило 46 000 человек, а вот в Новом Орлеане их в те же годы обитало 550 000... Удивился бы деятельный цезарь, узнав, что его имя звучит далеко за Геркулесовыми Столбами, у антиподов, на той стороне Земли. {140}
Но его удивление возросло бы еще больше, если бы он мог узнать, что «в феврале 1918 года на славгородский Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Кулундинской степи,— у тех самых Алтайских гор, на которых, по словам Геродота, обитают единоглазые аримаспы, а выше их — только «стерегущие золотые грифы», — прибыл, в числе других, Яков Жестовский, депутат от алтайского села... Орлеан».
Каюсь, я не выдержал и забежал вперед: о таких неожиданных и причудливых переселениях имен из страны в страну и с континента на континент, я думаю, мы с вами поговорим подробнее несколько позже.
Среди латинских по корню топонимов Франции много таких, которые являются перестройкой слова «аугустус»; этот титул императора Августа Октавиана был словом, означавшим «величественный», «священный». Нынешний Отён (Autun) был когда-то Аугустодунумом; римское «аугýстут» сочеталось тут с кельтским «дунум» — «город»; имя Огст (Augst) восходит к Аугуста Раурикорум (раурики — название галльского племени).
Об именах, связанных с Юлием Цезарем, таких, как Фрежюс — «форум Юлии», я уже говорил. Не буду тянуть этот перечень: другие владыки Рима также не забыты в топонимике Франции: современный Гренóбль, например, есть переделка древнего Грацианопóлуса, города императора Грациана.
Теперь — внимание! Существует мнение, что подобные имена-памятники, имена, увековечивающие людей не во все времена, не во все эпохи, были одинаково любимы. Древний Рим всюду воздвигал такие словесные монументы. В раннем периоде французской истории этот обычай тоже был широко распространен. А вот за средние века он как-то вышел из обыкновения. Средневековая религиозная мораль была против прославления даже самых великих из земных владык: она знала только небесные доблести.
Всюду в западной топонимике императоры и полководцы уступают место христианским святым, особенно богородице, то есть деве Марии, и апостолам. Нет больше в именах ни Августов, ни Юлиев, ни даже Карлов. Вперед выступают Сен-Луи — святой Людовик (правда, он был королем Франции), Сен-Мартин — {141} святой Мартин, национальный святой французов, Сент-Тринитэ (или Санта-Тринидад в Испании) — святая троица...
Так длится до эпохи Возрождения, захватывая ее начало, особенно в «самых католических» странах — в Испании и Португалии. Оттого-то по миру так широко и разбросаны доныне тысячи благочестивейших географических имен, вроде Сант-Яго, Сан-Франциско, Санта Елена, Сан-Винсенте и Сан-Клементе, Санкт-Галлен и Санкт-Михель, Санта Катарина и Санта-Каталина... И Санта-Фе — «Святая Вера», и Эспириту-Санто — «Святой дух» [60]1. Острова и реки, города и заливы окрещены названиями тех времен, точно их окропили святой водой из кропильницы или смазали сладко-душистым мирром. Наш глобус доныне пестрит ими.
Мне не встречалось в русской топонимике работ, которые бы рассматривали это явление, но, пожалуй, нечто подобное можно встретить и у нас. В древности манера называть селения и города человеческими памятными именами казалась общераспространенной на Руси: Ярославль и недалекий от него Владимир, среднерусский Ольгов — Льгов и северо-западный Осташков мало-помалу заменились сериями других имен: Архангельск — в честь предводителя небесных воинств архангела Михаила, Троицк — в честь той же «святой троицы», что и западные Тринидады, Богодухов — русский вариант к испанским и португальским островам Святого Духа, многочисленные Никольски {142} Троице-Сергиевы,
Между владыками земными и небесными много веков шла тяжба из-за географических имен.
Преображенские и тому подобные «духовные» названия распространились по всей Руси.
И лишь впоследствии, примерно со времен Петра I, старый тип названий воскрес. Земные цари были снова приравнены к небесным богам. Всюду замелькали Александровски и Николаевски (не Никольски!), Елизаветполи и Екатеринославы (теперь — Кировабад и Днепропетровск)... Да ведь и сам невский город, основанный Петром, был назван не без двусмысленности Санкт-Петербургом, в честь и память евангельского апостола, но в то же время и в честь «строителя чудотворного», бомбардира Петра Алексеева...
Имена этого рода прилипали иной раз к вовсе не большим и не парадным городам. Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк рассказывает в своих записках:
«Я до сих пор вспоминаю... дорогу в Горный Шит (тоже интересное имя!— Л. У.), особенно ее вторую половину, которая начинается от села со странным названием Елисавет...»
Название это так озадачило писателя, что он словно даже не может определить: в каком же роде надо писать об этом селе, при его женском имени с мужским окончанием: «Вот поля кончились... Показался Елисавет...» Точно речь идет о гоголевской крестьянке Елизавет Воробей, которую Собакевич всучил при продаже мертвых душ Чичикову за мужчину.
А ведь между тем вспоминается: дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, подписывалась всегда именно так, на церковный, торжественный лад: Елисавет. Эта подпись стояла под всеми ее указами, письмами, другими бумагами. Елисавет! Как в библии и евангелии!
И если позднейшие поэты придали ее имени несколько легкомысленное, французское звучание:
Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится... —
(А. К. Толстой)
то это уж их собственное дело. Еще Ломоносов относился к нему совершенно иначе, с благоговением:
Се в мире расширять науки
Изволила Елисавет... {144}
Видимо именно так, величально, торжественно, по-библейски, было некогда названо и далекое уральское село.
Зоосад
на карте
У северных берегов Европейской части РСФСР, против Большеземельской тундры вы видите в море надпись: Гуляевские Кошки.
— Прямо зоосад на карте! — восклицаете вы.— Но странно: море — и вдруг кошки! Если бы котики, я бы понял... А приятно: кошки!
Позвольте вас разочаровать: эти морские кошки никакого отношения к кошкам из мира животных не имеют. Кошками в северных морях называют опасные каменистые банки, коварные отмели. Кому и почему это пришло в голову?
Поводите пальцем по карте этих мест. Вас удивят и другие названия: Маточкин Шар... Югорский Шар... Проливы почему-то носят название «шаров»... Уж поистине — «похоже до неузнаваемости»!
Географический термин шар, по-видимому, пришел в язык наших северян из коми-зырянского, финского по корню, языка. У коми слово «šar» значит «ручей», здесь оно получило переносное значение — узкий пролив между скал. Впрочем, высказывалось и такое мнение, что в основе этого «шар» лежит скандинавское «шхер», «скэр» — море, изобилующее островами с тесными проливами между ними.
Нечто подобное можно сказать и о наших кошках. Это слово, видимо, является переработкой зырянского же «кошк» — «каменистая стремнина».
С зоосадом ничего не получается?..
Нет, не разочаровывайтесь так, сразу. Я начал с такого огорчительного примера, чтобы еще раз показать: в топонимике надо держать ухо востро! Нельзя доверяться первому впечатлению от имени; чем оно на первый взгляд проще, тем больше шансов, что это с его стороны — маска, притворство.
Вот еще пример. Есть в Воронежской области речка Битюг. Слово «битюг» в русском языке означает лошадь, тяжеловоза: сильную, с мохнатыми бабками.
Почему же оно стало именем реки? Подозрительно... {145}
Не все в вашем подозрении справедливо. Есть реки, носящие именно «лошадиные» имена: Цхенис-Цхали в Грузии. Ее имя так и значит: Конь-река.
И все же вы правы. Не речка Битюг была названа по конской породе, а эта порода — по речке. На реке были расположены знаменитые конские заводы, и это довольно обычно: зовем же мы «сенбернарами» собак, выведенных в Альпах, в монастыре святого Бернарда. Называем холмогорками коров, родина которых в районе тех самых Холмогор — «города мертвых». Именуем певчих птичек, вывезенных с Канарских островов, канарейками, забыв о том, что слово Канары означает вовсе не «птичьи», а скорее «песьи» острова. Оно произведено от латинского «канис» — «собака».
Так все-таки — есть «зоопарк на карте» или нет его? Может быть, это сплошной обман?
Нет, почему же... Топонимов, образованных на основе названий зверей, птиц, насекомых, рыб и пресмыкающихся, не так уж мало на наших картах и в справочниках. Произнося всю жизнь многие из них — иноязычные, — мы даже не подозреваем, что это — названия животных. Но, как вы сейчас увидите, большого доверия к ним питать нельзя. Нужна немалая работа, чтобы в каждом отдельном случае установить, связано ли географическое имя с зоологическим названием.
В ряде случаев это бесспорно. Ученые установили: имя озера Эри, или Ири, одного из Великих Озер Америки, по-индейски означает «Дикая кошка». Острова Галапагос в Тихом океане в переводе с испанского значат: острова Черепах. Такое же значение у имени острова Ла-Тортю: «La tortue» — «черепаха» по-французски. (Возле Венесуэлы есть и испанский остров Тортуга, это то же самое).
Населенный пункт в Канаде по-французски называется Ле-з-Экрюёй — «белки». На Кубе имеется топоним Алакрáнес — «скорпионы». Название целой страны в Африке звучит Камерун, и, говорят, оно по-португальски означает «креветки».
Кажется несомненным «звериное» происхождение и некоторых русских имен: Медведь — село в Новгородской области; река Медведица на Дону; река Бобр; родник Ласточка (в Хабаровской области), {146} полуостров Мамонта (на Гыданской губе в Заобье)... Есть река Тетерев и река Уж.
Но вот в чем хитрость. Попробуйте из любого перечня рек, гор, мысов, городов РСФСР выписать все их названия, которые звучат как имена животных, и вы наделаете уйму ошибок.
В самом деле: есть среди них такие, которые происходят от совсем других — часто вовсе не русских слов. Я сомневаюсь, чтобы имя реки Оленек в Якутии значило «небольшой олень»; да нет, сомневаюсь — не то слово! Слово-то это нерусское: не «оленёк», «оленек». Я не уверен даже, что имя города Орёл связано с названием известной хищной птицы. Рядом с ним встречается топоним Орель, и изучение этой пары имен может, чего доброго, увести нас очень далеко от орнитологии, а, возможно, и за границы нашего языка. (См. стр. 295.) Это — раз.
А еще важнее — другое. Если я попадаю в деревню Зайцево, имею ли я право утверждать, что это имя значит: «Принадлежащая зверьку зайцу»? Чаще всего оно обозначает: «Принадлежащая (или — основанная) человеку, которого звали Заяц». Может быть, если это недавнее дело, это было его прозвище. Может статься — если топоним живет много веков — оно было и его мирским (не церковным, не христианским) именем [61]1.
В русской деревне прозвища встречаются и сейчас; до революции они были самым обычным явлением: Козел Прокопинский, Бараны Юдкинский да Коськовский, Бык и Зуй (кулик) Конецкие (из деревни Концы), Селезень — это все прозвища псковских крестьян, которых я сам лично знал в своей молодости. От них проще простого могли образоваться имена Козлово, Бараново, Быково, Зуево, Селезнево... Не от них, так от таких же Козлов и Зуёв, живших на Псковщине 300 или 500 лет назад.
Иногда можно угадать по форме имени места, от чего оно возникло: от названия животного или от прозвища человека. Если от прозвища Жук — оно должно {147} называться Жукóво. Если от слова «жук» — Жýково... Но признак этот не очень верен и приложим к делу не всегда (см. стр. 297 и след.).
В грамотах XV, XVI, даже еще и XVII века мы сплошь и рядом натыкаемся на такие, например, сообщения: «А руку к сему приложили монастырский детеныш Медведко Филиппов, да дети его Тимофей, да Кот, да Комар Медведковы». Подумайте над этим, и половина зоологических топонимов покажется вам довольно сомнительной. Поэтому странно бывает, когда наталкиваешься на рассуждения, из которых следует, что по частоте таких «зверских» названий, как Медведко или Зайцево, можно судить о древнем животном мире разных областей нашей страны. Впрочем, об этом еще будет речь.
Приведу один пример, не совсем честный, но показательный. На ледовитом Беринговом море, на полуострове Корякском, существует мыс Орангутанг. Неужели вы думаете, что своим названием он обязан обитавшим тут человекообразным обезьянам тропических лесов? Конечно, в данном случае нет и речи и о прозвище Орангутанг (потому я и назвал этот пример «нечестным»), но случай этот показывает, что доверяться прямому звучанию «звериного имени» можно далеко не всегда.
Это — в плане строгой науки. Если же вы для развлечения собираете коллекцию топонимических курьезов, можете брать все имена, которые звучат, как названия зверей или производные от них: ваш зоосад на карте будет процветать. Для начала — вот вам перечень тех, которые попались на глаза мне, при моих личных занятиях топонимами. Вы можете увеличить его во много раз.
Аллигатор — риф. — Тих. ок.
Анаконда — н. п. (нас. пункт) — Америка
Антилопа — оз. — Азия
Альбатрос — о-в — Инд. ок.
Бакланиха* — н. п. — СССР
Бараниха* — река — СССР
Барс — н. п. — СССР
Барсуки — н. п. — СССР
Беляк* — коса — СССР
Бобр — река — СССР
Бобрики* — н.п.— СССР
Буйвола Мокрая — река — СССР
Бурундуки — н. п. — СССР
Буффало (Бизон) — гор. — США
Бык — н. п. — СССР
Бык — река — СССР
Бычиха* — н. п. — СССР
Бычок Белый — н. п. — СССР
Бычки — н. п. — СССР
Вепрь — река — Польша {148}
Волчиха — н. п. — СССР
Ворона — река — СССР
Воронов Нос — мыс — СССР
Выдриха* — н. п. — СССР
Галка — река — СССР
Голуби — н. п. — СССР
Горлица — н. п. — СССР
Гризли — о-в — США, Канада
Гусиха* — река — СССР
Гусь — н. п. — СССР
Дельфин — мыс — п-в Малакка
Джигетай — оз. — Азия
Джейран — н. п. — Азия
Ежиха* — н. п. — СССР
Игл (Орел) — н. п. — США
Кайман — о-ва — Атл. ок.
Калао — о-ва — Инд. ок.
Каракал — н. п. — СССР
Кенгуру — о-в — Инд. ок.
Кобра — река — СССР
Кондор — о-в — Тих. ок.
Куропаточье — н. п. — СССР
Ласточка — источн. — СССР
Лебедь — н. п. — СССР
Лошадь Серая — мыс — СССР
Лео (Лев) — ряд названий этого корня
Лиса — н. п. — СССР
Лисица — река — СССР
Мамонт — п-в — СССР
Медведь — н. п. — СССР
Медведица — река СССР
Медуза — бухта — СССР
Муз (Олень) — н. п. — Канада
Нельма — н. п. — СССР
Овсянка* — н. п. — СССР
Орангутанг — мыс — Бер. море
Орлан — н. п. — СССР
Орлик — н. п. — СССР
Орлица — река — СССР
Оса — река — СССР
Пичуга* — река — СССР
Селезни — н. п. — СССР
Сиг — н. п. — СССР
Сокол* — н. п. — СССР
Сорока — н. п. — СССР
Судак — н. п.— СССР
Таракан — о-в — Инд. ок.
Тур — оз. — СССР
Утка — н. п. — СССР
Хазе (Заяц) — река — Западная Германия.
Довольно, я устал!..
Внимательно просмотрите список. Вдумайтесь в имена, отмеченные звездочками. Некоторые из них — Бычиха, Бараниха, Гусиха — бесспорно не являются именами самок животных (ср.: «корова», «овца», «гусыня»). Относительно других очень трудно сказать, с чем они связаны. Беляк — порода зайцев или просто место белопенного прибоя? Овсянка — название птицы, крупы или еще чего-нибудь?
Слово Пичуга могло бы значить птица, но где у него ударение? На «и»? Тогда это — не русское имя реки, а, вероятно, финское, как Пнега. Сокол — птица, но станция Метро в Москве «Сокол» названа так в честь соколиного полета наших летчиков или по спортивному обществу «Сокол»... И так далее, и так далее; все отмеченные имена крайне подозрительны. Да и каждое из других должен проверить опытный ученый: он скажет, кто из зверей может войти в зоосад. А теперь {149} я и думаю: как же рискуют люди, делающие из подобных имен далеко идущие географические и зоологические выводы!
Вот статья, которой уже 40 лет. Автор — географ, интересующийся топонимикой, — проделал громадную работу. Он собрал великое множество географических русских названий с «зоологическим» оттенком, изучил, в какой губернии России чаще упоминался какой зверь, и хочет по этим данным судить о том, каков был животный мир этих частей страны.
И вот получается у него, что в Псковской губернии «медвежьих» имен нашлось 49, а заячьих всего лишь 18. Что ж, выходит, зайцы были там в три раза более редким зверем, чем медведи?
В лесах под Петербургом 8 имен, происходящих от слова «медведь», а в Подмосковье их 17... Значит ли это, что вокруг Москвы косолапых водится в два раза больше, чем на северо-западе страны?
Я думаю, что все такие выкладки висят в воздухе, и прежде всего именно потому, что раньше, чем заниматься ими, надо очень точно определить: какие имена действительно связаны со словами «медведь» или там «заяц», а какие произошли от человеческих имен или прозвищ Заяц и Медведь. Сделать же это теперь, много лет спустя после основания поселков, после того, как разные пустоши, перелоги, омшары, речные омуты были впервые названы, в большинстве случаев очень трудно. А часто и вовсе невозможно.
Есть в Ленинграде такое место на берегу Невы — Уткина заводь. Чего яснее: пришли люди, видят: заводь, а по ней плавает птица утка; вот и назвали! А на деле имя места связано с тем, что берегом владел некогда какой-то местный богатей Уткин. Заводь Уткина, Уткина заводь...
Тут-то это можно установить: недавно все было. А как докопаться, кто и почему, в чью честь, назвал Уткой маленький поселок на юго-западе Камчатки? Потому что там было много уток? Но ведь и в Ленинграде можно было бы утверждать то же самое...
Да к тому же: если человека прозвали «Медведь», в этом есть что-то почетное. Он может даже гордиться такой репутацией: медведь, а? Сила, добродушие, страх! {150}
А вот «Зайцем» слыть не каждому захочется. И вполне естественно, если «Зайцы» признавали себя Зайцами, своих детей Зайцевыми, свои починки и хуторки Зайцевыми куда менее охотно, нежели «Медведи»...
А, да что там говорить! Я пишу эти строки в дачном месте Комарово, под Ленинградом. Какой-нибудь исследователь будущего времени может решить, что оно так названо по изобилию комаров (их там, и верно, мириады). А на деле оно обязано своим именем никаким не насекомым, а большому ученому, зоологу и географу Владимиру Леонтьевичу Комарову; об этом говорит специальная памятная доска на здании комаровского вокзала.
Очень хорошо. Ну, а Комарово в Новгородской, а Комаровка в Харьковской областях? Как о них думать?
Неверные и шаткие расчеты!
Теперь еще одно, важное для начинающих топонимистов соображение. В литературном языке есть слова «бабочка» и «мотылек». А вот в Псковской области недавнего прошлого эти названия были малоизвестны. Разные породы этого изящного насекомого именовали тут то «мклышем», то «попелýшкой».
Вы собираете зоологические названия в тех местах и не находите ни одного Мотылькóва. А мимо Мклышевых или Попелýшкиных проходите без внимания: вы не знаете ни местных говоров, ни старорусского языка. Знать это все топонимисту необходимо! Иначе, наткнувшись на название Язв или Язвин Норы, он даже не заподозрит, что это значит Барсучьи Норы: в народе барсук именуется язвá.
На той же Псковщине журавль зовется жоров, цапля — гáгра, кулик-чибис — пичигалка, деревенская ласточка — крашнк или крышнк, задорный маленький крапивник — субóрник, от слова «субор» — груда камней на поле: крапивник охотно селится в таких нагромождениях булыги.
Ну, и каков же итог? Может быть, вовсе нет «зоологических» названий ни на земле, ни на карте? Крупный языковед А. Селищев так и считает, что их у нас очень мало: он, например, указывает лишь на два «птичьих» имени: Белая Колпь (река; слово «колпь» значит «дикий гусь») и украинское Грайворон (грач, ворон). {151}
Я думаю, это не так. Их несравненно больше, и иногда их можно сразу различить с отыменными названиями Медведково или Лосево могут быть произведены от человеческих прозвищ; Медвежье или Лосиное — навряд ли.
Вспомним тут начало моей книги, мужественных «назывателей» с острова Линкольн. Ах, уж этот Жюль Верн! Все-то он знал, все предусмотрел, даже «зоологические» топонимы... Лес Жакамара — ведь «жакамар» — тропическая птица. Утиное болото... Все — как в жизни... Превосходный писатель Жюль Верн!
Почему я припомнил сейчас его? Вероятно, потому, что следующую главку мне захотелось начать как раз с французского топонима, имеющего прямое отношение к фамилии великого фантаста.
От зоологии к ботанике
Когда Жюль Верн родился, возможно, никто из французских ономатологов, специалистов по именам и фамилиям, не смог бы растолковать ему, что означает слово «верн»: никаких объяснений ему во французском языке не находилось.
Теперь мы знаем это. Верн происходит от кельто-галльского «вéрно», а «вёрно» по-галльски значило «ольха», известная порода дерева. Верн — Ольхин, хотя по-французски ольха — «ольн». Фамилия Верн — очень древнего корня. И честь выяснения этого принадлежит топонимистам.
Дело в том, что галльских слов дошло до нас очень мало; слово «вéрно» ни в каких документах и записях не встречается. Не удивительно: ольха не такое уж важное дерево, чтобы его часто упоминать. Не гордый священный дуб, не широколиственная липа, не дерево мореплавателей — смолистая сосна! Дрова — и только...
Но во французской топонимике сохранилось много названии кельтского происхождения. Среди них подозрительными были и нередко встречающиеся имена от корня «верн»: городки Вернэ, Вернёй — в Пиренеях и в Нормандии, Верневиль на севере страны... Когда какое-либо звукосочетание упрямо повторяется в целом ряде имен, оно явно что-либо значит. Надо это значение отыскать.
Топономисты Франции проделали огромную, тонкую работу. Сопоставляя приметы пунктов, где названия {152} встречались, роясь в документах, в которых сохранилось их древнее произношение, изучая остальные галльские названия, они установили: было слово «вéрно», и значило оно «ольха».
Они восстановили древнее слово, никогда не слыша его и не видя написанным. Теперь оно введено во все галльские словари. Разве это не чудо? Разве, опять-таки, это достижение не может соперничать с самыми удивительными предсказаниями астрономов, с самыми точными реконструкциями доисторических животных, какие осуществляют палеонтологи!
«Дайте мне ископаемый зуб, и я скажу вам, каким было все животное!» — гордо заявлял Кювье. Открытие значения и формы неизвестного слова вымершего языка по топонимам — подвиг ничуть не меньший.
Знал ли сам Верн об этом подвиге? Не могу вам этого сказать. Но ручаюсь, что от него не отказались бы ни Пальмирен Розетт, ни доктор Клоубонни, ни профессор Пьер Аронакс, ни сам Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Паганель, будь они не естественниками, а языковедами и этимологами-топонимистами.
Во французской топонимике, по свидетельству ученых, представлены все важнейшие породы ее лесов. Это ясно не каждому французу, как и в случае с «вéрно». Надо знать древние языки, чтобы раскрыть, что имя аристократического курорта Биарриц — это «дуб» по-иберски (народ еще древнее галлов), точнее — «дубняк». Не разгадает рядовой житель Франции и множества имен, связанных с галльским «дéрвос» — «дуб» (в родстве с нашим «дерево»), с кельтским «касáнос», из которого в современном французском языке возникло слово «chaîne», тоже «дуб». Но такое же положение наблюдается и во всех странах мира.
Что ни говори, «ботанические» имена, пожалуй, чаще могут указать нам на растительный мир страны, чем «зоологические» на животный. Начать с того, что «древесные» или «травянистые» личные человеческие имена и прозвища, хоть и встречаются, но, конечно, реже. Они есть: такие фамилии, как Дубов, Соснин, Ольхин, доказывают это, но их сравнительно мало.
В то же время никому не могло бы прийти в голову назвать Сосновкой тот район Киева, который носит имя Липки, если там не было сосновых рощ. Никто не {153} окрестил бы Липками и район Ленинграда — Сосновку: она лежит на месте бывших, и сейчас сохранившихся частично, сосновых боров.
Под Ленинградом есть две местности, именуемые Дубками, в Сестрорецке и в Ораниенбауме. И там, и там налицо рощи дубов, по преданию, насаженных Петром I.
Мало шансов встретить на Таймыре имя Баобабовка или в Африканской Гане реку Смородинка [62]1. А вот в странах с одинаковыми климатическими и ботаническими условиями подобные названия — на разных, конечно, языках — повторяют друг друга с примерным постоянством.
Несколько кварталов Киева носят имя Липки, а улица в Берлине — Унтер ден Линден, «Под Липами». В Бухаресте есть предместье Лакуль Тэи — «Липовое Озеро». Латышский город Лиепайа в переводе на русский язык называется «Липовая», можно сказать: «Липецк». Но Липецк есть у нас на реке Воронеже, да и нынешний германский Лейпциг когда-то носил это славянское имя.
Вспомним заодно Линденберг (Липовая Гора) в Баварии... Этот перечень я мог бы развести на несколько страниц: липа была одним из деревьев, которые особенно почитали все европейские народы на заре своей исторической жизни, в своей молодости...
Достаточно и таких имен, в основе которых лежит название «сосна»: ведь в свое время это дерево было основным при строительстве древних кораблей. Римлянин Овидий в уже помянутых мною «Метаморфозах», рассказывая о счастливом «золотом веке», когда еще не было ни торговли, ни войн, так и говорил о нем:
«Срубленных сосен стволы, дабы плавать в далекие страны, с горных вершин в эти дни к влажным водам еще не спускались...»
Соснина, Сосница, Сосновец, Сосновицы, Сосново, Сосновское... Одну «Сосновку» я за пять минут нашел в шести местах карты России. То же самое относится и к названиям, связанным с дру-{154}гими породами деревьев наших лесов: с дубом, с березой, с той же ольхой.
Но сразу же и здесь возникают сомнения.
Вот река Сосна, она течет в Орловской области. Как пишет советский топонимист В. Никонов, «как раз полное тожество (совпадение.— Л. У.) гидронима Сосна с нарицательным именем препятствует их полной связи. Такие имена у нас строятся, как Сосновая, Сосновка, реки Ельня, Тополица, но не Ель или Тополь». Он указывает, что наивные любители все имена рек, куда входит корень «дуб», считают связанными с названием этого дерева, тогда как языковеды порою видят в этом «дуб» древнюю балтийскую основу «дýбус», означающую «углубленный» (река Дубиса).
Вполне возможно, что и у имени сосна совершенно другое происхождение; есть же у нас реки Де-сна, Цна... Есть и, наоборот, речка Снов, которая в старых документах именуется так: Съснова — Сосновка.
Ботаническое имя для неосведомленного человека может быть так же замаскировано древними своими метаморфозами, как и все другие. Не так-то просто бывает его опознать.
Два города с названием Брест есть на земле. Имя западного Бреста, французского, связано, как полагают, с племенным именем кельтов-бритов, так же, как названия Британия, Бретань... А вот имя города-героя Отечественной войны нашего Бреста, или Брест-Литовска по-старому, никакого отношения к бритам, естественно, не имеет. В древности крепость эта звалась Берестье; «бéрест» — название дерева, вяза или ильма. Только историк да языковед могут установить такое его значение.
Москвичи знают на Каляевской улице остановку, имя которой они же произносят не вполне ясно: не то Подвески, не то Подвиски... Можно гадать по-разному: имя могло иметь начало в обычае давних лет на площадях и рынках устанавливать весы для взвешиванья целых возов привозимого фуража, соломы, сена... Возможно, сначала речь шла о перекрестке улиц «под весками». А может быть, надо думать не о «весках», а о «висках»...
А что на деле? А на деле неподалеку от этого места некогда стояла церковь, окруженная кладбищем или {155} двором на котором росли чем-то примечательные старые вязы, бересты. Церковь именовалась как-нибудь вроде Никола или Иван, что под вязками; это название осталось и за самым местом...
«Два билета до Подвесков!», «Вы в Подвесках выходите?»
***
Да, с ботаническими именами тоже нелегко. Нельзя забывать и того, что я уже говорил об этом в применении к именам «зверским».
Многие растения в науке и в народе называются совершенно по-разному, а мы знаем для них только книжные имена. С деревьями это бывает реже, но тоже случается.
Вот, например, хвойное деревцо можжевельник. Псковичи именуют его «вересом», и не каждый, наткнувшись на место, называемое Вересовый Запрокид, поймет, что речь идет о можжевеловом склоне.
Могучее дерево Урала и Сибири — лиственница, если верить словарю В. Даля, кое-где именуется еще карачай или негла... Значит, не все названия рек и селений, вроде Карачаевка, Карачаево, можно выводить из тюркского Кара-Чай — «Черная, медленно текущая речка». Может быть, многие, самые северные из них, связаны с этим деревом.
Если же мы с вами, описательно выражаясь, ляжем на какой-нибудь луговой поляне на траву да прикинем, какая из былинок и «цветков» как называется, мы увидим, что книжный и народный языки расходятся тут еще резче.
Все знают цветок анютины глазки, но это барское, сентиментальное изобретение. В народе он зовется по-разному: мотыльки, полуцвет, братки, камчук, троецветка. Никаких анютиных глазок русский крестьянин никогда не знал и никакому урочищу, никакой луговине не мог бы придать этого претенциозного, салонного имени, отдающего помещичьим парком и клумбами-рабáтками. А вот какое-нибудь Полуцветово или Братки попасться могут. Сразу ли вы отнесете эти имена к «ботаническим»?
Я привел среди «зверских» названий и Бобрики... Между тем ученые уже указали, что оно скорее «травянистое», чем «зверское»: на юге России «бобриками» зовут {156} определенное растение — сон-траву; пустошь, поросшая им, может легко получить это имя.
Или вот: каково, по вашему мнению, происхождение имени Белый Раст, древнего села в Подмосковье? В свое время существовала даже духовная фамилия Белорастовы, но и она что могла значить, кроме как «родом из Белого Раста»?
В конце концов дознались: раст — какое-то растение, садовый цветок, но какой? В. Даль считает — дикий тюльпан или кирказон; А. Селищев думает — примула, первоцвет... Но тут хоть ясно: это — растение; а в скольких случаях и это остается неведомым? Вон тот же Молодой Туд. А что, если в каком-нибудь народном говоре «туд» значит теперь или значило сотни лет назад «камыш», «осока», а может быть, и «горностай» или «болотный лунь»?
Я не утверждаю ничего подобного, но не могу голову дать на отсечение, что это не так. Чтобы решать подобные вопросы, надо знать все богатство и нашего древнего, и нашего современного народного словаря, а мы еще очень далеки от этого. Надо знать и всю сокровищницу русской топонимики, крупнейших купюр-червонцев именословия до его самых мелких разменных монет — микротопонимов.
А до этого пока что еще дальше!
Мне кажется, именно таким неполным знанием объясняется уверенность некоторых исследователей в том, что у нас мало ботанических и даже огородных, овощных, топонимов.
Во многих местностях страны слово «морковь» вовсе неизвестно; этот корнеплод зовут там «баркáны». Вы будете тщетно искать имя Морковино, а наткнувшись на Барканово, станете ломать голову: что это такое?
Обычную брюкву под Калугой или Симбирском-Ульяновском именуют «бýшмой», в Псковской и некоторых других областях — «кáликой». Наш укроп на юге — «копр» или «цап»... Подите попробуйте, не зная всего этого, определить, часты или редки у нас «растительные» топонимы!
Могут остаться за бортом и имена иноязычного происхождения. Вот возле Казани городок Арск. Кругом имена русские: Мариинский посад, Зеленый дол. Можно и «Арск» счесть непонятным, но русским образованием. Но татарская часть населения (мы ведь в Татарской {157} республике) зовет этот город Арчá, а «арча» в тюркских языках — «можжевельник». Видимо, явное видоизменение Арчи, имя Арск по сути дела (другого, русского значения у него нет) значит «Можжевелово», «Вересово»...
У «ботанических» имен одна особенность, отличающая их от топонимов «зверообразных». Названия растений сами, в свою очередь, постоянно образуются из слов, к ботанике не имеющих никакого отношения. Вот почему, обнаружив где-либо деревню Белоусова, вы окажетесь перед вопросом: это имя могло образоваться от слова «белоус» — народного названия одной из песчаных осочек. Но в тоже время основателем деревни вполне мог быть какой-нибудь почтенный Иван или Архип, по прозвищу Белоус... Подите решите с кондачка эту «дилемму»!
Есть милое луговое растеньице «золотнчка», или «беловзóр». А географическое имя Беловзоровка может быть связано как с ним, так и с фамилией Беловзоровых, ни малейшего отношения к цветам не имеющей; Беловзором или Беловзоркой могли прозвать человека с данными альбиноса, с белыми ресницами и бровями...
Словом, «осторожность, осторожность, осторожность, господа!» — если вспомнить стихотворение Н. Курочкина. В моей книжке слово это, как вы могли заметить, повторяется чаще многих других.
Маршал
Мюрат на Кузнецком мосту
Наполеоновский соратник Иоахим Мюрат, король неаполитанский, был родом гасконец, значит — земляк д’Артаньяна и такой же рубака, как тот. Он вызвал бы на дуэль каждого, кто сказал бы ему, что сомневается в самом смысле его фамилии, которая, к слову сказать, по-французски произносится Мюра, хотя пишется с «т» на конце.
А ведь на деле он и сам, вероятно, неясно представлял себе это.
Географическое имя Монблан («Белая гора») говорит нам о том, что мы увидим, взглянув на предмет, им называемый, теперь, сегодня. Есть имена, которые рассказывают о том, что когда-то было.
Приехав впервые в Москву, я твердо помнил, что, став на Неглинной улице, я должен идти вправо от Кузнецкого моста. Довольно долго я искал глазами этот, очевидно, отлично заметный ориентир и не на-{158}шел ничего. Моста на этом месте не было уже ровно сто лет, с 1817 года. До того он существовал. Возле него еще Иван III поселил кузнецов Пушечного двора, и в народе мост прослыл Кузнецким мостом. Когда река Неглинная была засыпана, мост исчез. Но уже сложилась привычка называть так не только его, а и дорогу, а потом улицу, поднимавшуюся от него в гору... Теперь только она и носит это имя «по старой памяти»... Велика роль этой «старой памяти», как только речь заходит о географических именах!
Отлично. Но при чем тут Иоахим Мюрат?
Если бы вы могли насесть на Мюрата с вопросами о его родословной, он, может быть, ответил бы вам, без всякой охоты, что его фамилия совпадает с названием множества местечек и городишек на юге Франции: Мюра (Murat), но что он, маршал Франции, не мсьё Шампольон, чтобы знать, что означает и откуда взялось такое название!
Возникло оно вот из какой особенности этих поселений. В древности некоторые деревушки и городки Франции стояли среди своих полей ничем не защищенные, другие же были обнесены каменными стенками — «мурáти фурунт», говоря по-латыни. «Муратус» значило «остененный», окруженный стеной; свойство в древности весьма важное: вспомним, что наше древнерусское «город» тоже значило «селение огражденное», обнесенное стеной (у нас нередко — деревянным тыном).
Прошли века, старые «мурэс» (стены) рассыпались, а названия этих городков в новом произношении сохранились: «Мюра». Выходцы из них усваивали его как свою фамилию. Человек, именуемый Мюратом, в каком-то смысле такой же пережиток далекого прошлого, как московский Кузнецкий мост.
(В виде примечания можно рассказать тут о такой странности: в России тоже было географическое имя, произведенное от этого романского корня и в сходном значении; мне неизвестно, существует ли оно сейчас. Был в Каменец-Подольской губернии населенный пункт Курловцы Мурóваные. Слово «куриловцы», вероятно, связано с именем Кирилл, по-гречески Кюриллос. А «мурованый» по-украински значит: сооруженный из камня, имеющий каменные стены: такая стена на Украине называется заимствованным через Польшу с Запада {159} латинским словом «мур». Таким образом Куриловцы и провансальские Мюраты — довольно близкие родичи в топонимическом смысле.)
Теперь вам понятно: в этой главе говорится об именах, сохранившихся, несмотря на то, что предметы, которые дали повод к их появлению на свет, давно исчезли. Можно привести сколько угодно примеров этого типа топонимов.
Чуть выше Нового Орлеана есть на Миссисипи город, носящий престранное имя — Батон Руж, по-французски (французы были первыми колонизаторами на этой реке) это значит Красная Палка, или Красный Жезл. Путеводители объясняют эту странность так.
Бледнолицые завоеватели войной и миром продвигались по Америке, тесня индейские племена. Чтобы не учащать кровопролитных стычек, индейские вожди договорились в конце концов с белыми: обозначить пограничную линию особыми знаками, столбами, вроде индейских тотемных священных столбов. Один такой выкрашенный в красный цвет столб был установлен на берегу Миссисипи в двухстах километрах к северу от ее устья. Именно он дал имя поселку, а затем городу, разросшемуся вокруг него [63]1.
Столб давно подгнил и обрушился. Вымерли «последние могикане» — индейцы из племени начесов, хмуро поглядывавшие на него из-за реки. Нет и следа бревенчатых фортов, нет трапперов, описанных Густавом Эмаром и Фенимором Купером, а в имени места все это живет и будет жить {160} еще столетия, напоминая отдаленным потомкам далекое прош-
Фамилия короля неаполитанского означала просто «огороженный стенами».
лое и жизнь их предков...
Только водолечебница осталась на месте знаменитых некогда соляных варниц на реке Вычегде, на Соляном озере, а имя Сольвычегодск все еще напоминает об этих важных промыслах.
Давно снесены Красные ворота на Садовом кольце Москвы (я еще хорошо помню их причудливые очертания), но то и дело слышишь и сегодня в Москве: «Он живет у Красных ворот». И вообще — незачем отправляться в далекие странствия, чтобы встретиться с такими именами: в каждом большом городе вы найдете их сколько угодно.
В Ленинграде, например, если бы не постоянные переименования, можно было бы по старым названиям улиц составить отличный план расселения рабочих людей по его «частям» и «участкам», отметить его старинную планировку, воскресить быт петровских или екатерининских времен.
Такие улицы Петроградской стороны, как Ружейная, Пушкарская, Зеленина, а раньше Зелейная, то есть Пороховая, отмечали те места, где жили славные мастера XVIII века — оружейники, пушкари, зелейщики-пороховщики, прямые предшественники питерских рабочих-ленинцев века XX.
Имена, вроде Галерная улица, Галерный остров, Галерная гавань, Шкиперский проток, Подзорные острова, повествовали о Петербурге — флотском гнезде, морской крепости, городе верфей и пристаней... Смольный (буян), Пеньковый Буян, Соляной Буян и Городок оставались памяткой размещения огромных складов товара, идущего на вывоз и прибывающего из-за морского рубежа...
А вот Мытнинская набережная, возле старой таможни — «мтни»; занятно, что нынешние студенты, навряд ли знающие слово «мытня», исчезнувшее уже более столетия назад, сегодня называют именно так — мтня — огромное общежитие, высящееся на этой набережной.
И, говоря по правде, огорчительно, когда полные смысла, дышащие историей характерные названия уничтожаются, заменяясь хладнокровными новыми, не имеющими никакой связи с данным местом. Галерная {162} улица была одна во всем мире. Она рисовала какой-то момент жизни города: тут тогда строились и спускались на воду грозные для вражеских флотов петровские галеры и «скампавеи»... А имя Красная, заменившее старый топоним, общераспространенно и мало о чем говорит. Галерная улица была ничем не «краснее», не революционней других, рядом лежащих. Таких Красных улиц в СССР бесчисленное множество... Можно было бы не давать его Галерной, а присвоить любой другой, может быть, даже более значительной и красивой, новой, еще безымянной улице...
Надо бережнее относиться к прошлому, к народной памяти о нем. Да ведь далеко не все переименования и бывают удачными. Еще Пушкин воспел «воинственную живость потешных «Марсовых полей». Огромная площадь в центре Петербурга, по образцу Древнего Рима, была названа Марсовым полем — на ней происходили военные парады: Марс был римским богом войны.
После Октября на поле были погребены герои, погибшие в революционных боях, потом сооружен памятник, затем разбит великолепный сквер — один из красивейших в городе, — наконец зажжен Неугасимый Огонь в их честь. Поле было названо Площадью жертв революции. И двадцать с лишним лет никто не задумался: как так — «жертв революции»? Мы говорим «жертвы блокады», «жертвы землетрясения», «жертвы эпидемии»... Можно ли в этот ряд ставить людей, пожертвовавших собою за революцию? Жертвами революции с полным правом считали себя помещики и банкиры, царские министры и сам Николай Последний... Разве их память мы увековечиваем? [64]1
После войны прекрасной площади возвращено ее {163} старое имя, и хорошо. А вот в Киеве улица Жертв Революции как будто сохранилась. Очень печально, киевлянам следовало бы подумать над этим названием! Нельзя, чтобы одновременно существовали и братские могилы жертв фашизма, и улица Жертв Революции...
И вообще — великая осторожность, огромная деликатность нужны, когда человек получает власть заменить старое имя новым. В нашей стране с Ленинского времени только самым опытным специалистам-художникам разрешается восстанавливать старые фрески, скульптуры старых зданий, их украшения и самую их конструкцию. Такого же осторожного отношения к себе требуют и старые имена.
А у других народов? Конечно, и у них сколько угодно таких имен и подобных же историй.
Вы слышали название величайшего из музеев мира, соперника нашего Эрмитажа, парижского Лувра. Вы, наверное, читали «Три мушкетера»: во времена д’Артаньяна Лувр был королевским дворцом. А его имя — дворца и музея — первоначально означало что-то вроде «волчье логово» или «волчарня»: по-французски «лу» — «волк», «лув» — «волчица». Было, видимо, время, когда на месте дворца были буераки и трущобы, где волчихи любили выводить волчат, и это время сохранилось в имени.
А случается и так, что древнейшее имя-слово в наши дни вдруг оживает для новой жизни, порождает новые, вполне современные слова.
Есть во французском языке слово «грэвст» — «стачечник», «забастовщик». Оно родилось в XIX—XX веках. Корень его — в одном из древнейших топонимов столицы Франции.
Плас де ла Грэв — Гревская площадь — было имя одной из 136 площадей города на Сене; теперь она давно переименована в Плас д’Отель де Вилль; на ней — парижская ратуша. В старину на ней совершались публичные казни, а когда этого не происходило, толокся всякий народ, преимущественно провинциалы, прибывшие в столицу искать работу. Постепенно «фэр ла грэв» — «грэвствовать» — стало означать «ничего не делать», «бродить без работы»... А затем, с началом эпохи организованной борьбы пролетариата за свои права, с началом больших забастовок и стачек, рабочие Парижа — {164} люди с чувством юмора, как все французы, — стали относить это выражение к тем, кто сидел без дела, бастуя. Забастовщиков стали называть «грэвистами».
Ну, а что могло значить само название «площадь Грэв»? «Gréve» по-французски «песчаный берег», «пляж», «галечник у реки» [65]1. Само собой, никаких песчаных пляжей и галечников на Гревской площади давным-давно нет, а имя ее, данное века назад, живо и породило даже слово, которого никак не поняли бы далекие предки современных «гревистов», давшие площади ее название.
Впрочем, я забежал вперед: Лувр и Гревская площадь были названы не по человеческим сооружениям, а по природным признакам, позднее исчезнувшим. Вернемся к тому, что зависит от деятельности нас самих, людей...
Я жил на Череменецком озере возле Луги. На карте окрестностей меня заинтересовало название Великое Село. Я отправился как-то взглянуть на поселение с таким древним и пышным именем.
Выйдя по дороге из лесу, я остановился и расхохотался было, но тотчас пригрустнул. У перекрестка двух дорог серели две или три избушонки. Кое-где виднелись заросшие крапивой остатки других — тоже двух-трех, не более. Местами поднимались раскидистые липы, вязы и рябины... Да, века назад тут жили люди, много людей... А теперь?
Пройдет еще несколько лет, последние «жихари» переселятся на новые колхозные усадьбы, а перекресток двух дорог по-прежнему будет называться Великое Село, и местные ребята будут сговариваться пойти на Великое Село за земляникой, и колхозники будут пахать и косить у «Великого Села»...
Сколько таких выморочных названий и в нашей, да и во всех странах мира! В Вышнем Волочке, Волоколамске давным-давно нет уже никаких волоков, самое слово сейчас если и употребляется, то только где-нибудь в глуши тайги работниками экспедиций да охотниками. А имена живут, и, нанеся их на карту, можно судить по ним о водных путях древности. {165}
К югу от Москвы есть полоса, где целый ряд лесов и селений именуется Зáсеками; очень важная полоса... Когда-то тут проходила оборонительная линия Московской Руси от кочевников юга и от крымских татар. Тысячи холопов в беспорядке валили на огромных пространствах деревья по границам степных просторов, оставляли их лежать десятилетиями... Для конного врага это было трудным препятствием. Отметьте на карте точки, где сохранилось имя Засека, и древняя оборона Руси встанет перед вами... Правда, многие названия уже умерли и забыты; тем больше причин отметить, сохранить в памяти и на месте все, что осталось: каждое такое имя — надпись на могильной плите, полустершийся священный иероглиф — драгоценная памятка прошлого.
Пусть имя Мюглиц под самым Дрезденом лишь в искаженном виде доносит до нас память о древних славянах: это же славянская Могилица, некогда существовавшая тут, на дальнем Западе Средней Европы... Сбережем его!
Пусть слово «таллин» только ученые могут раскрыть нам, как эстонское «датская крепость»: в нем скрыта запись о древней борьбе маленького эстонского народа против могущественных поработителей. Сохраним его!.. И будем пристально приглядываться даже к тем именам, которые кажутся порой обидной кляксой прошлого на юном лице нашей Родины. Не всегда это впечатление справедливо.
Недалеко от Ленинграда на реке Тосна имеется небольшой деревянный мост. Местные жители и сегодня зовут его Графским. Что за чушь?! Какие там «графы» в Советской стране? Переименовать, чтобы и память исчезла...
Графы бывали разные. У этого места стояла «Пустынька подгородная», имение графа, но в то же время большого русского поэта, Алексея Константиновича Толстого. Тут бывали у него, «у хлебосольства за столом», и Фет и Тютчев. Графа терпеть не могли при дворе. Может быть, именно глядя на свой Тосненский мост, написал он знаменитое крамольное стихотворение «У приказных ворот»:
На базар мужик вез
Через реку обоз
Пакли. {166}
Мужичок-то ведь прост,
Знай, везет через мост,
Так ли?
— Вишь, дурак, — сказал дьяк, —
Тебе мост, чай, пустяк,
Дудки?
Ты б его поберег:
Ведь плыли ж поперек
Утки?
Графов нет, может быть, мост и стоит переименовать. Но не назвать ли его тогда «Толстовским»? Такие мосты, где бы они ни встречались, и впрямь следует «поберечь»...
Под конец главки захотелось мне рассказать вам чисто топонимический случай из личной жизни: он поучителен.
В 20-х годах я работал на Псковщине землемером. Меня удивило среди множества чисто русских названий странное имя одной саженой рощи в бывшем помещичьем имении: крестьяне звали ее не то «Убирéнт», не то «Обирéнт», а иной раз просто «Бирéнт». Даже старики не могли ничего объяснить: «Господа Дерфельдины так звали, и мы так зовем...»
Я решил приглядеться на месте. Рощица оказалась остатком запущенного, но когда-то тщательно распланированного дворянского парка. Прудик с искусственным островком, следы каскадов и гротов на ручье, руины двух беседок в кустах сирени, а в самой середине — лужайка, и по ней странно, по спирали,— темнеющие заросли той же сирени, бирючины, жасмина, дафны... Я пригляделся и все понял...
На другой день я порылся на этом месте. Под землей обнаружилась затейливая низенькая кирпичная стенка — последний след сооруженного когда-то для забавы местных Маниловых или Ноздревых, игрушечного лабиринта: таких в старых дворянских гнездах были тысячи... По его имени помещики назвали «Лабиринтом» и самую рощу, а крестьяне унаследовали от них это непонятное имя, по-своему преобразовав его... Кто знает, может быть, теперь там уже и рощи нет, а стоит какое-нибудь здание или силосная башня, но холм под ней по-прежнему зовут «Бирéнт»... {167}
Имена-чертежи
На книге стоит мое имя: Лев. Нельзя по нему рисовать меня покрытым рыжей шкурой, с длинной гривой и кисточкой на хвосте. Да так не могло и получиться! имя мне дали, когда я слабо пищал в колыбели и было неизвестно, вырасту я «львом» или «комаром»...
Поэтому рядом в двух классах школы могут сидеть за партами пять Львов, из которых два еще как-нибудь сойдут за африканских хищников, а три другие напоминают — кто котенка, кто теленка, а кто и вовсе нахохленного воробья. Я видывал в иных школах таких чаек («Чайка» по-гречески Лариса), что им скорее подошло бы имя «Львица» или «Тигрица». Страх посмотреть!
Совсем другое дело — имя географическое. Оно дается не младенцу, а вполне сложившемуся «индивиду» — реке, горе, лугу, вулкану, водопаду... Правда, города и поселки, как люди, порой получают имена в кредит, на вырост, так, например, был назван некогда Севастополь — «Город Славы». Приходится признать, что он стократно покрыл этот аванс. Но бывает и иначе: столица Франции сначала была названа римлянами Лютéциа — «Грязнуля», а затем переименована в Парзиа — «Столица племени паризиев»... Ни то, ни другое имя сейчас уже не описывают никаких действительных свойств города... А я намерен сейчас говорить о тех, которые соответствуют тому, что называют.
Константинополь — город, основанный императором Константином. Ленинград — место, где вырос и окреп гений Ленина, где он выковал партию большевиков. Витебск — город, расположенный на речке Витьбе. Боровая улица в Ленинграде — проложенная на месте соснового леса...
Это имена-чертежи, точные и четкие, спокойно, без всяких украшений описывающие основной признак места; один из основных. Это удобно.
Вершина горы покрыта снежной белизной, и гора названа Белой, Монбланом, — в отличие от всех других. Пусть другие рядом имеют такие же снежные вершины, они получат имена уже по другим признакам, не по этому... А вот в иных местах, уже не порождая путаницы, могут существовать другие Белые горы, Белухи, Ак-Тау, Монте-Бианко, это никому не помешает. В таких именах {168} отражается сущность предмета, а ведь только наивный человек может вообразить, что все Верочки смахивают одна на другую и чем-нибудь отличаются от всех Наташек... В людских именах свойства людей никакой роли не играют.
Человечество всегда использовало удобства имен-чертежей, имен-схем и паспортов, содержащих особые приметы мест.
Вначале оно, если хотите, даже любило переборщить в точности: река Река (Рейн или Ганг), гора Гора (Альпы или Балканы). Такие имена так плотно охватывают все признаки называемого, что от их «особенности» уже ровно ничего не остается. Озеро Ньянца или озеро Ньяса в Африке значит просто Озеро... Скучновато как-то!
Но огромное большинство таких имен не повторяет своих нарицательных: о них-то я и говорю.
Существуют страны, имена которых приклеены к ним, точно надписи-таблички на экспонатах огромного музея.
Точно и выразительно и название Нидерланды — «Низменная страна», «Низинный край». Вы знаете, в Голландии есть такие места, где гнезда аистов на крышах расположены ниже, чем воды моря, в котором плавают рыбы и растут водоросли. Вся страна — отвоеванная у моря ровная низменность.
Польша... По-польски она зовется «Polska». Что это значит? Есть у нас во Владимирской области старинный городок Юрьев-Польский. Почему — польский? Основанный поляками? Населенный ими?
Раньше имя городка звучало Юрьев-Польскóй, то есть «расположенный не в лесных дебрях, а среди открытого пространства полей». Близко к этому и значение слов Польска, Польша: страна полей, пахарей, страна земледелия.
Оно перекликается с племенным именем поляне, принадлежавшем одному из восточно-славянских племен. Название этого корня встречалось повсюду, где жили славянские народы: и на землях нынешней Белоруссии, и на Пелопоннесе; на западной окраине славянского мира, в Богемии, и на его востоке — на Днепре. И поляне и поляки были жителями открытых, возделанных областей тогдашней Европы, так, по крайней мере, полагают некоторые исследователи. {169}
Такие имена создавались с древнейших времен. Создавали бы их и в наши дни, да где ты найдешь еще не названные страны?
Огромную область Индостана прорезывают пять рек, пять могучих притоков Инда: Джипам, Чинаб, Рави, Биас и Сатледж. Область так и называется: Пенджаб — «Пятиречье». Слово это древнеперсидское, но и сами индийцы звали страну Панташанда, это значит то же самое. Точное, очень уместное имя, вот оно и живет века.
Еще древние греки окрестили Междуречьем — Месопотамией — огромную часть ближней Азии между Тигром и Евфратом. В этой области мира развивались и угасали могучие цивилизации древности, гибли и возникали гигантские державы... Их имена хранит теперь только история — Элам, Ассирия, Вавилон, — а объемлющее имя всей страны, пережив тысячелетия, звучит и в наши дни.
Подобные топонимы встречаются у всех народов и во всех концах мира. Звучат они по-разному, но значение, смысл имен, входящих в такие их цепочки, повсюду совпадают. На северо-западе Италии лежит провинция Пьемонт, расположенная у подножия Альп с одной стороны, Апеннин — с другой. Имя ее, взятое с французского, значит как раз «Стопа Гор», «Подножие Гор». Как бы наступая на Пьемонт, высятся над ним горные кряжи; действительно — подножие!
Западнее этих мест встают на соседнем полуострове другие горы, Пиренеи. К северу от них лежит французская область Наварра. На баскском языке слово это означает то же самое — «равнина у подножия гор», «подгорье», «Пьемонт»...
Есть третий южный полуостров Европы — Балканский; у самых Балкан в Югославии тянется область Подгорица, что это такое, если не славянский Пьемонт? И в Галиции за Карпатами имеется Подгорье — еще один Пьемонт, теперь уже восточно-славянский...
Далеко-далеко, на северо-востоке Индостана, в самое небо врезались высочайшие хребты Земли Гималаи. Индийская великая равнина не сразу, не под прямым углом поднимается с ними на восьмикилометровую высоту. Там, где она начинает незаметно повышаться, образуя постепенный переход к высокогорью, лежит страна Не-{170}пал — по-индусски: «Жилище у подножия гор» — самый восточный из наших Пьемонтов...
Все это не игра случая: эти названия создавались сходными географическими условиями. Человек, оставаясь человеком вне зависимости от племени и расы, оставаясь человеком на протяжении долгих эпох, одинаково реагировал на них. Мысль его работала по-человечески и в тропиках, и под Полярным кругом.
Приблизясь к берегам Центральной Америки, против Кубы, испанские моряки были поражены их чрезвычайной приглубостью: большие глубины начинались у самой береговой черты.
Конечно, именно они дали вновь открытой земле чисто морское имя: Гондурас, по-испански — «глубины». Можно сказать наверняка: приди европейцы к тому же месту берегом посуху, они назвали бы новую для них страну любым другим именем, только не так.
Испанские конкистадоры были людьми отважными, свирепыми, но никак не образованными. Они не знали, что просто повторили старую историю. За несколько столетий до них северяне-норманны, высаживаясь на берег Франции в проливе Ла-Манш, точно так же были удивлены большими глубинами в этом месте. Они окрестили пункт своей высадки словом, которое у них звучало близко к современному немецкому «tief» — «глубокий, глубина», к датскому «dyp» (то же самое). И в наши дни городок, стоящий тут над Ла-Маншем, именуется слегка измененным словом Дьеп — «глубина». Только теперешние его обитатели забыли, что оно значит.
Видите — на противоположных берегах океана в разное время люди разных кровей и языков назвали два географических «объекта» (другого слова не подберешь), и смысл имен оказался одинаковым.
Назвать страну «Глубиной» мог, конечно, только тот, кто явился в нее с моря. Сухопутные переселенцы, придя на берег неоглядной водной шири, останавливались потрясенные: дальше идти некуда — они дошли до «конца света»!
Отсюда — длинный ряд сходных по значению имен, принадлежащих разным народам, созданных в различное время, разбросанных по всем странам мира.
Мыс Финистéррэ на юго-западе Испании значит точно то же, что имя департамента Финистэр во {171} Франции: по-латыни «финис» — «конец», «тэрра» — «земля». Эти имена — родные братья, они и создались примерно в одно время, в мире латинского языка и римской культуры.
Но вот на Курильских островах, в другом полушарии и совсем недавно, на наших глазах родилось точно такое же имя, там, где на острове Шикотан отвесно обрывается в воды Тихого океана длинный плоский мыс Край Света.
Это имя дано нашими современниками, людьми просвещенными, отлично знающими карту мира и его бесконечность. И все равно — так неодолимо впечатление от неоглядной мощи вечного моря, от его безбрежности и недоступности, что снова и снова рождаются те же чувства, и человек, глядя в бесконечную синюю даль, шепчет на своем языке то же самое имя: Край Света, Финистеррэ, Конец Земли...
Полуостров Ямал на Ледовитом океане за Уралом окрещен много-много лет назад безграмотными, знавшими только свою тундру да своих олешков, ненцами. Имя Лендз-Энд дано мысу на острове святого Патрика на крайнем севере Канады географами Англии и Америки. И все-таки оба эти имени значат одно: Конец Земли... Береговая черта, полоса прибоя, а за ней на тысячи миль — ничего: до самого материка Азии... Через полюс — до самой Канады...
Тот, кто захочет, наверняка найдет на картах мира еще не одно такое имя — в топонимических перечнях других стран, на других языках... С меня достаточно: перечисленные мною имена еще раз подчеркнули дорогую мне мысль: белые, чернокожие, желтокожие люди — всегда люди. Они думают, чувствуют, понимают не по-белому и не по-краснокожему — по-человечески. Топонимика прекрасно отражает это.
Нельзя исчерпать списки имен, в которых отражены «особые приметы» места — равнины, реки, горной цепи, порога. Приметы могут быть чисто природными, но люди выбирают среди них то, что особенно существенно для человека.
Тот, кто назвал Алтай — Алтаем, «Золотой горой», выразил свое стремление к его сокровищам: еще во дни Геродота рассказывали, что на его вершинах живут «стерегущие золото грифы». {172}
Точно так же поступили испанцы послеколумбовских времен, нарекая реку, текущую по новой для них стране, Ла-Платой, рекой Серебра: они надеялись найти на ней богатые серебряные залежи. Оказалось, это ошибка: серебро только сплавляли по Рио-де-Ла-Плата; добывали его далеко — в Боливии. И все же много времени спустя страну, по которой течет могучая река, упрямо окрестили Серебряной страной — Аргентной (по-латыни «аргентум» — «серебро»).
Интересы и жадность людей преходящи, а имени не вырубишь и топором. Соперники испанцев в Южной Америке — португальцы — свою колонию назвали Бразилией, по-видимому, по драгоценным зарослям красного дерева — «бразиль», оно в те времена обещало самое быстрое обогащение...
Красное дерево уступило пальму первенства совсем другим растениям — каучуконосу гевее, кофейному кусту... Но страна осталась Бразилией — «Краснодеревией»... [66]1
Золотой Берег и Берег Слоновой Кости, Острова Пряностей и Черепаховые — неисчерпаем перечень «экономгеографических» имен мира. Географы, геологи, экономисты внимательно приглядываются к ним... Если река называется Алдан — на ней находят богатейшие россыпи золота: ее имя перекликается с Алтаем. Если гора именуется Гюмш-Тепé — стоит покопаться в ее недрах: слово «гюмш» в тюркских языках значит «серебро»... И ищут, и чаще, чем можно думать, находят... Вот вам прямая, материальная польза топонимики...
***
Человек не всегда сразу попадает в точку, дает верное имя на века. Бывает, оно непроизвольно меняется. Впрочем, мы привыкли к переименованиям, все это не удивит. Но я говорю сейчас о переименованиях иного рода. {173}
Древние греки, покинув ласковое, знакомое Ионийское море, устремились на север, к берегам Анатолии, Колхиды, Тавриды. Новое море показалось им неприютным, суровым, берега — дикими и опасными. Они услышали его чуждое иранское названье — «Акшаэна» — «Черное». Слово было созвучно греческому «а-ксейнос» — «негостеприимный». Так и прослыло это море у греков: «Понтос Аксейнос — «Море негостеприимное».
Прошло время. Смелые мореплаватели освоились в чуждых водах. Колонисты отлично обосновались на плодородных берегах, расселившись вокруг моря, «как лягушки вокруг лужи», — так невежливо отозвался о них римский оратор Цицерон. И имя моря незаметно переменилось. Из А-ксинского оно стало Эв-ксинским,— «благогостеприимным». Это второе имя оказалось живучим, «долгоиграющим», как патефонные пластинки... Лишь много столетий спустя овладевшие морем турки перекрестили его по-своему, как бы согласившись с древними персами,— Черным морем, Кара-Денизом. Пришли русские и то ли самостоятельно дали ему такое же, но свое, название, то ли просто перевели на свой язык турецкий гидроним.
О «цветных» названиях я буду говорить с вами особо; здесь речь пойдет о повторяемости, всеобщности их, как и любых других имен. И довольно будет одного примера.
Когда мы освободили в 1944 году Болгарию, многие советские офицеры были до крайности возмущены, встречая в захолустных кофейнях и «бруснáрницах» — парикмахерских — случайно уцелевшие плакатики фашистского цанковского правительства.
«Велика Болгария от Бело море до Черно»,— было напечатано на них...
— Скажи, пожалуйста, размахнулись! — негодовали мои соратники.— От Белого моря до Черного! Всю Россию собирались прибрать к лапам!..
Мне стоило некоторого труда объяснить им, что хотя цанковисты были большими негодяями, в таком неистовстве они все же не были повинны. Они мечтали раздвинуть свои границы только от Кавалы на Ионическом — а по-болгарски на БЕЛОМ — море до берега моря Черного, который им и так принадлежал. Все дело сводилось к захвату сорока- или пятидесятикило-{174}метровой полоски греческой земли. Белых морей на свете не одно, а несколько. Турки называют так — Ак-Дениз — все Средиземное море. Да и наша Балтика заставляет призадуматься. Некоторые ученые выводят ее имя из того же скандинавского корня, что и название проливов Бельт между Данией и Швецией. В этом случае оно значило бы «подобное поясу», вытянутое, как кушак, вдоль северных берегов Средней Европы...
Но, с другой стороны, называют же латыши, народ балтийского племени, наше Белое море Балта Юра... Лингвисты сомневаются: как могли древние балтийцы дать имя морю: они никогда не были мореплавателями!
Но достаточное ли это основание для отрицания? На морском-то берегу они все-таки жили...
Имена-чертежи, имена-этикетки разнообразны до бесконечности. Я уже не говорю, что их изучение требует отличного знания многих языков: даже в границах одного языка существующие топонимы нередко принадлежат другому народу, а значит, и другому языковому корню.
Современный итальянец может не подозревать, что его Милан, город прославленного собора, город театра Ла-Скала, огромных заводов и революционно настроенных рабочих, носит романо-кельтское имя, означающее «Середина равнины» [67]1. Ни он, ни его соседи французы могут не иметь представления, что Милан — тезка маленьких французских местечек Мольен и Мейан: в прошлом и они были римскими «Медиолани» — «серединами равнин».
Чешский город Брно, весьма возможно, назван так же, как и древний Париж — Лютеция, и оба их имени перекликаются с нашим русским названием Грязи — города в Воронежской области; все три названия указывают на качество почвы, а вовсе не на неопрятность жителей или что-либо подобное. В конце концов, что такое «грязь»? «Частицы вещества не на своем месте», — как сказал один английский химик...
Для расшифровки очень многих таких названий, а честно говоря — для всех, необходимы знания ученых-языковедов.
Возьмите слово «Версаль» — прославленное имя знаменитой резиденции французских королей. Даже {175} прекрасное знание сегодняшнего французского языка не подскажет вам, что оно связано с «versant» — старинным словом, означающим «склон, косогор». Лишь отличный знаток географии и истории Франции может проверить, точна ли догадка.
Возьмите название небольшого французского городка Антрэг. Он стоит на территории, омываемой тремя горными потоками. Но чтобы раскрыть, что его имя отражает эту особенность, мало знания французского языка, даже вместе со всей его историей. Только знаток и истории, и исторической географии, и старофранцузского и латинского языков, и их взаимных отношений обнаружит в этом кратком Антрэг латинское словосочетание интэр аквас — «между водами». Из него сначала получилось старороманское «áнтрэ гуэс», а уже из него французское антрэг... Оказывается, имя это по смыслу не так уж далеко от древнегреческого «Месо-потамия» — «Междуречье».
Слово «Глазго» значит не то «зеленый лес», не то «зеленая река», на одном из кельтских наречий Британии. Название столицы Северной Кореи Пхеньян, по-видимому, является близким по смыслу к Милану — «равнина».
Прибыв в город Асбест, вы, конечно, сообразите, что где-то поблизости находятся ломки этого своеобразного минерала. Но так же и маориец Новой Зеландии, услышав имя Ророруа, поймет, что речь идет о месте, где есть рядом «два озера», а абхазец, прочитав на бутылке шампанского название совхоза Абрау-Дюрсо, заметит, что в его окрестностях можно найти и какие-то пропасти, и подземные воды: «Абрау-дюрдсу» по-абхазски: «Провал четырех источников».
Честные и откровенные, имена-чертежи, имена-таблички неплохо выполняют в течение ряда лет, иногда — ряда веков, свое дело: прямо и ясно знакомят нас с тем местом, к которому они привязаны.
Макро и
микро
Мы говорили до сих пор больше всего о морях и горах, городах и странах. Это все — макротопонимы, названия больших географических «предметов». Те же наблюдения можно повторить и на микротопонимике — на именах не степей, а лужаек и полян, не пустынь, а пустырей, не океанов, а еле заметных {176} озерков, прудиков и даже просто болотистых лесных лужиц... Не думайте, что они безымянны. Имена у них обычно есть, только известны они небольшому кругу местных жителей, односельчан, обитателей одной горной долины, одного маленького островка на озере...
Да и в любом большом городе мы сталкиваемся ежесекундно с микротопонимикой: это — названия улиц и переулков, скверов и маленьких площадей, подгородних селеньиц и их частей... Не так-то просто, правда, иной раз решить: «мкро» перед тобой или «мáкро» — очень маленькая река или весьма полноводный ручей, низкая гора или высокий холм. На Кавказе гора Охýн у самого Сочи считается пустячным пригорком с ее 633 метрами высоты, а датчане единственную возвышенность своей страны, вершина которой возносится на целых 170 метров, пышно именуют Гиммельсбьергхет — «Поднебесная гора».
Я ленинградец и буду говорить о микротопонимах моего родного города; не обо всех, а только о топонимах-этикетках, прямо указывающих на то, что ими обозначено.
Во многих классических романах упоминается городской петербургский район Пески — обиталище мелких чиновников и старушек на пенсии. Спросите у производителей строительных работ где-нибудь у Греческого или Суворовского проспектов: и верно, тут под почвой — чистый песок. Дюны древнего моря, как и на Песочной улице в Удельной.
В наших северных местах рядом с песком всегда болото.
Болотная улица лежала рядом с Песками (теперь у нее иное имя). Там, где теперь тянется Боровая улица, был некогда сосновый лес. По оставшимся от него пням это место долго звали Большими Пеньками: видно, лес был не плох...
Невский проспект тоже назван честно, но не совсем. Не потому, что он начинается от Невы-реки, а потому, что вел некогда к Александро-Невской лавре, монастырю, где помещалась «рака» — гробница этого князя, победителя шведов в Невской битве. В конце концов, имя улицы связано-таки с Невой.
Но возможны и грубые ошибки. Моховые улицы есть и в Москве и в Ленинграде. Однако разница су-{177}щественна: на месте московской Моховой был во время óно рыночек, где торговали мохом для конопачения деревянных срубов столицы. А ленинградская Моховая ничего общего с мохом не имеет. Вы уже знаете: ее имя соответствует московскому Хамовники: это — искаженное Хамовая, Ткацкая улица.
Есть названия, первоначальный смысл которых теперь уже никак не соответствует тому, что вы видите, придя на это место. Загородный проспект! Почему — Загородный, если он лежит в самом центре города? Да, но каких-нибудь полтораста-двести лет назад городская граница пролегала по реке Фонтанке, и Загородная дорога лежала уже в окружавших Петербург лесах.
Есть в нашем городе улицы Расстанная и Заставская. Хочется думать, что последняя лежит у городской «заставы», на самой границе его внешних кварталов; что у этой «Расстанной» улицы остающиеся расстаются с отъезжающими по-прежнему, на рубеже столицы, у «стен города». Но и от той и от другой сегодня до городской черты — добрый десяток километров, если не больше; так вырос Ленинград.
Нет, не стоит менять такие имена; напротив того, на углах таких улиц когда-нибудь будут вывешивать мраморные доски, на которых каждый сможет прочесть историю возникновения и жизни их названий. Иногда поучительную, иногда драматическую, иной раз и просто веселую, курьезную...
Была некогда в пригороде Петербурга — Лесном — улица с сентиментальным именем: «Улица Карла и Эмилии». Рассказывали смешную, грустную и немного противную историю. Двое молодых немцев — Карл и Эмилия — полюбили друг друга, хотели пожениться. Но родители обоих сказали: «Только когда Карльхен заработает достаточно денег и займет должное положение в обществе!»
Карльхен трудился, но старики считали, что он еще не достиг «потолка». И когда жениху было уже шестьдесят, а невесте — около того, они, в последний раз услышав от пап и мам роковое «Нельзя!», пошли, взявшись за руки, и утопились в пруду. А соседи, пролив немало слез, назвали в их память одну из тенистых маленьких уличек Лесного. {178}
Сейчас от этого названия не сохранилось и следа, а жалко: оно рисовало давно от нас ушедший мир [68]1.
Есть сегодня у нас коротышка — Крестьянская улица на Петроградской стороне. До революции у нее было странное имя: Дункин переулок.
В первые дни после Октября кто-то прочел это Дункин как Дунькин и оскорбился. «Вот, мол, баре как относились к крестьянским женщинам: не Дуняшин, не Авдотьюшкин, а грубо, презрительно — Дунькин. Переименовать!» И переименовали.
А напрасно. Ни о какой женщине Дуне тут и речи не было. Вдоль переулка тянулись некогда владения приехавшей из Шотландии аристократической семьи Дункáн. Переулок и звали: «Переулок Дункан». И не баре, а народ, которому мало было дела до звучных дворянских фамилий — от непонимания, но и не без лукавства,— перекроил это чванливое имя на Дýнкин... Оставить бы его, на смех и удовольствие потомства, а его заменили именем Крестьянская... И какая же она Крестьянская, если вся длина ее меньше полутораста метров — триста шагов?..
Фонтанка, Мойка, Пряжка — понятно. Но вот есть в Ленинграде речка Оккервиль — это откуда? Прямо вроде «собака Баскервилей» — в Англии бы ей течь... А на деле в этих местах, на правом берегу Невы, в шведские еще времена стояла мыза шведского же офицера, господина Оккервиля. И очень хорошо, что имя ее сохраняется до наших дней: чести и славы господину офицеру оно, может быть, и не прибавит, а о давно прошедшем мгновении в истории нашего города говорит.
А народ — он сам умеет расправляться в своем именословии с тем, кто ему насолил в прошлом. Окрестил же он именем «острова Голодая» (теперь — остров Декабристов; тут трудно возражать против переименования: по преданию, могилы казненных героев 1825 года находятся именно здесь) владения «аглицкого негоцианта», фабриканта и богача, господина Холлидэя, {179} морившего голодом рабочих на своей фабрике. Народ — он может!
Конечно, нет смысла без конца сохранять всю старую топонимику страны, да это и просто невозможно. Но с топонимами надо обращаться как можно внимательней и деликатней и никогда не заменять их другими, без точного научного расчета и крайней необходимости...
Ленинграду — четверть тысячелетия, а Москве уже больше восьмисот лет, Киев — еще старше. Разумеется, они богаче города на Неве именами-свидетельствами «старины глубокой».
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось...
Не важно, что мы и сейчас спорим о точном значении этого «звука», что смысл и происхождение слова «Москва» до сих пор нам не ясны: оно значит для нас бесконечно много. Да и названия улиц Москвы, ее проездов, урочищ, площадей и целых районов почти всегда памятны и красноречивы. Все они — и самые «трубногласные» и торжественные, такие, как Кремль и Красная площадь, Лобное место и Китай-город, — и исторически полновесные, связанные с памятными событиями или прославленными людьми (прославленными и по добру и по худу!) — Лефортово, Басманные, Бауманская, вплоть до лукавых и курьезных имен, вроде: улица Матросская Тишина [69]1, площадь Разгуляй или церковь Никола-на-Курьих Ножках; все эти Плющхи и Палхи, Зацéпы, Собачьи Площадки и Щипк, Охотные ряды и Солянки, Божедóмки и Сивцевы Вражки — все они отображение того, что давно ушло, но что всегда — доброе и злое — было драгоценно памяти народной.
Даже если величавая поступь времени вынуждает их уступить свое место новым именам — никак не положено забывать старые. {180}
Среди полей
и лугов
Смешно было бы стремиться показать вам не только сотую — тысячную долю всех микротопонимических названий нашей страны. Сами собирайте их, когда станете топонимистами, и сделаете великое дело. Но мне очень хочется продемонстрировать вам несколько таких же, но деревенских микротопонимов, тех, которые служат названиями маленьких деревень, поселочков, а также дорожных перекрестков, прогалин в лесу, березовых «колков» Сибири и сосновых «сопок» Озерного края. И опять-таки — тех из них, которые отражают в себе природу и ландшафт страны.
У нас на севере никакая не редкость имена с приставками «за-» и «под-» За-полье, За-озерье, За-горье, За-борье или Под-березье, Под-борье, Под-осиновка, Под-горье... Что это — странно или естественно, всюду так или только здесь?
Ученые занимались этим вопросом. Выяснилось: чем севернее и северо-западнее, тем таких имен больше, чем южнее и юго-восточнее, тем меньше. В бывшей Псковской губернии их зарегистрировали (тех и других) 800; в Московской всего 90... В девять раз меньше! Почему?
Ученый, опубликовавший эти данные (довольно давно, еще в 20-х годах), предполагал, что это не случайность. На севере больше лесов, поля пересечены грядами холмов, разделены речками, болотами, озерами... В древности, когда селение разделялось на две части или когда рядом появлялась новая заимка или починок, они постоянно оказывались одна от другой за лесом, за болотом, за озером... Точно так же, поселяясь возле опушки старого леса, люди видели себя как бы «под его стеной», «под горой», «под березняком», «под осинником»... Тут-то и рождались на свет такие приставочные имена.
На юге, на его привольных открытых просторах, мало что заслоняло один поселок от другого. И там таких топонимов меньше...
Видите, какая стройная теория... Да, но верна ли она? Может быть, это результат случайного подбора названий... Очень важно было бы выяснить все это: установить, действительно ли наши топонимы дают в руки географам и историкам такие простые способы судить о стране, даже не видя ее? Но проверить эту гипотезу и другие похожие можно будет лишь тогда, когда мы {181} сильно, очень сильно продвинем вперед дело сбора и изучения наших географических имен...
Само собой разумеется, в определенных случаях тут сомневаться нечего: дают! Историк, например, может многое почерпнуть для себя из этих имен, найти в них сведения о таком прошлом нашей страны, о котором ничего не вычитаешь ни в каких документах.
Название города Клин напоминает о времени, когда тут клином сходились границы феодальных княжеств — Московского и Тверского: «и воеваша до клина московского рубежа»...
То, что в моей любимой Великолучине, к западу и к востоку от железной дороги Ленинград — Витебск, лежат две — не области, конечно, но как бы два разных географических мирка — и что местные жители — псковичи — издавна именовали возвышенную густозаселенную часть своей территории древним словом Жильё, а восточную, низменную, лесистую, глухую, — Низ, уже могло хорошо показать, откуда и в каком направлении шло тут постепенное расселение человека — из старого Жилья в глухие Низы.
Стоило приглядеться к названиям «жильевских» и «низовских» деревень, и это делалось еще более ясным: в Низах они все даны недавно, почти всегда понятны, ясны: Бородинó, Глубинó, Дроздово, Троица... А вот «жильевские» имена куда позатейливей, а значит, и подревней. Объясните-ка, что они значат: Дуняни, Заклика, Меретеницы, Локновато, Ащеркино, Перéлучье... Ох, как давно живут они: их первоначальный смысл, их этимология затягиваются уже дымкой времени... А ведь как важно порою нашим краеведам заглянуть хоть одним глазом на то, как расселялся когда-то человек по данной области или району.
Опытный топонимист, придирчивым взглядом изучая карту любой части нашей страны, может многое сказать о ее рельефе, о других природных условиях уже по одним только названиям.
Там, где встречаются названия населенных пунктов и урочищ, связанные со словами «ключ», «родник», «колодезь», наверно, неважно обстоит дело с водой: кому в богатой ею местности придет в голову называть свой поселок Колодезьная или Гремучий Ключ, если и ключи и колодцы имеются в каждой деревушке? А вот {182} там, где питьевой воды мало, где степь стонет от жажды, каждое место, где бьет родник, получает такое «колодезное», радующее людей имя.
Если одна деревня зовется Наволóк, а урочище неподалеку от нее — Налье — и тех и других имен в Озерном Крае пруд пруди! — если поодаль имеется поселок Рёлка (как в Ленинградской области у озера Самро) или Рель,— нетрудно угадать, что мы в богатой влагой, речками, озерками и болотцами местности: «наволóк» — это речная пойма, коса или полуостров; «нáлье» — песчаная или каменистая отмель в реке или озере; «рёлка» — невысокая гривка на приречном лугу, покрытый лесом озерный мыс и т. д.
Совершенно ясно, что и тут надо в совершенстве владеть не только литературным русским языком, но и всеми его говорами. На просторах РСФСР пестрят тысячи Раменок, есть и Раменья и Подраменья, а что может означать это имя?
Надо точно знать, что во многих местах нашей страны «раменью» зовется опушка леса; иначе вы, чего доброго, начнете искать в этих названиях прямую связь с древнеславянским «рамо» — «плечо» или «рамен» — вид терновника — и придете к совершенно превратным выводам...
Вы прочтете на карте Лужского района Ленинградской области название Враги и удивитесь: кому пришло в голову свое родное селение именовать таким супротивным словом... А читать это имя надо Враги и надо при этом знать, что есть диалекты, в которых «враг» значит «овраг». В Москве есть переулок Свцев Врáжек: он проложен по дну оврага, в котором некогда змеилась ничтожная речушка Сивка, приток давно уже не существующего ручья Черторыя... Этого овражка нет уже столетия, но сквозь чудом сохранившееся древнее имя все еще как бы брезжат его поросшие густым кустарником влажные склоны...
Слово «дор» вы сейчас навряд ли услышите где-либо, и тем более навряд ли скажете, что оно значит. А деревень с именами Дорки, Дорони, Доры и под боком у столицы нашей можно разыскать сколько угодно...
«Дор» — родственное слову «драть» — значило когда-то «вырубка», «росчисть», «участок леса, приготовленный {183} для распашки». В литературном языке вы его не встретите, а вот топонимы, произведенные от него, можно обнаружить даже в некоторых дачных местностях, среди турбаз, пионерских лагерей и шумных аэродромов.
И все-таки, дорогие друзья, и тут — осторожность, всяческая осторожность! Нашли вы имя Дорóни. А как вы поручитесь, что оно образовано от слова «дор», а не от ласкового Дороня — производного от Дорофей? Вот то-то!
Всякая
всячина
На этом, по плану, я должен был бы закончить главу, но ничего не могу поделать: нужно упомянуть еще о некоторых видах имен, на которые каждый из вас может натолкнуться там, где говорят по-русски.
Мы знаем: рядом с именами, основанными на том, как — тоже по имени — звали владельца или основателя селения, бывают и такие, которые указывают на то, чем эти люди занимались. Такие имена мы наблюдали в городах: Ружейные, Пушкарские, Прядильные улицы... Хочу указать вам еще на одно: Вшивая горка.
Вы, может быть, и поверите мне, что так действительно называлась одна из московских улиц, но, конечно, спросите: «А при чем же тут «чем люди занимались?» Тогда я расскажу вам такую историю.
Было в Москве место, где исстари поселились, жили и работали мелкие ремесленники — швецы — старьевщики. Они чинили и перелицовывали всякие лохмотья и затем сбывали их городской бедноте. Тогда место это получило название Швивая Горка. Швивая, а не Вшивая...
Но старье, которое покупали и перепродавали эти горе-мастера, было такого качества, а время было такое давнее и темное, что не приходится удивляться, если москвичи, бывавшие на Швивой Горке, в конце концов с горьким юмором переименовали ее во Вшивую... О чистоте и гигиене в далекие времена люди имели довольно слабое понятие.
Вот как объясняют происхождение этого малоприятного имени некоторые топонимисты. Выходит, что оно говорит о профессии своих обитателей. Но есть и совсем другое предположение. {184}
Несогласные утверждают, будто никаких «швецов» никогда не было, да и слова «швивый» в русском языке не существовало. Было совсем другое: место, густо заросшее «ýшью» — Ушивая Горка...
«Ушью»? А что это такое? Новгородская летопись, описывая страшный голод 1128 года, рассказывает, что в это тяжкое время «ядаху (ели.— Л. У.) люди лист липов... ушь, мох, конину...» Историк Карамзин считал «ушь» каким-то видом лютика; может быть, так называлась лебеда... Когда древнее название сорного растения уже забылось, Ушвая Горка незаметно превратилась во Вшивую: слова эти в народном произношении почти совпадали. И вот тогда сконфуженное такой невежливостью начальство измыслило искусственное слово Швивая и повелело впредь называть место так...
Я не берусь решать спор между двумя мнениями, хотя во втором случае имя это приходится исключать из разряда «профессиональных» по происхождению топонимов. Не беда: узнать историю споров о нем вам тоже небесполезно.
***
Тысячи населенных пунктов названы по ремеслу их обитателей. Конечно, никто не дал бы деревне имя Пахари: во всех деревнях жили пахари. А вот шаповалы, кузнецы или хорошие столяры имелись далеко не всюду. Потому так много у нас Шаповаловых, Кузнецовок, Столяровых и Токаревых... Правда, легко могло случиться, что первым жителем такого селения был не сам кузнец, а уже его дети — Кузнецовы, не шаповал, а его сыны — Шаповаленки.
В наши дни мы не считаем «работой» занятие церковных служителей — священников, дьяконов и т. п. Но двести-триста (да и семьдесят лет) назад оно рассматривалось именно как работа, и даже почетная. Не приходится удивляться, если по всей Руси легко обнаружить сколько угодно Поповок (есть даже такая станция под Ленинградом: «Это что за остановка — Бологое иль Поповка?» — восклицает Рассеянный у С. Маршака), Пономаревых, Дьячковых, Дьяконовых... Но, конечно, и тут две возможности: имя Поповка мог {185} дать или живший там поп — священник, или же любой человек — помещик, купчик, генерал, по фамилии Попов.
Приснился раз, бог весть с какой причины.
Советнику Попову странный сон...
А. К. Толстой
Можно обнаружить среди существующих до сего дня топонимов такие, в основе которых лежат названия должностей и занятий, не существующих уже целые века. Есть (или могут найтись) селения Бурмистровы, Псаревки, Тиуновы, Рындины,— были некогда такие звания и чины: Бурмистр, Рында, Тиун, Псарь — (в помещичьем или в царском быту).
Иногда установить, от какого именно нарицательного имени происходит название места, не так легко. Скажите без долгих исследований, с чем связано имя одного из переулков в центре Москвы — Гнездниковского? (Их, собственно, даже два — Малый и Большой.) Чтобы ответить, надо знать, что в допетровской Руси существовала и такая удивительная профессия: «гнездник». Эти люди пробивали или просверливали в уже готовых дверных и оконных петлях конические отверстия, дыры для шурупов. Видимо, целая артель их обитала в переулках, упиравшихся в тогдашнюю Тверскую дорогу, раз они были названы Гнездниковскими.
А вот казус и посложнее. Предположим, вы встретили где-нибудь село с таким названием: Жильцово. Очень странно: «жилéц» или «жхарь» — это каждый обитатель любой деревни; как могло прийти в голову назвать этот поселок таким всеобщим, непоказательным именем?
Но нет: слово «жилец» тут не означает просто «живущий», «житель». Вот вам почти точная выписка из Энциклопедического словаря:
«Жильцы — один из разрядов «служилых людей» древней Руси. Служилые люди разделялись на: 1) стольников, 2) стряпчих, 3) дворян московских и жильцов... Служилый человек, попавший в жильцы, открывал для своего потомства возможность сделать завидную для служилых людей карьеру. В середине XVII века жильцов числилось около 2000 человек...»
Две тысячи на всю страну! Понятно, что если один из таких людей получал где-либо землю, вотчину, основы-{186}вал сельцо,— все это могло получить от соседей имя Жильцово: от всех окружающих поселений оно отличалось особенным, редким званием своего владельца...
Вот какая сложная вещь не только торжественные, громкие, всем известные макротопонимы мира, но и их младшие братья — мелкие, микротопонимические названия. При этом, я еще не залезал вглубь. Я почти не касался имен совсем малых угодий и урочищ — речных омутов и плесов, лесных прогалин и овражков, небольших участков обработанных полей; а ведь каждый клочок земли не оставался безымянным для тех тружеников, которые на нем работали... Вот эта высотка носит название Каменстка, то крестьянское поле именовалось Под Вязной (хотя никакой «вязины», вязового дерева, там уже сто лет как нет), другое — Сырые Нивы; омут называется Масéев Вир, а кто был этот Масей (Моисей), никому даже из стариков неизвестно... Речку все зовут Трубёнка, и доищись, что это связано со строительством железной дороги, когда ручей был временно заключен в деревянную «трубу»; раньше он именовался Лукомка, а что это значит?
Почему я обошел вниманием эти сверхмалые топонимы? Только потому, что о них у меня слишком мало данных: их никто по-настоящему еще не регистрировал, никто основательно не собирал, и так и получилось, что доныне в каждой нашей области десятки тысяч урочищ и мест числятся безымянными. Это неправда: у них есть имена. Мы обязаны их найти, записать, изучить. Кто знает, какие неоценимые данные о прошлом нашей страны скрываются в их пестром, неисследованном множестве...
Иноземцы и иноплеменники
В ранней юности меня очень интересовало имя одной из Великолуцких (над самой рекой Локней) деревень: Литвново. Я понимал его прямо и просто: принадлежащее «литвину», выходцу из Литвы. Наверное, какой-то случайно забредший сюда иноплеменник был первым поселенцем над живописным, заросшим оплетенным хмелем оврагом, где шумела по камням пограничная с Новоржевским уездом речка Локня... Кто знает, конечно, может быть, так оно и было.
Но вероятнее другое. В псковских местах вплоть до самой революции, да и в первые годы после нее, отцы и матери нередко ругали своих баловных чадушек либо {187} «вольницей» (это — от древних полуразбойных, полуторговых ватаг псковичей и новгородцев, плававших по тогдашним рекам Севера; они не больно ласково обходились и со своими земляками, коли дело доходило до стычки), либо «литвой»...
«Ох ты, литвн несчастный!» или: «Ну, литвá, погодите, доберусь я до вас!» — кричал выведенный из себя хозяин, выгоняя из «гороховища» забравшихся туда за сладкими «лопатками» — стручками белобрысых грабителей... И не было ровно ничего невозможного, если бы за одним из них, особенно насолившим старшим, прозвище Литвин осталось до конца жизни. Оно значило: шалопай, сущий разбойник... Откуда все это могло пойти? Ну конечно, от памяти о постоянных русско-литовских войнах, о разрушительных и разорительных набегах из-за рубежа...
Вот такой-то именно псковский «литвин» и мог передать свое имя деревне, донесшей его до XX века (возможно, оно и сейчас живет).
Я уже упоминал имя Польшинó, которое, вероятно, не имеет никакого отношения к Польше и полякам, а обязано своим происхождением уменьшительному от Павел — Польшá.
То же самое можно повторить о тех поселках, которые были названы, на первый взгляд, в честь каких-то представителей других областей или городов страны: Муромцево — от муромец, житель Мурома; Ростовцево, Смольяниново — по человеку, родом из Смоленска.
Могло быть так, но случалось и иначе. Возникали прозвища «Муромец», «Ростовец»; они могли прилипать к человеку, вовсе не состоящему земляком Ильи Муромца, а только раз в жизни побывавшему в древнем Муроме или Великом Ростове. Более того — отец, имевший друга-приятеля родом из Мурома, мог спокойно наградить родившегося сына «мирским именем» Муромец в честь хорошего человека. И близкие забывали, что у мальчишки есть крестное имя Иван, и в голос звали его Муромцем, и когда он основывал деревню или сельцо, они тоже становились Мýромцевыми, хотя до Мурома от них — как до неба...
Такие прозвища и мирские имена давались и в честь друзей совсем других национальностей или по внешнему {188} сходству новорожденного с горбоносым черкесом, с черноволосым и черноглазым евреем, с раскосым самоедом или с черемисином. Появлялись Черкесовы, Евреиновы, Черемисиновы чисто русских кровей, а по ним — и деревни таких наименований. Надо твердо представлять себе, что далеко не каждое Цыганово было основано настоящим цыганом, не в каждом Ляхове когда-нибудь жил «лях» — поляк. Имена могли образоваться совершенно иным образом.
Барские причуды и мужицкие шутки
Народ давая месту имя, чаще всего действует серьезно и деловито: увязает осенью телега по ступицы в грязи называется Грзи; стоит село на самом юру на горе — получает имя Высокое... Несколько реже, но возникают, однако, и менее прямые, образные названия: деревня Чернушка, деревня Веселый Двор... Крупный советский языковед А. Селищев приводит такие лихо закрученные названия, как Вражек Волчий Хвост (вероятно, за очертания этого оврага в плане), как урочище Козий Горб (видимо, какой-то горбатый холм; это около Можайска, в XVI веке), Песьи Кости, Ивановы Штаны и Ивановы Портки — под Переяславлем Залесским.
Если бы мы знали все микротопонимы нашей Родины, таких причудливых имен — когда весьма выразительных, когда ядовитых, а порой и просто гневных — можно было бы указать в тысячу раз больше... Порткáми в народе постоянно назывались две сходящиеся вместе полосы — пашни, покоса, вырубки... Насколько такое стремление к образному названию живо, показывает хотя бы такой пример: почти по всей стране шоферы имеют обыкновение длинные дорожные объезды, когда путь возвращается почти к исходной точке, именовать Тещиными Языками. Так же называются многие длинные извилины дорог в горных местностях, где они вьются затейливым «серпантином»: один такой Тещин Язык я сам обнаружил на шоссе Крымская — Новороссийск. Свидетельствуют об этом и такие названия, как мыс Серая Лошадь, на Финском заливе, поселок Белый Бычок (теперь — Чагода, в Вологодской области), Вороний Камень — скала на Чудском озере, у места Ледового побоища... Надо думать, они создавались {189} народом; одни недавно, другие — очень давно. Это — шутки мужицкие.
Барские причуды всегда новее и обычно куда менее удачны; именно к ним следует особенно внимательно приглядеться нашим современным, не в меру ретивым доброхотным «переименователям» и «наименователям» географических мест.
Очень часто это «чувствительные», достойные гоголевского Манилова и его «Храма уединенного размышления» имена: Приютино (имение Олениных; название и сейчас существует под Ленинградом), Отрадное (вспомним имение Ростовых в «Войне и мире») и тому подобные сладкозвучные названия. С ними порою случались достойные внимания казусы.
Какой-то владетель назвал свое поместье возле Усть-Луги в Петербургской губернии возвышенно и нежно: Стремление. Чего уж изящней! Но некоторое время спустя тут же рядом возник совсем незначительный хуторок или выселки; появилось название Малое Стремление. Затем — уже в середине XIX века — просто Стремление исчезло, а осталось только Малое Стремление... Прекраснодушная затея кончилась анекдотом.
Тут же рядом была деревня, собственник которой назвал ее гордо и патриотично: Россия. Россия была расположена в Ингерманландии, с ее преимущественно финским тогда населением. Большинством обитателей этой России оказались финны, или, как их тогда называли пренебрежительно, «чýхны» (от слова «чудь»). А вот соседняя, меньшая, деревенька была заселена русскими крестьянами.
Посмотрите на карту-десятиверстку, составленную корпусом военных топографов в конце 60-х годов прошлого века. Вы найдете на ней обе деревни: одна называется Малая Русская Россия, другая — Большая Чухонская Россия... Смешно? Ну, еще бы! Но подумайте: с какими предосторожностями надо давать имена географическим пунктам и как трудно ожидать, что получится из них через сто лет при самых лучших намерениях назывателя!..
Помещики были разные... Бодрячок давал селу жизнерадостное имя Кинь Грусть, в подражание французскому Сан-Суси («Без забот»; так назвал свое {190} имение Фридрих II Прусский) или голландскому Бьютензорге (имя знаменитого ботанического сада на Яве, теперь, конечно, переименованного; значение то же). Меланхолик скорбно окрещивал свою собственность Воздыхаловка (бывший Крапивенский уезд Тульской губернии).
Были дворяне-галломаны; они хотели жить в Монплезрах и Монрепó («Мое удовольствие», «Мой покой»). Приключенцы и читатели путешествий способны были назвать рязанское дворянское гнездо Мысом Доброй Надежды, приднепровскую деревушку в вишневых садочках — Пéрсией... Появился на Украине даже свой Дамаск; впрочем, в официальной переписке он значился как «Гайвороновщина — тож»... Нашелся даже чудак, то ли обладавший чувством едкого и самокритического юмора, то ли страдавший манией величия. Свою вотчину в Рязанской (тоже!) губернии он (а кто мог ему помешать?) наименовал: Герцогство. В Герцогстве числились два двора... И ведь — что ты сделаешь? — не разорись самодур, или не произойди в 1917 году революция, кто-нибудь и сегодня должен был бы в анкетах писать: «Место рождения — Герцогство, Рязанской губернии...»
Были у нас весьма неожиданные имена совсем другого, благородного происхождения: вернувшиеся после наполеоновских войн из похода русские солдаты и офицеры взяли привычку называть селения родного угла в честь тех далеких мест, где они одерживали победы под русскими знаменами, или которые повидали. Так появился Париж — село под Харьковом, тот алтайский Орлеан, о котором шла речь на стр. 141-й, и другие топонимы. О некоторых из них мы еще будем иметь случай вспомнить.
Какой можно сделать из этого вывод? В общем-то, чем затейливее и вычурнее имя, тем больше ему грозит опасностей, тем чаще и скорее отказывается от него или перерабатывает его до неузнаваемости народ. Чем ближе оно по форме и типу к старым народным образцам, тем меньше у него шансов быть искаженным или исчезнуть. Комиссиям по переименованиям и наименованиям улиц, селений, городов нельзя забывать и об этом.
Может быть, вас интересуют имена подхалимские? Бывали и такие. Человек входил «в случай», на {191} него сыпались награды. Само слово «наградить» первоначально значило «одарить городом», «нагородити». Счастливчик приходил в умиление и называл свою новую собственность в честь и восхваление благодетелю — царю, царице, вельможе... Так появился когда-то на Украине Царедар (было такое имение), Милость Куракина или, на худой конец, Судьбодарово: мол, не знаю за что и от кого; не заслужил: судьба одарила!
Народ справедлив: такие проявления обогащения различных властных личностей исчезали обыкновенно много скорее других нелепых имен. Но топонимист может и сейчас натолкнуться на них при своих розысках.
Главка подошла к концу, и позвольте мне рассказать вам напоследок один топонимический анекдот из совсем недавнего прошлого.
До революции я знал семью средней руки помещиков. Пишучи это без их разрешения и согласия, назову их семьей Бутлер. У Бутлерóв было в средней полосе имение — тоже средней руки, не латифундия и не хуторок. Называлось оно, как многие, по престольному празднику: Троицкое-Батурино.
С революцией земля эта перешла народу, а бывшие владельцы и затем их дети, совершенно примирившись с новым порядком вещей, превратились в обычных, стопроцентных советских людей — инженеров, юристов, просто служащих...
Уже после Отечественной войны одному из младших Бутлеров довелось побывать в служебной командировке в местах, где он каждое лето живал в детстве в отцовском поместье. Я не удивляюсь, что ему вздумалось поближе посмотреть на то, что там теперь происходит, что осталось от прош-{192}лого, что заменилось новым. Родной угол всегда сохраняет свою
Вот они — дворянские вздохи и
мужицкие затейливые шуточки.
приманчивую власть над человеком.
Из ближнего городка он отправился пешком на берега милой ему речки Зуши. Но, прибыв на место, развел руками: никаких следов былого! Даже не скажешь, где именно было все это. На месте деревушек — огромные колхозы; взамен сети проселочных пыльных «запутничков» — асфальтированные шоссе. Старые леса уничтожены войной; где были поля, поднялись молодые посадки... Совершенно не в состоянии ориентироваться, он встретил трактор с прицепом и сделал попытку узнать у молодого водителя: где тут поблизости стояло некогда помещичье имение Троицкое. Троицкое-Батурино.
Тракторист почесал в затылке. «Троицкое? Слыхом не слыхал... Да это же, видать, поповское название, церковное... Разве может, чтоб оно осталось? А пожалуй — слух только; может, и не было такого села, сказка какая-нибудь?»
Тут потомок помещиков, экономист Бутлер, орденоносец, ученый, давно забывший «тот мир», но все-таки знавший когда-то здесь каждую пядь земли, возмутился: «Какая же сказка? Было такое имение. Фамилия владельцев была Бутлер!»
— Хо! — обрадовался комсомолец-тракторист, в глаза не видавший ни одного живого помещика.— Так бы и говорили! Это ж вон, над речкой новые выселки: Малые Бутлерá и Большие Бутлерá — птицеферма и семенное хозяйство... Садитесь, я вас мигом подкину...
Старики, переселявшиеся на барскую землю, знали, почему они дали выселкам их новые имена. А для молодежи они потеряли решительно всякий конкретный смысл, стали «только именами» без всякого значения, как Молодой Туд в Калининской области или Большой Пит в Красноярском крае. Назвали, и очень мило... Нам-то что допытываться? {194}
ВСЯКОГО ЖИТА...
До сих пор я старался строить мою книгу по твердому плану. Я говорил о том, что нужно узнать школьнику, чтобы решить, стоит ли заинтересоваться топонимикой. Много ведь чем можно заинтересоваться, всего не охватишь...
Я имел в виду две стороны дела: разлакомить и напугать. Чтобы каждый понял; интересно, но и далеко не просто; спрохвалá, шал-вал этим заниматься нельзя. Для этого надо много знать и узнавать еще больше.
Все приманки и острастки я старался вложить в три первые части моей работы. Прочесть их вам было необходимо, хотя, может быть, и не всегда одинаково легко и весело. Что-то могло показаться трудноватым, что-то — скучноватым. На сей счет напридумана тысяча мудрых изречений: «корень учения горек», «любишь кататься, люби и саночки возить», «тяжело на ученье — легко в бою»; сколько угодно — и всё правильно.
Но вот теперь, отделавшись от этого груза, я считаю: и вы и я имеем право позабавиться, а, вероятно, вы и по тому, что успели прочитать, заметили, что забавного в нашей науке достаточно... Но не следует думать, что все последующее будет пустыми рассказиками для увеселения. Просто оставив за спиной теоретические рассуждения, мы займемся теперь некоторыми частными случаями, некоторыми примерами; они послужат иллюстрациями к уже сказанному. {195}
Лилипуты и бробдиньяги
Лилипуты в романе Д. Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера» были такими коротышками, что обращаться с ними казалось довольно затруднительным. Но бробдиньяги оказались настолько велики ростом, что рядом с ними лилипутом стал выглядеть уже сам сэр Лемюэль; жизнь его у них тоже была не сахар.
В мире географических имен есть свои лилипуты и свои великаны. Опасностей не представляют ни те ни другие, но общение с ними может причинить известные затруднения. Начнем с имен-крошек.
Как мал, как короток может быть самый короткий топоним? Точно так же мал, как самое короткое слово вообще.
Ни в каком языке не может быть слова меньше, чем в один звук; иначе это будет уже не самое короткое слово, а более или менее долгое молчание. Очевидно, и рекордсмены лилипутизма среди топонимов должны обладать «величиной в один звук». А есть такие?
Есть, и притом их не так уж мало. Одни из них появились в результате упрощения названий, бывших некогда куда более «рослыми»; другие, возможно, такими недомерками и родились на свет.
Французский язык представляет собой, если судить о нем исторически, сложную смесь — амальгаму латинского, кельтского и германского элементов. Включив в свой состав множество романских, латинских слов, он затем резко упростил их когда-то очень сложный звуковой состав. Римское «магистер» — учитель, мастер — превратилось в современное французское «метр» — хозяин, учитель (пишется: «mai-tre»). Латинское «аугустус» — величественный, — побывав римским именем, а затем названием месяца августа, произносится сейчас во Франции как «у», хотя и пишется тоже куда сложнее: «Août», как бы в напоминание о своем пышном прошлом. Точно так же и длинное латинское название аквэ секстиэ превратилось с течением веков в современное французское «Aix», которое произносится иногда как экс, а иной раз и как э. (Вы помните, что «аква» по-латыни «вода»; стоит сказать, что из этого же «аква» получилось и обычное слово французского языка — «о» (пишется «eau») — тоже «вода».) {196}
Не так давно в одном из наших журналов было опубликовано сообщение о том, что на севере Франции, в департаменте Соммы, существует местечко по имени «И». Это опять рекордная краткость для топонима: я, к сожалению, не знаю происхождения его.
Короче топонимов, состоящих из одного гласного звука, был бы, строго говоря, такой, который состоит из одного согласного — скажем, озеро К, или река Т. Мне такие неизвестны. Однако на свете так много разных языков, звуковые системы их столь различны, что я не могу дать гарантии: таких нет. Кто ищет — находит, утверждала древняя мудрость; ищите, — может быть, вам и посчастливится.
Неизвестны мне и русские по происхождению имена из одного гласного звука, но если по выходе этой моей книги в свет я получу сообщения о их существовании, я, вполне возможно, буду принужден расписаться в своей неосведомленности.
Односложных имен на свете несравненно больше, чем однозвучных, причем на охоту за ними не обязательно ехать в дальние края. Замечали ли, кстати, вы, что составители кроссвордов очень бедны выбором слов, состоящих из двух только букв: китайская верста — ли, бог египтян — Ра, несколько названий нот — вот почти весь их репертуар. Они просто невнимательно изучают карты!
Я как-то начал составлять в помощь кроссвордистам список географических имен, которые могли бы заменить эти примелькавшиеся словечки. Их набралось множество. Чем плохи, скажем, такие топо- и гидронимы, как:
Ай — река в Приуралье, Ед — речка в Коми АССР, Ам — нас. пункт в Африке, Ер — река в Англии, Ба — остров в Атлантике, Им — нас. пункт в Приамурье, Бу — местечко в Норвегии, Иж — река в Кировской области, Ва — селение в Индокитае, Ки — нас. пункт в Индии, Ди — река в Норвегии, Ко — о-в в Тихом океане, Ду — река во Франции, Ле, Ли, Ло — реки во Франции.
Может быть, этими буквами алфавита все и исчерпывается? Отнюдь — они есть на любые буквы. Есть Ре — островок в Бискайском заливе, и есть Эр — селенье во Франции. Имеется Пя — озеро в РСФСР, но можно найти и Яп — остров в Индонезии... {197}
Скоро я убедился, что игра не стоит свеч. Кроссвордистам достаточно взять в руки любой атлас, и они обеспечат себя на все номера журналов до двухтысячного года. Для нас же достаточно приведенного списка: расширить его в пять или десять раз не представляет трудности.
Где таких коротышек всего больше? Там, где язык богат короткими словами вообще. Вероятно, в Англии — вспомним острова Рам, Колл (нас интересуют звуки, а не буквы), Мэн — их много больше, чем в Финляндии, стране длинных, многозвучных и многосложных слов. Финны любят имена «среднего размера», вроде Иммаланъярви, Тайнионкоски или, на худой конец, Халтиантунтури; это последнее название означает: «Гора эльфов и нимф». Не плохо, а?
Много ли имен-лилипутов у нас? В русской части страны не так уж много, да и те чаще нерусского происхождения; а вот в языках других народов СССР их предостаточно, в том числе — у восточных финнов.
Река Ай на Урале названа или ими, или башкирами, говорящими на тюркском языке. Озеро Ак по-казахски значит просто «Белое». Река Иж, населенный пункт Им, река Обь — все имена восточно-финского происхождения... Некоторые из них уже полностью обрусели,— скажем, название карельских озер и рек: Выг и Выг-озеро; Пя-озеро, Нюк-озеро и так далее... Не редкость короткие имена на Чукотке: река Ши, река Ул: они даны тамошними народами...
Я не хочу сказать, что чисто русские короткие имена невозможны. Кут, Бор, Гай, Холм — их можно привести немало. Но это ведь уже не то. Они односложны, но трехзвучны; кроссвордистов они обрадуют меньше. А впрочем, какое нам дело до кроссвордистов?
Теперь перекочуем в соседнюю страну.
Бробдиньяги
Халтиантунтури — имя в 14 букв — верзила рядом с какими-нибудь Пя или Уж, не говоря уже о Э или И. Но жалко же выглядит оно в сравнении со средней длины названием из языка североамериканских индейцев; ну, хотя бы в сравнении с именем озера в штате Массачусетс [70]1, которое звучит так: {198}
ЧАРГОГГАГОГГМАНЧАУГГАГОГГЧАУБУНАГУНГАМАУГГ
и значит, если передать его смысл несколько вольно: «Я ловлю на этой стороне, ты ловишь на той стороне, а посередке никто ничего не ловит!» Строгие ученые, правда, предпочитают более сухую формулировку: «Нейтральная акватория для ловли рыбы и проведения общих собраний индейских племен». Может быть, это ближе к точному смыслу.
Подсчитайте число букв и число звуков (звук «ч» в английской передаче был бы обозначен как «ch»). Если слово написано по-английски, в нем 44 печатных знака... Здорово? Конечно, недурно; но это далеко не предел возможного, не «потолок».
Мы — в Новой Зеландии, стране языка маори, одного из полинезийских языков. Среди других на этом острове хранится, как в музее, тоже одно небезынтересное имя. Судя по всему, оно называет какую-то возвышенность, и, по сведениям французского журнала «Жеографи» (География), значение его может быть передано так:
«Вершина холма, на который Таматэа, человек с длинными голенями, открыватель земель, взобрался и проглотил горы и играл на флейте для того, кого он любил».
Звучит оно тоже весьма приятно:
ТАУМАВАТХАКАТАНГИХАНГАКОАУАУАТАМАТЭАПОКАИВХЕНУАКИТАНАТАХУ
Написанное в русской азбуке, оно содержит 57 букв [71]1, и я не знаю, как вам, но мне кажется, что и по размеру и по поэтическому смыслу оно выигрывает со счетом 5 : 0 у любого помещичьего Монплезира, Кинь Грусти и даже у Герцогства.
Но ведь и это не Чемпион. Чтобы рассказать о чемпионе, мне придется изложить вам целую историю. {199}
В 1961 году французская газета «Юманите» сообщила сенсационную новость: в Англии, а точнее — в Уэлсе, совершена дерзкая кража: похищено название железнодорожной станции... Как это прикажете понять?
Понимать это надо так. Жители Уэлса говорят, кроме английского, еще и на своем древнем кельтском языке — уэлском, или кимрском. Говорят они на нем не всегда, так как государственным языком у них считается английский; но уэлсцы-патриоты свято хранят его древнюю традицию. В частности, берегут они и исконные кимрские названия мест, отчасти по глубокой любви к национальной культуре, частично же — в пику давним поработителям — англичанам. Впрочем, недавно они выяснили, что при умелом обращении из некоторых таких имен можно извлечь и неплохой доход.
Вот пример. Туристы прямо дрожат от восторга, когда в билетной кассе железнодорожной станции, в справочниках кратко именуемой Лланфайр, им, за слегка повышенную цену, выдают билет, на котором ее название напечатано полностью. Тогда оно выглядит так:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwelllantysiliogogogoch!
(Я потому передаю его вам в латинском начертании, что опасаюсь допустить неточность: фонетика и графика уэлского языка очень сложны.)
Вы подсчитали число букв и огорчены: только 58? Да, но не забудьте, что тут, как при состязаниях по прыжкам в высоту, каждый сантиметр, то бишь каждый лишний знак, имеет огромное значение... Рекорд есть рекорд.
Хотите узнать смысл этого милого названия? Разные источники передают его по-{200}
Есть имена-микробы и имена-анаконды... Кому что нравится.
разному, но примерное значение, по-видимому, таково:
«Церковь святой девы Марии возле пещеры в долине Белого Орешника у быстрого водоворота и храма святого Тисилио».
Как видите, уэлсцы по меньшей мере могут спокойно соперничать с маорийцами Новой Зеландии в искусстве упаковывать целые длинные цепочки понятий и представлений в небольшой изящный чемодан — одно слово.
Понятно, что билет с таким именем и побольше и подороже обычного, на котором стоит жалкое Лланфайр. Это выгодно дороге. Кроме того, в Ллане (англичанам не под силу слова даже в 3—4 слога; они невольно сокращают любое длинное имя) выделываются вазочки с такой же надписью, печатаются открытки с нею, фабрикуются всевозможные сувениры... Крошечное местечко зарабатывает на своем имени. Но особенно много любопытных привлекает вокзальная вывеска: вообразите жестяное чудовище вдоль всего фасада, по которому пятьдесят восемь аршинных букв тянутся от одного угла здания до другого! И вот эту-то вывеску, выражаясь несколько грубовато, и свистнули... Легко представить себе волнение начальника станции и радость местных маляров!
Увы, их надежды не оправдались: в скором времени газеты обошло еще одно сообщение. Вывеску обнаружили около городка Ридинга, близ Лондона, километрах в 200—250 от Уэлса. Она валялась на футбольной площадке, неподалеку от древнего аббатства, построенного тут Генрихом II в 1211 году. Видимо, у любителей редкостей не хватило пороху дотащить ее до своего дома...
Что же, эти названия и есть самые длинные в мире? Чего не знаю, того не знаю: на этот вопрос можно будет ответить только после того, как все до одного топонимы Земли будут взяты на учет и опубликованы. А до этого еще не близко...
Может возникнуть вопрос: а откуда они берутся?
Есть языки, которым свойственно длиннословие. Есть такие, где отдельные слова по смыслу и весу равносильны целым нашим предложениям или сложным словосочетаниям. В индейском языке племени пат слово
ВИИТОКУЧУМПУНКУРЮАНИЮГВИВАНТЮМЮ
{202}
означает, вообще говоря, просто «мясники», а если разобраться поточнее, то «те, кто имеет право сидя разрезать длинными ножами на части черных ручных бизонов», то есть коров.
Понятно, что в таких языках и топонимы могут разрастаться до чрезвычайных размеров.
В языках, близких к нашему, самые длинные имена состоят не из одного, а из нескольких слов. Французское название:
СЕН-КЕНТÉН-ЛЯМÓТТ-КРУÁ-О-БАНЬИ
не представляется нам именем-чудовищем как раз потому, что оно распадается на целый ряд отдельных слов. А ведь его перевод: «Церковь святого Квентина на укрепленной высоте с крестом возле древней римской водолечебницы» — мало чем отличается от перевода Лланфайра. Но в нем целых шесть слов, и это нас уже не удивляет.
Особенно длинных русских топонимов, которые состояли бы из одного слова, нет. Конечно, для англичанина или китайца наши Бугуруслáн, Анжéро-Сýдженск, Новодеревянкóвская, Новомалориссйская, Нижнесинячхинский или Орджоникидзегрáд почти непроизносимы. Но для североамериканского индейца или маорийца о их длине не стоит даже и говорить.
Не свойственны нашему языку и топонимы, составленные из многих самостоятельных слов. Понятно, такие попадаются: Петропавловск-на-Камчатке или Верхний Авзяно-Петровский Завод, но чаще всего с течением времени они упрощаются, теряют составные части... Русскому языку неудобно так сложно именовать места, поэтому особенно длинных имен он и не приемлет.
А впрочем — длина, длина! Нечего ей завидовать: она не приносит с собой ни благозвучия, ни особой прелести, характеризуя, собственно, только систему того языка, которому принадлежат длинные или короткие имена.
Все, что можно было о них сказать, я, по-моему, уже сказал. {203}
Эрратонимы
Красивое слово? Я сам его придумал — вернее, составил из латинского и греческого корней. Гордиться тут, конечно, нечем, и специалисты, возможно, не одобрят такой моей выдумки, но мне оно кажется удобным и нужным. Эрратонимы! Даже в моей топонимической картотеке я завел такой отдел и пополняю его с видимым удовольствием.
«Эррáрэ» по-латыни — «блуждать», «ошибаться»: греческое «óнима» — «имя». Эрратонимы — так я установил — топонимы, связанные с какой-либо ошибкой, заблуждением.
Заблуждения могут быть разные. Одни происходят в тот момент, когда название создается. Другие возникают при толковании его «невегласами» — незнайками всякого рода. Во всех случаях возникают имена-ошибки — эрратонимы.
Вот несколько сообщений о тех из них, которые показались мне любопытными; не моя вина, если причины их возникновения представятся вам в ряде случаев очень похожими, одинаковыми.
Европейцы обнаружили против берегов Аляски в океане цепочку вулканических островов. Острова были населены. (Их жители называли сами себя «унангáнами», но это выяснилось гораздо позже.)
Впервые встретив этих людей, мореплаватели-белые стали добиваться от них: кто они и как зовут их страну? Но — до чего люди бывают или бывали наивными!— спрашивали-то они не на их, а на своем языке.
Смуглые унанганы, естественно, не понимали вопросов, но тоже считали в простоте душевной, что уж их-то речь должна быть понятна каждому, если тот не идиот. Они отвечали пришельцам коротко и ясно: «Алеýт!» На их языке это обозначало: «Что ты, собственно, мелешь?» или: «В чем дело, чужак?» [72]1
Забавна языковая самонадеянность малообразованных людей, к какому бы народу они ни принадлежали. Негр Джим, друг Гека Финна, ума не мог приложить, {204} зачем французы лопочут на никому не понятном французском языке, вместо того чтобы просто и ясно для каждого говорить по-английски! И гоголевский лейтенант Балтазар Жевакин весьма удивлялся способности итальянцев говорить, как он думал, «по-французски»: «Скажешь ему: принеси, братец, хлеба, — ничего не поймет. А скажешь по-французски: «Датéчи дель пáнэ!» или «Портáтэ вно!» — пойдет и тотчас принесет»... [73]2
И моряки, прибывшие на Аляскинские острова, и их обитатели унанганы были сущие лейтенанты Жевакины: они были уверены, что их речь должен понять каждый человек в мире, а кто говорит на другом языке — так он так просто ломает дурака. И вот мореплаватели поняли слово «алеýт» и как название страны и как племенное имя ее жителей. В атласах мира появились и «Алеутские острова» и «алеуты» — их обитатели.
Вот тут-то я и буду повторять раз за разом в разных декорациях эту же самую нелепую историю.
Во-первых, точка в точку так. Знаменитый чилийский поэт и революционер Пабло Неруда, когда я спросил его, откуда взялось имя Чили, рассказал:
«Белые, завоевав Перу, спускаясь с севера все дальше на юг, очень интересовались, подойдя к границе страны,— а что лежит там, за следующими хребтами? Видимо, их наполовину поняли и справедливо — дело-то было в южном полушарии — ответили по-индейски: «Там — чли!», то есть: «Там — холод!»
Но гордые испанцы считали, что ответ может быть дан только на заданный ими вопрос, и решили, что Чили — это название тех загадочных земель, что лежали во мгле перед ними за зубцами Кордильер. С тех пор на картах Америки и появилась новая страна — Чили.
Примерно то же случилось в Центральной Америке. Когда завоеватели появились на большом полуострове на юге Карибского моря, что им надлежало делать? Первым делом спросить у его обитателей: «Как зовут эту великолепную страну?» Спросить, конечно, не на языке ее народа — на своем собственном. {205}
Индейцы-майя очень удивились, услышав незнакомую речь. Ответить они ничего не могли. Они задали по-своему встречный вопрос: «Что вы говорите?» [74]3 Это звучало, как «юкатáн». Посмотрите на карту обеих Америк. Вот тот полуостров, а вот поперек него и надпись: «Юкатан»... И есть штат Юкатан в Мексике, и есть «юкатанские индейцы»... А «юкатан» значит: «Чего ты такое непонятное несешь, бледнолицый?»
Место другое, а спектакль тот же. Диего де Альмагра, предводитель отряда конкистадоров, приблизился на побережье Перу к местам, где высоко возносит в небо голову величавый вулкан Мисти. Встретясь с местным вождем и пребывая в полном убеждении, что не может быть на свете людей столь обиженных богом, чтобы они не понимали испанского языка, того, на котором объясняется его католическое величество король Кастильи и Арагона, запыленный воин сурово спросил вождя, указывая на землю: «Как имя сей земли?»
Почтенный старец впервые видел людей в такой тяжелой одежде и грубых кожаных сапогах. Он понимал, что чужеземец устал; жест руки, указывающий на землю, он принял за выражение желания присесть на траву и гостеприимно ответил: «Арекпа!» — «Садись!»,— как ответил бы Одиссею вождь страны листригонов...
Этого было достаточно: появился на свете город Арекипа. Он существует и сегодня:
«Арекипа — второй по величине город Перу на высоте около 2850 метров у подножия вулкана Мисти... Железнодорожная станция на пути из Мольендо на Тихом океане в Лас-Пас (Боливия), 87 000 жителей. Текстильная, пищевая и другая промышленность...» (БСЭ). И все это вот уже четыреста лет носит имя, означающее: «Садись!»
Странно? Но, собственно, почему? Те, кто сейчас произносят это имя, чаще всего не знают его былого значения. Для них оно — «чистое название», лишенный содержания звук. Но ведь и для нас с вами «звук» Москва или Псков тоже связывается не с первоначальным, неведомым нам, значением этих слов, а с совершенно другими, уже чисто топонимическими пред-{206}ставлениями: великолепная столица СССР; древний город над рекой Великой...
А может быть, знающие древнее индейское слово понимают его по-старому? Каково им? Да ведь ничуть не плохо и им.
Мы все думаем, что имя реки Тетерев означает птицу из семейства куриных, и странность этого соединения птицы и реки нимало не заботит нас... Точно также и тут: мы знаем — имя может быть, собственно, любым словом. Кто, почему, когда и как сделал его именем — какая нам печаль? И имена живут беспрепятственно... Арекипа остается Арекипой.
Ошибочны названия даже некоторых всемирно известных огромных городов, исторических и политических центров мира.
Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой
Как змея спящего раздавят...
............................
Стамбул заснул перед бедой!
Пушкин
Стамбул — это Цареград, Константинополь... Оба последних имени понятны нам; что значит первое в этом ряду (последнее в исторической жизни города на Золотом Роге)?
В 1453 году армии султана Мехмета II, прозванного «фаттихом» — победителем, обложили кольцом древний Константинов град. Осада продолжалась полтора месяца; затем город пал.
В те далекие времена при громе пушек окрестное население кидалось в город, под защиту его каменных твердынь. Осаждающие турецкие воины все время задерживали беженцев, стремившихся во что бы то ни стало пробраться в столицу. На вопрос: «Куда идешь?» — беглецы неизменно отвечали по-гречески: «Эйс тен пóлин!» то есть: «В город!», кивком головы или пальцем указывая на стены и башни.
Люди не только неточно выговаривают слова чужого языка; они и слышат их на свой лад. Туркам казалось, что греки отвечают им: «Истанбул», и они понимали это в том смысле, что так, Истанбýлом, называется великий греческий город на Босфоре. С этих пор {207} Константинополь и стал Истанбулом, а в европейской переделке — Стамбулом...
Это бесспорно так? Мало что бывает бесспорным в топонимике. Есть исследователи, считающие, что осада 1453 года, султан-фаттих, турецкие воины и греческие беженцы тут ни при чем. Все могло быть много проще, говорят они. Фразу «эйс тен пóлин» — «в город» — могли тысячекратно на дню повторять греки, бороздившие Мраморное море и Золотой Рог задолго до изложенных событий: так мы, садясь в электричку в Ирпене под Киевом, в Абрамцеве у Москвы или в ленинградском Зеленогорске, на вопрос: «Куда едете?» — отвечаем кратко: «Да в город...»
Правда, не очень ясно, в каком же языке это словосочетание превратилось в топоним и почему оно стало в конце концов топонимом турецким?
Есть и еще одна версия. А может быть, неверно понятые греческие слова и вообще ни при чем? Имя Истанбýл могло явиться как прямая переработка слова Константинополь. Сначала оно попало в арабский язык, не знающий звука «п», и превратилось в Костанбýл, затем турки охотно сократили бы его до Станбул; но они, как и финны (см. стр. 112), не выносят скопления согласных в началах слов. Из русского «шкаф» они сделали «ышкаф», из французского «шмэн-дё-фэр» (железная дорога) — «ышмэн-дё-фер»; древнюю Смирну превратили в Измир... Вот поэтому и Станбул стал у них Истанбулом...
Каково мое мнение? Собственно, каждая топонимическая гипотеза имеет право на защиту и поддержку. Я не берусь высказать твердое решение, но думаю, что первая версия правдоподобней других. {208}
На рубеже Азии и Европы в дни султана Мехмета-победителя...

Перебирайте страны и эпохи — наиболее обычный тип эрратонима сохраняется повсюду.
Знаменитые путешественники братья Ливингстоны в путевых записках своих посмеиваются над некиим ученым профессором. Изучая природу Африки, он не удосужился овладеть ни одним африканским языком. В одной из его работ описана ящерица, называемая местными жителями кайя. В других сочинениях рассказывается об африканском горном хребте Кайя. Может быть, горный кряж напоминает ящерицу, или эти пресмыкающиеся водятся там в особом изобилии?
Братья Ливингстоны разводят руками. Если бы вы, обратясь к африканцу, спросили его — не на его, а на своем языке, — что за жидкость налита в большом бидоне европейца, он сказал бы: «Кайя!» Задай вы ему вопрос: «Куда ведет тропа, уходящая в лес?», он ответил бы: «Кайя!» Спроси вы: «Как имя моей юной дочери?»— он и тут бы пробормотал: «Кайя!» — и все потому, что слово это означает: «Не знаю!», только и всего. И имя ящерицы — «Не знаю», и название горного хребта — «Не знаю»... Очень естественно...
Читая эти «Записки», я вспомнил довольно правдоподобный анекдот, времен несчастной русско-японской войны 1904—1905 годов.
Хороших карт театра военных действий Маньчжурии к началу военных действий не оказалось. Командование царской армии бросило на съемки военных топографов. Вскоре с мест начали поступать первые планшеты. Они вызвали некоторое недоумение в штабах.
Выходило, что китайцы были до странности лишены фантазии, когда выдумывали названия для своих селений и деревень. Откуда бы ни поступали топографические планы, всюду на них чуть ли не 90% населенных пунктов носили одно имя Бутунда. Их было такое множество, что более предприимчивые геодезисты старались разнообразить их названия добавлением русских определений: Верхняя Бутунда, Большая Бутунда, Старая Бутунда. На планшетах же менее находчивых съемщиков злополучные Бутунды значились просто под порядковыми номерами: Бутунда первая, Бутунда вторая, седьмая, девятая...
Что-то тут было не так... Призвали переводчиков, и переводчики горько рассмеялись. Они-то знали: по-ки-{210}тайски «понимаю» — «дундэ»; отрицание «не» звучит как «бу». «Бу-дундэ!» значит: «Я вас не понимаю» — так отвечали местные жители на обращенные к ним по-русски вопросы и у одной, и у другой, и у двадцать пятой деревни.
Получилось, как в известном стихотворении В. Жуковского «Каннитферштан», где молодой прекраснодушный немец, прибыв в Голландию, спрашивал, кому принадлежит дом, богатый магазин, корабль у пристани, великолепный выезд, и каждый раз слыша в ответ: «Каннитферштан», удивлялся неимоверному богатству этого человека, не зная, что длинное слово это по-голландски означает: «Я вас не понимаю»...
Однако встречаются и «эррата» — ошибки — несколько иного рода, даже многих родов.
Португальцы, открывшие верховья Амазонки, реку Мараньон, рассказывали затем, будто имя это возникло потому, что первые плаватели по могучей реке, нетерпеливо ожидая конца путешествия и зная, что оно должно закончиться там, где река впадает в море, спрашивали у проводников-индейцев: «Мáре, ан нон?», то есть: «Море это или нет?» — при каждом широком разливе потока.
Объяснение очень неубедительно: сами спрашивавшие никак не могли свой же, вполне им понятный вопрос сделать именем реки. Что же до индейцев, которые, разумеется, задолго до появления белых с их навязчивым «Маре, ан нон?» называли эту реку на своем языке — с чего бы пришло им в голову менять ее имя на чужой лад?
Настоящая этимология имени Мараньон давно известна: оно произведено от испанского maraña (маранья) — чáща — и значит «трущобная река», а старое объяснение, конечно, ошибочно.
Кстати, на целой сложной цепи недоразумений основано и само имя Амазонка. Миф об «амазонках» — женщинах-воительницах, был сложен древними греками и памятен всем европейским народам. Первые европейцы, проникшие в бассейн величайшей реки Южной Америки, столкнулись тут со многими поразившими их воображение вещами. С одной стороны, до них все время доходили слухи о свирепых и грозных индейских племенах, живущих в амазонских лесах; рассказывали, {211} что они так свободолюбивы и отважны, что у них в боях участвуют даже женщины.
С другой стороны, они услышали слово «амузýну» — так некоторые индейцы именовали грозное явление, стремительно несущийся вверх по течению реки приливный вал (в других наречиях он именуется «порорóка»). Два новых известия соединились вместе: слово «амузуну» напомнило о древних «амазонках»; рассказы о смелых индианках придали воспоминаниям силу действительности, и в результате река-великанша получила свое европейское имя. (Индейцы не могли охватить одним именем всю ее, от истока до устья; у них она имела много различных имен.)
Конечно, это не такая прямая ошибка, как в предыдущих случаях. Тем не менее для меня имя Амазонка — настоящий «эрратоним», основанный на неточном понимании слова «амузуну» и на темных представлениях о древней истории.
Совсем иного покроя недоразумение с появлением названия североамериканского (на Аляске) городка Ном (если верить американскому профессору М. Пею). Утверждают, что это — бессмысленное на английский слух — имя возникло благодаря беспечности некоего французского географа. Изучая карту Аляски и найдя на ней безымянный кружок — селение, он сердито написал рядом с ним карандашом: «Nom?» то есть: «А имя-то где же?» Исполнитель же карты, испугавшись своего упущения, понял эту пометку как совсем другой вопрос: «Так ведь это же Ном?» — и обвел карандашную надпись вековечной тушью... «Да, да, патрон, это Ном!»
Если только этот рассказ верен, перед нами особый тип эрратонима. Я бы, сказать по правде, не рискнул довериться господину Марио Пею, хоть он и профессор Колумбийского университета, но меня подталкивают на такое доверие некоторые сообщения профессора Альбера Доза, парижанина. Ему-то можно верить безоговорочно, а он рассказывает вот что.
Население Южной Франции говорит на наречии, отличном от литературного французского языка и от говоров Севера Франции. Разница в языках тут не меньше, да, пожалуй, больше, чем между русским и украинским. Средний интеллигент-француз, если он не южанин родом, с трудом понимает савояра или прован-{212}сальца. Некоторые южные слова он вообще воспринимает, как абракадабру; другие путает со своими сходно звучащими и — ошибается.
Ну, такое легко себе представить и у нас: прочтя на карте Алтая надпись: «Катунские Белки», вы, если вам не известно, что значит термин «белки» в Сибири, можете произнести его как «Бéлки» и удивляться, почему горы назвали так? На деле же «белкáми» в тех местах зовут покрытые вечным снегом вершины гор, и ни о каких «бéлках» здесь нет и речи.
Среди геодезистов, работающих над уточнением карт французского Юга, немало северян, людей, не владеющих «лангдóком», южным наречием. Честно расспрашивая провансальцев или савояров о названиях их угодий, урочищ и владений, они тут (а также в Бретани, в Нормандии — там свои говоры и даже языки) далеко не всегда понимают, как дóлжно ответы... В результате на картах получаются сущие французские Бутунды (см. стр. 210—211).
Есть на юге Франции урочище называемое так: Арэнье. Пишется это имя «areinier», происходит от латинского слова «арэна» — «песок» (вспомните арены наших цирков) и имеет простое значение — Песчанка.
В литературном французском языке такого слова не существует, но есть другое, очень похоже звучащее, хотя пишущееся совершенно иначе и не имеющее с «areinier» ничего общего по происхождению. Это — «araignée» (арэнье), «паук»; оно связано с греческим «арахнэ» — тоже «паук».
Но ведь молодой топограф не обязан быть филологом; он этого не знает, и на карте появляется вместо законной Песчанки неправдоподобное имя урочища: Паучанка. Это в своем роде не слабее Нома!
Дальше — больше. Внимательный созерцатель французских карт может на одном из их листов обнаружить небольшое ущельице, носящее загадочное имя: Коль дё Милорд, то есть «Горло английского барина». Топонимист, который пожелал бы выяснить, какой «милорд» дал такое название ущелью, откуда он тут взялся, чем был знаменит, сломал бы себе голову на догадках. А в действительности горная долинка на местном языке называлась очень поэтично: не «Коль дё милор(д)», а {213} «Коль дё милль ор» (Col de mille aures), то есть «Ущелье тысячи вихрей»... Тот, кто не знает местного диалекта, обязательно примет одно из них за другое.
Бывает и хуже. Над городом Греноблем (помните — Грацианополис страницы 141-й) высится не слишком грозная гора, то ли сложенная из темноцветных каменных пород, то ли поросшая темным лесом. Издревле она носила южно-французское имя Нэрон, что значило: «Чернушка»... Прибывшие из других частей Франции землемеры приняли это Чернушка за римское Нерон — имя прославленного своими жестокостями и сумасбродствами римского императора. А так как та гора имеет форму, напоминающую нечто вроде воинской каски, они, ничтоже сумняшеся, нанесли на карту и внесли в перечни топонимов название «Каск дё Нерон», то есть Неронов Шлем.
Не будь историки историками, они бы сошли с ума: Нерон скончался в 68 году нашей эры! Гренобль был основан императором Грацианом двести девяносто один год спустя, в 359 году!.. Как же попало в его окрестности такое необыкновенное название? Кто его дал, почему, при каких обстоятельствах?
Но историки свое дело знают. Ведь если они прочтут, что в Якутии, над рекой Кевакты есть гора, называемая (на картах!) Наполеонова Шляпа, им не придет в голову допустить, что сюда занесло ветрами прославленную треуголку императора французов. Они будут искать этому имени другие объяснения... Было, как видите, найдено объяснение и для «Каски Нерона». Она оказалась эрратонимом.
Доза так и сыплет подобными анекдотами, передавая их порою очень живо. «Один офицер-топограф, — ядовито пишет он,— спросил у провансальца сначала — что это за лощина, а затем — а чья там ферма? Простак-крестьянин понял вопросы и на первый, почесав в затылке, ответил: «Лу сабе па!» то есть: «Да не знáю!», а на второй — не без гордости: «Эс ла мию!»: «Она — моя!» Офицерик же не понял ничего и покорно записал два названия: «Лусабепа» и «Эсламию». Они и сегодня фигурируют на подробных картах Франции. {214}
Бывает в таких случаях, что и виновного в имени-выдумке не сыщешь. Один советский крымовед горько сетует на произошедший с ним казус.
В какой-то из своих статей он упомянул маленькую крымскую речку; по-татарски она называлась Аузýн-Узéнь. «Аýз» в татарском языке — «рот», «уста», «устье»; «узень» — «речка». Географ перевел это название несколько своеобразно: «Ротовáя рéчка», а наборщики не разобрали незнакомого слова и напечатано было: «Рóзовая Речка»... Из статьи название перенесли на карты Крыма; на них появился новый гидроним, а почему эта речка признана розовой, с каких пор она так «зарозовела» — никому не известно.
И ведь вот что стоит заметить: попытки пострадавшего «крестного отца» исправить ошибку оказались тщетными. Имя нанесено на карты, введено в справочники... Слишком трудно и дорого все это переделывать «назад»...
Чем больше люди торопятся и при производимых по разным причинам переименованиях географических пунктов, тем чаще возникают разные эрратонимы, иногда предосадные или прекурьезные.
Когда французы в XVI веке завоевали город Страсбург (его имя от латинского «виа страта» — «мощеная дорога» — означает «Город на мощеной дороге») они нашли там средневековых времен уличку, называвшуюся по-немецки Тóтенбаргéссель — «Переулок Гробов» (возможно, в этом переулке обитали когда-нибудь мастера цеха гробовщиков). Завоеватели перевели древнее название на свой язык. Проулок стал Рю де ла Бьер; это тоже значит: «Улица Гробовая».
В 1871 году немцы захватили Эльзас вместе с его столицей. Было приказано тотчас дать всем улицам немецкие имена, придерживаясь смысла французских названий. Приказ выполняли не больше знатоки французского языка. Они не знали, что по-французски слово «бьер» имеет два смысла: «пиво» и «гроб»; и вот из «Гробовой улицы» у них получилась «Бргессхен» — «Пивная улочка».
Сегодня этот город снова входит во Французскую республику... Интересно было бы узнать, какое же имя носит теперь злополучный тупичок — веселое пивное или гробовое мрачное? {215}
***
Я сам вижу: подобных примеров слишком много; всех никак не переберешь. И все же я хочу привести еще два-три таких эрратонимических случая.
Во время первой мировой войны печальную славу приобрела одна небольшая высотка — холм у французского города Вердёна, носивший имя Морт-омм, то есть «Мертвый человек». Имя было в пору злосчастному пригорку; на его склонах было убито много тысяч солдат — и французских «пуал» и немцев — «бóшей». И тем не менее название холма, повторявшееся в сотнях военных сводок обоих сторон,— эрратоним. Некогда он носил имя Морт-Орм — «Сухой вяз», очевидно, по издалека заметному засохшему огромному дереву на его вершине. Это не солдаты 1914—1918 годов перекрестили место с горьким остроумием фронтовиков; так оно именовалось и до войны, и как произошла подмена, теперь уже никто не скажет.
Пожалуй, легче судить о том, как в далекой Канаде мрачное французское название Тэт дё Мор — «Голова покойника» — преобразовалось постепенно в бодрое английское Тэддимор, что-то вроде «Федя-большой»: просто второе приятнее, чем первое, да ведь англичане, сменившие в этих местах французов, не понимали смысла гробового имени и подогнали его по созвучию к своим английским словам.
А уж совсем легко понять тех легкомысленных петербуржцев XVIII и XIX веков, которые превратили в не слишком обоснованное, но вполне понятное Горóховая улица первоначальное имя ее Гáррахова улица. Вдоль этой улицы были некогда расположены земельные участки и дома некоего иноземца Гарраха... Кем был этот Гáррах, то ли австрийским графом, то ли богатым купцом, поди установи!
Да это не так уж важно даже и нам, топонимистам, а старым питерцам было и вовсе наплевать на его род, и происхождение. Вот они и переделали Гáррахову в Горóховую (теперь — улица Ф. Дзержинского), хотя и пели, понимая, что что-то в этом имени «нетово», известную в свое время песенку:
По Гороховой я шел,
Да гороха не нашел... {216}
Но что из того? На соседней Морской моря тоже не было и признаков... Имя! Такая уж это таинственная вещь!
Хватит эрратонимов! А если вам их мало, ищите сколько угодно сами. Желаю вам успеха...
Зáмок
Помфрет
Никому не интересно рассказывать про самого себя какие-нибудь позорные вещи. И все-таки я это сделаю: мне очень хочется предупредить вас, будущих топонимистов, от повторения таких промахов.
Есть в Англии графство Йорк, то самое, по отношению к которому американский Нью-Йорк является как бы внуком. Новым Йорком. В Йорке есть небольшой городишко Помфрет. Раскройте собрание сочинений В. Шекспира на его знаменитой трагедии «Ричард II», и вы найдете там такую жестокую сцену:
Замок Помфрет. Входит король Ричард.
Король Ричард. Как? Нет, ты сам дал мне орудье себе на гибель! (вырывает у слуги топор и убивает его).
Ты — ступай за ним и поселись с ним вместе в преисподней!
(Убивает второго слугу. Тогда Экстон поражает насмерть его самого)...
Вот какие страшные вещи происходили, если верить Шекспиру, в Помфрете...
Вы хотите выяснить, что же это за место — зловещий Пóмфрет? Вы берете с полки справочник, ищете и... И, вполне вероятно, не находите там такого названия. Зато на соседних страницах есть небольшая статейка: Понтефрáкт.
«Понтефракт, — говорится в ней, — город в английском графстве Йорк, на реке Эйр. Близ него — развалины замка Помфрет, в котором умер (?) Ричард II...» По-видимому, замок так обветшал, что о нем уже не пишут в отдельности. Познакомимся хоть с городком, возле которого он некогда мрачно стоял на страже.
Город очень древен. Само его имя — Понтефрáкт — непонятно рядовому англичанину. Оно — латинское; в эпоху, когда Британией владели римляне, это место звалось по-латыни «áпуд Пóнтем Фрáк-{217}тум»: «у Сломанного Моста». Видимо, уже тогда тут был поврежденный мост через Эйру; над ним и высился неприступный оплот завоевателей.
Прошла над старой Англией, по пятам за медноголовыми легионерами Рима, длинная череда веков. Римляне, разгромленные на континенте варварами, покинули Британию; их место заняли северные племена германцев. Значения слов «апуд Понтем Фрактум» теперь не понимал уже никто. Но древнее имя осталось жить.
Это могло произойти двумя способами. Новые пришельцы могли либо перевести его на свой язык, либо приспособить его к своему произношению, переделать по-своему... Здесь случилось второе: Понтефракт стал Пóмфретом. Но ведь рядом с этим именем-переделкой могло возникнуть и второе имя — перевод.
Вот тут-то я и вынужден рассказать вам печальное. Досадное. Постыдное...
Разбираясь в прошлой истории знаменитого замка, я, не помню где именно, но, по-моему, в одной из статей восьмидесятитомного энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, вычитал интересное сведение. «Неподалеку от замка Пóмфрет, — так, помнится, было написано там, — есть маленькое селеньице, имя которого тоже означает «Сломанный мост», но уже не по-латыни, а на английском языке...» Что-то вроде Брокенбридж, Брокбридж, как-то так...
И тут я допустил ужасный промах. Я то ли просто не выписал этих данных на карточку, то ли выписал, то не поставил на место в своей картотеке, отложив это на будущее... А это случилось буквально накануне Великой Отечественной войны, мне скоро стало не до топонимических карточек, я ушел на фронт, а возвратившись, обнаружил, что такой записи в моей коллекции нет... Нет, и кончено!
Это поистине ужасно: теперь я представления не имел, в какой именно книге, в какой статье содержалось то сообщение. Я не запомнил точного имени той деревушки. А ведь она могла быть упомянута не обязательно в статье, озаглавленной «Помфрет» или «Брокбридж». Сведение это, может быть, содержится в любой другой статье — об Англии, о графстве Йорк, о римской оккупации Британии, о почте и телеграфе, о топоними-{218}ке — о чем угодно. Как же мне вновь найти столь важное для меня сообщение? Можно сказать так: я поймал золотую рыбку и вдруг упустил ее обратно в море... Много ли шансов, что та же рыбка вторично клюнет на мой крючок? Нет таких шансов...
Я отчаянно боролся. В течение пяти лет я на досуге внимательно прочел подряд все 85 томов Брокгауза и Ефрона, выбирая из них все упомянутые и расшифрованные топонимы (это было полезным делом, но не привело меня к цели моей). Я изучил графство Йорк, точно собираясь приобрести его в собственность, по Британской Энциклопедии... Напрасно! Никакого Брокбриджа или Брокенбриджа я не нашел. Я вовлек в это дело даже двух англичан, живущих в Лондоне: один из них, увлекшись, поехал в Йорк, но тоже не обнаружил там ничего подобного. Но в то же время я могу дать голову на отсечение, что я ничего не выдумал, не увидел всего этого во сне; такие сведения у меня в руках были: я это сам читал... Где?
Чего ради я рассказал вам такую историю? Чтобы показать вам, как важна в работе не только топонимиста, любого исследователя, скрупулезная точность, великая аккуратность... Как никогда нельзя доверяться собственной памяти. Как, раз найдя любое важное сообщение, самый мелкий факт, необходимо тотчас же закрепить его на бумаге, помня, что написанное пером не вырубишь топором.
А кроме того... Если вам когда-нибудь в какой-либо книге попадется сообщение о Брокенбридже — пусть даже не у Помфрета, даже не в Йорке, даже не в Англии, а в Австралии или Америке, — не забудьте меня... Как я был бы вам благодарен, если бы убежавшая от меня рыбка попалась на ваш крючок!
Я даже расстроился, вспоминая свою беду... Тем не менее перейдем через славный Понс Фрактус и посетим другие места мира.
Я уже говорил: в древности дорóги, пути сообщения были для человека чудом, драгоценностью, почти святыней. В безлюдии полудикого мира они змеились как тонкие нити человечности. Люди цепко держались за них, восхищались ими, поклонялись им.
Реки были и дорогами и препонами одновременно. На реках были переправы, и каждая из них тоже явля-{219}лась великим чудом, богатым сокровищем. О них рассказывали, их помнили и о них знали за сотни часов пути. Это были мосты и броды, и вокруг каждого возникало селение, и на всех языках мира эти поселки получали названия: такой-то брод или такой-то мост... Что удивляться: у многих народов в их пантеонах, в рядах их богов, были даже специальные божества, покровители переправ, перекрестков, горных перевалов...
Конечно, впоследствии переправ стало много больше, они перестали казаться чудом и исключением; но старые имена сохранились. И теперь нередко нужны некоторые усилия, чтобы установить: почему этот мостишко на жалкой речке так почитался, что даже город возле него был назван: такой-то мост... Иногда и моста давно нет (вспомните Кузнецкий Мост в Москве), а место все еще так называется. Сплошь и рядом никто не переправляется тут вброд, как в Оксфорде или на Босфоре, а имя «форд», «фурт» — «брод» все еще продолжает звучать...
Кроме тех «бродов», о которых я уже говорил на страницах 123—124, есть в мире другие, не менее интересные, порою как бы замаскированные в результате перехода слова из языка в язык. Вот испанский город Бильбáо; только языковеды ясно видят, что его имя возникло из древнеримского Бéллум Вáдум — «Прекрасный брод». Древние пиренейцы — баски превратили это название в свое Бельвао, а из него получилось современное Бильбáо... Поистине: «не спросясь броду», нечего и соваться в воду топонимических разысканий: без поводыря-языковеда утонешь, не успев сделать и шага в глубину...
Да не обязательна и смена языков!
На речке Савáле, притоке Хопрá, стояло некогда село Братк (не знаю, так ли оно именуется сейчас). Каждый из вас мог бы легко догадаться, откуда взялось это имя: видимо, основателями села были какие-то любвеобильные дружные братья — братки; в их честь и возникло такое название... [75]1
Верно? Ничего подобного! В старых документах мы {220} постоянно читаем о поселке в таком виде: «Село Пески, Бродки — тож...» Значит, никакие братья тут решительно ни при чем: Братк — это только особое произношение слова Бродк. Тут, на Савале, был когда-то важный для населения «брод»... Фонетические условия местного народного говора заставили людей произносить неударенное «о», как «а», приглушили согласный «д» перед «к» и превратили его в «т»... Все это произошло внутри одного языка, русского, а имя изменилось до неузнаваемости.
Точно так же где-нибудь во Франции можно поручиться, что потомки королей и напрасные претенденты на королевский престол графы Шамбор представления не имели о происхождении имени их родового замка Шамбор (Chambord) в департаменте Луары и Шера. Откуда им знать, что в его основе лежит галльско-римское Камборитос — «Брод на излучине»? Правда, тут изменение связано уже с переменой языка населения... Но вот возьмите название села Бродо-Калмацкое в Пермской области: надо проделать длинные разыскания (на этот раз уже исторического характера), чтобы установить, что возле него было некогда урочище Калмацкий (то есть Калмыцкий) Брод. Тут переправлялись через реку Тéчу много веков подряд кочевые тюрко-монгольские племена Азии, чтобы нападать на русских и башкир. Наши предки звали их всех общим именем: калмыки...
Нечего говорить: в Индии и Китае, Японии и Вьетнаме — всюду есть топонимы, имеющие значение «брод»; к сожалению, их нет в моей картотеке.
То же самое с мостами. В России вы найдете и Мосты, и Мостовую, и Мостовской и Княжой Мост — десятки других таких же названий. В странах германских языков это названия, в составе которых есть часть «брюк», «брюг», «бридж»: Оснабрюк (Зап. Германия) и Брюгге (Фландрия), Бридж об Аллен и Айронбридж (Железный мост) в Англии... Все это — мосты, как и всевозможные «пон’ы» и «понте» в романских странах. Ведь даже фамилия нашего крупнейшего советского ученого-физика Бруно Карловича Понтекорво означает не что иное, как «Кривой» или «Горбатый мост».
Конечно, и тут есть сложноватые случаи. Был в древ-{221}ней Британии городок, носивший испокон веков имя «Caer Brito» — «Город бритов». Около него римляне — они делали это при каждом удобном случае — соорудили мост. Мост был много моложе города, но сменившие римлян завоеватели англо-саксы, конечно, не знали этого. Они видели: город стоит возле моста, наверное, имя его и значит «Мостовой город». «Caer Brito» они переделали в Брикс-Тон, а из этого позднее получилось современное английское Бристоль...
Французское Бриар — это «город у моста», древнее кельтское — Бриводурум. И Понверр — римское «Понтем Ветерем» — «У древнего моста». И даже звучное испанское Алькантара (местечко на реке Тахо, возле руин римского моста) тоже значит «мост», только на этот раз уже по-арабски.
У нас на Руси, пожалуй, характерны не названия-мосты (их тоже достаточно), а имена-вóлоки. Мост соединяет два отрезка сухопутной дороги через реку; вóлок связывает две части водной, «голубой» дороги через пространство суши. Без «волоков» немыслима была торговая жизнь древнего русича; потому у нас столько имен, в которые входит это слово. Волоколамск под Москвой — это «волок на реке Ламе». Вышний Волочек соединял некогда бассейны Волги и Ладоги... У Волокодержавского Погоста на реке Мсте кончался волок, по которому судоводители обходили опасные по тем временам Мстинские пороги...
Для наших предков все безмерно огромное пространство к северу и востоку от этих и других «волоков» было Зáволочьем — в него входили земли нынешней Архангельской области и все, что лежало за ними. Подволочьем называлось одно из сел на Северной Двине; а сколько меньших по размеру и значению «волочков» внимательный исследователь найдет на топонимической карте России, когда она появится! Безмерно было значение волоков в древние времена.
Можно, конечно, указать и на спорные случаи. Имя города Вологды некоторые ученые производили от «волока», соединявшего некогда тут Шексну с Сухоной; Большая Советская Энциклопедия и сейчас стоит на этой точке зрения. Другие ученые производят имя Вологда от финского «вáлкэа» — «белый»... Однако, как это ни странно, есть и реки, в названия которых {222} входит слово «вóлок», хотя, казалось бы, это сугубо сухопутное понятие, относящееся не к воде, а к водоразделу. Наши предки тем не менее дали одной реке имя Безволочная (видимо, с большой похвалой), а другой, тут же в Пермских землях,— Волосница...
Вы можете подумать, что Волосница связано с «волос» — тоненькая, узенькая, как волосок, струйка воды... Так нет: просто в местном говоре существует «шепелявое» произношение звука «ч»: он выговаривается как «с»... Плывущий по Безволочной минует все волоки, а тот, кто пустился по Волос(ч)нице, тому не избежать, пусть коротенького, Печорского Волочка...
Да, дороги древности! Огромное место занимали они в воображении тогдашних людей, как и в их жизни; не удивительно, что в имена превращались названия даже самых, казалось бы, непримечательных деталей путей сообщения.
Среди многочисленных Крестов нашей топонимики, несомненно, очень многие не имеют никакого отношения к кресту — символу христианства. Весьма часто это название отправляется от понятия «перекресток»: во многих частях России перекрестки именуются как раз так: Кресты.
Меня били, колотили
За деревней на крестах...—
пелось в одной дореволюционной частушке. Очень часто это слово становилось названием урочища у перекрестка значительных дорог, большаков; порой оно переходило и на выросшее там селение. Вероятно, таково происхождение названия посада Крестцы, между Москвой и Новгородом; впрочем, я говорю об этом без особой уверенности. Сходные топонимы постоянно встречаются и у других народов.
Имя швейцарского курортного городка Вевé звучало некогда как латинское Би-виум, то есть «двухдорожье», «распутье», «перекресток» — но такой, когда сливаются или расходятся только два пути. А вот французский городок Каррýж в далеком прошлом был римским Куадривиумом — «четырехдорожьем»: очевидно, тут был уже самый настоящий перекресток: четыре дороги расходились на все четыре стороны света. Кресты! {223}
К северу от Парижа лежит один из его дальних пригородов — Компьéнь, место славных и позорных воспоминаний: тут в 1918 году подписала капитуляцию Германия Гогенцоллернов; тут же в 1940 году Гитлер принял капитуляцию петеновской Франции. Топонимисту слово Компьéнь тоже навевает воспоминания: в римские времена место называлось Компéндиум, то есть «сокращение»... Странное имя? Да нет, не очень. Возле Компьеня римская дорога была, очевидно, некогда основательно спрямлена. В те дни это было серьезным завоеванием: лишний день пути — лишние встречи с волчьими стаями, с темными людьми, со всякими опасностями леса и ночи.
«Дорожный» характер имеет и название немецкого Кобленца, римского Конфлуэнт’а. Только тут речь шла уже не о сухопутной, а о речной дороге. У Кобленца сливаются Рейн и Мозель; слова «апуд Конфлуэнтэм» означали: «у Слияния рек» — имя-лоция, имя-указатель, поставленный на речном пути от горной Швейцарии к морю.
Мир меняется. Никому не пришло бы в голову назвать Ленинград «Мостоградом», хотя (а скорее именно потому что) в этом городе свыше трехсот мостов. Мост в наше время — обычная подробность ландшафта; какой же смысл отличать по его присутствию город от другого города? Однако где-нибудь в глухих углах Земли — в Центральной Африке или у нас в сибирских таежных просторах — рождение такого имени возможно и в XX веке. Вполне может появиться какой-либо Пон-Нев или Замостье...
Кстати о Пон-Нев... В Париже существует мост с таким названием; оно означает: «Новый мост». Он сооружен (и был новым) во времена трех мушкетеров: упоминание о нем есть в «Сорок пять» А. Дюма. Но вот на днях я наткнулся на него же в путевых записках писателя В. Некрасова, в журнале «Новый мир». Мост стоит и сегодня, три с половиной столетия спустя после своего сооружения. Он по-прежнему называется «Новый мост», и веселые парижане, желая сделать комплимент убеленному сединами старцу, говорят, посмеиваясь: «А что вам сделается? Вы крепки, как Новый мост!» {224}
Топонимическая радуга
Говорят, что слово «новый» может считаться наиболее часто встречающимся в топонимах Земли. Верно: в редком городе, в какой бы стране он ни стоял, нет Новой улицы, Новой площади... Всюду есть Новгороды, мы это уже видели. Есть и целые «новые» земли и страны: Новая Земля, Новая Зеландия, Новая Гвинея... Есть в тропическом Гондурасе Новая Армения, только без Арарата.
Новая Водолага, Новая Гребля, Новая Ладога, Новая Ляля — это в РСФСР и на Украине. Ен Ургенч — Новый Ургенч — в Узбекистане. Ахалкалáки — Новый Город, Новгород — в Грузии... Поищите, и вы найдете татарские, армянские, мордовские, латышские — какие угодно «новые» имена.
Но, разумеется, с этим «новый» спокойно могут выдержать состязание другие составные части наших топонимов — те, которые являются тоже прилагательными и обозначают различные краски, оттенки цвета. Они-то и образуют на картах всех стран «топонимическую радугу».
Едва ли не больше всего встречается в мире мест, которые названы «белыми» и «черными». Есть «белые» и «черные» горы — возьмем за образец знаменитый Монблан в Альпах («Мон-Блан» значит по-французски «Гора Белая») и целую небольшую страну Черногорию (по-сербски — Црна Гора). Белых и Черных гор сколько угодно и у нас: помните, Кия-Шалтырь переименовали в Белогорск по находящейся рядом Белой горе.
Не буду повторять сказанного о белых и черных морях (см. стр. 174—175), но у нас есть и Белое озеро с городком Белозерском и река Белая (да и не одна) со станицей Белореченской... Еще больше в СССР нерусских белых и черных имен — все бесчисленные тюркские Ак-Тепе, Актюбински, Ахтубы (одно из русел волжской дельты), все Карадаги, Караташи, Карачаи и Кара-Су. Ведь в тюркских языках «ак» значит «белый», «кара» — «черный» [76]1. {225} А финские имена — Мста, то есть «муста» — «черная», всякие Валк-Ярви и Валк-Иоки — «белые озера» и «белые речки»...
Не составило бы труда набрать любое число таких имен и за нашим рубежом: немецкие Вейссенштейн и Вейссенфельс — это просто «Белокаменск» и «Белоутесск»; остров Уайт у берегов Англии — значит «Белый»; река Нигер в Африке — «Черная река», как и Рио-Негро в Южной Америке. А вот вам еще Нуармутье — «Черный монастырь» во Франции, Шварцвальд — «Чернолесье» в Западной Германии, Меланезия — «Страна черных островов» в Тихом океане...
Река Нигер названа «черной» не за цвет воды, а потому, что она течет в стране чернокожих людей. В древней Руси «черными» назывались слободы, население которых состояло из «черных людей», простонародья, облагаемого податями и налогами. Очень возможно, что имя Белоруссия было дано стране, свободной в те времена от чужеземного ига, а вовсе не по белому цвету национальной одежды, как предполагали в свое время; и уж, несомненно, множество деревень у нас носили имя Черная именно по этой причине: «податная», «обязанная платить налоги».
Многие реки в странах тюркского языка называются Ак-Су или Кара-Су. Нет проще, чем буквально перевести эти имена: «Белая», «Черная речка». Но знатоки жизни азиатских народов утверждают, что «Ак-Су» всегда обозначает не «белую», а «чистую, горную» речку. {226} И «Кара-су» значит, наоборот, не «черная», а «медленно текущая, болотистая равнинная река (собственно — «вода»). Как видите, нельзя питать полное доверие к буквальным переводам: ведь и у нас большинство «Черных речек» бывают болотными, неторопливыми, довольно глубокими... Однако в то же время язык, по-видимому, принимал тут в расчет и «цветовые» свойства воды: в наших «черных речках» она, как правило, бывает очень темной, красновато-черной от взвешенных в ней частиц болотной почвы и торфа...
Стоит, пожалуй, обратить ваше внимание и вот еще на что. Мы, европейцы, привыкли связывать с черным цветом мрачные, отрицательные представления: «У него черная душа!», «Это был самый черный день моей жизни...»
Но ведь далеко не везде это является законом. Африканские народы вовсе не считают черный цвет, черноту признаком злобы, коварства. Их демоны обладают не черными лицами, как наши, а, наоборот, мертвенно-белыми... И, вероятно, для нас и для жителей Танзании или Кении имя «Черное ущелье» будет иметь совершенно разный смысл.
Не всем краскам одинаково везет в географической радуге, и не во всех странах частота разных «окрашенных» имен одинакова.
У нас, пожалуй, на первом месте после белых и черных топонимов стоят красные. Имена красного... я хотел написать «цвета», но призадумался! Вдумайтесь и вы в такой список названий:
Красная Шапочка (нас. пункт Свердл. обл.),
Красная (река Донск. обл.),
Красная Поляна (Моск. обл. и Краснодарск. край),
Красная площадь (Москва),
Краснодар (бывш. Екатеринодар),
Струги-Красная (бывш. Струги-Белая, Лен. обл.).
Вы быстро заметите, что слово «красный» имеет тут не одно, а несколько разных значений.
Поручиться за то, что оно обозначает «пунцовый», «багряный», можно, собственно, в одном-единственном первом примере: сказочная Красная Шапочка носила именно алого цвета головной убор. Но уже {227} Красная река вызывает сомнение. А может быть, это означает «прекрасная, красивая река»: ведь говоря «красна девица-душа», наш народ никогда не имел в виду девушку с багрово-красным лицом.
Обе (а их куда больше) Красные Поляны, безусловно, названы так «за красоту». Московская Красная площадь получила в древности свое имя по этой же самой причине, как самая красивая торжественная площадь города. А в то же время теперь мы, называя ее «красной», придаем этому слову еще одно, совершенно новое, только после революции родившееся в языке значение: «революционная». Это значение особенно ясно в таких топонимах, как Краснодар и Струги-Красная...
Наши предки называли небольшую северную реку Стругой Белой, имея в виду какие угодно ее признаки, только не принадлежность ее контрреволюционерам, белогвардейцам. Но когда в 1919 году Красная Армия отбила станцию Струги-Белая от белой армии Юденича, название показалось охваченным ненавистью к белогвардейщине советским бойцам недопустимым. Поселок был переименован, хотя причин для этого было не больше, чем для того, чтобы упразднить слово «бельё» или зверька «белку» переименовать в «краснушку». Эпитет «белая» до 1919 года определял цвет; эпитет «красная» стал теперь значить «революционная»...
Сегодня, вероятно, в перечне русских топонимов, начинающихся со слова «красный», 90% занимают те, которым свойственно именно это значение, причем некоторые из них, данные в спешке, именно в пылу боев, может быть, следовало давно пересмотреть. Вряд ли стоит сохранять такие невыразительные и странные названия, как Красная Горбатка (Иван. обл.), Красный Узел (Морд. АССР) или Красный Чикой (Чит. обл.).
Новое значение слова «красный» перешло во все языки народов СССР: если такие имена, как Кизил Арват или Кизил Чешме (Красный родник) в Туркмении действительно говорят о «цвете», то уже Кзыл-Орда в Казахстане означает «Красная Армия»; слово «кзыл» имеет тут новый, невозможный до революции смысл. {228}
Столь же бесспорно это и в случае с названием столицы Марийской АССР — Йошкар-Ола. Город этот, стоящий на речке Кокшаге, носил когда-то имя Царевококшайск. После революции он был переименован в Краснококшайск, а затем, с образованием Марийской республики, получил свое теперешнее имя, которое по-марийски означает «Красный город», «Красноград» [77]1.
Слово, конечно, возникло как заместитель русского Краснококшайска, а в этом имени часть «красно-» означала бесспорно не «алый», а «революционный», «коммунистический».
За рубежом бесчисленное множество «красных» имен, но в языках капиталистических стран слово это всегда имеет значение цветовой отлички.
Рэд-Ривер (имена многих рек в странах английского языка).
Монтань-Руж (в Китае, но имя дано французами: «Красная гора»).
Турну Рошу (Румыния. Старое название: «Красная Башня»).
Альгамбра (Испания. Арабское: «Красный зáмок»).
В социалистических республиках Восточной Европы, вероятно, появились уже имена, в которых чешское «руды», польское «червоны», венгерское «пирош» или «верош» — «красный» могут иметь и современное значение: революционный.
Остальные цвета и краски попадаются на карте мира значительно реже. Встречаются «желтые» топонимы, вроде наших мыса Желтого на Камчатке или Желтого Яра в Биробиджане. Все помнят Хуан-Хэ — Желтую реку Китая, но мало кому из нас известно, что «желтый» означает имена и тех мест в странах испанского языка, в которые входит слово «амарильо»,— например Амариль в Оклахоме США — «Желтый город».
«Желтого цвета», возможно, имя нашего Саратова (тюркское Сарытау — «Желтая гора»), американского озера и реки Йеллустон (по-русски — «Желтокаменка»), прославленных национальным заповедни-{229}ком, устроенным вокруг них, датской фактории в Гренландии Гюлеклеве — «Желтое ущелье»...
Странно, что у нас подобные имена довольно редки: желтых песков и глин у нас немало. Правда, ярко-желтые скалы, особенно оранжевого оттенка, наши предки обычно называли «красными»; многим народам свойственно смешенье этих цветов.
Вот один казус, связанный с «желтыми» топонимами. В старых справочниках вы можете обнаружить приток Волги — речку Желтоватую — неуверенное какое-то название; таких других я никогда не встречал. Но, увы! Современные карты показывают на этом месте другое название: Желвата, а оно явно не имеет отношения к нашему «желтый»... Жаль! Хотя почему? Эрратоним!
Слово «оранжевый» к нам пришло очень недавно из французского языка, где звучало как «кулер д’оранж» — «цвета апельсина». Естественно, что таких названий у нас нет. Да надо сказать, что и за рубежом они подозрительны. Река Оранжевая (и Оранжевая республика) в Африке скорее названы как раз по апельсиновым зарослям или плантациям, чем по цвету вод или берегов [78]1. Вероятно, такого же происхождения названия местечка Оранж в Южной Франции и мыса Оранж в Бразилии... В Южной Америке есть топоним Оранхито — это слово уже просто и прямо значит «Апельсинчик», как наше имя Ораниенбаум означает (по-немецки) «Апельсиновое дерево».
Зеленый цвет — цвет растительного мира. На картах не так уж мало имен, построенных на этом понятии, а вот у нас в СССР (особенно — в РСФСР) они — довольно редкая вещь... Нет, конечно, они встречаются: есть река Зеленая на полуострове Ямал, Зеленое Озеро в Забайкалье (это не озеро, а поселок); есть Зеленый Гай, Зеленый Дол, Зеленый Мыс (у Батуми). Есть сложные слова-названия, в которые входит этот корень: Зеленцы (Мурман), Зеленец (Куйбышевская область), речки Зеленчук в Ставропольской области. Но очень многие из таких имен нового, книжного происхождения: наши предки не очень {230} охотно пускали в топонимический оборот слово «зеленый».
Другие языки лучше относились к этому цвету спектра: целый огромный остров, почти континент, на котором три четверти года среди снегов, льда и скал не увидишь ни единого зеленого пятнышка, именуется Зеленой страной — Гренландией. И если вполне понятно, как получил свое имя Кáбо Вéрде — Зеленый мыс, западная оконечность Африки, покрытая тропической растительностью, то тут...
Судя по всему, перед нами древнейший случай рекламного обмана: первые викинги, достигшие берегов Нового Света задолго до Колумба, стараясь всячески привлечь в новооткрытые страны колонистов, придали великому острову такое обнадеживающее название: Грéнланд! Значит, там много лесов, полей, травы, деревьев... Поезжайте туда! Обман скоро раскрылся, но имя осталось жить.
Остров Монте-Верде (Зеленая гора) в Тихом океане, Грин-Ривер — «Зеленая река» в Америке, Грюнберг — Зеленогорск в ГДР... [79]2 Немало «зеленых имен» и у нас, на нашем юго-востоке: озеро Исиль-Куль (Зеленое озеро) имеется даже в Омской области.
Тут примечание: в тюркских языках, кроме «исиль» — «ешиль» — «зеленый», есть второе слово — «гёк». Оно может тоже значить «зеленый», хотя обычное его значение — «голубой». Гёк-Тепе в Туркмении, скорее всего, означает «Зеленый холм»: речь ведь идет о плодородном оазисе среди пустыни. А вот что имели в виду азербайджанцы, придавая своему великолепному горному озерку имя Гёк-Гёль, сказать не так-то легко: я видел воду этого озера и бирюзово-голубой и изумрудно-зеленой.
Вот теперь — о «голубых» именах. Их не так-то легко отличить на карте мира от «синих». Далеко не все языки имеют особое прилагательное для этого цветового оттенка. Немец не может слово в слово перевести наше предложение: «Над синим морем сияло голубое {231} небо»; он должен будет сказать: «Над синим морем сияло небесно-синее небо» или: «Над темно-синим морем сияло светло-синее небо». Или ему придется употреблять описательные выражения: ультрамариново-синее, бирюзово-синее... То же и во французском языке: именно поэтому южное побережье Франции названо: «Кот д’Азюр» — «лазурный», а не «голубой» берег)
Русский язык богаче в выборе слов для этих оттенков, но в древности, по-видимому, наши предки тоже чаще употребляли слово «синий», чем «голубой»: Синим Морцом они назвали северо-восточный плес Каспия, Синей сопкой, или Синюхой, одну из гор Алтая, Синей речкой (и тоже — Синюхой) — один из притоков реки Великой в Псковской земле... Это понятно: слово «голубой», видно, с давних пор было словом с книжным оттенком, ученым словом образованных людей: оно ведь и построено не на древний образец, а почти так же, как более новые прилагательные: «розовый», «лиловый», «коричневый» т. е. — «цвета розы», «цвета сирени» (по-французски — «лилá»), «цвета корицы»... Так и «голубой» — «цвета голубиных перьев».
Тем не менее с ним связан один из очень древних топонимов, упоминаемый в летописи уже под 1187 годом: Голубый лес под Киевом.
Скажу несколько общих слов обо всех других цветовых названиях сразу: их куда меньше, чем перечисленных. Поищите на картах и в атласах «серые имена»: они встречаются довольно редко. Упомяну тут только мыс Гри-Нэ — «Серый нос» — на западе Франции (он часто упоминался в дни войны), речку Серую у нас в Ивановской области, Боз-Даг (серые горы) в Турции, да Боз-Куль — «Серое озеро» в дельте Аму-Дарьи.
Разумеется, я не исчерпал всех «серых» топонимов, но дальнейшими розысками доверяю заняться вам самим. Поищите также коричневых, фиолетовых, розовых, бирюзовых — каких угодно имен... Розовое имя есть, например, в Швейцарии: гора Монт-Роз — «Гора Розовая». «Розовая речка» в Крыму значится на картах, но вы помните: это самозванка (см. стр. 215). Но если вас постигнет неудача, утешьтесь: можно в топонимической радуге обнаружить такие «цвета», каких вовсе нет в солнечном спектре. На свете множество «Пестрых гор»; {232} это — горы Азии, носящие тюркское название Алатау, Алатаг, Алатоо, Алату... Те, кто давал им это имя, хотели передать впечатление от круч, местами покрытых снегом, местами поросших темными пятнами лесов, местами серых — от гранитных осыпей и целых утесов...
Как видите, «пестрого» цвета в радуге не найдете, а тут и он есть. И мне не вполне понятно, почему некоторые топонимисты считают цветовые, окрашенные топонимы как бы какой-то редкостью... При всех оговорках их очень много.
Гибриды
и метисы
Два народа живут рядом, живут в мире или во вражде. Их языки — иногда постепенно и медленно, иной раз внезапно и сразу — оказывают сильное влияние друг на друга. Или один народ овладевает территорией другого, поселяется на его землях. Во всех этих случаях (и во многих других) могут появиться топонимические помеси, имена, порожденные не одним, а двумя (гораздо реже — несколькими) языками совместно. В соавторстве.
Внимательные читатели сразу сделают большие глаза: так ведь об этом уже говорилось! Милан когда-то носил латино-кельтское имя Медиоланум — «Срединная равнина» (он ведь, и верно, лежит среди Ломбардской низменности). Скрещенными, двуязычными были и Аугсбург — римско-германское имя (стр. 98), и кельто-саксонское Карлейль. Но это все — дела давно минувших дней. А в наше время такие «помеси» возникают?
Возникают. Прежде всего там, где происходят бурные передвижения племен и народов, смена государственных границ, смешение разноязычных культур (под «нашим временем» я разумею тут пять-шесть последних столетий).
Такие передвижения характеризовали в течение многих веков наш Крым. Теперь причудливо сокращенные топонимы тут совсем не редкость, и образованы они из слов самых различных языков.
Были в чеховские времена на Южном берегу Крыма две всем известные деревушки: Биюк Ламбат и Кучук Ламбат (последнее название сохранилось и до наших дней). «Биюк» и «кучук» — татарские слова, означающие «большой» и «малый». А вот «ламбат» — {233} греческое слово того же корня, что наша «лампа», «лампада» и значит оно «светильник», «факел». Вероятно, тут стояли старинные маяки.
Немного не доезжая по железной дороге до Феодосии, вы останавливаетесь в Насыпном. Теперь это полностью русское название, но еще несколько лет назад место именовалось Насып-Кой. Имя состояло из русской части: Насып(ь) и татарской: Кой — «деревня».
Проходным двором для народов долгое время был Кавказ: целый поток племен лился много веков по нему из Азии в Европу и из Европы в Азию. Удивительно ли, что имя целой горной страны — Дагестан — сложено тут из тюркского «даг» — «гора» и иранского «стан» — «край», «страна», «область».
Иранцы и тюрки — давние соседи. Их культуры тесно переплелись столетия назад. Это отразилось и в гидронимике. Возьмите названия хотя бы двух первых попавшихся рек Средней Азии — Ак-Дарь и Кашкá-Дарь. Слово «дарья» — персидское; оно значит: «река». А вот «ак» и «кашкá» — тюркские прилагательные: первое может быть переведено, как «белая», «чистая», «горная»; второе — «лысая», «лишенная растительности». Да, есть мнение, что и имя Сыр-Дарьи следует понимать, как соединение иранского «дарья» с тюркским «Сар» — «желтый».
Да, разумеется, эти имена (кроме Насып-Коя) родились не вчера и не позавчера. Но нетрудно привести примеры и совсем новешеньких сокращенных названий: среди них особым распространением пользуется один, тоже недавно появившийся тип топонимов, о котором подробнее в другом свете мы поговорим в конце книги.
Вот поселок в Казахстане. Он носит имя Хром-Тау. «Тау» — это «гора» на многих тюркских языках. А «хром» интернациональный, греческого происхождения химический термин, название одного из элементов Периодической, таблицы. Как он попал сюда?
Коротенькая выписка из справочника: «Хром-Тау — поселок городского типа в Актюбинской области... Добыча хромистого железняка...» Все понятно. Правда, если так, то, пожалуй, придется признать скрещенным и имя горы Магнитной: в этом прилагатель-{234}ном корень тоже греческий, а вот суффикс в нем — чисто русский.
В общем, тому, кто заинтересуется топонимами-гибридами, придется рыскать за ними по всему земному шару.
В Румынии он обнаружит на самом Дунае местечко Негровóда: его имя слито из общеславянского «вода» и румынского «негру» — «черный». Чехия может похвастаться хорошо известным в военной истории именем Кёнигрец. Теперь этот город именуется чисто по-чешски: Грáдец Крáлове, то есть «Королевский городок». Но в свое время немцы придали ему имя, которое состояло наполовину из обрывка немецкого слова «кениг(ин)» — «королева», а наполовину из наспех переделанного чешского «градец» — «грец». «Кёнигрец» было типичным гибридом.
В XVIII веке немецкие корни в топонимике просочились далеко на русский Восток. Что такое имя Оренбург? Типичная башкирско-немецкая амальгама, со значением Орская (на реке Орь) крепость, Орский городок.
Башкиро-немецкая? Не удивляйтесь: на карте можно обнаружить и арабско-романские гибриды. Возьмите гору Джебéль-Карантáль в Палестине. Джебель по-арабски — «гора»: Джебель-Муса — «Моисеева гора», Джебель-эль-Зальсали — «Гора Землетрясений» на Ниле... А «каранталь» — искаженное итало-французское «куарантáна» — «сорокадневный». Его занесли сюда, в Азию, крестоносцы, утверждавшие, что именно на этой возвышенности основатель христианства Иисус постился, как о том говорится в евангелии, ровно сорок суток...
В Южной Америке вы найдете ущелье в Кордильерах, называемое Гальо-Руми; Гальо — «петух» по-испански; Руми — «скала» на языке индейцев кечуа — самого многочисленного и мощного индейского племени южноамериканских стран.
А как вам понравится русско-финско-угорское сочетание: Болвано-из, на нашем уральском Севере. Слово «из» в языке коми — «камень», «гора», а вот русское [80]1 «болван» означает здесь никак не «дурня», {235} а «языческого идола», вроде того «тмутараканского болвана», о котором говорится в «Слове о полку Игореве». Видимо, здесь, на далекой окраине Руси, наши предки наткнулись на одной из гор на древнее капище с вырезанными из дерева кумирами.
Очень любопытные гибриды родились и существуют на нашем Дальнем Востоке, в Уссурийском крае, в Приморье, на Камчатке. Я приведу лишь по одному — зато уж по довольно причудливому — образцу оттуда и оттуда.
Течет на Камчатке речка Альховаям; значение этого названия, по мнению исследователей: «поросшая ольхой». На первый взгляд — все очень просто: взято русское прилагательное «ольховая» (речка) и приспособлено местными жителями к своему языку.
Не тут-то было! На корякском языке слово «речка» звучит «вáям». Рядом с Альховаям текут ее сестры: Линлинвам — «Сердце-река», Тильгейвам — «Палец-река»... Видимо, дело куда сложнее: надо еще выяснить, не имеет ли на языках исконного населения Камчатки звукосочетания «альхо» какого-либо своего значения, не имеющего ничего общего с русским «ольхо»? А может быть, это вовсе не коряки приспособили к своему языку русское слово «Ольховая», а, наоборот, русские поселенцы поняли корякское слово «Альховам» на наш, русский лад и смысл? Надо точно выяснить, как давно звучит тут это имя: возникло ли оно здесь после появления русских или существовало и до них? Вспомним случай с рекой Охотой — Окат’ом. Вспомним сомнения, которые вызывает имя Лодейное Поле, и еще раз скажем себе: поистине, в топонимике следует много раз «примерить» каждое предположение, прежде чем «отрезать» его окончательно. В этой науке есть тысячи способов оказаться незадачливым Лéстрэдом из рассказов Конан-Дойля и считанное число возможностей выйти в топонимические Шерлоки Холмсы...
Очень много скрещенных — русско-удехейских, удехейско-китайских, маньчжурско-русских или удехейских, разных гидронимов и топонимов в Приамурье и Приморье. Вот, например, имя речки Ханьдахезы. «Ханьда», по мнению В. К. Арсеньева,— маньчжурское слово «лось». «Хе» и «цзы» — китайские обозначения реки (сравните Хуанхе и Янцзы). Ханьда-хе-цзы — маньчжурско-китайское имя, значащее «Лосиная {236} речка». А Ханьдахеза — русское видоизменение его, получившее русское окончание имен существительных женского рода, характерное для названий наших, русских рек. Перед нами тройной гибрид.
Пожалуй, самым удивительным из тамошних, уссурийских, скрещений можно счесть имя Фáльи Пáди, принадлежащее долинам двух небольших горных речек в этом огромном краю. Сами подумайте: слово «падь» в сибирских говорах русского языка означает ущелье, глубоко врезанную в горы таежную долину. А слово «фáльи»? А это — множественное число от прилагательного «фалий»: вы его не найдете ни в одном русском толковом словаре.
Прилагательное «фалий» произведено от китайского слова «фа-лу», название одного из видов дальневосточного оленя («олень» по-китайски — «лу»). «Фалий» значит — «олений», «маралий». Уже само по себе это прилагательное является двуязычным гибридом; имя же Фальи Пади можно назвать, так сказать, «дважды гибридом дальневосточной топонимики».
Я не могу утверждать, живет ли сейчас и даже жило ли в те дни, когда в начале века путешественник Арсеньев совершал свои смелые рейды в глубь Уссурийской тайги, прилагательное «фалий» в языке тамошних русских поселенцев, или топоним этот является единственным случаем его употребления. Я не встретил ни разу рядом с ним и никакого имени с прилагательным «милий» — «Милья сопка», «Милий лог». А ведь рядом с оленями «фалу» живут в Приморье и олени «милу»; почему бы не образоваться и таким именам?
На подобного рода «почему» у нас обычно нет ответа. Язык идет тут своими путями, извивы этих путей для нас остаются пока что во многих случаях загадочными. Одна из задач топонимики и заключается в прояснении этого тумана...
Двойняшки
В науке часто бывает так, что ответ на ту или другую чрезвычайно важную задачу внезапно находится при исследовании явлений, которые выглядят совершенно несущественными, незначительными и даже вроде как бы «презренными». Великий ученый Д. И. Менделеев недаром сказал однажды: «Истина часто добывается изучением предметов, на взгляд малозначащих...» Бывали {237} случаи, когда целые научные дисциплины вырастали из таких, казалось бы, пустячных наблюдений...
То, о чем я вам сейчас расскажу, представляется, на первый взгляд, тоже далеко не самым главным в топонимике. Но кто знает, может быть, когда-нибудь исследование этого «на взгляд малозначащего» явления приведет к решению очень важных ее загадок. Каких? А там будет видно, каких...
Есть презанимательная книжка американского биолога Дж. Лилли «Человек и дельфин». В ней, между прочим, рассказывается вот о чем:
«К юго-востоку от нас (речь идет о Карибском море.— Л. У.) поднимаются две скалы, которые называются Китиха и Китенок. В глубоких водах у этих скал на протяжении многих лет регулярно наблюдались резвящиеся самки китов с их детенышами...»
Лилли — биолог, а не филолог и не топонимист. Он полагает, что двойное имя этого рифа создано прямо по доводам чистого разума: наблюдаются около данных скал киты-самки и китята-младенцы, естественно, возникло и название.
Я думаю, понадобилось и другое: вероятно, горбатые, мокрые и черные хребты утесов этих — одного побольше, другого поменьше — напоминают издали спины плывущих в море китов. Несомненно, кроме точного знания, требовалось и художественное воображение, чтобы имя родилось. Но не это мне сейчас важно.
Меня в этом названии заинтересовала его парность. Не скала Китиха, не утес Китенок, а именно — двойной утес Китиха и Китенок. Воображение местных рыбаков и моряков как бы сдвинуло вместе два предмета, два географических понятия, и слило их в одно.
Если бы на свете был только один такой топоним, большого интереса в нем не было бы: мало ли каких странностей не бывает в мире имен?! Но дело в том, что подобные имена повторяются, образуют особый разряд, характерную группу. А это уже довольно любопытно.
Возле курортного Симеиза на Южном берегу Крыма сотни тысячелетий высились на берегу две бросающиеся издали в глаза скалы. Их вид настолько привлекал внимание, что я склонен думать: может быть, {238} само греческое имя Симеиз, означающее «знак, признак», родилось из-за их присутствия там.
Они могли служить опознавательными знаками для древних мореплавателей, входить в их неписаные лоции этих берегов. Еще в дни моей юности я видел обе скалы на берегу. Они назывались тоже парным именем: Монах и Дива.
Скала Монах (в 30-х годах ее уничтожил чудовищной силы шторм) напоминала высокую черную фигуру в остроконечном клобуке. Ее название не нуждалось в объяснениях. Откуда взялось имя Дива — неясно: то ли оно связано с русским корнем «див-» (дивный, диво, удивительный), то ли с итальянским «дива» — «божественная». Но в наше время оба названия всегда воспринимались как одно: Монах и Красавица...
После разрушительной бури от Монаха остались только бесформенные обломки; парность топонима исчезла, и спустя недолгое время от нее не сохранится даже воспоминаний. Но в других местах такие пары продолжают благополучно существовать. Любопытно, что в большинстве такие имена-двойняшки присваиваются именно утесам, скалам. Почему бы это?
Я думаю — потому, что скала, даже самый огромный камень, является предметом легкообозримым. Человек охватывает одним взглядом и величайший утес, и даже целую группу утесов. Этого мало: именно утесы и скалы куда легче, чем озера, леса, болота, могут вызвать у того, кто их видит, представление о каких-то живых существах, о животных, о людях, о странных чудовищах:
......................... не зданье
Нам показал свободный солнца свет,
Но чудное в утесе изваянье:
Что я стеной считал, то был хребет
Чудовища, какому и примера,
Я полагал, среди живущих нет...
А. К. Толстой. «Дракон»
Горы, скалы и камни нередко слагаются в целые сообщества, точно разыгрывая перед наблюдателем нечто вроде старинных «живых картин», этакие неподвижные спектакли. Это шевелит фантазию созерцателя: куда проще представить себе как:
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор,— {239}
чем вообразить препирательство между двумя пустынями или трясинами... Думается, горные вершины тоже легче могут получать такие не только «личные», но и «сопряженные», парные и даже «коллективные» имена. А у подобных имен есть особое свойство: вокруг них особенно быстро нарастают предания, сказки, всевозможные таинственные и часто красивые легенды. В старину это было почти законом.
В шести километрах от Бахчисарая, на реке Каче, у входа в ущелье высятся бок о бок две столпообразные скалы: Вай-Вай-Анам Кая и Хорхма-Балам Кая.
Имена достаточно странные: по-татарски первое из них означает: Скала «Ай-ай-мама!», второе — Скала: «Не бойся, дочка!»
Первая из них, у входа в теснину, имеет около десяти метров высоты и похожа на человеческую фигуру. Вторая высится поодаль, над проходящей тут дорогой. Человек с воображением может увидеть в ней огромную женщину, сидящую в кресле. Про них рассказывают вот что.
«Грозный и свирепый Топал-бей похитил у соседа Кемальмурзы красавицу жену с еще более прекрасной дочкой-девушкой. Долго он держал их в плену, принуждая стать украшением его гарема, но вызвал только отвращение и ненависть. Придя в ярость, он приказал замуровать обеих в скалах. А возможно, будучи волшебником, просто-напросто превратил их в скалы.
Так или иначе, в урочище Кош-Дермен появились две скалы, и, говорят, в лунные ночи видели, как из одной из них робко выходила на свет необыкновенной красоты девушка. Узнал об этом и злодей бей.
Взбешенный, он велел немедленно повалить и разбить строптивую пленницу-скалу. Со всех сторон пригнали коней и волов, скалу зацепили канатами и уже готовы были обрушить ее, как вдруг из глубины камня раздался испуганный девический голосок: «Вай-вай, анам!» «Хорхма, балам!» («Не бойся, дочурка!») — ответила другая каменная глыба.
В тот же миг все, кто в этот час были в ущелье — кони, люди, упряжные быки, — все это окаменело и замерло навсегда... Если не верите — ступайте в урочище {240} Кош-Дермен: разве там не валяется до сих пор великого множества каменных глыб самой разнообразной формы и вида?»
Легенда как две капли воды похожа на многие другие древние предания. Нет надобности доказывать, что она не описывает нечто действительно случившееся, а поэтически пытается осмыслить картину каменного хаоса у подножия гор.
За тысячи километров от Крыма, в Дальневосточном Приморье, за хребтом Сихотэ-Алинь впадает в реку Копи маленькая речушка Йоли. По ней в 1910 году был проложен один из маршрутов В. К. Арсеньева. Описывая речную долину, он вскользь замечает, что, кроме него, по ней никто не ходил, опасаясь таинственной и зловещей сопки Омоко-Мамача, что на местном языке означает «Прабабушка Омоко»... Услышав про такие страхи, Арсеньев счел своим долгом взглянуть на «прабабку».
На гребне сопки он увидел несколько причудливых очертаний скал. Самая большая напоминает по форме человека. Это и есть Омоко. И, конечно, с ней тоже связана топонимическая сказка, соединяющая ее с некоторыми другими скалами по соседству:
«Великан Кангей,— рассказывают местные жители-орочи, — повздорил бог весть почему с двумя великаншами — Атынигой и Омоко; с женщинами поссориться всегда нетрудно. Затеялась вражда, потом — борьба. Она кончилась печально для всех троих; они внезапно окаменели. Хмурый великан превратился в камень в самом верховье Копи, Омоко беда захватила там, где Йоли впадает в Копи, а Атынига замерла навсегда ниже по течению Копи, возле устья ее притока Чжакуме. Если найдется маловер, никто не помешает ему подняться по Копи до Чжакуме, потом до Йоли и удостовериться своими глазами: все они и сегодня стоят на своих местах».
Все это случилось давно, но скалы-то сохранились. Конечно, они заслуживают всяческого поклонения: вот орочи и называют самую главную из них не грубо — Омоко, но уважительно: Омоко-Мамача — Омоко-прародительница...
Человек — всюду человек. Я думаю, создание таких легенд и таких топонимов зависит не от места, не от {241} расы и племени, а скорее от ступеньки в той лестнице культуры, по которой поднимаются все народы один за другим. Уверен, что подобных топонимов несравненно больше, чем их вошло в мою маленькую и неполную картотеку. Наверняка их можно найти во всех концах мира и у всех народов: они должны были остаться от прошлого.
Я написал это и вспомнил о двух грозно-известных в античном мире губительных пучинах Мессинского пролива, между Калабрией и Сицилией, — Сцилле и Харибде. Помните эту легенду?
В узком протоке здесь, на расстоянии полета стрелы друг от друга, если верить слепому старцу Гомеру, высятся две скалы. Имя первой — Сцилла — значит «лающая»; вторую зовут Харибда. Слово «харибда» толкуют просто как «водоворот»; впрочем, существуют и другие объяснения. Под первой скалой обитало ненасытное чудище Сцилла, под второй — прожорливая Харибда, дочь морского владыки Посейдона. Если плаватель избегал пасти первой, течение неминуемо приносило его к зеву второго чудовища... Ускользнуть от обеих сумел один только хитроумный Уллис-Одиссей, но и он оплатил спасение ценою жизней всех своих спутников...
Океанографы удивляются: нет нынче в Мессинском проливе таких могучих водоворотов. Но как можно ручаться за то, что было тут две или три тысячи лет назад; каково тогда было море и каковы мореплаватели?
Не будем вмешиваться в эти споры. Отметим: и за тысячи лет до нас, и в наши дни «парные» и «множественные» топонимы рождались и рождаются на свет.
И ими очень следует повнимательнее заняться. {242}
Теперь в этих местах спокойно бегают даже водяные трамвайчики. А тогда...
Вот две рядом текущие речки в Лужском районе Ленинградской области: Ложка и Сковородка... Как возникли их несомненно связанные друг с другом имена?
Вот две деревни в Великолуцких пределах — Ледяха и Невелёха, тоже лежащие рядом. Что обозначает сходство форм обоих этих имен, случайно ли оно, или они тоже образуют топонимическую пару?
У каждого человека есть какая-нибудь слабость. Я никогда не читал нигде о таких именах-спорышках, именах-близнецах и отношусь к ним с особой нежностью: а что, если я первый обратил на них внимание?
Обратить внимание — полдела; надо собрать таких примеров как можно больше, надо их изучить... Кто знает, может быть, они откроют нам глаза на какие-нибудь существенные явления, которые играют роль, когда человек называет то или иное место.
Ахи-ухи и ицы-анцы
Если вы читаете мою книжку не для того, чтобы там, когда-нибудь заняться всерьез топонимикой, а просто так, «для интереса», — можете, пожалуй, пропустить две следующие главки ее. Они написаны не для забавы.
Впрочем, хотя вопросы, которых я в них касаюсь, довольно сложны, я постараюсь сказать о них лишь несколько слов, избегая особых сложностей. Оставим сложности в стороне или, лучше сказать, передадим их другим авторам и другим книгам.
Вот двенадцать слов, самых различных:
ТИГР ИВАНОВ ПРЕКРАСНОЕ СЕМНАДЦАТЬ КРОМЕ ГРИГОРЬЕВИЧ ХОРОШО КОЗЕЛЬСК ХОДИТЬ ГРОМОВО МАЛАХОВЩИНА РЫЧАГ.
Посмотрите их раз, и два, и три раза и скажите, могут ли некоторые из них оказаться топонимами, именами мест?
Лукавый вопрос: а по каким признакам можно определить это? А в то же время, я не сомневаюсь, вы довольно легко отберете в этом перечне такие слова, которые не только могут быть именами географическими, но и не могут быть ничем другим... {244}
В самом деле — что может, кроме селения или урочища, обозначать слово Громово? Вы не можете допустить существования ни зверя, ни птицы, ни силы природы, ни предмета, который мог бы по-русски называться так. Это слово может оказаться либо очень редкого типа фамилией, вроде Дурново, Благово, или, куда более вероятно, названием места.
Вы угадали: в РСФСР пропасть поселков и разных угодий с таким именем. Но как вы это угадали?
Возьмем другое слово: Козельск. Это уж бесспорный топоним. Никакой предмет не может носить такое нарицательное имя: козельск. Никакой человек не может называться Козельском Ивановичем или Иваном Козельсковичем. Но животное может именоваться «козел», или «козлик», или «козуля»; человеку вполне подойдет фамилия Козлов, Козловский или Козельский... Так вот в чем дело: в суффиксах!
Да, это так. Хорошо вряд ли может стать названием места, а вот Хорошово — типичное имя селения: под Москвой есть такой населенный пункт. Кроме — это явное наречие, никакой не топоним, а Кромы — имя города, не вызывающее ни малейшего удивления или протеста. И такие образования «названия мест» мы можем выделить из ряда других, даже не зная их значения, по чисто морфологическим признакам.
Бывают, конечно, и слова-совместители, способные выполнять не одну, а две или несколько функций. У нас как будто бы нет города Иванов, но он вполне мог бы быть: ведь есть же города Борисов или Николаев; такие названия могут быть поняты и как личные имена (фамилии) людей.
Казалось бы, совершенно не способно стать именем места слово Григорьевич, типичное отчество. Но ведь, пожалуй, невозможность тут кажущаяся. В Свердловской области имеется город Богданóвич, а ведь это тоже либо «отчество», либо «фамилия»... Правда, такие топонимы — великая редкость, но подобные же «отчества» во множественном числе уже образуют уйму названий во многих частях нашей страны: Василевичи, Барановичи, Яковлевичи, Дедовичи кажутся нам прежде всего топонимами, и лишь затем мы можем допустить, что каждое из этих слов может, кроме того, обозначать и «дети Василя», «Ба-{245}рана», «Якова», «Деда», что они произведены либо от личных имен, либо же от прозвищ.
Я не стану рассуждать о словах Семнадцать или Малаховщина: вы сами без труда разберетесь с ними. А вот Рычаг; топоним такого типа — возможен ли он? Собственно говоря, а почему нет? Если есть у нас город Клин, почему не быть Рычагу?.. Это показывает только, что, наряду с именами мест, образованными при помощи более или менее специализированных суффиксов — «-ск», «-ово», «-щина», — бывают и такие, для которых никаких особых суффиксов не требуется. Обычное слово переосмысляется и становится топонимом: река Лужа, река Бобр, город Холм, город Киров... Но все-таки для русской топонимики имена со специальными суффиксами гораздо характернее. Именно их мы легче всего опознаем в ряду других слов, признаем за географические наименования: Дулево, Ботвино, Весьегонск, Духовщина, Березайка... Ясно, что это названия мест. А вот Тетерев, Изюм, Орел, Мама, Девица — тут еще призадумаешься...
Ученые живо интересуются морфологическим строением наших имен мест. Интересно не только зарегистрировать все суффиксы, которые их образуют, которые для них типичны, и даже не только дознаться, почему и как язык отобрал и направил на такую работу именно их. Важно и вот что еще.
Форма географических имен меняется от одной части нашей Родины к другой. Для многих суффиксов, как для диких животных страны, можно указать на излюбленные ими «места обитания»: там они кишат, как какие-нибудь стрепеты в степи или росомахи в лесах Севера. А в соседних областях их нет, или они лишь изредка попадаются между других, густо распространенных.
Вот названия мест с суффиксом «-иха». В Москве и под Москвой они попадаются — Плющиха, Палиха, Балашиха — но не так уж часто. А в недальней Ивановской области они же составляют чуть ли не четверть всех названий деревень: Обжериха, Мишутиха, Лагуниха, Дюпиха, Чапуриха, Гольчиха, Мишкулаиха и т. д. и т. п. Их тут, по под-{246}счетам топонимистов, примерно в двадцать раз больше, чем под Москвой.
Почему?
Названия с суффиксом «-щина» встречаются куда чаще на западе нашей страны, а с суффиксом «-ата», «-ята» (Оверята, Степанята) — на ее северо-востоке...
В той же Ивановской области почти половина названий построена при помощи суффикса «-ов» (Помогал-ов-о, Ряп-ов-о); может быть, так и надо, так и везде?
Ничего подобного: на юге, на территории Украины с ее близко родственным языком, сорок два процента имен мест оканчиваются на «-ка» (Камен-ка, Макарьевка, Терсан-ка, Астрахан-ка), а имен на «-ово» значительно меньше. В Ивановских же пределах такие Каменки и Архиповки нет-нет и попадаются, но набирают не больше пяти очков (простите — процентов!).
Хорошо, пусть так. А какой смысл в этом «суффиксокопательстве»? Зачем оно?
Вот что пишет по этому поводу известный советский топонимист В. А. Никонов (его слова я пересказываю своими, так как его статья написана не для школьников).
Главная граница русской топонимии отсекает северную половину Европейской России, где безраздельно господствуют суффиксы «-ов» и «-ин», от южной, в которой царствует «-ка». Она пролегает примерно по линии от Брянска к Туле, от Тулы к Арзамасу и далее туда, где в Волгу впадает Кама.
А ведь эта линия в XVI веке была южным рубежом Московского государства. Как раз в это время русские географические имена стали образовываться не при помощи старых «-ов» и «-ин», а при посредстве нового суффикса «-ка». Старые русские земли остались при старых именах: они были уже густо заселены; новые селения возникали лишь кое-где. А вот те области Дикого Поля, степи, куда русские люди хлынули, начиная с этого времени, запестрели уже новомодными именами, до того времени не употребительными...»
Теперь представьте себе вот что. Государственные рубежи времен Бориса Годунова мы знаем лишь в общих чертах, по тем их приметам и граничным пунктам, {247} которые упомянуты в старых документах. А нанеся на карту раздел между областями «суффиксов» «-ов» и «ин» и «суффикса» «-ка», мы можем удивительным образом уточнить древнюю границу. Названия селений приходят на помощь: «Здесь — мы, старики и старушки, все на «-ов» и «-ин»... Тут вековечная русская отчина и дедчина. А за рекой — там пошли новомодные Марьевки да Преображенки; там — новина; туда отсюда переселялись уже в новое время...»
Вот суффикс «-ата», о котором уже шла речь. На северо-востоке, по рекам Каме, Вятке, Ветлуге, имен с этим суффиксом сотни и сотни. А, скажем, во Владимирской области их нет ни одного [81]1, в Ивановской — одно-единственное, если не считать крошечного «пятачка» в бассейне ничтожной речушки Ландех. Тут, на Ландехе, друг возле дружки, как семья белых грибов в лесу, сидит 32 селения на «ята, ата»: Озерята, Степанята, тридцать других... Причуда случая?
Навряд ли! За кажущейся случайностью стоят какие-то очень существенные события в далеком прошлом этих мест. Может быть, надо искать давних связей между этим «ландехским островком» и теми местами, где такие имена обычное дело... Какие связи? Чтобы ответить на все вопросы, топонимика должна сделать еще очень много, а работа по изучению морфологии наших топонимов, их грамматического строения только начинается.
Вообразите себе такую карту России, на которой извилистыми линиями соединены между собой не места с одинаковой температурой или давлением, а те, в которых встречаются «одинаково устроенные» названия — селений, рек, гор... Не «одинаковые» по смыслу, а одинаковые по строению... Такая карта расскажет о многом.
В. А. Никонов считает, например, что по распространению топонимов с суффиксом «иха» можно было бы довольно точно судить о том, как много веков жители Суздальской Руси расселялись и в низовьях Оки и на Средней Волге, шли через долину Вятки за Каму на восток, а в противоположном направлении двигались далеко на запад, в Подолию и Приднестровье. Поду-{248}майте, как это важно: ведь точных данных о таком многовековом переселении не найти ни в каких архивах, ни в каких старых документах...
Так что же? Может быть, в топонимике важней всего — морфология?
Трудно сказать, что тут важно и что менее важно. Сейчас ученые стремятся проникнуть в слово-имя даже еще глубже, чем до его морфологической основы, исследовать не только его «части», но и самые звуки, из которых эти части сложены. Это похоже на то, как физики от изучения молекул перешли к исследованию атомов, а затем и элементарных частиц, из которых атомы сложены... И, видимо, это направление в топонимике открывает тоже интересные перспективы.
Вот вам один любопытный пример [82]1. Ученые-африканисты заметили такую закономерность: в Ньясаленде нет ни одной реки, название которой оканчивалось бы на согласный звук, в Кении они составляют почти четверть всех таких имен, а вот в Танганьике, лежащей между этими странами, их два процента, причем все реки с подобными названиями текут по возвышенностям страны. И это вовсе не случайность: в распределении имен отразилось и закрепилось навеки столкновение двух языков, принадлежащих к совершенно разным языковым семьям; остался след от передвижения племен, о котором иначе как из этих названий и узнать неоткуда.
Что же может быть важнее и полезнее подобных сведений?
ГА. МА. ВА
Сто пятьдесят лет назад, одновременно с Пушкиным, жил в России замечательный ученый-языковед Александр Востоков, основоположник русского славяноведения.
В одной из своих небольших статеек, обращенных не к ученым, а к широкой публике, он обращал внимание любителей языкознания на разные явления, за которыми было бы интересно понаблюдать не только ученым-языковедам. Среди других примеров он указывал и на такой: изучая названия русских рек, каждый мо-{249}жет заметить, что у многих из них встречаются постоянно повторяющиеся окончания. Их не так уж много, но они очень характерны. Имена многих рек оканчиваются на «-га»: Варзу-га, Пине-га, Ветлу-га... Рядом текут другие: их названиям свойственна «концовка» «-ва»: Прот-ва, Ик-ва, Сось-ва, Не-ва... Есть и другой тип гидронимов — на «-ма»: Тоть-ма, Ухто-ма, Костро-ма... Я привожу лишь по три примера на каждую «концовку», а можно было бы набрать их десятки...
Когда Востоков заметил это, он предположил, что по этим «концовкам» (в науке их зовут чаще всего формантами топонимов) можно судить о многом в их происхождении: о их составе, принадлежности. Он опередил свое время. Наука еще не была готова уразуметь эту мысль, и наблюдение крупного ученого долгое время было почти забыто.
Теперь мы знаем, что в ряде случаев эти своеобразные элементы в названиях мест по происхождению своему не являются просто суффиксами и сходными грамматическими частицами слова. Они представляют собой полностью или отчасти сохранившиеся остатки слов, имевших значение, входивших некогда в состав того или другого названия. Это не может, конечно, озадачить нас: мы сталкивались уже с похожими явлениями.
Вспомните формант «-поль»: в длинном ряде южнорусских названий городов оно оказалось сокращенным греческим «полис» — «город»; первая часть таких имен была определением к этому «полис». Ставро-поль — «Крестовый город»; Симферо-поль — «Полезный город» и так далее. Нечто подобное, возможно, имеем мы и тут.
Вот в языке коми, зырянском есть слово «ва»: оно значит «вода». И что же? Множество названий рек, оканчивается на «-ва»... Так, может быть, все эти речные имена и значат: «Такая-то река»? В целом ряде случаев оно так и есть. Вот в бассейне Камы текут реки Иньва («Женская вода»), Айва («Мужская вода»), Койва («Птичья вода») и много других с похожими именами.
В других местах то же самое значение открывается у названий, оканчивающихся на «га»: имя Пине-га, например, объясняют как состоящее из двух финских слов: «pieni» — «малый» и «joki» — «река»... {250}
Смотрите, как чудесно получается. Если так, нужно только рассортировать все топонимы и гидронимы по их окончаниям, найти значение этих формантов, и дело будет в шляпе.
Здравое зерно в этом, безусловно, есть. Когда французские топонимисты точно установили значение и происхождение древнекельтского форманта «áкум» (он встречается в именах тех населенных пунктов, которые когда-то, в глубокой древности, были галлами окрещены по именам их владельцев или первых поселенцев; иначе говоря, у него такая же, примерно, роль, как у наших «-ово» или «-ино»), когда это случилось, был решен важный вопрос. Имена с «áкум» и без «áкум» нанесли на карту, и сразу стало ясно, где в древности жили галлы и где их в помине не было. В нынешней итальянской Ломбардии множество «-áкум», в Пьемонте их нет совсем. В Ломбардии жило кельтское население, Пьемонт занимали еще более древние лигурские племена.
Как видите, топонимический формант сделал великое дело: обрисовал перед нами границы расселения народов, которые никогда и никем не были ни записаны, ни начерчены до этого. А вот они теперь тут как тут!
Казалось бы, на этом можно и остановиться. Но не так-то все просто и точно получается на деле.
Возьмите тот же «речной формант «-ва». Да, у нас есть такие места, где имена на «-ва» буквально толпятся на карте. Это автономная республика Коми с ее Кожвой и Колвой, Лемвой и Милвой и сотнями других таких же речек. Это Свердловская область: тут текут Иньва, Койва, Лысьва, Обва, Силва, Тулва, Усьва. Вполне понятно: на этих землях либо раньше жили, либо и сейчас живут народы финского племени, в языке которых «ва» и впрямь означает «вода».
Но вот за много сотен километров к Западу, на побережье Балтики, мы встречаем гидронимы Нева, Нарова... Ах, как хорошо: очевидно, и в именах этих рек то же самое «-ва» — «вода»!
Хорошо, да неверно. Имя Нева взято действительно у финнов, но у финнов западных, слово «нва», значащее «болото». У этих финнов «вода» никогда не именовалась «ва»; у них вода — «вéси»... Ничего прямо {251} общего с восточно-финским «ва» у имени ленинградской красавицы нет.
А Нарова? И это слово западно-финское. В языке вепсов «narwaine» означает «перекат», «порог». Нарова действительно изобилует порогами, на ней есть даже водопад; недаром по-эстонски она называется Нарвайоги — «порожистая река»... Вот откуда пошло слово Нарова, вот откуда и это его конечное «-ва».
В науке известны обширные работы одного этнографа, жившего в прошлом веке. Увлеченный идеей исследования гидронимов, имен русских рек, по элементам-формантам, он нашел названия, оканчивающиеся на «-ва», «-га», «-ма» и другие, типичные для рек нашего Севера и Сибири, и в Центральной Европе и даже в западных странах. Он сделал из этого вывод о том, что некогда вся эта огромная территория была заселена «народом неведомым» (но, по-видимому, финского племени), в языке которого звукосочетания эти имели значение «вода», «река».
А мы с вами уже видели, что точно такие же звукосочетания могут и быть образованы иными путями, и нести в себе совершенно другие значения. Могут они принадлежать и самым разным языкам.
Среди других формантов, приписанных Смирновым «народу неведомому», оказались и сочетание звуков «-лей». Скоро выяснилось, однако, что, по крайней мере в нашем Среднем Приволжье, оно принадлежит народу вполне «ведомому», и — мордовскому и финскому языку. В мордовском языке «ляй», «лей» действительно значит «речка» или «овраг».
Но реки с именами на «-лей» текут и там, где никогда не жил в прошлом ни один мордвин,— скажем, в степях нашего Юга. Мы уже встречали названия Балаклея, Балаклей и тогда же узнали, что их последние слоги — просто русское видоизменение тюркской особой частицы «-лы». Балаклей — это тюркское «балыклы», «обильный рыбой», «рыбный»... Ничего общего с мордовским «-лей» у таких слов нет...
Оказывается, прежде чем производить чисто лингвистические выкладки и расчеты по поводу тех или других имен, как и по поводу составляющих их элементов, необходимо до тонкости изучить историю места, где они {252} встречаются. Иначе можно получить отличный теоретический результат, который развалится при первом же столкновении с действительностью.
Вот вам очень убедительный пример. Большой ученый, академик А. Соболевский, был одержим идеей о скифском происхождении значительной части русских географических названий, причем не только на юге России, где скифы когда-то на самом деле жили, но и на далеком севере.
Ученый обнаружил в тогдашней Смоленской губернии местность, которую население называет Сибирь. При помощи сложных языковедческих построений он пришел к выводу, что это имя (как и имя настоящей, большой Сибири) родственно названию одного из скифских племен, саков, и что, следовательно, саки некогда обитали и на Смоленщине.
На деле же (и это вскрывается историей) Смоленская Сибирь была некогда тем местом, куда помещики, графы Шереметевы, в виде наказания ссылали непокорных крестьян из других своих вотчин. Обычным местом ссылки была та, большая Сибирь. Это маленькое, частное место ссылки и получило то же название... Так любого злого человека награждают прозвищем Малюты Скуратова или Искариота; «саки» тут решительно ни при чем. Одна из деревень, исполнявших эту грустную роль, стала даже официально, в бумагах, называться Сибирью... Вот вам и скифы!
Так, может быть, нет особого смысла интересоваться составными частями топонимов, и, в частности, их формантами?
Как раз наоборот: их надо тщательно собирать, внимательнейшим образом изучать и исследовать, все время проверяя языковые данные историей, историю — географией, географию — археологией и археологию — языкознанием. Тогда в результате на таком четверном сите отсеется истина.
Бывает, итоги такого счетверенного изучения оказываются озадачивающими. Словари тюркских языков для слов «ак» и «кара» указывают значение «белый» и «черный». Мы с вами уже видели, что, когда заходит речь о реках и их именах, эти самые слова получают иной раз значение «горный-чистый», «равнинно-болотный». {253}
А в азербайджанской топонимике те же слова (тут они звучат, как «аг» и «гара») могут выступить в смысле «восточный» (белый; например, ветер) и «западный» (черный).
Древние тюрки (об этом рассказывает знаменитый ученый XI века Махмуд Кашгари) делили Китай на три области: Верхний Чин (Чин — это и есть Китай, Хина западных языков) — восточную часть страны, Средний Чин — Центральный Китай и Нижний Чин — Китай западный, с Кашгарией, родиной Махмуда.
На наш европейский рассудок из этого следовало бы, что Восточный Китай — гористая страна, а Западный — низменная. На деле же как раз наоборот. Для тех, кто давал такие названия, слова «верхний» и «нижний» связывались вовсе не с рельефом стран, а с тем, восходит ли, то есть «идет ли вверх над ними» солнце, или оно «закатывается», то есть «опускается вниз». Да подумайте: и наши термины «восток» и «запад», собственно говоря, очень близки к понятиям «возвышения» и «снижения», «подъема» и «спуска»...
Какой вывод из всего этого? Топонимист должен пользоваться в своих целях не только смыслом и значением имен мест как целых слов. Он должен принимать в расчет и их части, вплоть до отдельных звуков, из которых они состоят. Но делать это он должен всегда крайне осмотрительно, все время проверяя себя и свои выводы данными всех доступных ему наук.
И тем не менее в основе всего должно лежать языкознание. За долгие века своего существования, а еще сильнее — при переходе от народа к народу, из языка в язык и целые слова-названия и их составные части испытывают (мы это видели) чрезвычайные изменения. Селькупское Кы — река, превратилось в русское Ки-я — имя реки с окончанием существительных женского рода. Тюркское «-лы» — в Балыклы (а это «-лы» является совершенно определенной грамматической частицей тюркских языков, их «послелогом»), выступает у нас в виде русского «-лей» в топониме Балаклей... Можно было бы привести примеры и несравненно более сложных и причудливых изменений. Судить о таких превращениях может только ученый-лингвист, отлично знающий законы, по которым звуки речи меняются, переходя из такого-то языка в такой-то (они для всех {254} языков различны). Не языковед обычно склонен думать, что таких законов не существует. Как насмешливо писал когда-то критик Н. Добролюбов о выдумках ономатолога-любителя А. Вельтмана, не языковед полагает очень часто, «что всякий гласный может превращаться во всякий гласный, всякий согласный во всякий согласный» и что даже «гласные превращаются в согласные и наоборот». Такой горе-исследователь теряет руль и направление, начинает связывать друг с другом слова, не имеющие между собою ничего общего, сбивается сам и, что хуже, сбивает с панталыку других.
Мир полон топонимическими ребусами и шарадами. Разгадывать их могут только знающие, широко образованные специалисты. Но, чтобы вести эту работу, им нужен как можно более обильный, хорошо собранный, правильно записанный материал.
Вот собиранием такого материала может заняться каждый трудолюбивый, грамотный, получивший первые представления о топонимике и полюбивший ее человек. Ну хотя бы вы, мой читатель.
При этом надо иметь в виду еще вот что. Труд собирателя вовсе не должен быть подобен работе крыловского петуха, который, «навозну кучу разрывая, нашел жемчужное зерно». Собиратель не должен гнаться за редкостью, странностью, оригинальностью топонимов. Самые обычные, «скучные» названия: Борисовка, Васильевка рядом с Борисово и Васильево могут заинтересовать топонимиста куда больше, чем какая-нибудь река Мама Левая или мыс Орангутанг на Беринговом море. (См. стр. 148.) А ведь весь этот материал далеко еще не собран. Он не только лежит у нас буквально под ногами без внимания; он распыляется, исчезает, уносится, выспренне выражаясь, Рекой Забвения в Море Ничтожества. Его надо сохранить: через двадцать-тридцать лет воскресить его станет уже немыслимым.
К этой работе надо привлечь целую армию молодых, умных, понимающих, что от них требуется, помощников науки, ее снабженцев, ее заготовителей — тех, из которых потом могут выйти и ее генералы и маршалы.
Для них я свою книгу и писал. {255}
Поговорим
о красоте
Ученые очень редко склонны заводить разговор о том, красивы или некрасивы те предметы, которые они изучают. Астроному нет никакого дела до того, что Сириус переливается всеми цветами радуги, а какая-нибудь звездочка Мицар в Большой Медведице чуть мерцает на фоне черной пустоты: может быть, для него она во много интереснее знаменитой охотничьей собаки ловчего Ориона — Сириуса.
Иной зоолог распалится гневом, если кто-нибудь, узнав, что его специальность — паразитические черви-сосальщики, покачает головой: «А почему бы вам было не заняться бабочками или птичками-колибри: они же — красивее!» И археологи не любят невежд, воображающих, что цель раскопок — находить мраморные статуи и золотые сосуды; специалисты по ископаемому прошлому человека ничуть не менее дорожат ржавыми гвоздиками, кусками полуистлевшей бересты, а то и просто мазочками буро-красной краски, охры на полу древнего жилища...
Конечно, ученые правы: «красивое» во всех областях науки отступает перед существенным, важным, полезным для ее развития и для познания мира. Вполне возможно, что жизнь фазана-аргуса не так необходимо изучить немедленно, как жизнь мерзких тварей, поселяющихся внутри живых организмов, грызущих их и ведущих к гибели. Очень вероятно, что самые стократно повторяющиеся, ничем не примечательные на взгляд и слух названия селений и урочищ могут дать топонимике не меньше, а больше, нежели странные и редкие — Африкáнда (Мурманская область) или Малые Вражки, Шбий Колпачóк — тож. (о нем рассказывает языковед А. Селищев).
Все это так. И все же, во всяком случае пока мы с вами еще не стали учеными, желание поговорить и о красоте географических имен может быть признано не только простительным, но даже разумным. Законным.
В самом деле: будь топонимика наукой чисто теоретической, какое было бы ей дело до этой красоты? Но ведь мы хотим, чтобы топонимистов призывали на помощь и для чисто практических работ: для того, чтобы они советовали, какие новые имена давать нашим вновь рождающимся городам, поселкам, морям, каналам, ка-{256}кие старые имена можно (а порой даже следует) изгладить из народной памяти, какие, наоборот, надо сохранить так же, как мы сохраняем церкви Покрова на Нерли, Спаса-Нередицы под Новгородом или Поганкины палаты во Пскове...
А ведь мы хотим — и по праву хотим! — чтобы имена мест страны, в которой мы живем и которую любим больше жизни, были достойны ее облика — ее могучих рек и ее тихих рощ, ее белокаменных древних городов и колоссальных бетонных новостроек, ее весенних сумерек и плодоносных июльских полдней... Они должны быть красивыми именами...
Не уверяйте меня, что вам безразлично, как называется улица, на которой стоит ваш дом: Улица Красных Зорь, как в Ленинграде, или Малая Живодеровка, как бывало во многих заштатных городках дореволюционной России... Приятно жить на станции с именем Серебрянка или Серебряный Бор; далеко не так уж радостно обитать в поселке Ивановы Портки или Козья Свалка.
Ну, если такое имя — остаток седой старины, может быть, с ним, по зрелом размышлении, следует примириться: памятники далекого прошлого не обязаны быть изящными на наш взгляд и вкус. Но от новых имен, создаваемых сегодня, мы вправе требовать и ясности, и высокого умного смысла, и благозвучности, и красоты; требуем же мы, чтобы новые наши города были образцами не только удобства и целесообразной планировки, но блистали и прелестью чисто архитектурной.
А все эти требования не всегда легко сочетаются, особенно когда создает имена не народ в многовековом течении исторической жизни своей, а отдельные люди, «называтели» — сразу вдруг, «слабым манием руки».
Вот вам несколько примеров.
В свое время Петр I, великий любитель всякой иноземщины, дал два немецких имени городкам, лежащим к востоку и к западу от Петербурга: Шлиссельбург (Ключ-город) и Петергоф (Петров двор; двор в смысле «дворец» плюс все его наполнение: придворные, дворцовые службы и хозяйство и т. п.).
Можно было бы упрекнуть Петра во многом: зачем было принимать немецкое название для крепости, защищающей Невское начало, если у нее было старое, {257} умное и милое русское имя Орешек? Это «Орешек» говорило и о неколебимой твердости укреплений, и о растительности в окрестностях твердыни. Финны издавна звали Орешек Пахкиналинна, Ореховая крепость; Ладожское прибрежье изобиловало зарослями лесного ореха, лещины. Но с Петра взятки гладки.
А вот, спрашивается, зачем и почему после Великой Отечественной войны, когда вознамерились очистить окрестности Ленинграда от излишней иноземщины, старому городу не вернули допетровское имя, а наградили его чудовищным по сложности и неблагозвучию названием Петрокрепость?
Оно звучит не по-русски: «крепость» никогда не соединяется в наших топонимах с урезанным личным именем основателя; Петроград, Ленинград — возможные сочетания; Петрокрепость или Петросело, Петрохутор — немыслимы.
Оно не поддается никакому грамматическому словопроизводству. В Ленинграде живут ленинградцы, во Пскове — псковичи. А ну-ка, кто живет в Петрокрепости? Петрокрепостяне? Петрокрепостники?
Оно безобразно во всех отношениях: я не завидую тому, кто обессмертил себя созданием этого топонимического урода. Он воздвиг нерукотворный памятник собственному безвкусию и нечуткости к законам русского языка.
Еще хуже с Петродворцом. Вместо откровенного немецкого, исторически объяснимого имени, прикрепили к городу его точную и неправильную кальку — рабскую передачу слова по частям. А это всегда опасно: нельзя русское «поднос» переводить немецким «унтерназе», хотя «унтер» — «под», а «Назе» — «нос».
И вот уже звучит уродливое производное: «Петродворцовый район»; и вот уже опять-таки неведомо, как назвать того, кто живет в Петродворце — петродворецким, что ли? А ведь город прекрасен! А ведь это город-музей, памятник эпохи, жемчужина архитектуры XVIII века... Допустимы ли такие грубые и смешные огрехи?
Когда имена местам дает народ, он не делает таких ошибок. Он может придать имени высокое и торжественное звучание, отразить в нем великие события своей истории, увековечить память своих любимцев и героев... {258} Господин Великий Новгород, Старая Русса, Красная площадь, Крещатик, Кремль...
Он может отозваться на ласковую прелесть родной природы: Лосиный остров, Черемушки, Подвишенки, Красная Горка, Струга-Гридица (река в Великолуцкой области), Малиновая Вода — чудесные имена, не правда ли?
Но он же может, осердясь или впав в лукавство, приклеить к месту имя ничуть не менее выразительное, но полное иронии или гнева, дышащее веселым запанибратством и насмешкой, то безобидной, то негодующей... Таковы Собачья площадка или улица Матросская Тишина в Москве, московское же имя Разгуляй (место, где встречало приезжих «общедоступное царское кружало» — кабак), петербургский остров Голодай, такие черные, жуткие имена, как Пропойск (Могилевская область), Злодейская (под Ростовом на Дону), Нища — на юге Псковщины, Мироедиха на реке Таз...
А Никола на Курьих Ножках, а Николоболвановка, а Божедомка или — точно рукой махнуто на всякую святость — Якиманка вместо «Улица с церковью святых угодников божиих Иокима и Анны»? Поистине «то разгулье удалое, то сердечная тоска» звучат во всех этих бесчисленных памятниках народного творчества.
Это свойство не одного нашего народа. И за рубежом имеются сходные имена, и такие и этакие. Есть там на их вкус и манер пышные и громозвучные названия: Сиудад де Рио-Жанейро, город Январской реки, Консоласион-дель-Сур — Утешение Юга. Но имеются, как мы уже видели, и Мон-Долан (Гора Тоски) рядом с Монт-Роз (Розовой горой) и Грейт Мизери Айлендс (Острова Великой Нищеты), одновременно с городом Просперити (Процветание) в Соединенных Штатах. Были даже деревни Ангст унд Нот (Страх и Нужда), а также Иррендорф (Болвановка) в Германии. Впрочем, последнюю потом переименовали: к сожалению, мне неизвестно, как именно...
Какими бы ни были народные имена, они действительно передавали чувства и думы множества людей, отражали подлинную жизнь, говорили о времени и {259} месте, дышали гневом и гордостью не одного человека, а многих. И если любой народ задавался целью создать красивое имя, он делал это на заре своей юности с той же легкостью, с какой слагал свои песни, вырезывал из дерева и кости необыкновенной тонкости и прелести узоры, плел великолепные кружева, про которые пишут целые книги, но о которых никто не может сказать: этот рисунок выдуман такой-то женщиной или таким-то мужчиной. Он придумывал имена, как движения огненных танцев и расцветки превосходных тканей, словом, как творил всю свою культуру.
Нам теперь, прежде чем начать соперничать с ним, надо у него основательно и вдумчиво поучиться.
Однако, прежде чем говорить о красоте имен, надо установить, о какой именно красоте мы думаем.
Речь пойдет не о внешней прелести звучания, не о благозвучности имен. О благозвучии не легко договориться. Народы говорят каждый на своем языке; языки обладают своими, совершенно разными, системами звуков, своими понятиями о их прекрасных и уродливых сочетаниях, часто недоступными их ближайшим соседям.
Сравнивать звуки одного из них со звуками другого и утверждать, что наше русское «ы» некрасиво, а вот турецкий «гайн», который, по словам самих турков, представляет собой нечто среднее между тем звуком, какой издает теленок, подзывая свою мать, и тем, какой слышится из уст неверного, когда его тошнит после выпитого вина,— прекрасен или наоборот, бессмысленно. Мы часто любим выдавать свое национальное за всеобщее. А ведь с точки зрения папуаса какая-нибудь всесветная красавица, этакая «мисс Европа» или «мисс Америка», может казаться бледной немочью, и, наоборот: папуасская Венера никак не восхитит европейца.
А бывает и другое: нас нередко пленяет именно все чуждое, странное, непривычное — какое-нибудь неслыханное блюдо китайской кухни, какой-нибудь фетиш или маска с берегов озера Чад. Такое же происходит и со словами незнакомых языков: мы порою слышим их, не понимая значения, и воспринимаем как своеобразную музыку, совсем не так, как воспринимают произносящие их люди. {260}
Один очень слабо знавший русский язык латыш уверял меня, что язык наш весьма похож на итальянский. В доказательство он произносил «очень красивый русский слово: «Абкна-вéнна», в котором я с великим трудом мог узнать наше самое обыкновенное «обыкновенно».
Помню, как я был разочарован в детстве, когда узнал, что звучная, аристократически пышная фамилия героя известного романа Понсон дю Террайля «Рокамболь» по-французски означает не что иное, как «чеснок»... Сладкозвучность фамилии после этого сильно потускнела в моих представлениях: какая уж тут красота, если «чеснок»?
Так же и с именами мест. Название колумбийского городка Баррáнкавермеха звучит для нас торжественно и высокопарно, как имя какого-нибудь высокопоставленного гранда из Кастильи и Арагона. Но стоит узнать, что оно по-испански означает нечто вроде «Красный овраг» или даже «Червивый овраг», мы волей-неволей начинаем думать о нем по-другому, не так ли?
Точно так же англичанину или французу может показаться самым красивым из наших имен мест какое-нибудь Пошехонье или Чухлома, а ведь мы к ним так ни с какой стороны не относимся...
Нет, фонетическую красоту, благозвучие лучше оставить в стороне: устраивать мировой чемпионат по этой части и трудно, и даже просто невозможно. Обратимся к красоте смысла имени, но и тут придется сделать оговорку.
Мы не должны иметь в виду сейчас то, что можно было бы назвать глубокомыслием или благородством содержания имен. Топонимы бесспорно «правильные», содержащие высокую идею или очень точные по своему содержанию — ну, скажем, американское Либерти или африканское Либерия — «свобода», наши Дружба или Мирный — это имена особого рода и класса, о них надо судить с особых позиций. Сейчас же меня интересуют другие названия — те, в которых проявляется именно чувство красоты, те, которые основаны на образном представлении о прелести природы, о замечательных особенностях того места, которое человек называет, словом — отмечены отношением к нему, свойственным людям чутким и тонким, поэтам в душе. {261}
Альберт Доза, один из немногих топонимистов, коснувшийся этой стороны всемирной системы географических имен, обронил как-то мысль, что, по его мнению, на великом конкурсе красоты одно из первых мест могло бы занять название скромного озерка (может быть, даже прудика) его родной Франции: Экут с’иль Плё, то есть: «Прислушайся, не идет ли дождь?»
Спорить немыслимо — замечательное имя! Так и видишь тихую, темную, настороженную воду, о которую первые капли дождя ударяются с нежным, усиливаемым эхом, шумом. Еще ни глаз ни кожа не замечают этих капель, а чуткая мембрана прудовой поверхности уже отозвалась на их прикосновение и передала его милый ропот внимательному слуху... Прелестное имя, и оно, бесспорно, заслуживает очень высокой эстетической оценки: его дал маленькому водовместилищу человек с душой художника и друга природы.
Но имя это не одиноко в мире. Очень далеко от того прудика, в американском штате Минесота, есть другое озерко. Оно лежит в США, но названо тоже французом (французы были первыми колонизаторами этих мест). Оно зовется не менее поэтично: Лак-Ки-Парль, «Озеро, которое говорит»...
Прислушайтесь: разве до вас не доносится негромкий, но ясный ропот маленьких волн, бормочущих между корнями лесистых берегов, плеск рыбы в тихих заводях, покрикиванье чаек — тот смутный шелест и ропот, который можно услышать, вероятно, на множестве таких же, укрытых от всего мира, лесных водоемах? Разве не хочется вам хоть раз в жизни послушать, как и что «говорит» это озеро? Разве оно не стало милым для вас по одному своему имени? Ну, что ж? Честь и слава тому, кто такое имя придумал!
И вот из американской Миннесоты я переношу вас на русский северо-восток, на суровую уральскую реку Вишеру. Поднимаясь вверх по Вишере в лодке, вы видите на правом ее берегу отвесный срез темно-серого утеса, громаду, поднявшуюся высоко над водой... И в тот же миг вы широко раскрываете глаза. Стоит раздаться малейшему звуку — удару весла, плеску, голосу — тысячи óтгулов поднимаются над рекой, мечутся, сталкиваются, нарастают, как лавина, убегают за излу-{262}чины берега, возвращаются обратно, перекликаясь и повторяя друг друга, точно в расселинах и деревьях спряталась целая толпа, целая ватага наблюдающих за вами взволнованных людей...
Вообразите, как это сначала испугало, потом поразило, потом привело в восторг того из наших предков, кто впервые пробрался сюда! Его чувства были свежи и искренни. Его смущение, удивление, восхищение отразились в имени места. Люди назвали его Говорливый Камень... Образно и поэтично, ясно и точно до предела.
Говорливый Камень и Разговорчивое Озеро... Вот бы им лежать рядом и вести таинственную беседу на неслыханном языке утесов и вод:
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома, —
Я скажу вам, я отвечу...
Г. Лонгфелло
«Песнь о Гайавате»
А впрочем, может быть, лучше, что они разделены континентами и океанами. Ведь это значит, что всюду и везде живут люди-поэты и прекрасные имена могут возникать на всех языках Земли.
***
Те, о которых я рассказал вам только что, кажутся милыми, ласковыми, спокойными. Но бывают и совсем другие.
Водопад Ниагара принадлежит сегодня двум государствам, населенным людьми дела, уделяющими, пожалуй, не так уж много внимания прелестям и чудесам природы. Но надо отдать им честь, для своего «главного чуда» они сохранили имя, приданное ему исконными хозяевами страны задолго до прибытия в нее бледнолицых истребителей.
Слово «Ниагара» по-индейски значит: «Высоты грозного гула». И я, кажется, вижу того отважного {263} краснокожего, который, пробираясь по девственным чащам родных лесов, когда еще и индейцы не знали всех тайн своей страны, вдруг насторожился, встревоженный... Туч на небе не было, в воздухе не пахло гарью далекого пожара, но чем дальше продвигалась кучка бронзово-красных охотников по нехоженому лесу, тем громче, тем непобедимее вырастала впереди волна непонятного рева — тяжкий, ни на минуту не прекращающийся рык. Может быть, это Гитчи-Манито, Великий Дух, попал в гигантский медвежий капкан и крушит все вокруг себя в дикой ярости?
Нет, то не был Гитчи-Манито! Люди прошли сквозь густую поросль и увидели небывалое чудо — воду, ставшую на дыбы, с ревом падающую в бездну.
С тех пор протекли века, а та вода все так же падает в ту же пропасть. Нет, кругом не осталось уже ни девственных лесов, ни древнего безмолвия. Нет там больше и краснокожих хозяев Америки, благородных индейцев. Осталось только имя, данное ими. Точно волшебством, оно рисует нам черты духа его создателей, их душевную чистоту, варварскую чуткость их слуха, обращенного к природе... Ниагара! Высоты грозного гула... Разве не чудесно?
По другую сторону Атлантики природа, как известно, создала второй, ничуть не менее могучий и поразительный каскад. Англичане, завоеватели страны, дали ему плоское и пошлое английское имя: водопад Виктории. Смешно! Что общего у гиганта, миллионы лет рвущегося в стодвадцатиметровую бездну, с маленькой тридцатишестилетней англичанкой, сидевшей спокойно и благоразумно на английском троне в том 1855 году, когда Давид Ливингстон впервые подошел к великой расселине Замбези?
Я не хочу сказать ничего плохого об этом мужественном и добром человеке, но все-таки он был английским пастором-миссионером. К его чести следует напомнить его же собственные слова: «Водопаду этому я присвоил имя Виктории, единственное английское имя, которое я осмелился дать какому-нибудь африканскому месту...» И то хорошо!
Задолго до середины XIX века у могучего африканского титана уже было другое, настоящее имя: оно вполне подходило ему. {264}
В дремучих лесах канадско-американского Севера водопад Ниагару нельзя было, несколько веков назад, увидеть из такой дали, чтобы прежде до тебя не донесся его яростный рев; естественно, что имя и возникло из этого гула. Тут же в Африке саванн, еще ничего не слыша, люди за много миль видели уже стоящий до облаков над лесами колоссальный столб водяных брызг и тумана, поднимающийся ввысь, как дым над кратером вулкана.
«Мы находились в 17 километрах от Ливингстона (так называется поселок на берегу Замбези.— Л. У.),— пишут чехи-путешественники И. Ганзелка и М. Зикмунд,— когда вдоль просеки в сухом колючем кустарнике увидели огромную тучу водяных брызг, резко выделявшуюся на чистом синем небосводе...»
Точно так же, без всякого сомнения — сначала облако паров, и только затем звук, поглощаемый здесь узкой щелью бездонной пропасти — увидел водяную лавину, десятки столетий назад и первый древний африканец, приблизившийся к ней. И имя, данное ей на величавом языке макололо, говорило поэтому не о звуковых, а о зрительном впечатлении человека. Ниагару окрестил слух; Моси-оа-Тунье — «Дыму, который гремит» — принесло название зрение. Во всяком случае, началось с него...
Мы не только надеемся, мы совершенно уверены, что названию «водопад Виктория» осталось недолго существовать на картах мира. Скоро оно уступит место имени истинному и исконному, созданному народом, который имел полное право нарекать реки, озера и водопады Африки! [83]1 Это и справедливо по-человечески и разумно {265} с точки зрения топонимики: «Дым, который гремит» или водопад Виктории — какое же тут может быть колебание?
Маленькое замечание по пути: любопытно, какое большое впечатление производило на древнего человека все, что казалось ему похожим на созданный природой дым. В мире несчетное множество названий обязано ему, хотя предметы, так названные, очень мало походят друг на друга. Смотрите сами.
Мексиканский вулкан Попокатепетль. Имя значит: «Гора, которая курит».
Древняя форма имя Везувий было Монте Физовио — «Дымящийся».
Курилы (острова), по мнению некоторых ученых, получили свое название по русскому глаголу «курить», «куриться».
Рейкьявик — столица Исландии. Слово тоже означает «курящаяся бухта», от скандинавского «рейкъя» — «курить» и «виг» — «бухта».
Если даже эти имена и не принадлежат к чемпионам красоты, их все же стоит признать выразительными и образными.
Канто Дель Агуа — «Песня воды» в чилийских Андах и Нарзан — «нарт-санэ», то есть «Питье богатырей»,— имя источника на Северном Кавказе; Тянь-Шань — «Небесные горы» [84]2 на границе СССР и Китая, Белу-Оризонте («Великолепный кругозор») и Трэс Корачос («Три сердца») в Бразилии — все это, разу-{266}меется, соперники на великом конкурсе топонимических красавцев, который следовало бы провести во всех странах мира.
А чем плохо имя Чосен — «Страна утренней свежести», так корейцы называют свою родину. Услышишь его, и кажется, в лицо тебе пахнет чистый воздух моря и гор в тот ранний час, когда солнце спокойно поднимается из легкой дымки над Японским морем, и Корея, одна из первых на старом Евразийском материке, ощущает на своем челе дыхание тихоокеанского чистого бриза...
А наши русские имена? Кажется, никто и никогда еще не обследовал их с точки зрения их красоты, а очень стоило бы это сделать. Ведь люди распределяют прекрасные названия, вовсе не считаясь с политической или государственной важностью места: самые теплые, самые светлые и радостные имена — все эти Экут с’иль Пле и Лак ки Парл’и принадлежат не горным цепям, а тихим озеркам, ласковым долинкам, веселым лужайкам и полянам, которые они знают как свои пять пальцев, которые внушают им теплые, почти родственные чувства. Таких имен у нас несчитаное (и, к сожалению, никем не учтенное еще) множество.
Уже старые былины рассказали нам про прелестную речку Смородинку — название и поэтическое и точное; вспомните Сестру-реку под Ленинградом; ее финское имя тоже было «Смородинная река»... Красивая Меча, Золотая Липа (река в Западной Украине), Сердце-Камень (мыс на Чукотке), Серебряный Бор под Москвой — разве перечислишь их все?
А топонимы и гидронимы народов СССР? Сколько среди них ничуть не менее очаровательных, грозных, торжественных — прекрасных имен!
Оно конечно: красота — понятие очень сложное. Когда речь заходит о красоте, так легко, гоняясь за ней, перейти ту границу, которая отделяет прекрасное от миловидного и милозвучного, изящество от вычурности, настоящее чувство от мармеладной сладости. А. Доза гневно говорит о множестве претенциозных, ложно красивых имен, которые владельцы земель дают теперь во Франции береговым утесам возле модных пляжей, рощам около водолечебных заведений да и просто дачным участкам — ради рекламы, стремясь пленить людей {267} с тугим карманом и плохим вкусом. Нейл-Плэзáнс (Нейл-развлечение), Фоли-Реньо (сумасбродства господина Реньо), Монплезир (мое наслаждение) — что может быть противнее?!
Как ни огорчительно, такие же марципанные названия пробивают себе дорогу и у нас. На Карельском перешейке появилось несколько озер, названных одинаково Красавицами (они ничуть не красивее соседних, тоже очаровательных водоемов).
На любом курортном берегу вы найдете Золотой пляж — точно такой же, как рядом лежащие обыкновенные пляжи; обнаружите поселки Солнечные, где солнечных дней ровно столько же, сколько справа и слева от них...
На днях руководители одного советского учреждения любезно познакомили меня со множеством писем, авторы которых рекомендуют названия для новых улиц замечательного городского района, сооружаемого в нашем городе, — того района, которым Ленинград будет обращен к морю, к заливу, района его Морских Ворот.
Составители этих писем от всей души старались. Они выбирали самые, с их точки зрения, красивые понятия и представления. Но не всегда эти понятия хорошо укладываются на план великого города на Неве, не всегда гармонируют с его строгим, четким, торжественным и пышным обликом...
Предлагается две площади, выходящие к морю, назвать площадьми Белых Ночей и Алых Парусов... Ну что же, может быть, это и не плохо, хотя чуть-чуть слишком красиво.
А рядом целому строю не длинных улиц советуют дать «цветочные» имена: улица Роз, улица Сирени, улица Нарциссов, улица Жасмина...
Казалось бы, очень даже хорошо. А в то же время не слишком ли много благоухания? В романе Ф. Достоевского «Село Степанчиково» фигурирует некий крепостной человек Видоплясов, самоучкой выучившийся писать стихи. Он стесняется своей фамилии: «Поэт — и вдруг Видоплясов», и придумал заменить ее на другую — Эс-Букетов... Были тогда такие духи... Так вот, не станет ли городской район, район того города, в котором еще Пушкин любил его «стройный, строгий вид», города, рассеченного на части «державным» (именно — {268} державным! Слово-то какое!) теченьем Невы, не станет ли этот парфюмерно-оранжерейный район с такими улицами чем-то прямо противоположным и этой строгости и этой державности? Не повеет ли от него этаким «Эс-Букетом»? Я не спорил бы, если бы подобные названия зазвучали где-либо в новом дачном городке, если бы их роздали аллеям или дорожкам Парка Отдыха... Но тут, в Ленинграде? Как вам самим кажется, дорогие мои читатели? Бантики и кружева, даже самые лучшие, уместны на бальном платье. Но подойдут ли они к шинели воина, к бушлату матроса, к сюртуку академика, к рабочей блузе мастера в цеху? А ведь это и есть истинные ленинградцы!
***
Есть и еще одна опасность. Она встает на пути тех, кто любит давать географическим местам чрезмерно сложные, многословные или связанные со слишком возвышенным содержанием и смыслом имена.
Русской топонимике многословные названия мало свойственны. Мы не знаем имен, напоминающих по строению французское Экут с’иль Пле, имен-предложений. Названия, состоящие из нескольких слов, у нас либо просто исчезают (как исчезли в Ленинграде улица Третьего Июля, проспект Двадцать Пятого Октября, площадь Жертв Революции), либо же язык народа обкатывает и оглаживает их при бесчисленных повторениях, как морской прибой обкатывает остроугольные камешки, превращая их в круглую, гладкую гальку. Да так случается и не только у нас.
Ревностные католики, испанцы XVI века, высадясь в устье Рио де ла Платы основали город и назвали его, по их тогдашним понятиям, великолепным, благочестивым именем:
СИУДАТ ДЕ ЛА САНТИССИМА ТРИНИДАТ
И ПУЭРТО ДЕ НУЭСТРА СЕНЬОРА
ДЕ БУЭНОС АЙРЕС
Это значило дословно: «Город святейшей троицы и гавань нашей владычицы божьей матери попутных ветров»... Такое имя я мог бы с полным правом поставить {269} в один ряд с Лланфайр’ами и Гунгамаугг’ами страниц 199 и 238-й.
Но вот прошло четыреста тридцать лет, и что осталось от этого пышного велеречия? Уже давно непомерное имя превратилось в двухсловное Бунос-Айрес — таким знаем его и мы с вами. Испанцы, возможно опасаясь греха, не пошли бы дальше в сокращении. Но в дело вмешались безбожные янки; в их устах даже это вполне приемлемое словосочетание не умещалось удобно. Они переделали его в совсем краткое, на сто процентов бессмысленное, но удобное в обиходе Байрес.
И сами испанцы приняли новое имя: не для бумаг и письменной речи, но для употребления в быту.
Русский язык особенно рьяно сопротивляется существованию имен составных, образованных из нескольких слов. Он очень быстро превратил грозное Санкт-Питер-Бург в запанибратское Питер. Он упорно старается превратить немецкое сложное Ораниенбаум в матросское лаконичное Рамбов (ни один моряк-балтиец не скажет иначе). Про эту склонность нашего языка никак не следует забывать тому, кто хочет дать месту имя с расчетом на долгую жизнь.
Надо помнить и вот о чем. Слово может иметь самый высокий смысл. Имя человека может принадлежать величайшему герою, гениальному ученому. Они могут вызывать благоговение и трепет. Но как только это слово или это имя превращаются в название места, к ним устанавливается совсем другое отношение...
Так бывало всегда. Благочестивые люди называли свой посад Троице-Сергиевским. Спустя сто лет все уже называли его просто Троица. А затем каждый день на базаре или в трактире можно было услышать совсем не благочестивые слова: «Ну, брат, ваша Троица — такая дыра!» или «Занесла меня нелегкая в эту разнесчастную Троицу...»
И даже сами священники не видели в этом ничего предосудительного: а как же иначе? Ведь теперь «Троица» уже значило: такой-то посад, и только!
В далеком прошлом имена городов, сел, улиц возникали стихийно, и предупредить такие неожиданные повороты в их судьбе было просто немыслимо. Но теперь-то мы можем и должны предусмотреть их. {270}
Мне не слишком приятно слышать, как, доезжая до площади Льва Толстого в Ленинграде, добрая часть пассажиров автобуса, проталкиваясь вперед, ничего плохого не думая, спрашивает, постукивая передних в плечо: «Вы на Льва сходите?» Столь же странно и в Москве, подъезжая к площади Борьбы, публика осведомляется на разные лады: «На Борьбе сойдете?», «На Борьбы — сойдете?», «На Борьбу слезаете?». А ведь ничего с этим не поделаешь, раз уж существует такое имя. И вот то, что должно было бы служить к возвеличению человека, события, подвига, начинает только принижать его. Большая мысль превращается в разменную монетку слова, и она ходит-ходит по рукам, пока не потеряется.
Тот, кому выпало на долю дать хотя бы одно-единственное имя одному-единственному месту, должен твердо помнить: для этого нужны и знания, и вкус, и предусмотрительность, и осторожность, осторожность — прежде всего... {271}
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО?
Как бы точно автор такой книги, как моя, ни планировал свою работу и ее материал, подводя ее к концу, он замечает множество фактов, о которых не успел сказать, уйму мыслей, для которых не нашел места... Что же, так и оставить их за бортом, до следующей книги?
Всего, конечно, не восполнишь и не охватишь. Но мне пришло в голову добавить ко всему, что я рассказал вам, еще одну главку — бесплановую. Не ищите в ней никаких откровений, никаких особо ценных сведений. В ней вы найдете несколько сообщений, которые мне показалось досадным откладывать на будущее. Несколько в меру забавных и в какой-то степени поучительных топонимических анекдотов. Я смело употребил здесь это слово не в его обычном смысле, а в том значении, в котором оно стоит у Пушкина. Помните? Евгений Онегин «Дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил... в памяти своей». Вот о таких именно анекдотах — любопытных историях из прошлого и настоящего географических имен — я и думаю теперь.
А впрочем, сейчас вы сами увидите, что это за истории. Пусть они послужат не продолжением того, о чем вы уже узнали, а как бы некоторыми примерами, иллюстрациями к нему. {272}
В. К. Арсеньев перечисляет в своих книгах множество интересных географических имен нашего Крайнего Востока. О некоторых я уже вам рассказывал.
Пришлось ему побывать во время его путешествия по дебрям Уссурийского края и в долине, называемой Стеклянная Падь.
Что такое Падь, мы с вами уже знаем, но почему эта падь получила имя Стеклянная?
Попробуйте задать этот вопрос своим друзьям, начинающим топонимистам. Одни из них наверняка, подумав, предположат: вероятно, воздух в той долине отличается особой прозрачностью — как стекло. Другие скажут: стоит посмотреть, нет ли по склонам ее каких-либо интересных выходов стекловидных горных пород, не блестят ли там листики слюды или кристаллы кварца?
Но — так по крайней мере думаю я — никакой, даже самый хитроумный толкователь не сумеет путем таких размышлений добраться до истины. Потому что причина возникновения этого названия — чистейшая случайность: наткнуться на нее может только тот, кто либо сам присутствовал при его появлении, либо уже узнал о нем от свидетелей-очевидцев.
По словам Арсеньева, долина была названа Стеклянной потому, что некогда, не так уж давно, но и не вчера или позавчера, в XIX веке, случилось одно пустячное событие. Кто-то, построив в этой Пади небольшую избушку-фанзу, в одно из ее окон вставил не рыбий пузырь, как делали тогда на далеких окраинах России, не прозрачный деревянный ставень, а осколок самого настоящего стекла.
Стекол было сколько угодно в Петербурге, Москве, во Владивостоке и Хабаровске, даже в самых малых русских деревнях. Но тут они были невиданной редкостью. Этот кусок стекла произвел огромное впечатление на окрестных звероловов: глухая падь в тайге, и вдруг — фанза со стеклом в окне. Родилось имя: Стеклянная Падь: оконное стекло оказалось самым главным, самым необыкновенным ее признаком...
Топонимист должен всегда помнить: люди называют место обычно именно по тому признаку, который отличает это место в их глазах от всех остальных. Но {273} признак этот может быть совершенно случайным, кратковременным... Пройдет несколько лет — и поди докопайся до него.
Есть во Франции лес, который носит имя «Лес Повешенного Волка» — «Буá де Лу Панд». Возможно, когда-то какой-то волк там и верно был повешен, но когда, какой, почему, мы не узнаем уже никогда.
Так во Франции именуется крепкий (и преневкусный) напиток, водка из перебродившего яблочного сока. Современные западные романисты почему-то очень часто упоминают о нем. Что значит его название?
Оно и значит: «Кальвадосская водка», а Кальвадос — это топоним, имя одного из департаментов Франции. Кальвадос-департамент лежит в Нормандии, на самом берегу пролива Ла-Манш. Он славен производством «сидра», любимого во Франции кваса, тоже яблочного. Все понятно?
Все, кроме происхождения географического имени Кальвадос. Странное имя: ни во французском словаре, ни в словаре нормандского диалекта Франции вы не найдете слова, от которого оно могло бы быть образовано. Так же, как со Стеклянной Падью, догадаться тут ни о чем невозможно, тут надо знать, откуда имя взялось.
На одном из прибрежных рифов Кальвадоса — их там уйма! — стоит уже очень давно небольшой памятник. Чему? В 1588 году «Непобедимая армада», флот испанского короля Филиппа II, шедший завоевывать Англию, был совершенно разбит и уничтожен страшной бурей в Ла-Манше. Суда разметало по прибрежным скалам. Один из гордых кораблей был выброшен на рифы как раз там, где сейчас можно видеть обелиск в память об этом историческом событии: оно спасло Англию и уничтожило навсегда мощь испанского государства. Так вот, в честь этого события, именем того корабля был назван сначала самый риф, а затем и целая французская провинция...
Значит, корабль звался «Кальвадос»? А что это значит по-испански? Такого слова нет и в испанском языке. Имя корабля было «Сальвадóр», то есть «Спаситель», иначе говоря — «Христос»: из всех испан-{274}ских королей Филипп был самым жестоким и самым набожным католиком. Нормандцы превратили это непонятное им слово в своем произношении в «Кальвадос». И вот уже несколько столетий живет тут, на берегу Атлантики, это имя-случайность, оно же — имя-ошибка... эрратоним! [85]1
Лю-Ки и
„Барракута”
Моряки нередко называют тот или иной пункт на побережье моря именем судна, впервые его посетившего: залив Астролябии — по имени флагманского судна экспедиции Дюмон-Дервиля; пролив Бигль — в честь брига, на котором плавал в свое время великий Чарлз Дарвин; остров Аскольд у берегов Дальневосточного края, за проливом Аскольда, — по имени русского крейсера «Аскольд». Очень часто название возникает в связи с гибелью корабля у этого места: понятно, что на мореплавателей такие случаи производят всегда сильное впечатление. Таких имен — намогильных памятников немало.
В любопытной книжке Д. и Б. Крайл «За подводными сокровищами» рассказывается, например, о маленькой бухточке Лю-Ки во Флориде. Сопоставив это прибрежное имя с выцветшими записями архивных документов, охотникам за морскими кладами удалось установить: именно тут в середине XVIII века погибло судно, которое звалось как раз так: «Лю-Ки»... Водолазы и аквалангисты, ныряя, так сказать, в глубь этого топонима, обнаружили на дне большие ценности: за сокровищами «Лю-Ки» охотились давно, но никому не приходило в голову обратиться к географическим именам, как к помощникам и верным свидетелям прошлого.
На наших берегах есть немало таких мест. У дальневосточного побережья России погиб в дни Крымской войны английский военный корабль, который в разных справочниках называется запутанно, то «Барракута», то «Барраконта» (вероятно, первое имя пра-{275}вильнее) [86]2. Англичане на все карты тотчас нанесли новое имя — Барракута-Xарбор; так окрестили они бухту, где разыгралась драма.
Однако этому словесному памятнику повезло куда меньше, чем Кальвадосу: Россия не пожелала увековечить память враждебного корабля; бухта вскоре стала называться Императорской Гаванью, а после того, как последнего российского императора постигла участь «Барракуты» и он затонул в волнах революции, имя это было заменено современным: Советская Гавань.
Назвать место именем погибшего судна — куда ни шло. Дать географическому пункту название в честь и память полководца, выигравшего возле него сражение, — более чем естественно. Не знаю, согласились бы мы, если бы кто-либо предложил заменить имя Бородино на имя Кутузово, но такого «предлагателя» можно было бы понять. Но как бы вам понравилось, если бы возникла мысль город Полтаву назвать не городом Петра I, а городом Карла XII, разбитого неподалеку от него? Карлоградом? Получился бы типичный «антипамятник»!
«Такого не бывает!» — пожимаете вы плечами... А вот бывает: по крайней мере, один такой случай я могу вам указать.
В Краснодарском крае есть город Черкесск; до революции у него было другое имя — Баталпашинск. Откуда оно взялось?
В 1790 году, во время одной из русско-турецких войн, довольно сильная турецкая армия двинулась из Анапы в глубь Кубани, имея целью поднять против России кавказских горцев. Генерал Германн с тремя тысячами храбрецов напал на противника и разгромил его наголову...
Было бы понятно, если бы городок, около которого произошло сражение, был назван в честь победителя — ну, скажем, Германóполем, или хотя бы просто Гéрмановкой. Так ведь нет: его окрестили Ба-{276}талпашинском, так как имя турецкого военачальника, потерпевшего тут ужасный разгром, было Батал-паша... Поразительный случай вежливости, переходящий, как говорится, в издевательство.
Имя-позорище держалось более столетия. Когда Баталпашинск стал Черкесском, тень Батал-паши, выражаясь метафорически, вздохнула, вероятно, облегченно. Но напрасно! Город-то переименовали, а никто не вспомнил про замечательные соляные озера, лежащие поблизости. Их два, они дают ценный химический продукт — мирабилит. Они упоминаются во всех справочниках. Возьмите в руки 4-й том Большой Советской Энциклопедии — и вы найдете в нем статью: «Баталпашинские соляные озера».
Бедный, бедный Батал-паша!
Переселенцы
Что скажете вы, если прочтете такую выписку из географического справочника:
«Фершампенуаз — село, центр Нагайбакского района Челябинской области РСФСР, на левом берегу реки Гумбейки в 35 километрах от ж/дор. Магнитогорск — Карталы, у которого 13/25 марта 1814 года произошло сражение между отрядами русско-австрийской конницы (16 000 человек, из которых 12 000 русских) и французскими корпусами Мортье и Мармона. Последние двигались из района реки Эн на соединение с Наполеоном I... В разгаре боя к району Пти-Морен подошли две французские дивизии под командованием ген. Пакто, которые после неудачной попытки присоединиться к главным силам, стали отходить к Парижу...»
Я думаю, вы станете тереть глаза, себе не веря, и в конце концов скажете: «Что за ерунда!» А это не совсем ерунда... Весь этот текст, от первой буквы до последней, напечатан на странице 647-й 44-го тома Большой Советской Энциклопедии. Только...
Я взял начало статьи «Фершампенуаз» и присоединил к нему середину другой статьи, тоже озаглавленной: «Фер-Шампенуаз». Весь фокус в том, что вторая статейка начинается несколько иначе:
«Фер-Шампенуаз — селение во Франции (120 км восточнее Парижа)...» Как же так получилось? {277}
В конце концов — очень просто: кто-нибудь из офицеров, а может быть, и солдат, участников славного похода в Западную Европу, возвратившись на родину, решил в память победы под Фершампенуазом французским назвать этим же именем маленькое село в отдаленной тогда Оренбургской губернии [87]1. А возможно, и высокое начальство дошло до такой патриотической мысли. Так или иначе, идея осуществилась, и мы до наших дней имеем в составе селений РСФСР и такой удивительно поименованный районный центр. Впрочем, пожалуй, довольно разумно, что район называется все же не Фершампенуазским, а Нагайбакским: местному населению было бы лишней сложностью произносить такое, и не русское и не башкирское, слово...
Я уже рассказывал о «третьем Орлеане» (считая первым Орлеан во Франции, вторым — Новый Орлеан в США), о том, который находится на Алтае. Известно, что до революции существовал Париж под Харьковом (у меня нет данных, не переименован ли он в наше время). Приходится считать, что все эти имена-переселенцы обязаны своим существованием эпохе Отечественной войны и последующих походов русских войск во Францию...
Надо сказать, впрочем, что обитатели других стран не остались в долгу у нас, русских, в этом отношении. Я уже не говорю о США, где имеется и вторая Москва и второй Петербург (в Соединенных Штатах имеются повторения-двойники чуть ли не всех городов современного мира и древнего: Мемфис и Вифлеем, Берлин и Каир). Но забавно, что есть маленькая Москва даже в Шотландии. Ее жители особенно кичатся тем, что их Москва стоит над ручьем, который носит имя Волга. {278}
До сих пор нет точного ответа на вопрос о происхождении названия средиземноморского острова, свободолюбивого Кипра. Известно, что оно древнее, настолько древнее, что, вполне возможно, создателями его были даже не древние греки, а какой-то еще более древний народ, от которого греки позаимствовали корень этого слова.
Известно, однако, также, что уже римляне превратили имя Кюпрос (так греки произносили слово Кипр) в свое «купрум» — «медь». Отсюда пошли и немецкое «купфер» — «красная медь» и наше «купорос» — целый ряд химических и технических терминов. Это вполне объяснимо: Кипр с древнейших времен был славен своими медными рудниками. Выходит, что, так или иначе, имя его имеет некоторый «производственный», «промышленный» оттенок.
Но есть топонимы и такие, которые могут быть подведены под заголовок этой небольшой главки более прямым путем и способом.
Человек издревле помечал те места мира, где он основывал свои примитивные горные промыслы и разработки, именами-этикетками, указывающими на то, что скрывается там, в недрах земли, каково богатство этих мест.
Даже в наши дни геолог, найдя на карте Сибири или Средней Азии имена, звучащие на тюркских языках близко к «демир» (железо), «гюмюш» (серебро), «алдан» (золото), настораживается. Очень вероятно, что за ними стоит память о древних разработках этих металлов. Возможно, древние обитатели страны их забросили, так как у них не было ни уменья, ни возможности добывать сокровища в бедных месторождениях или поднимать их со слишком больших глубин; но нам-то это доступно! И мы идем по топонимическим следам древней промышленности и нередко начинаем заново рыться в земле там, где тысячелетия назад от нее уже пытались отнять ее тщательно сберегаемые клады наши далекие предки...
Нет, топонимиста ничуть не удивляет, что на одном из притоков суровой Лены были обнаружены богатейшие россыпи и выходы жильного золота: ведь имя этого притока — Алдан; якуты — народ тюркского {279} племени, а в тюркских языках «алтун», «алдан» — это «золото». Можно доверять людям прошлого; они редко шутили, давая свои важные точные названия всему, что их окружало. Вот почему горы Демир-Тау, всего вероятнее, богаты железной рудой. И если место в Азербайджане, по свидетельству историка нефтяного дела К. В. Кострина, уже Низами в XII веке называл Нафталаном, то ведь мы и сейчас добываем там особую, целебную «нафталанную» нефть.
Таким образом, ясно: есть имена мест, уже века и века кричащие каждому, кто понимает их язык, о древних заботах человека, о его трудах, о его борьбе и дружбе с природой, великой матерью и великой противницей человечества. Но я сейчас хочу говорить не об этих старинных, требующих великого внимания, тщательного сбора, скрупулезного изучения, свидетелях прошлого. Я имею в виду те имена на карте Советского Союза, которые говорят о наших сегодняшних делах, о победах и достижениях нашей, современной нам, советской науки и техники.
Правда, начну я не с древности, но все же со «старости».
Когда-то меня очень озадачила одна из небольших, тогда почти окраинных, улиц Петрограда: Альбуминная. Я хорошо знал: «альбумин» — это латинское название белка, химический термин. Как же мог он превратиться в имя городского проезда? Ну, загадки тут не было никакой: улица эта когда-то вела к альбуминному заводу, расположенному у городской бойни. Тут добывали животный белок — альбумин, и название родилось само собой, просто и естественно. Теперь боен и того старого завода давно на этом месте нет, а имя улицы — вы же знаете стойкость топонимов — осталось жить и может поразить впоследствии своей неожиданностью не одного меня...
Конечно, скоро я перестал удивляться. Я обнаружил в своем городе улицы Стеклянную и Хрустальную, Фаянсовую и Глиняную — они обрисовывали район знаменитого Фарфорового и Стеклянного заводов. Я нашел в том же районе даже Глазурную улицу и Зеркальный переулок.
У нас есть Капсюльное шоссе и Лабораторное, есть Лабораторная улица и целый Лабораторный проспект. {280} Есть улицы Опытная и Политехническая, Тракторная и Турбинная, Прядильная и Кожевенная... Есть и Химический переулок... Одни имена старше революции, другие — моложе ее, но все они шаг за шагом обрисовывают рост и развитие промышленности города индустрии, города техники, города науки, города пролетарской революции.
Вот почему меня ничуть не удивляет тот (далеко не полный, конечно) перечень таких же «индустриальных» топонимов, которым я, для краткости, заменил дальнейшее изложение. Вот он.
Ан-Пéмза. Глубокая древность (городище Ан в Армении археологи относят к Х—XII векам н. э.) соединилась в этом имени с индустриальной современностью века XX. Пемза — один из необходимых нам сейчас минералов.
Апатты. (Мурман). Имя связано с именами С. М. Кирова и академика А. Ферсмана, с первыми пятилетками и первыми шагами советской химии.
Асбéст. Название было бы невозможно ни в XVIII, ни в первой половине XIX века. И минерал не пользовался большим спросом, и назывался он не асбестом, а «горным льном» или «амиáнтом».
Нефтегóрск, Нефте-Дáг (Небит-Даг). Названия, рожденные «черным золотом» — нефтью.
Торфопродýкт. (Ивановская обл.)
Фенóльная. (Фенолы — особые вещества, добываемые из каменноугольной смолы. Естественно, что такое название имеет населенный пункт в Донецком каменноугольном бассейне.)
Фосфортное. (Кировская область). Тут рядом — старые имена, связанные с добычей соли: Солигалич, Усолье. Они возникали тогда, когда ни о каких фосфоритах наши предки и не слыхали. Фосфоритное в мире типонимов их младший, но родной брат.
Хром-Тáу. (Казахская ССР). Значение имени: «Хромовая гора», а хром, как известно, химический элемент, спрос на который есть у множества отраслей промышленности — от красочной до сталелитейной и кожевенной. Имя, как и Ани-Пемза, как и Нефте-Даг, сокращенное, созданное из элементов {281} совершенно разных языков; тут — древнегреческого и тюркского — казахского.
Хромпк. (Свердловская область). В химии «хромпик» — то же, что «двухромовокислый калий». Разве не любопытно и не показательно, что в нашей стране появился поселок, обладающий таким именем? Далеко ушли мы от мира Неелова, Дырявина, Заплатова и Знобишина, о которых говорил Н. А. Некрасов.
Я подобрал эти имена только для примера; я мог бы перечислить, скажем, по одной только нефти и Нефтебад, и Нефтекáмск в Башкирии, и Нефтекýмск на реке Куме, и Нефтеюгáнск на Юганской протоке Оби, и Нефтяне Кáмни на Каспии, у берегов Азербайджана... Но это можете сделать и вы сами.
Мне не трудно добавить сюда кое-какие электропромышленные названия, скажем: Электровóз, Электропередáча, Электростáль... Я, пожалуй, и добавлю их, но не для того, чтобы увеличить список, а чтобы показать, какой различной может быть судьба даже таких вот, прямо связанных с рабочей деятельностью человека, с развитием его техники, названий.
Имя Нафталáн, как вы только что видели, живет уже почти тысячелетие: если его знал Низами в XII веке, можно поручиться, что дано оно было азербайджанскому урочищу еще веком, а то и двумя раньше.
А вот имя Электровóз, которое могло появиться на свет никак не раньше 1917 года, уже в справочнике 1940 года помечено, как «ныне — Ступино». Оно возникло, два десятилетия выполняло свою роль и затем стало ненужным. Почему возможно и то и другое? Чтобы дать серьезный ответ на этот вопрос, и нужно всемерно развивать науку о географических именах...
Масляное масло
В своем месте я говорил с вами о тех топонимах и гидронимах, которые построены по принципу «масляное масло»: река Река — Ганг и Рейн; горы Горы — Альпы и Балканы... Можно было бы приводить десятки (и сотни!) таких же, даже более сложных образований. {282}
На картах Франции значится (конечно, по-французски) река Аронна. Это уже не река Река, а река Река-Река.
Лигуры, древнейшие обитатели ее долины, назвали реку словом Ар; на их языке оно означало именно Река или Поток. Лигуров сменили на реке Ар кельты, галлы. Им было неведомо, что имя Ар уже значит «река». Они хотели по-своему назвать ее поточнее: Ар — река, Аронна, потому что у кельтов «река» звучало и как онна. Получилось «Река река». А современные нам французы, представления не имея ни о лигурском, ни о галльском языке, когда говорят об этом же потоке своей родины, называют ее Аронна-флёв или Аронна-ривьер (в зависимости от того, самостоятельно ли она впадает в море или является притоком другой реки), то есть, так или иначе: Река-Река-река...
В работах топонимистов мне попались два примера, так сказать, «рекордно-масляного масла», самых сложных нагромождений такого характера. Одно показалось мне основанным на натяжках, но зато другое выдерживает, по-видимому, критику.
Иностранные специалисты уверяют, будто нынешний наш город Сухуми, столица Абхазии, в сводках времен русско-турецкой войны 1878 года обозначался как Крепость Редут Сухум Калэ. Они добавляют при этом, что слова «крепость» (русское), «редут» — (французское) и «калэ» (турецкое) — все одинаково означают одно: «укрепление». Тогда все имя можно передать, как: «Укрепление Укрепление Сухум — Укрепление»...
Это было бы смешно: но мне думается, что неточно. Русское «крепость» можно перевести, как турецкое «калэ», но французское «редут» означает совсем не «крепость», а именно «крепостное укрепление»: в крепости Севастополь во время Крымской войны были и бастионы, и редуты, и другие виды укреплений. Кроме того, вряд ли русские офицеры середины прошлого века стали бы называть любую твердыню «крепостью-редутом»; они отлично знали, что это разные понятия. Может быть, ошибались малограмотные писаря? Может быть; но тогда это уже не интересно. {283}
А вот другой пример стоит запомнить. В Англии существует название (по-видимому, какой-то возвышенности или селения на ее вершине) Торпенгоухлл. Так вот оказывается, что оно сложено из четырех односложных слов, означавших на четырех (на четвертом, английском, это значение и сейчас сохраняется) одно и то же понятие: холм. Тор-пен-гоу-хилл значит буквально: холм-холм-холм-холм... Вот это действительно масло!
Попробуйте поискать по белу свету пусть не столь многоэтажные, но все же несколько раз повторяющие одно и то же понятие имена.
Абракадабра без
объяснений
До сих пор моим обычным правилом было: заговаривая о том или другом имени места, объяснять, что оно означает, или каково его происхождение, откуда оно взялось. А теперь я хочу продемонстрировать вам пригоршню топонимов, собранных по разным местам и принадлежащих разным языкам, относительно которых я решительно не имею представления ни что они обозначают, ни откуда взялись.
«Я не знаю» — это вовсе не равносильно «никому неизвестно». Более чем вероятно, что специалисты отлично осведомлены и в том и в другом. Человечество никогда (лучше скажу более осторожно: почти никогда) не создает вовсе бессмысленных имен, которые представляли бы собой набор ничего не означающих звуков. То есть, конечно, какому-нибудь частновладельцу в капиталистическом мире может прийти в голову идея окрестить свое земельное владение или купленное им живописное лесное озерко, наудачу вынимая из коробки кубики или ярлычки с буквами и складывая из них слова. «Мое! Как хочу, так и называю...»
Это верно. Но почти исключено, чтобы народ принял и утвердил подобное имя, а без верховной санкции народа, который захочет — признает его, а захочет — отвергнет и никогда не станет употреблять, имя места не станет именем.
Тогда тем интереснее, если кто-нибудь мне сообщит (а может быть, и кто-нибудь из вас, моих читателей) о значении и истории вот таких, несколько забавных на слух и, по-видимому, довольно трудно понимаемых русских топонимов. {284}
Молодой Туд (Калининская обл. Река и село). Я о нем уже говорил.
Козья Свалка (Свердловская обл.). Населенный пункт.
Ней-Галка (Заволжье, у Саратова). Населенный пункт.
Болтунья-Тах (Лена, южнее Якутска). Населенный пункт.
Ботомойцы (Якутия, р. Вилюй). Населенный пункт.
Шкафт (Верхний и Нижний). Населенный пункт и река. (Пензенская обл.)
Названия очень недурны. Единственно о Ботомойцах я могу сообщить, что не так далеко от этого места (но и не возле него) течет река с якутским или эвенкским именем Ботома. Но что из этого следует?
А вот вам и целый ряд других, курьезно звучащих для нашего слуха, но, конечно, может быть, легко объяснимых каждое для своего языка и народа, имен. В чем их странность для нас? Только в совершенно случайном сходстве их по звукам с некоторыми русскими словами, и я привожу их здесь вовсе не из каких-нибудь научных соображений, а просто так — чтобы позабавить вас.
Букет — населенный пункт на полуострове Малакка.
Бусника — населенный пункт в Северной Африке.
Вьедма — населенный пункт в далекой знойной Аргентине.
Киномото — населенный пункт в Японии.
Эс-Заказик — населенный пункт в Египте.
Мерзифон — населенный пункт в Турции, у Черного моря.
Курья-Мурья — населенный пункт в Аравийском заливе. (Острова.)
Да, да, бесспорно, этот Букет не для нюханья цветов, аргентинская Вьедма не из тех «ведьм», что летают на помеле, и никто никогда не вознамерится сделать «Эс-Заказик» на «Мерзифон» вместо патефона или телефона. И все-таки разве не интересно было бы узнать, каким образом возникли и что в действительности обозначают все эти диковин-{285}ные имена? Вам — нет? А мне — очень! Ну, что же: подожду — узнаю!
Уважаемый мистер Сипи
Школьником-приготовишкой я наткнулся в детском журнале начала этого века на забавный рисунок-шарж с веселой подписью.
Большеголовая девочка с косичками вразлет, видимо англичанка, стояла с указкой у географической карты в полном недоумении и в этакой топонимической задумчивости. Под картинкой было подписано:
«Говорят, будто Миссисипи по-индейски значит «Отец Вод». Не зовут ли в таком случае эту реку Мистер Сипи [88]1 и не дочкой ли приходится ему Мисс Сури?» [89]2
Умная карикатура: многое отражено в ней. И привычка людей, не спрашиваясь броду, пускаться в воду истолкований любого географического имени, в том числе и чужеземного, равняясь лишь на небольшой запас слов собственного языка, — точно на этом именно языке должны говорить и думать люди всего земного шара. И полное отсутствие самых главных понятий о том, что такое географическое имя, и как трудно найти путь для его разгадки даже в своем языке. И многое еще другое.
Бесшабашность маленькой топонимистки была чрезвычайна, но не больше того, что мы видим в действительности.
Вот первый попавшийся пример: название украинской реки Ворскла с трудом поддается объяснению. Одни крупные ученые связывают его со скифским языком и толкуют как «Белая река». Другие сердито отбрасывают эти объяснения, пытаясь найти общее у этого «ворск» с «ворчать» (как «писк» мы связываем с «пищать»): «Река-ворчунья». Словом, задача нелегкая даже для специалистов.
А не так давно мне пришлось услышать, как в Полтаве экскурсовод, водивший по городу ленинградских гостей, утверждал очень серьезно, будто имя Ворскла надо понимать как «Вор-сткла», то есть «стекла» и подкреплял этот смелый вывод «историче-{286}ской справкой». Петр I, будто бы, едучи через Ворсклу перед Полтавским боем, уронил в ее воды «сткло», то есть подзорную трубу. «Не река, а вор сткла!» — воскликнул рассерженный царь. Так у реки и появилось имя. А до этого, следовало бы добавить к этому нелепому рассказу, у нее его, видимо, просто не было?
Само собой, и Миссисипи значит по-индейски не «Отец Вод», а просто «Великая вода» (или «Великая река»), и имя Миссури имеет значение очень далекое от «барышня Сури» (оно значит просто «мутная», или «илистая»); и Ворскла называлась Ворсклой за много сотен лет до Полтавской битвы; но разве это остановит легкомысленных объяснителей? Они думают, что все проще простого, и убедить их в их беспомощности весьма трудно.
И все-таки я благодарен этой карикатуре: кто знает, не она ли послужила первым толчком, заставившим меня задуматься над географическими именами? А сейчас, вспомнив ее, я вспомнил и еще несколько забавных топонимических шуток: если разобраться, то и в топонимике, а точнее — в отношении к ней, возможны юмор и насмешка. Вот эти истории.
Замоскворечье
Человек, чуткий к языку, не нуждается, чтобы ему долго проповедовали осторожность при толковании и объяснении географических имен. Более того, не будучи топонимистами, такие люди очень легко и быстро начинают относиться критически к самоуверенным и легкомысленным теориям дилетантов — любителей топонимики. И если обладают юмором, начинают ядовито посмеиваться над их неуклюжими попытками. Это же одно удовольствие.
Великий драматург А. Н. Островский родился и вырос в Замоскворечье, заречной части Москвы, насупротив Кремля. Кто-кто, а уж этот знаток и мастер русской речи великолепно знал целый ряд похожих русских названий: Запсковье, Зáвеличье, Закáмье, Завóлжье — все они «устроены» одинаково. Островский, конечно, нимало не сомневался в составе топонима Замоскворéчье.
Но вот что он делает. Начиная свой литературный путь, он, в подражание по стилю и слогу ранним {287} произведениям Н. В. Гоголя, написал небольшое юмористическое произведение «Записки замоскворецкого жителя». Он начал его с торжественной и будто бы ученой обстоятельностью, с выяснения сложной задачи: откуда взялось само название Замоскворечье?
«...1847 года апреля 1 дня (заметьте: 1 апреля, в день всеобщих шутливых обманов! — Л. У.) я нашел рукопись. Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробностях не известную... Страна эта по официальным известиям (а в действительности — кто ее ведает?! — Л. У.) лежит прямо против Кремля, отчего, (вот так причина! — Л. У.), вероятно, и называется Замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместья к этой птице. Привязанность эта выражается в том, что для скворцов делают особые гнезда, называемые СКВОРЕЧниками...» [90]1
Видите, как хитро подведено: Замоскворечье и скворечники! Жители Замо-скворечья строят сквореч-ники! Дело в шляпе: очевидно, название отсюда и идет. Ничуть не менее обосновано, нежели вывод имени Ворскла из сочетания слов «вор сткла».
Надо сказать, в начале сороковых годов прошлого века известный тогда А. Ф. Вельтман, полуисторик и археолог, полуписатель и во всем дилетант-полузнайка, выпустил в свет нашумевшее рассуждение о древне-{288} славянских собственных именах. Про ученые труды
Эту
историю
я
запомнил
еще
десятилетним
мальчишкой.
Вельтмана Энциклопедия Брокгауза впоследствии писала довольно справедливо, что в них он руководился той же фантазией, что и в беллетристике, почему они и лишены всякого значения. Но на широкую публику смелые выдумки Вельтмана (он выводил все имена европейских народов из славянских корней) произвели немалое впечатление. О его выдумках шумели и спорили. Островский, безусловно, читал их, и вполне возможно, что, начиная свою повесть, он и захотел посмеяться над доморощенными топонимистами вельтмановского типа.
Впрочем, такие горе-объяснители досаждали и досаждают многим мастерам и художникам слова: сплошь и рядом писатели с удовольствием язвят их.
Я уже передавал вам смешное топонимическое объяснение имени Франкфурт, принадлежащее Марку Твену. Там он передразнивает ученых, придающих чрезмерно большую веру старым преданиям и хроникам. Но Твен не щадит и своих собратьев, беспардонных американских журналистов, которые в те времена тоже любили, при случае, блеснуть топонимическими познаниями, особенно при разговоре об именах бесчисленных новорожденных поселков и городков на Западе США: они в те дни росли там буквально как грибы.
Твен пишет биографию другого прославленного писателя-американца, всем нам известного Брет-Гарта. Он утверждает, между прочим, будто с тем однажды случилось вот что:
«Брет-Гарт забрел в золотоискательский поселок Янра, получивший свое курьезное имя совершенно случайно. Там была пекарня с вывеской, намалеванной столь крепкой краской, что и с изнанки можно было прочесть: Янракеп [91]1... Какой-то проезжий дочитал это Янракеп только до буквы «а» и решил, что так называется сам поселок. Золотоискателям это понравилось, название привилось».
Опять-таки «вор сткла», опять какой-то удивительный случай, с которого будто бы все и началось. Так {290} названия не создаются, но в тогдашних американских газетах тысячи пронырливых репортеров сочиняли и передавали подобные басни постоянно, и беспощадный Сэмюэль Клеменс не упустил случая поиздеваться над их учеными справками.
Ах уж эти топонимические догадки любителей! Им достаточно заприметить в слове один-два звука, общих с названием места, и — трах-тарарах! — готова теория о тесной связи между ними. А как быть со связью по смыслу: ведь мало же того, что звуки похожи?
Нет ничего проще: всегда можно сочинить какую-нибудь легенду, которая все объяснит. То это лань, перешедшая вброд Майн, как в твеновском рассказе об имени Франкфурт, то подзорная трубка, оброненная в реку Петром, как в случае с Ворсклой, то сын, родившийся у славянского князя в момент основания города, который и был поэтому назван Будишин — то есть «пусть будет сын!» [92]2 Таких народно-этимологических легенд множество, и мы сами постоянно передаем их друг другу, не заботясь о правдоподобии.
«Кинешма?.. — рассеянно произнесла путешествующая на волжском теплоходе Нина из романа Н. Верховской «Молодая Волга», глядя на прибрежный городок. — Нерусское слово какое-то...»
«Почему нерусское? — тотчас с праведным негодованием кидается в бой ее спутник, старый, знающий все (кроме топонимики!) волгарь. — Кинешма — «кинешьмя». Решма (есть и такой населенный пункт поблизости) — «режь мя»... Даже легенда есть насчет этих названий...»
Ну конечно, легенда (ее правильнее было бы, как у Лескова, назвать «лыгендой») есть: совершенно нелепая. Злой князь разлюбил красавицу. С намерением избавиться от нее, он понес ее на руках куда-то по приволжским разлужьям. Красотка понимала, что дела ее плохи, но не могла, очевидно, взять в толк, какой именно способ погубитель хочет избрать для ее умерщвления. Поэтому у Кинешмы она спрашивала: «Кинешь мя?» (очевидно — в Волгу), а возле Решмы начала уже странным образом уговаривать негодяя: {291} «Режь мя!» — может быть, предпочитая такую смерть утоплению.
Все это придумано так неумело и грубо, что и доказывать тут нечего. Но ведь — легенда! Приходится верить! И Нина, видимо, верит, хотя ее собственная догадка куда более правильна: вполне возможно, что оба эти имени не русского, а финского происхождения; а если и русского, то, конечно, совершенно иного, чем в народном предании.
Есть в Куйбышевской области село, много лет носившее имя Бектяшка. Возможно, когда-то его владелицами были дворяне из рода Бекташевых. А так как эта фамилия связана с тюркским словом «бекташ» — «пляшущий дервиш», то допустимо и предположение, что имя места произошло прямо отсюда: кругом немало тюркских названий.
Конечно, русскому населению «бекташ» непонятно, да и фамилия Бектáшевы ничего не говорит уже очень давно. А объяснить как-нибудь название своего села всегда хочется.
В русском языке имеются два подходящих слова: «бег» и «тяжкий»: как бы связать их с «Бектяшка»? И вот слагается та самая сказка, которая, как известно, «скоро сказывается».
«Забрели как-то в наше береговое село волжские бурлаки, озорники, пьяницы и буяны. Ну, деды наши терпели-терпели ихнее безобразие, а потом терпение лопнуло, и взялись мужики за дреколье...»
Изгнанные бесчинники мчались прочь в смертном страхе, не смея обернуться на полном ходу и восклицая от времени до времени то, чего ни один спасающийся бегством никогда не воскликнет: «Ох, бег тяжкий!» А селяне, навек запомнив это, самое, очевидно, знаменательное в истории их родного дома, происшествие, окрестили свое село Бектшка...
Склонность человека так произвольно «этимологизировать» названия мест живет в его душе с древнейших времен. Ведь даже библейская легенда о пророке Ионе, проглоченном китом и затем вернувшемся благополучно обратно, основана на такой именно «народной этимологии» имени ассирийской столицы Ниневии. Иона, видный иудей, был захвачен в плен и отвезен в Ниневию. Это название было связано с ас-{292}сирийским «нуну» — «рыба»; даже в надписях слово «Ниневия» изображалось иероглифом, означавшим рыбу. Великолепно: значит, Иона и был проглочен рыбой! Но внутри какой же рыбы человек может некоторое время пребывать, а затем выбраться на поверхность? Разве что внутри кита (в те времена «чудо-юдо рыба-кит» признавался именно рыбой)... Основа для вымысла налицо, и вот века и века люди благоговейно читали о том, как «бе Иона во чреве китовом три дня и три нощи...» А Иона какой-то срок прожил в плену в Ассирии, в Ниневии, и только!
Так было во времена библейские, так бывает и в наши дни. Соблазняют подобные фокусы с названиями мест даже поэтов. Я с удовольствием приведу вам, так сказать, «под занавес» этой главки, забавную пародию Бронислава Кежуна на стихи С. Маркова; пародия, помимо желания ее автора, имеет не только литературный, но и чисто топонимический смысл и интерес.
Б. Кежун хотел посмеяться над склонностью некоторых поэтов вместо создания глубоко продуманных и прочувствованных образов Родины, заменять их сочетанием отдельных слов-названий, названий географических, нарядная пышность которых, по их мнению, может сделать все остальное ненужным. Своему стихотворению-пародии (оно называется «Радуга-дуга») он предпослал такой эпиграф из С. Маркова:
Знаю я, — малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебедянью,
А в Медыни золотится мед...
Б. Кежуну довольно справедливо кажется, что такие фокусы с именами городов мало что доказывают и показывают. Имя ведь далеко не всегда точно соответствует предмету называемому. На улице Хамовники в Москве, вполне возможно, не живет сейчас ни один «ткач» — «хамовник». Деревня Великое Село под Лугой, как я вам уже сообщил, состоит из двух-трех избушек. Нечего просто перечислять звучные названия, описывая страну; надо искать подлинное выражение ее настоящей, живой красоты. Такова мысль поэта-пародиста; не будем взвешивать и судить, насколько она верна и справедлива. {293}
Мы подойдем к его пародии по другой, чисто топонимической линии. Вот как звучит она вся целиком:
В час, когда рассветной ранней ранью
Строки зарождаются сии,
Лебеди летят над Лебедянью,
В Киеве вовсю стучат кии,
Мед в Медыни цедят в каждом доме,
Над Орлом орлы вершат полет,
В граде, под названием Житомир,
Только жито мирное растет.
Над рекой Вороной вьются птицы,
Коими Воронеж знаменит.
В Молодечне ходят молодицы,
Как струна, Звенигород звенит...
В поздний час, когда рассветной ранью
В Виннице из чарок пьют вино,
Таракан ползет Тмутараканью,
В Темрюке — тем более темно.
И хотя в Изюме сладко спится
Под изюмом, зреющим в ночи,
Птица-скопа кружится в Скопице,
В Калаче пекутся калачи.
В этот час — я это твердо знаю! —
В Котласе льют воду из котла,
Шелестят кусты по Кустанаю,
А в Смоленске варится смола...
Ну что ж? На первый взгляд — все вполне логично. Каждое название сближено с очень на него похожим русским словом; может быть, они и впрямь происходят именно от этих слов. Было бы великолепно...
Попробуем, однако, подойти с позиций топонимики хотя бы к части этих восемнадцати географических имен (некоторые этимологии могут быть или вообще неизвестны, или не известны мне лично). Что получится?
О слове «Киев» судили по-разному. Теперь все же принято считать, что имя это связано с личным именем или прозвищем одного из первых его насельников, может быть, даже именно старшего из трех родоначальников — Кия, Щека и Хорива. Имя-прозвище Кий, возможно, означало «посох», «боевой молот», «шелепуга» или «палица»... Значит, «кия» и впрямь могут «стучать в Киеве»?
Увы! Автор имеет в виду современный бильярдный кий, а это слово, относящееся к заимствованной с Запада игре, тоже западного, французского происхожде-{294}ния: «кий» по-французски «queu» («кё»), то есть «хвост». К имени Киев эти кии отношения не имеют.
Сложноват вопрос и с Орлом. Очень трудно сказать, связано ли имя города с «царь-птицей». Есть много русских топонимов и гидронимов, которые звучат похоже — Орель, Орелка, — а связаны с совершенно иными корнями (см. стр. 147): первое сопоставляют с тюркским «airly» — «развилка реки» или «airy» — «угловатый», «изогнутый». Второе во многих местностях России значит «возвышенность среди поемного луга», «цепь невысоких холмов в пойме реки»... Может быть, незачем орлам «вершить полет» над этим городом?
Нельзя поручиться и за связь Лебедяни с лебедями... Вот поселок Лебяжье на берегу Финского залива в этом смысле не вызывает сомнений: это прилагательное прямо значит: «принадлежащее лебедям». Есть Лебяжье на Алтае, есть под Харьковом, в Челябинской области... А Лебедянь... Кто знает, не с травой ли лебедой связано это имя?
Житомир — «жито мирное»... Специалисты-этимологи утверждают, что в древности название этого города звучало Житомель или Житомль и означало (как Ярославль — принадлежащий Ярославу) Житомов город. А Житом было сокращением личного человеческого имени Житомер — «тот, кто мерит хлеб, жито», то есть состоятельный человек, богач... «Жито» осталось, а вот «мир» исчез.
Название речки Ворона, правда, того же корня, что и слово «ворона» — птица, но неясно, так ли уж просто связаны они. Слыша песню «ворон конь мой притомился», вы же не думаете, что речь идет о лошади-птице; поэт просто называет коня вороным, черным. А имя города Воронеж напоминает нам другое название: Радонеж (от Радонега); может быть, и Воронеж от Воронега; есть же речка Воронега, правда, далеко, в бассейне Ладоги... Возможны и другие догадки.
Ни Тмутаракань, ни Темрюк не имеют ничего общего с «тьмою» — «темнотою»: это слова по происхождению не русские. Смысл древнего имени Таматарха, из которого наши предки сделали Тмутаракань, доныне полностью не разгадан, но никакой {295} «тьмы тараканов» там разглядеть нельзя. Нерусской является и основа названия Темрюк, от имени Темрюка Идарова, его основателя [93]1.
Вы можете подумать: «Ну, уж Изюм-то — ясно?» Ничего подобного. Это Изюм связано не с тюркским «юзюм» — виноград, а с тоже тюркским «узень» — река, речка (в Крыму были две речки: Малый Узень и Большой Узень). Вероятно, город был назван по реке Донцу, на которой он стоит. Это бывает: в Югославии есть же город Риека (Река) на реке Речине...
Имя Калач, вероятнее всего, обязано своим рождением крутому, почти кольцеобразному изгибу речного русла; В. Даль свидетельствует, что «колач» может значить и «круглый проток, впадающий опять в ту же реку», а Калач, по-видимому, и правда зародился на островке, образованном одной из «стариц» Дона и Калачовским ручьем... Рассказ о девушке, угощавшей когда-то калачами собственной выпечки проходившее мимо казачье войско — одна из тех «лыгенд», о которых я уже говорил... Есть ведь у нас и другие Калачи, например в Воронежской области, неужели и там нашлись такие же гостеприимные пекарши?
Нет, нет, друзья! Как ни грустно, но ни Котлас не связан с «котел», ни Кустанай с «кусты»: в обоих случаях в основе лежат совсем не русские, в одном случае — финское, в другом, вероятно,— тюркское, слова.
Да, но Смоленск-то уж наверное происходит прямо от «смолы»?! Вот именно, что никак не прямо, а в лучшем случае лишь очень косвенно. Уже суффикс «-ск» намекает на то, что город, вероятно, был назван по реке, на которой он стоит. Так и есть: у Смоленска змеится речонка, гордо носящая имя Смольня, крестная мать крупного и славного города...
Но ведь Смоленск же стоит на Днепре, недоумеваете вы... При чем тут ничтожная Смольня? На Днепре стоит и стояло много городов. Киев стоял на Днепре! С чего бы взбрело в голову нашим предкам именно Смоленск и называть Днепровским городом. А вот возле Смольни стоял он один. Смольня {296} оказалась лучшим отличительным признаком, чем огромный Днепр...
Ну вот! Бронислав Кежун подбирал такие названия, будто бы совсем легко объяснимые, намереваясь слегка уколоть своего собрата-поэта, указать на его чисто поэтические огрехи. Я же воспользовался его занятной пародией, чтобы еще раз напомнить вам, какая замысловатая штука топонимическая этимология, с какой осторожностью надо приступать к разысканиям в этой области, как надо держать ухо востро, чтобы не попасть на зубок — что там к поэту-пародисту, это пустяк! — к какому-нибудь строгому и дотошному специалисту по географической ономастике. Это будет куда потяжелей!
До свиданья
А теперь, перед тем как расстаться, я прошу вас: раскройте мою книгу на ее первой странице, прочтите еще раз помещенную там в виде эпиграфа маленькую сценку французского писателя Марселя Пруста и прямо от нее перейдите к таким вот строкам писателя русского, советского, Владимира Солоухина.
В. Солоухин, владимирец родом, собравшись в пешее путешествие по местам, где протекло когда-то его деревенское милое детство, добыл подробную карту Владимирской области. Он раскрыл ее и обнаружил чудо: карта заговорила!
«С этой картой, — с восхищением рассказывает он сам, — можно было беседовать ночи напролет.
— Какие звери водились раньше на Владимирской земле, — спрашивал я у карты. И она отвечала:
— Водились тут туры. Вот, читай: Турино село, Турина деревня, Туров, Турыгино. Были и соболя. Разве не видишь названия деревень: Соболь, Соболево, Соболи, Собольцово, Соболята [94]1. А вот Лосево, Лосье, Боброво, Гусь...
— Кто же раньше жил на Владимирской земле?
— Жили здесь разные племена финского корня: мурома, и меря, и весь. Да, они исчезли, но не без следа: до сих пор живут их названия рек, городов, озер и урочищ: Муром, Суздаль, Нерль, Пешка... Сув-{297}рошь, Санхар, Кшара... Но вот появились славяне. Они рубили свои избы неподалеку от финских селищ и начинали мирно пахать поле... И вот наряду с какой-нибудь Кидекшей появляются села Красное, Добринское, Порецкое... По названию можно узнать, откуда шли славяне: вон Либедь, вон Галич, вон Вышгород — все это киевские словечки...» [95]2
Какой милый отрывок из отличной книги тонкого и умного писателя, глубоко любящего Родину человека! Сравните его слова с туповатым высокомерием французского буржуа, господина Камбремера у Пруста: «Пятнадцать лет охочусь в лесу Шантпи и ни разу не задумался, что значит это имя!»
Было бы отлично, если бы все мы так же чутко, с такой высокой любовью относились к родной земле, к ее прошлому, к ее животным и растениям, к ее людям и к неизгладимым следам их жизни на ее просторах — к именам мест, разбросанным по ней.
Это говорю я, это скажете и вы, как читатели В. Солоухина. А как кандидаты в топонимисты? Что, если взять да и прикинуть эти же строки на топонимический аршин: точно ли разгадывает автор то, что ему говорит карта? Правильно ли понимает ее своеобразный язык? Ему, автору, в данном случае и обмолвка или ослышка не в укор, а нам интересно проверить, как оно получается...
Вот: деревня Турыгино, произошла ли она от названия дикого древнего лесного быка — тура?..
Во-первых, слово «Турыг-ин-о» содержит в себе суффикс «-ин». Этот суффикс очень хорошо указывает, что предмет принадлежит кому-нибудь, но лишь в тех случаях, когда владелец назван существительным, оканчивающимся на «-а» или «-я»: Кат-ин-а косичка. Миш-ин перочинный ножик. Но его никак не приделаешь к существительному мужского рода, кончающемуся на твердый согласный. Ван-ин нос, но Иван-ов дом, не правда ли? Иванин хутор, Иванина деревня можно сказать только в том случае, если хозяин их звался не Иван, а Иваня... Это раз. {298}
Теперь рассудим так: если лес принадлежал туру, если в нем жил тур, лес назвали бы Туров, никак не Турин лес. И деревня, около которой бродили туры, получила бы имя — (чья?) — Турова, и село — (чье?) — Турово.
А как же тогда понять, что В. Солоухин нашел все-таки: Турина, Турино? Я бы понял это так: значит, имена эти даны не по тýру, а по тýре.
Думается, дело могло обстоять так: где действует суффикс «-ов», название происходит от слова «тур». Где — «-ин», от «турá». Но почти наверняка не прямо от этих слов, а от них же, после того как они успели уже побыть прозвищами или даже именами людей. Мужчин.
Пришел кряжистый старый дед Тур и сел на новую землю, и стал там быть починок Туров или село Турово... А в ином месте мужествовал сильно чужанин, прозвище Турá, сиречь башня, был бо длинен и высок безмерно. И на месте сем выросла богатая деревня Турина...
Вас смущает, могли ли быть у людей такие имена? Великолепно бывали: не церковные, народные русские, но самые настоящие «мирские» имена. В древних рукописях встречаются люди Коты, и Волки, и Медведки, и Хори, и Бараны, и даже люди Шубы, Субботы и Дороги... Почему же не быть и всяческим Турам?
Точно так же, подозреваю я, обстояло дело и с остальными «зверьми». Не пушной зверек соболь дал имя деревне Соболево, а какой-нибудь крестьянский сын Иван или Микулай, рекомый Соболь. И деревушка Соболята названа была скорее всего не по выводку маленьких соболенышей, а по тому, что жили в ней дети и внуки старого Соболя — родного, хотя и на несколько веков старшего, брата тургеневского хозяйственного мужичка Хоря... Помните, как в этом знаменитом рассказе шутит веселый молодой сын старика Хоря?
«Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов...
— Все дети Хоря! — заметил господин Полутыкин.
— Все Хорьки! — подхватил Федя...» {299}
Он очень просто мог бы сказать и «хорта». И имя Соболята могло произойти точно таким же способом, как произошли имена Оверята от имени Аверкий, Степанята — от Степан. Такие деревушки есть — рукой подать — в соседней Ивановской, в более далекой Пермской областях. Вполне возможно, что так же могло возникнуть и название Лосево. А вот сельцо Лосье — дело особое: от человеческого имени Лось такое название навряд ли могло образоваться; вернее, что оно возникло из слова «лось» (см. стр. 152).
Что же до Турыгина, то мне кажется — оно и вовсе никак не связано с тýрами и турáми. В самом деле — откуда бы тут тогда взяться суффиксу «-ыг»? Что, «турыга» — это огромный тур, что ли?
А вот есть, оказывается, в народных говорах такое словечко «турга»; оно значит — «кошелка», «кузовок», «туесок»... От него очень просто могло родиться прозвище Турыга [96]1, а от прозвища — имя селений...
Что ж выходит? Очень грустно: нельзя по Владимирской карте выяснить, каким был животный мир этих мест восемьсот лет назад? Нет, почему нельзя? Можно, но осторожно... А тогда — что ж это вы так распатронили автора книги?!
Ничуть я его не распатронил: удивительная, нежная, тонкая прелесть «Владимирских проселков» осталась нетронутой; очень советую вам прочитать их. И все же я думаю: не всегда можно соединять «напрямую» слово-название животного или растения с именем места. Куда чаще между ними стоит посредник — имя человеческое.
Владимир Солоухин вовсе не обязан был размышлять над этим: он же не топонимист и пишет не о географических названиях. Он не обязан был знать все это.
А узнает — думаю, не посетует на нас с вами и, может быть, кое-что поправит в своих писательских заметках к «Проселкам». Проселок ведь — дело такое: вьется, крутится, указателей нет. И если кто скажет из-за высокой ржи или сквозь придорожные кустики любознательному путнику: «Куда, друг, сворачиваешь? {300} Лучше бери чуток полевей!» — на это не обижаются; за это благодарствуют...
Нам же было радостно встретить человека, для которого карта местности — живой умный собеседник, в уме и душе которого начертанные на ней имена вызвали столько умных, благородных мыслей, открыли так много высокого и важного.
И если вы когда-нибудь отзоветесь об этой моей книжке с такой же благодарностью и теплотой, с какой Владимир Солоухин говорит о простой географической карте родных ему мест, большей награды за мой труд мне и не будет нужно.
До свиданья, дорогие друзья!
Всего вам хорошего! {301}