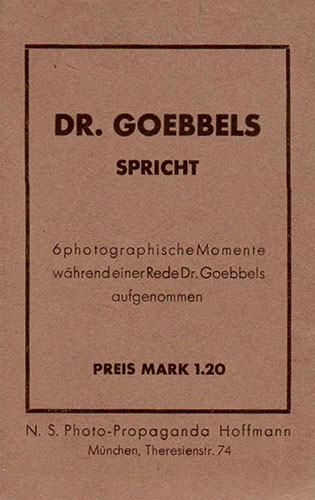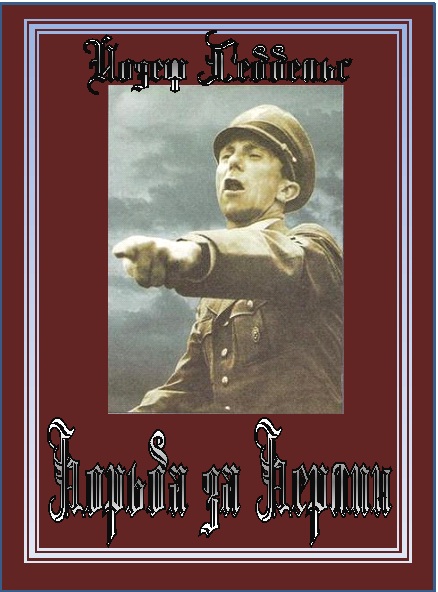
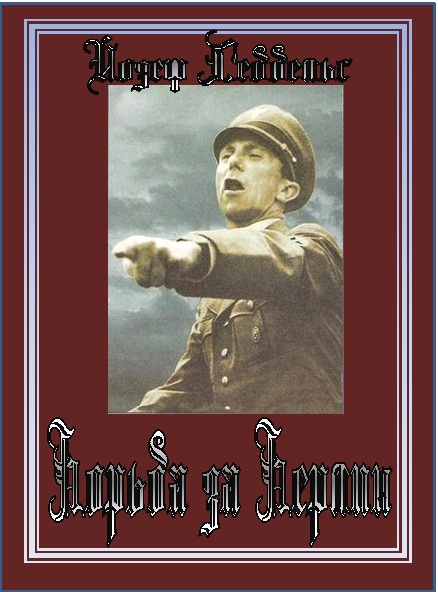
Йозеф Геббельс
доктор германской филологии
Борьба за Берлин
«Эту книгу я посвящаю старой берлинской партийной гвардии»
Йозеф Геббельс
Вступление
Борьба за столицу всегда занимает особую главу в истории революционных движений. Столица является самостоятельным понятием. Она представляет собой средоточие всех политических, духовных, экономических и культурных сил страны. Она оказывает влияние на провинцию, и его не избегает ни город, ни деревня.
Берлин в Германии – это нечто исключительное. Население этого города не представляет из себя, как в каком-нибудь другом месте, единой, замкнутой в себе однородной массы. Житель Берлина: этот тип получается из остатка старого берлинства, приправленного примесями из провинции, всех областей, мест, профессий и конфессий.
Правда, Берлин не является для всей Германии таким определяющим и важным, как Париж для Франции. Но, несмотря на это, нельзя представить страну без Берлина.
Национал-социалистическое движение вышло не из Берлина. Оно зародилось в Мюнхене. Сперва оно началось в Баварии, потом в Южной Германии, и только позже, когда оно оставило позади истоки своего развития, перекинуло мост на север и заодно в Берлин.
Только после крушения в 1923 году история партии началась севернее Майна. Но национал-социализм и в Северной Германии был также подхвачен со всей стремительностью прусской выносливости и дисциплины.
Эта книга предназначена изобразить историю движения в столице империи. Разумеется, это не преследует никаких исторических целей. Возможность написать объективную хронологию берлинского движения будет предоставлена последующим историкам. Нам не хватает для этого трезвой беспристрастности, чтобы правильно отделить свет от тьмы.
Тот, кто писал эти строки сам значительно и с огромной ответственностью причастен к ходу дел. Поэтому он и есть партия в полном смысле этого слова. Автор только лелеет надежду с этим повествованием снять с души тяжелейшую ответственность, которая легла на него тяжким бременем за пять лет борьбы. Это должно быть утешением и стимулом для тех, кто воевал и участвовал в блестящем взлёте берлинского движения, напоминанием и угрызением совести тем, кто сомневался и стоял в стороне, и угрозой и объявлением войны тем, кто препятствовал нашему победному маршу.
Мы пока не имеем права считать окончание этой битвы победой на всех фронтах. Мне бы хотелось этой книгой поспособствовать тому, чтобы марширующие батальоны национал-социалистического наступления сохраняли веру и надежду, чтобы цель, которая сегодня уже ясна во всей остроте и последовательности, никогда не пропадала из поля зрения и несмотря ни на что была достигнута.
Против разложения (часть 1)
В утренних ноябрьских сумерках раскинулся просторный, пока безлюдный, перрон главного вокзала Эльберфельда. Приходилось прощаться с городом, который в течение двух лет был отправной точкой тяжёлых и кровавых битв за Рурскую область. Здесь мы создали первое главное северо-западное отделение поднимающегося после 1923 года национал-социалистического движения. В Эльберфельде закрепился духовный центр национал-социализма в Западной Германии, и отсюда на Рурскую область ниспадали лучи нашей страстной борьбы.
Несколько друзей пришли, чтобы попрощаться. В действительности это прощание оказалось более тяжёлым, чем мы думали. Случается и такое, приходиться отрываться от близких, с которыми пережито много воспоминаний о борьбе и успехах, и которым доверено многое. Здесь мы начинали. Здесь были организованы первые для Рейнской и Рурской областей собрания. Здесь мы создали первый центр для стихийных национал-социалистических ячеек, образовывающихся по всей провинции.
Вот кондуктор подал сигнал к отправлению. Краткие жесты, крепкое рукопожатие. Мой славный Бенно – великолепная немецкая овчарка, которая делила с нами радость и горе – жалобно завыл последний раз на прощание, и поезд тронулся длинными рывками от вокзала.
С неимоверной быстротой мы неслись через лежащую в серых дождливых сумерках страну. Мимо проносились места нашей усердной деятельности, возвышающиеся дымоходы и испускающие пар фабричные трубы. Как часто приходилось проезжать эти места, когда мы вечерами атаковали в Рурской области, чтобы пробить первую брешь в каком-нибудь скоплении коммунистов. Как часто вели мы здесь наступления, бывали кроваво отброшены, приходили снова, и снова отступали с шишками и ссадинами, чтобы в третий раз с жёстким напором захватить эту устойчивую позицию.
Эссен! Бохум! Дюссельдорф! Хаген! Гаттинген! Это были первые места, где мы укрепили свои позиции. Тогда ни одно собрание не могло быть доведено до конца без кровавых столкновений с марксистским террором. Противник знал, как слабы мы были, он наверняка мог бы превратить нас в отбивную. Только благодаря дерзкой самоотверженности нескольких немногочисленных групп штурмовиков, мы вообще смогли проникнуть в эту область.
Потом нашим стремлением стало захватить город частями, а, при благоприятных условиях, полностью, и сделать его оплотом поднимающегося движения, откуда впоследствии борьба была бы перемещена на близлежащие территории.
Одной такой цитаделью был маленький, расположенный между Бохумом и Эссеном, индустриальный городишко Гаттинген; при ряде удачных обстоятельств, там сложилась чрезвычайно благоприятная для нас почва, которую мы потом, с упорным усердием и храброй выносливостью вспахали и засеяли семенами нашей молодой идеи. Гаттинген был средним городом Рура, который существовал только за счёт промышленности. Металлургический завод концерна Геншеля был здесь главной целью нашей сосредоточенной пропагандистской атаки, и за два года боёв с марксизмом, розово-красного оттенка с одной стороны и более красного – с другой, за короткое время и при французских оккупационных войсках[1], нам удалось полностью прибрать город к рукам, вытеснить марксистский фронт с его прочных позиций и крепко вонзить знамя национал-социализма в твёрдую вестфальскую землю.
Незадолго до моего расставания мы пережили здесь триумф, это было невероятно, под сильным внешним давлением самим прийти на марксистское собрание. Враг больше не приходил к нам, и мы пошли к нему. Социал-демократическая партия больше не осмеливалась возводить препятствия национал-социализму. Однако она была готова нам противостоять.
Несомненно, это стоило тяжёлых битв и кровавых столкновений. Мы этого не искали, не провоцировали. Наоборот, мы были готовы внедрять нашу идею в Рурской области мирно и без террора. Но с другой стороны, мы знали по опыту, что если подъём нового движения будет находиться под угрозой террора противников, то против этого не пойдёшь ни с пустым красноречием, ни с призывом к солидарности и братству. Мы протягивали открытую руку каждому, кто хотел быть нашим другом. Но если нас били сжатым кулаком, то против этого у нас всегда имелось только одно средство: отбить кулак, который поднялся на нас.
Движение в Руре изначально имело сильно пролетарский характер. Это само объяснялось местностью и её населением. Рурская область по своей природе и расположению – земля труда. Тем не менее, пролетарий Рурской области отличается самым решительным образом от простого заурядного рабочего. Основную черту этого слоя населения ещё составляет привязанность к земле, и приятели, которые по утрам спускаются в шахты, являются сыновьями по большей части первого или, как минимум, второго поколения мелких вестфальских крестьян.
В этом типе людей ещё коренится здоровое естественное почвенничество. Интернационал никогда не смог бы вторгнуться сюда, если бы социальные отношения в этой провинции не были действительно вопиющими, и лишения, которые десятилетиями терпел рабочий класс вопреки природе и справедливости, неизбежно приводили растерявшихся людей в лагерь, враждебный нации и всем государствообразующим силам.
Здесь мы начали свою работу. И без того мы сознательно придавали бы ей значение, борьба за симпатии рурского пролетариата принимала сильно социалистический характер. Социализм, как мы его понимаем, это, по существу, результат здорового чувства справедливости, связанного с сознанием ответственности перед нацией, не считая внимательного отношения к интересам отдельной личности.
Так как применением враждебного террора нас решительно принуждали к тому, чтобы защищать и продвигать движение вперёд силой, наша борьба с самого начала сохраняла явный революционный оттенок. Революционный характер движения, правда, меньше определяется методами, с которыми оно сражается, чем целями, за которые оно борется. Но здесь цели и методы точно соответствовали друг другу.
Это находило отпечаток в идеологических документах движения на Рейне и в Руре. В 1925 году здесь были основаны National-Sozialistische Briefe и в них была предпринята попытка дать объяснение социалистическим тенденциям нашего движения.[2] Правда, мы не были теоретиками, и совсем не хотели ими быть; но, с другой стороны, мы должны были внешне придать нашей борьбе необходимую духовную броню. И очень скоро для отдалённых очагов движения в Западной Германии это стало необходимым толчком для дальнейшей и насыщенной работы.
В 1925/26 годах возникла необходимость сплотить сильно разветвлённые структуры организации движения на Рейне и в Руре. Результатом этого процесса был так называемый гау Рур, главное отделение и политический центр которого находились в Эльберфельде. Работа в индустриальных городах Запада была, прежде всего, по существу пропагандистской. Тогда мы ещё не имели возможности сколько-нибудь активно вмешиваться в ход политической жизни. Политическая ситуация в Германии была такой застывшей и окоченевшей, что это было просто исключено. К тому же, молодое движение находилось ещё совсем у истока, так что влияние на большую политику само не стояло на повестке дня.
Собственно пропаганда не имеет своего принципиального метода. Она имеет только цель; и именно эта цель всегда означает в политике завоевание масс. Любое средство, которое служит этой цели, хорошо. И любое средство, которое не достигает этой цели, плохое. Пропагандист-теоретик совершенно бесполезен, за письменным столом он придумывает себе остроумный метод и в итоге бывает очень удивлён и озадачен, если этот метод не применяется пропагандистами-практиками или, вопреки собственной претензии, не приводит к цели. Методы пропаганды сами естественно вырабатываются в ежедневной борьбе. Никто из нас не родился пропагандистом. Мы научились средствам и возможностям действенной массовой пропаганды из ежедневного опыта, и, только повторяя, направили их на систему.
Современная пропаганда, по сути, основывается на эффекте сказанного слова. Революционные движения создаются не великими писателями, но великими ораторами. Неверно думать, будто печатное слово намного действеннее потому, что оно посредством ежедневной прессы доходит до большего количества публики. Даже если оратор может обратиться со своим словом в лучшем случае к нескольким тысячам слушателей, в то время как политический писатель часто находит десятки и сотни тысяч читателей, живое слово в действительности влияет не только на присутствующих, но и передаётся из уст в уста сотни тысяч раз. Поэтому внушение эффектной речью на порядок выше воздействия отредактированной газетной передовицы.
Др. Геббельс «Не господь бог снимет с нас наши цепи. Мы должны их сами разорвать».

Вот почему на первом этапе борьбы на Рейне и в Руре все мы были почти поголовно агитаторами. Массовая пропаганда была нашим единственным оружием, и нам приходилось использовать её максимально, чего мы ещё не могли сделать с печатным словом.
Не могло не случиться, что первые успехи, которых мы добились в Рурской области, очень скоро сошли на нет из-за междоусобиц, которые в то время раздирали движение по всей стране. Сразу после кризиса и освобождения Адольфа Гитлера из крепости Ландсберг партия переживала отчаяние. Она в смелом начинании использовала последние шансы и была низвергнута с самых вершин в глубокую пропасть. В 1924 году она была полна изнуряющих личных противоречий. Повсюду не хватало уверенной и твёрдой руки фюрера, который сидел за решёткой в Ландсберге.
Всё немного изменилось, когда под рождество 1924 года Адольф Гитлер вышел из тюрьмы. Но то, что недалёкие и ограниченные умы наделали за год, не могла исправить одна гениальная голова за такое короткое время. Повсюду виднелись только обломки и развалины; многие из лучших бойцов оставили движение и покорно стояли в стороне безо всякого мужества и надежды.
Движение на Рейне и в Руре волею судьбы в основном было спасено от этих внутренних конфликтов. Насколько в то время оно вообще существовало, оно находилось под давлением вражеской оккупации. Оно было сжато для обороны и так было вынуждено защищать само своё существование. Поэтому у него не было времени на программные споры, которые сверх допустимой меры велись в движении на не оккупированной территории Германии. Совсем небольшие, скрытые очаги составляли его основу, пока враг был здесь. Но когда французы вывели войска, эти базы в кротчайшие сроки были преобразованы в прогрессирующие местные отделения, стремившиеся захватить территории, которые в остальной стране были уже давно взяты и где соратники резвились в личных и, пожалуй, даже объективных, но чаще всего очень жёстких и далеко недружелюбных междоусобицах.
Никто не был в состоянии изобразить радостное удовлетворение, которое мы все испытали, когда тяжелейшими жертвами нам удалось создать в Эльберфельде постоянный пункт центрального отделения для рейнского и рурского движения. Оно было, правда, ещё примитивным и никоим образом не отвечало требованиям современной массовой организации. Однако мы имели место, опору, центр, откуда могли вести завоевательное наступление на страну. Скоро уже вся провинция была охвачена мелкоячеистой сетью организации; начали образовываться первые зачатки штурмовых отрядов. Осмотрительные организаторы и одарённые ораторы принимали руководство местными отделениями; неожиданно из руин вырастали цветы новой жизни.
Как тяжело мне пришлось оставлять эти многообещающие начинания и переносить свою деятельность в совершенно неизвестную мне до тех пор область! Здесь я начинал. Здесь я надеялся навсегда найти своё постоянное пристанище. Только с отвращением я мог думать о том, чтобы сдать эту позицию и обменять её на пока неопределённую и неизвестную надежду на другие успехи.
* * *
Всё это ещё раз хаотично и беспорядочно проносилось в моём сознании, пока локомотив с шумом и воем мчался сквозь туман, мимо мест моей былой деятельности, дальше проникая в вестфальскую землю. Что ждёт меня в Берлине? Сегодня как раз 9-ое ноября! Тяжёлый судьбоносный день как для Германии в целом, так и особенно для нашего движения! Три года назад в Мюнхене грохотали пулемёты у Фельдгерренхалле, скашивая марширующие колонны молодых немцев. Означало ли это, что пришёл конец? Хватит ли нашей силы и решимости, надежды и уверенности, чтобы Германия однажды возродилась вопреки всему и обрела новое политическое лицо, которое мы ей создадим?
Серый ноябрьский вечер тяжело опускался на Берлин, когда экспресс приблизился к потсдамскому вокзалу. Прошло всего два часа, и я впервые стою на той самой трибуне, которая в последующем должна была стать отправной точкой нашего политического развития. Я говорю перед берлинской партией.
Одна еврейская газета, которая потом часто будет обливать меня грязью, единственная в столице опубликовала заметку об этом выступлении. «Некий господин Геббельс, говорят из Рура, вытащил на свет Божий обветшалые лозунги».
* * *
Берлинское движение, которое я должен был принимать как руководитель, в то время находилось в малоутешительном состоянии. Оно переживало разброд и хаос вместе с остальной партией, как обычно в Берлине это имело особенно опустошительные последствия. Вождистские разногласия сотрясали устройство организации, если о ней вообще могла идти речь. Казалось невозможным снова добиться авторитета и твёрдой дисциплины. Две группы находились друг с другом в ожесточённой вражде, и опыт подсказывал, что так это нельзя было оставлять. Партийное руководство долго медлило вмешаться в эту путаницу. По праву исходили из соображения, что если такое положение дел должно быть устранено, то в Берлине необходимо вообще всё реорганизовать, что, по крайней мере, обеспечило бы для партии определённую стабильность на продолжительное время. Но в берлинской организации отсутствовал лидер, который был способен восстановить потерянную дисциплину и создать новый авторитет. В конце концов, решили перевести меня на некоторое время в Берлин с заданием возобновить хотя бы примитивную деятельность партии.
Такая идея впервые появилась на съезде в Веймаре в 1926 году, потом она была доработана и обрела законченный вид во время совместного отпуска Адольфа Гитлера и Грегора Штрассера в Берхтесгадене. Я бывал много раз в Берлине, в ходе этих визитов, пользуясь случаем, изучал состояние берлинской организации, и, наконец, решился принять тяжёлое и неблагодарное задание.
В Берлине было как везде, где организация переживает кризис: на каждом углу всплывали искатели приключений. Они считали, что их час пробил. Каждый, кто мог сбить вокруг себя шайку, пробовал добиться влияния, а предатели стремились усугубить разложение. Было совершенно невозможно спокойно и деловито изучить ситуацию в партии и прийти к чётким выводам. Если различные группы и группки включались в переговоры, то было одинаково очевидно, что все эти товарищества сами никак не находили решения.
Я долгое время сомневался, должен ли вообще принимать неблагодарную должность; пока моим долгом и целью было мужественно и напористо взяться за работу, и я с самого начала знал, что она скорее готовит мне хлопоты, неприятности и огорчения, чем принесёт радость, успех и удовлетворение.
Кризис, который угрожал потрясениями берлинской организации, имел по существу чисто личностный характер. Вопрос заключался ни в программных и ни в организационных разногласиях. Каждая из обеих групп, которые конкурировали между собой, хотела поставить своего человека во главе движения. Итак, не оставалось ничего иного, как определить туда третье лицо, ведь, по всей видимости, никто из обоих противников не мог уладить конфликт без тяжелейшего вреда для партии.
Удивительно ли то, что я был назначен в Берлин как новичок, который был родом совсем не оттуда и в то время совершенно не знал характера этого города и его населения, и с самого начала находил недостатки в многочисленных субъективных и объективных нападках? Мой авторитет, который тогда ещё не был укреплён какими-либо заслугами, не мог быть востребован при важных решениях. Пока речь шла в основном о том, чтобы этот авторитет вообще заработать.
Разумеется, в тот момент не было никакой возможности вести движение к очевидным политическим успехам. То, что тогда в Берлине называли партией, никоим образом не заслуживало своего титула. Это была буйная, беспорядочно бурлящая масса из нескольких сотен национал-социалистически мыслящих людей, каждый из которых имел о национал-социализме собственное мнение, и в большинстве случаев это мнение мало соответствовало тому, что обычно понимают под национал-социализмом. На повестке дня стояли потасовки между отдельными группами. Слава Богу, широкая общественность не брала этого на заметку, так как само движение было ещё незначительным по численности; пресса, которая у нас ничего иного не замечает, с пренебрежительным пожиманием плечами обходила эту тему.
Такая партия была не способна к маневрированию. В решающей политической схватке, не взирая на численность, она уже не могла использовать свои сильные стороны. Нужно было прежде придать ей единообразную форму, внушить единую волю и воодушевить её новым горячим импульсом. Нужно было усилить её численно и вырваться за рамки партийной секты. Было необходимо вдолбить общественному мнению её имя и цель и добиться для самогó движения если не любви и уважения, то хотя бы меньшей ненависти и пылкого неприятия.
Работа началась с того, что я попробовал собрать шаткие части организации, по крайней мере, для одного совместного мероприятия. Спустя несколько дней как я принял руководство, мы провели в Шпандау, где у нас тогда была самая прочная база, наше первое генеральное собрание. Это мероприятие показало очень печальную картину состояния берлинского движения, которое сложилось в ходе кризиса. Присутствующие, которые скудно заполнили зал, разделились на две части. Одни были за, другие были против. Они навоевались друг с другом, поэтому всеобщее неприятие обратилось против меня лично и против предложенного мною нового курса, в котором интриганы смутно почувствовали, что он в самые кратчайшие сроки положит конец всем неорганизованным игрищам.
Я выдал главную мысль: под прошлым подведена черта и всё будет по-новому! Всякий, кто не готов работать ради этой идеи, будет исключён из движения безо всяких формальностей. Мы потеряли сразу приблизительно пятую часть от общего количества членов партии в Берлине. Однако у меня была твёрдая уверенность, что если организация была сплочена и не разделялась на части, то её существование не подвергалось опасности; именно сплочённость выступлений обещала больше результатов на длительное время, в том числе чисто количественных, нежели бóльшая организация вечно была бы под угрозой вредного воздействия горстки анархичных элементов.
Многие из моих лучших товарищей по партии тогда не хотели этого понимать. Они были убеждены, что не стоит отказываться от этой кучки сподвижников, которые отвернулись от партии и угрожали ей смертельной междоусобицей. Последующее развитие показало, что движение само, как только оно идёт на врага, преодолевает такие кризисы без риска, и то, что мы численно потеряли, многократно вернулось к нам вместе со здоровой и укрепившейся боевой организацией.
Берлинское движение уже тогда имело постоянную штаб-квартиру. Разумеется, она была самой примитивной. Организация занимала что-то вроде грязного подвала, расположенного во флигеле дома на Потсдамерштрассе. Там сидел так называемый управляющий, который вёл гроссбух и ежедневно по памяти записывал в него все поступления и выплаты. Углы были завалены кипами бумаг и старых газет. В передней толпились группки безработных членов партии, которые о чём-то спорили до хрипоты и курили.
«Курильня опиума» Первая штаб-квартира NSDAP в Берлине, Потсдамерштрассе 109

Мы назвали этот подвал «курильней опиума». И такое наименование, казалось, было абсолютно точным. Помещение освещалось лишь с помощью лампы. Как только открывали дверь, сразу ударял густой дым сигарет, сигар и трубок. Само собой, здесь было невозможно даже думать о серьёзной и систематической работе.
Управление партией не может опираться на одни только хорошие убеждения её членов. Убеждения должны быть естественной предпосылкой для профессиональной партийной работы, поэтому на них не стоит делать акцент. Второй вещью, которой совершенно не доставало в «курильне опиума», была серьёзная воля и способность что-нибудь выполнять. Здесь царила полная кутерьма. Порядок едва ли существовал. Финансы находились в неутешительном состоянии. В тогдашнем берлинском округе не было ничего, кроме долгов.
Одной из самых важных задач организации было, прежде всего, поставить партию на нормальную финансовую основу и найти для неё те средства, с которыми она могла бы вообще приступить к отрегулированной работе. Мы, национал-социалисты, представляем точку зрения, что революционная боевая партия, которая двинулась к цели разрушить интернациональный капитализм, не может брать деньги у капитализма, которые ей нужны для партийного строительства. Поэтому для нас с самого начала было очевидно, что молодое движение в Берлине, которое я имел честь возглавлять, само должно было раздобыть средства для своего первичного устройства. Если движение не располагало для этого силой и волей, оно было не жизнеспособно, и в таком случае нам представлялось напрасным усилием тратить время и труд на задачу, которой мы не могли доверять.
Не требуется особенного пояснения, что руководство движением должно осуществляться по возможности дёшево. Но с другой стороны имеются определённые предпосылки, которые должны существовать для целеустремлённой организации; их обеспечение необходимыми финансами было целью моей начальной работы.
Я даже апеллировал к готовности товарищей по партии жертвовать средства. В День покаяния в 1926 году мы собрались в саду Виктория-гартен в Вильмерсдорфе, в зале, который потом ещё часто будет местом наших пропагандистских триумфов; в длинной речи к шестистам соратникам я изложил необходимость здорового финансового базирования берлинской организации. Результатом этой встречи было то, что партийные товарищи обязались ежемесячно предоставлять тысячу пятьсот марок в виде взносов, которые переводили нас в положение, позволяющее предоставить движению новую резиденцию, нанять самый необходимый административный персонал и начать борьбу за столицу государства.
Против разложения (часть 2)
С политической точки зрения город Берлин и его население до тех пор представлялись мне тайной за семью печатями. Я знал их только по случайным визитам, так что они всегда оставались для меня загадочными, но мрак начал рассеиваться, когда я сам вступил в этот город-монстр из камня и асфальта, хотя с удовольствием покинул бы его.
Берлин можно узнать, только если проживёшь в нём несколько лет. Тогда тёмное и таинственное Нечто этого города-сфинкса внезапно поглощает. Берлин и его жители пользуются в стране дурной славой больше, чем заслуживают. Виноваты в этом по большей части те безродные интернациональные евреи, которые ничего не делают, кроме того, что паразитируют за счёт прилежного коренного населения.
Берлин обладает несравненной интеллектуальной гибкостью. Он живой, энергичный и дерзкий, его характер не поддаётся рассудку, а язвительность сильнее юмора. Житель Берлина деятелен и жизнерадостен. Ему по душе работа и по душе удовольствия. Он способен посвятить себя чему-то со всей страстностью живой души, и нигде нет такого ожесточённого фанатизма, прежде всего в политике, как в Берлине.
Разумеется, этот город таит в себе опасности. Ежедневно вращающийся маховик миллионами газетных экземпляров впрыскивает еврейский яд в столичный организм. Берлин раздирают сотни загадочных сил, поэтому в этом городе тяжело найти надёжную опору и уверенно отстаивать общественно-политическую позицию.
Асфальт стал той почвой, на которой растёт и бешеными темпами разрастается Берлин. Ни материально, ни духовно город не питается собственными ресурсами. Он живёт за счёт провинциального массива, однако понимает, что всё то, что послушно отдаёт ему провинция, необходимо возвращать.
Любое политическое движение в Берлине имеет принципиально иной характер, нежели в провинции. Десятилетиями в Берлине кроваво бились за немецкую политику. Это делает здешний политический тип твёрже и намного жёстче, чем где бы то ни было.
Безжалостность этого города нашла свой отпечаток в его жителях. В Берлине говорят – птица жрёт или мрёт! Кто не понимает, что здесь надо работать локтями, оказывается на обочине.
Берлину нужны сенсации, как рыбе вода. Этот город живёт ради них, и любая политическая пропаганда не достигнет своей цели, если она этого не осознала.
Все партийные кризисы в Германии исходили из Берлина; и это также понятно. Берлин оценивает политику с позиции разума, а не сердца. Однако разум подвержен тысячам искушений, тогда как сердце всегда бьётся в своём равномерном ритме.
Всё это мы усвоили слишком поздно и осознали на горьком опыте. Зато потом мы построили на этом всю свою работу.
Мы заботливо привели в порядок финансы берлинского отделения и могли теперь двигаться к тому, чтобы заново отстраивать разложившуюся организацию. Для нас было благоприятным обстоятельством, что пока мы не опасались никакого внешнего давления. О нас ещё совсем не знали, а если кто и знал вообще о нашем существовании, то не принимал нас всерьёз. Название партии покоилось пока в безвестности, и никто из нас не был готов афишировать своё настоящее имя для широкой общественности. Это было правильно. Вместе с тем мы выигрывали время и возможность поставить движение на здоровую основу, которая не поддалась бы никаким натискам и нападкам, когда борьба неминуемо стала бы необходимой.
Фронтбанн

Берлинские штурмовые отряды уже тогда имели значительные силы. Они следовали своим славным боевым традициям за Фронтбанн (Frontbann).[3] Фронтбанн в сущности носил организующий характер в развитии национал-социалистического движения в Берлине до 1926 года. Разумеется, эта традиция была определена скорее интуитивно, чем сознательно. Штурмовик, марширующий в рядах Фронтбанн, был солдатом. Ему ещё не вполне хватало политических качеств. Одной из сложнейших задач в первые недели было превратить штурмовика в политического солдата. Эту задачу, правда, облегчала хорошая дисциплина, с которой старая партийная гвардия подчинялась и следовала новому курсу берлинского движения в той мере, насколько она участвовала в штурмовых отрядах.
Штурмовик хочет сражаться, и он имеет право на то, чтобы вести борьбу. Только в борьбе его существование доказывает свою правомерность. Штурмовые отряды без боевых тенденций бессмысленны и лишены цели. Как только берлинский штурмовик признал, что мы стремимся бороться за движение в столице вместе с ним, он безоговорочно принял нашу позицию, и в основном ему надо отдать должное, что скоро из хаотичной неразберихи вырвался новый импульс, и партия в триумфальном подъёме могла уже побеждать своих врагов один на один.
Больше трудностей тогда было в политической организации. У неё было мало традиций, управление в большинстве секций было слабым, компромиссным, без внутренней поддержки и силы воли. Мы должны были потратить много времени, чтобы ездить из одной местной секции в другую и сформировать из противящихся частичек организации прочную структуру. Иногда случалось, что мы сталкивались с подгруппами, которые всей своей сущностью походили скорее на патриотическую лавочку, нежели на революционное боевое движение. В этом случае приходилось бесцеремонно вмешиваться. В политической организации сформировалось некое подобие парламентской демократии, и верилось, что новое руководство сможет совладать с мышиной вознёй мнений различных групп.
Немедленно этому был поставлен конец. Мы снова, правда, потеряли ряд непригодных элементов, которые сами себя ассоциировали с партией. Но внутренне они не принадлежали нам.
Наше счастье, что марксизм и еврейская пресса не воспринимали нас тогда серьёзно. Если бы, к примеру, компартия в Берлине только догадалась, кем мы были и чего добивались, то она безжалостно и жестоко утопила бы в крови зачатки нашей работы. Тем, кто совсем не знал о нас на Бюловплатц или относился к нам с иронией, потом часто и горько приходилось в этом раскаиваться. Пока что мы ограничивались тем, что консолидировали саму партию, и наша работа была направлена больше вовнутрь, чем вовне, но это никоим образом не было для нас самоцелью, а только средством для достижения цели. Партия не была для нас драгоценностью, которую мы хотели запереть в серебряном сундуке; она была скорее бриллиантом, который мы полировали, чтобы потом безжалостно вклинить его во враждебный фронт.
Взрывоопасность, существовавшая в берлинском движении, была устранена, когда спустя небольшое время мы пригласили главное руководство организации на наш первый Гаутаг. Там были окончательно ликвидированы личные противоречия и выдвинуты лозунги для всей партии. Мы начали с начала!
В Берлине никогда нельзя избежать партийных кризисов надолго. Вопрос лишь в том, будет ли кризис в итоге сотрясать устройство партии, или будет преодолён организацией. Берлинское движение прошло через многие межличностные, организационные и программные кризисы. Они не причиняли большого вреда, а зачастую даже были полезны. Мы при этом всегда получали возможность выбрасывать из организации устаревший и непригодный материал и моментально восстанавливать находящееся под угрозой здоровье партии радикальным лечением.
Так было и в первый раз. После того, как партия преодолела кризис, она была очищена от болезнетворных элементов и могла с мужеством и энергией приступить к собственным задачам.
Уже тогда начинался первый террор, который становился более заметным, конечно, на улицах, чем ещё где либо. Ни один вечер не проходил без того, чтобы уличные банды красных не атаковали наших возвращавшихся домой соратников, а иногда жестоко избивали их. Но сама организация уже так укрепилась, что пролитая кровь сплачивала нас друг с другом, а не ввергала в страх и смятение.
Мы не могли ещё устраивать больших боевых слётов, так как организация не имела для этого внутренних ресурсов. Нам приходилось ограничиваться тем, что неделю за неделей собирать актив партии с симпатизирующими и попутчиками в малых залах, в своих речах реже затрагивать актуальные повседневные вопросы и чаще обсуждать программные основы нашего мировоззрения и таким образом вдалбливать их в головы партийных товарищей, чтобы те могли хоть как-то перед ними преклоняться. Вместе с тем, изначальное ядро партии объединялось в прочную структуру. Организация имела поддержку, идея углублялась в неутомимой просветительской работе. Каждый знал, ради чего шёл, цель была поставлена и на ней могла концентрироваться вся сила.
В то время уже были критики – те, кто со своей колокольни находил изъяны во всех решениях и в теории всегда знал лучше, чем мы делали на практике. Это нас мало заботило. Мы считали, что лучшая работоспособность в итоге всё же заставит их помолчать. Мы не могли сделать ничего, что не критиковалось бы попутчиками и всезнайками и не осуждалось бы в корне. Тогда было так же, как и сейчас. Однако те, кто перед каждым решением всегда знали лучше тех, кто должен был нести личную ответственность за эти решения, как должное требовали поделиться успехом, словно они сами приняли решение, которое привело к результату.
Несмотря на это мы переходили к повестке дня. Мы работали и часто занимались делами до глубокой ночи, пока критиканы[4] вставляли нам палки в колёса. Мы не боялись никаких тягот и трудностей. В упорной борьбе мы завоевали непререкаемый авторитет в организации, которая только что пережила опасность разрушиться в анархии. Не замечая сплетен, мы установили знамя идеи и поставили ради неё в строй фанатичных и полных решимости к борьбе людей.
* * *
Вечерами я вспоминаю с тихим внутренним трепетом, как совершенно никому неизвестный, с несколькими соратниками по былой борьбе, сидя в салоне автобуса, я ехал через весь Берлин на собрание. Кишащий муравейник большого города на улицах и площадях. Тысячи и тысячи людей в движении, кажется, лишённом цели. Выше – мерцающие огни этого города-чудовища. Тогда с беспокойным волнением я спрашивал сам себя, удастся ли когда-нибудь внушить этому городу имя партии и наши собственные имена, хотел он того или нет. Пока мы могли только надеяться и верить в этот час, но сам тревожный вопрос уже получил недвусмысленный ответ.
Начинающийся порядок (часть 1)
Движение в Берлине теперь было поставлено на ноги. Организация находилась в удовлетворительном состоянии, хотя она была пока незначительна по численности. Финансы становились всё более и более упорядоченными; в каких-то организационных вопросах партия была деятельна, и таким образом была в состоянии выплеснуть борьбу наружу, пока, правда, в сдержанных формах.
Нам было очевидно, что партии нужно было иметь новый штаб. Те помещения, в которых она ютилась до сих пор, оказались неподходящими и слишком примитивными. Это мешало упорядоченной и систематической работе. Так что скоро мы приступили к поиску новых помещений. Но эти первые неуверенные шаги, которые делала молодая организация, многократно сталкивались с недоверчивой критикой, даже внутри партии. В любой организации и во все времена будут существовать люди, которые не могут и не хотят понимать, что в изменившихся условиях необходимо прибегать к другим средствам и методам, и что, стоит лишь партии вырасти из ее самых маленьких и самых скромных истоков, примитивность ее организации и вспомогательные средства являются не самоцелью, а могут быть только средством ради достижения цели. Партию внешний мир всегда оценивает только так, как она сама представляет себя внешнему миру. У общественности в большинстве случаев не бывает других возможностей, чтобы проверить внутренний дух партии, ее действенность, активность ее приверженцев и ее руководства. Поэтому она в силу необходимости должна придерживаться того, что заметно для каждого.
Этим тоже должно было руководствоваться национал-социалистическое движение, прежде всего, принимая во внимание то, что оно вошло в политику не для того, чтобы занимать уютные местечки в парламенте и получить министерские посты, а скорее чтобы захватить империю и власть в целом. Если уж она была одержима этим дерзким честолюбием, то ее борьба за власть должна была происходить в таких формах, которые придавали бы и посторонним людям веру в то, что, все же, партия в действительности сможет в конечном счете достичь своих целей.
Последние недели заканчивающегося 1926 года были полностью заполнены внутренней организационной работой в партии. Нужно было решить много разных задач. Тут нужно было снова подбодрить робкого члена партии, у которого из-за нового курса партии с его быстрым темпом перехватило дыхание. Там нужно было поставить на место развязных критиков. Там нужно заменить неспособное руководство секции на новое. Дурные последствия только что перенесенного кризиса тоже отражались еще на всей партии самым опустошительным способом.
Мы бросили лозунг, что под прошлым следует подвести черту и начать двигаться вперед. Мы не могли сделать ничего лучшего, чем просто замолчать все внутренние споры, которые продолжались много месяцев недавнего прошлого, и загрузить партийную общественность новой работой. Однако мы при этом многократно сталкивались с критикой и некоторой враждебностью даже внутри политического руководства. Члены партии настолько помешались на личных спорах, что стали думать, что эти споры следует довести до конца, не обращая внимания на интересы самой организации. Руководство напротив стояло на точке зрения, что кризис следует считать исчерпанным и что были более важные дела, чем продолжение чисто личной борьбы, которая не могла привести ни к чему другому, как к постепенному изгнанию самых лучших и самых бескорыстных членов партии из организации.
Адольф Гитлер в октябре 1926 года послал меня в Берлин с особыми полномочиями, и я также был решительно настроен применить эти полномочия самым беспощадным образом. Берлинской организации так долго не хватало твердой и неуклонной руководящей руки, что она уже полностью привыкла к отсутствию дисциплины, и теперь каждое острое и бескомпромиссное вмешательство воспринималось в ней, само собой разумеется, как надоедливая и раздражающая претензия. У меня самого тоже, наверняка, не хватило бы для этого силы и выносливости, если бы мне с самого начала не гарантировали абсолютное доверие и неограниченное одобрение всех моих решений со стороны имперского партийного руководства и, в частности, со стороны самого Адольфа Гитлера.
Уже тогда и позже очень часто кое-кто хотел увидеть какие-то политические и личные расхождения между Адольфом Гитлером и мной. Ни о каких подобных расхождениях не могло быть речи ни тогда, ни сегодня. Я никогда не проводил политику на свой страх и риск и ни при каких обстоятельствах не решился и даже не попытался бы сделать такое даже сегодня. К этому меня побуждала и побуждает не только партийная дисциплина, которая лишь одна, как я убежден, дает нам силу и решимость для больших свершений, сверх того, я чувствую по отношению к руководителю движения с того самого дня, когда мне очень посчастливилось познакомиться с ним лично и я могу, пожалуй, сказать, высоко оценить и полюбить, настолько глубокую привязанность, как политическую, так и человеческую, что мне никогда бы и в голову не пришло предпринять что-нибудь без его одобрения, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то вопреки его воле. Для национал-социалистического движения это большой шанс, что в нем сформировался твердый и непоколебимый авторитет вождя, воплощенный в лице Адольфа Гитлера. Это придает партии при всех ее иногда очень ответственных политических решениях уверенную опору и надежную прочность. Вера в вождя в среде сторонников национал-социализма – почти можно было бы сказать – окружена таинственной и загадочной мистикой. Не говоря уже о чисто психологической ценности, которую представляет собой этот факт, он придает самой партии такую большую политическую силу и надежность, что она с нею, в действительности, стоит выше всех союзов и политических организаций.
Но Адольф Гитлер не только считается в своей партии ее первым и наивысшим вождем, он также действительно является таковым. Национал-социализм никак нельзя представить без него или тем более – против него. Он сам по праву указывал на то, что в 1919 году каждый вполне свободно мог бы выйти на борьбу с господствующим режимом и собрать движение, которое должно было привести к падению систему выплаты дани. То, что лишь он один почувствовал себя призванным к этой миссии и в конечном итоге начал выполнять ее очевидно для всего мира, это неопровержимое доказательство того, что судьба избрала именно его для этого. Только глупцы и профессиональные бунтари могут утверждать противоположное и действовать в соответствии с этим. Мне такое поведение никогда не приходило в голову. И так как судьба подарила мне еще счастье приобрести в лице Адольфа Гитлера не только политического руководителя, но и личного друга, моя дорога была предначертана с самого начала; сегодня я могу с глубоким удовлетворением установить, что я никогда и нигде не отклонялся с этого пути.
Адольф Гитлер вошел в политику как никому неизвестный ефрейтор. Свое громкое имя он получил не в подарок от рождения. Он завоевал его в жесткой и самоотверженной борьбе против сил преисподней. Исходя из его опыта, он обладал также самым глубоким и самым широким пониманием для политических конфликтов, которые должны были с неуклонной последовательностью происходить теперь в Берлине. Он был одним из немногих, которые сохранили хладнокровие и спокойные нервы во всех этих более поздних кризисах в борьбе за столицу Империи. Когда сброд прессы подымал вой против нас, когда на движение обрушивались запреты и преследования, когда о нем распространяли клевету и ложь, когда даже самые твердые и обладающие самым сильным характером партийцы тут и там малодушничали и падали духом, он как верный товарищ и везде и всюду поддерживал нас, был нашим вождем в спорах, защищал наше дело со страстью, даже если это дело атаковали из самих партийных кругов, у него при всякой опасности находилось одобряющее и при каждом успехе радостно поддерживающее слово для борющегося фронта, который, возрастая в условиях самых тяжелых лишений и из самых маленьких истоков, двигался на борьбу против марксистского врага.
Чем больше теперь наше беспрерывное продвижение врывалось в общественность, тем больше также лично я выходил из тени анонимности в свет прожекторов общественного наблюдения. Национал-социалистическое движение в самой отчетливой форме представляет принцип личности. Оно не поклоняется слепо массе и количеству, как демократическо-марксистские партии. Масса для нас это несформированный материал. Только в руках мастера политики из массы получится народ и из народа выйдет нация.
Мужчины делают историю! Это наше непоколебимое убеждение. Мужчины у немецкого народа отсутствовали со времен Бисмарка; и поэтому после его ухода большой немецкой политики больше нет. Народ также ощущает это в глухом и темном предчувствии. Как раз во время после 1918 года мышление масс все больше и больше наполнялось тоской по сильным личностям вождя. Если демократия питает у масс иллюзию, что суверенный народ якобы хотел бы управлять собой сам, то сами эти массы могли бы поверить этому только лишь на короткий промежуток времени, когда Германия стала жертвой безумия уравниловки, так как мужчины, которые действительно управляли ею, никоим образом не были идеальными представителями высокого искусства политики. Народ всегда сам хочет управлять собой лишь тогда, когда система, которая им управляет, больна и продажна. У народа нет потребности ни в определенном избирательном праве, ни в так называемой демократической конституции, до тех пор, пока он проникнут убеждением, что правящий слой проводит хорошую и честную политику. Народ хочет только, чтобы им управляли честно и прилично; но система, которая не обладает нужными для этого волей и способностями, должна насвистывать на ухо легковерным массам соблазнительные идеологии демократии, чтобы заглушить и усыпить тем самым растущее недовольство в городе и деревне.
Национал-социалистическое движение рискнуло объявить борьбу этим лицемерным иллюзиям в то время, когда это было непопулярно и делало непопулярным. Мы противопоставили левому и безответственному поклонению перед массами принцип личности. И неизбежным последствием этой позиции было только то, что постепенно в самой партии выкристализовывались сильные и своеобразные характеры, которые все больше и больше использовали мышление всего движения и исполняли его.
Это не имеет ничего общего с личностью. В газетах наших противников нас часто упрекали в том, что мы-де почитаем «византийское» низкопоклонство, которое даже противнее, чем культивировавшийся перед войной «вильгельминизм» (культ императора Вильгельма Второго – прим. перев.). Этот упрек совершенно несправедлив. Он исходит от бессилия других создать такие же авторитеты в парламентском партийном болоте и дать массам такую же веру в эти авторитеты.
Популярность, которая искусственно создается прессой, большей частью длится только короткое время; народ выносит и терпит ее только с недовольством и с внутренним противоречием. Есть большая разница между тем, когда демократическую величину еврейская пресса искусственно раздувает до определенной, уже проникнутой скепсисом популярности, и тем, когда настоящий народный вождь путем борьбы и беззаветного самопожертвования завоевывает себе доверие и безусловную поддержку следующих за ним народных масс.
Но если бы принцип авторитета всегда и при каждом решении, которое должно быть принято, бросали на чашу весов, это было бы излишним перегибом. Чем меньше применяется авторитет, тем дольше его хватит. Умный и осмотрительный политический руководитель масс использует его только очень редко. Он наоборот будет руководствоваться большей частью стремлением логично обосновывать и оправдывать перед массами все то, что он делает или не делает, и только тогда, когда все аргументы оказываются безрезультатным или определенные обстоятельства принуждают его, по крайней мере, временно к тому, чтобы он умолчал о самых важных и самых убедительных аргументах, добиться принятия своего решения при использовании авторитета.
Авторитет в длительной перспективе не может действовать эффективно только вследствие того, что его прикрывают и подпирают сверху. Прежде всего, тогда нет, когда он вынужден все больше и больше принимать непопулярные решения и при этом не владеет даром давать массам необходимое обоснование этих решений. Он должен всегда и постоянно питаться и поддерживаться своими силами. Чем больше достижения, которые может продемонстрировать авторитет, тем большим тогда всегда является и он сам.
Партийная организация в Берлине настаивала на действиях в то время, когда движение для этого еще не был способно и не было достаточно сильно. Мы воспротивились этому всей силой и даже с учетом временной потери популярности. Партийное товарищество представляло себе дальнейшее развитие так, что с использованием нового руководства начнется борьба на всей линии. Еще нельзя было понять, что сначала должны быть достигнуты определенные предпосылки, если мы не хотели подвергнуть себя опасности того, что наша борьба очень скоро прекратится как неосуществимая.
Невозможно было выйти к общественности с организацией, которая вовсе не могла бы выстоять перед глазами общественности. Сначала организацию следовало укрепить изнутри, только потом мы могли бы «выйти наружу», приступив к битве за Берлин.
Каждая организация стоит и падает с ее руководством. Если в каком-либо городе или в провинции находят хорошего, пригодного и осмотрительного руководителя, который энергично берет в свои руки организацию движения, тогда партия очень скоро поднимется вверх даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Но если этого не происходит, то самые благоприятные обстоятельства не смогут дать ей особенный стимул. Поэтому наше основное внимание должно было направляться, прежде всего, на то, чтобы подобрать хорошо подготовленный, решительный корпус руководителей среднего звена организации в Берлине, и где таких людей еще не было в наличии, там нужно было воспитать их из находящегося в распоряжении человеческого материала для этих заданий.
Этой цели в первое время служили проводившиеся каждый месяц по воскресным вечерам со всегда растущим количеством участников областные съезды. На этих съездах собиралось все руководство организации, а именно политическое руководство и руководство СА вместе. В основных рефератах здесь обсуждались мировоззренческие принципы нашего движения, разъяснялись сущность пропаганды, организации, политической тактики и освещались со всех сторон в форме диалогов. Значение этих областных съездов для всей организации постоянно росло. На них определялись направление и пути, и плод этой трудной учебной работы должен был тогда также очень скоро созреть и в направленной наружу политической борьбе движения. Характер партии в Берлине должен был быть иным, чем в каком-либо другом крупном городе или в провинции. Берлин – это город с четырьмя с половиной миллионами жителей. Очень тяжело пробудить это тягучее асфальтовое чудовище от его летаргического сна. Средства, которые применяются для этого, должны соответствовать всей огромности этого города. Если нужно взывать к миллионам людей, то это может происходить только на том языке, который понятен миллионам людей.
Пропаганда в старом обывательском стиле для движения в Берлине никоим образом не подходила. Мы выглядели бы благодаря ей только смешными, и никогда партия не выросла бы за рамки сектантского существования. Общественность вплоть до реорганизации партии смотрела на нас только с определенным сочувствием. Нас считали безобидными сумасшедшими, которых лучше всего было бы предоставить самим себе, не принося им бед.
Это было самым тяжелым, что нам пришлось вынести. Нас можно было бы ругать и клеветать, бить до крови и бросать в тюрьмы. Это казалось нам даже желательным. Но то, что на нас не обращали внимания с вызывающим безразличием и в лучшем случае одаривали нас в прочем только сострадательной улыбкой, это поощряло в нас последнюю силу, это приводило нас к тому, чтобы выдумывать снова и снова все новые средства общественной пропаганды, не выпуская ни одной возможности, чтобы увеличить активность партии в таком масштабе, что она в конце концов заставила задохнуться, пусть даже временно, даже этот гигантский город, у врага это отбило охоту смеяться!
Начинающийся порядок (часть 2)
Также средства пропаганды в Берлине отличаются от тех, что используются в остальной Империи. Листовка, которая применяется в политической борьбе в провинции неоднократно и с большим воздействием, оказалась здесь совершенно неподходящей. Не говоря уже о том, что у нас не хватало денег для изготовления и распространения листовок в той массе, чтобы они вообще произвели хоть какое-то впечатление на этот гигантский город, Берлин настолько пресыщен всяческой напечатанной бумагой, что листовка на каком-то углу улицы воспринимается самое большее исключительно из жалости, чтобы в следующее мгновение окончить свое существование в водосточной канаве.
Пропаганда с помощью плакатов и собраний обещала там, без сомнения, лучший результат. Но также и она, применяемая в том же самом стиле, как у других партий, едва ли принесла бы нам существенные успехи. Потому что другие партии были уже прочно укоренены в массах. Политические лагеря настолько уже закостенели по отношению друг к другу, что едва ли было возможно отломить от них хоть кусочек. Мы должны были попытаться скомпенсировать недостаток в деньгах и в приверженцах остроумной и соответствующей мышлению берлинцев оригинальностью. Необходимо было в самой широкой форме пойти навстречу тонкому пониманию берлинцами заостренных формулировок и убедительных лозунгов. Мы рано начали с этого, и, как показало дальнейшее развитие, не остались без успеха.
Прежде всего, конечно, мы должны были довольствоваться теоретическим познанием этих связей, так как нам пока не хватало еще средств, чтобы реализовывать их практически. На наших ежемесячных областных собраниях эти вопросы были большой темой, которая много обсуждалась с разных сторон. Удивительно, насколько бодрым и оживленным было понимание этих вещей в старой партийной гвардии. Только изредка находился лицемер и скучный критикан, который критически изливал свой гнев также в этих проектах. Однако, большая часть партийного товарищества с готовностью принимала участие и желала только как можно скорее вдохнуть жизнь в организацию, как мы говорили, чтобы иметь возможность приступить к практической работе.
Мне очень повезло уже при этих подготовительных работах найти ряд друзей и товарищей, которые не только проявляли самое широкое понимание моих планов, а также по своему характеру и способностям казались также предрасположенными к тому, чтобы в той или иной области с успехом дополнить, например, с кистью или чертежным карандашом то, чего я пытался достичь словом и письмом.
Я не могу при этом не упомянуть одного человека, который с первого дня моей деятельности в Берлине и до этого часа помогал мне во всем смело и бескорыстно, и которому к тому же художественный талант дал способность указывать новые дороги партии и ее еще не определившемуся и только намеком сформулированному художественному стилю. Я имею в виду нашего художника Мьольнира, который тогда как раз закончил свою первую серию национал-социалистических боевых плакатов и был теперь снова захвачен вихрем смелого движения вперед оживающей активности берлинской организации. Это он, один и впервые, графически изобразил тип национал-социалистического штурмовика на захватывающих и призывающих массовых плакатах.
Таким, как Мьольнир углем и кистью в страстной интуиции изображал штурмовика на бумаге и холсте, таким он войдет бессмертно в память будущих поколений. Это в действительности было началом нового, ожидаемого нами в глухом предчувствии художественного стиля молодого движения, который без приказа нашел здесь свою первую волнующую и потрясающую форму выражения, простую, величественную и монументальную.
Этот молодой художник обладал редким талантом не только художественного изображения, но и убедительной словесной формулировки с гениальной виртуозностью. У него изображение и лозунг возникают в одинаковой неповторимой интуиции, и оба вместе дают тогда в итоге увлекающее и бунтовское массовое воздействие, от которого не могут уклониться на длительный срок ни друг, ни враг.
«Берлин вперед!» Открытка Мьольнира

Я с начала моей работы в Берлине тоже научился в этом отношении очень многому. Я прибыл из провинции и мыслил еще полностью как провинциал. Масса в начале была для меня только темным чудовищем, и я сам еще не был одержим волей завоевать ее и управляться с нею. Без этого в Берлине долго удержаться нельзя. Берлин – это с точки зрения демографической политики конгломерат массы; тот, кто хочет здесь кем-то стать и что-то значить, тот должен говорить на языке, который понимает масса, и свои действия обставлять и обосновывать так, чтобы масса смогла придать этому свою симпатию и преданность.
Неизбежно у меня при этом развился также новый стиль политической речи. Если я сегодня сравниваю стенограммы моих речей во время до Берлина с моими же более поздними речами, то первые кажутся мне почти ручными и доморощенными. И так же, как мне, тогда жилось всем агитаторам берлинского движения. Темп четырехмиллионного города дрожал как горячее дыхание от риторических декламаций всей пропаганды имперской столицы. Здесь говорили на новом и современном языке, который не имел уже ничего общего со старинными, так называемыми национально-народническими (фёлькиш) формами выражения. Национал-социалистическая агитация приспосабливалась для восприятия масс. Современный взгляд на жизнь партии искал и находил также здесь свой современный, увлекающий стиль.
Помимо областных съездов неделю за неделей происходили наши регулярные массовые собрания. Они большей частью проводились в большом зале дома союза бывших фронтовиков, который получил почти историческое значение для нашего дальнейшего развития. Разумеется, они заслуживали названия массовых собраний только в ограниченном объеме. При этом широкие массы участвовали в этих собраниях только в исключительных случаях. Круг слушателей, примерно от 1000 до 1500 мужчин и женщины, формировался в основном из собравшихся со всего Берлина членов партии с несколькими попутчиками и симпатизирующими. Это пока что вполне устраивало нас. У нас благодаря этому была возможность высказываться между собой в полной мере, не опасаясь того, что мы с самого начала были бы сбиты с толку запутанными и опасными дискуссиями с партийно-политическими противниками. Здесь мы во вводной форме объясняли широким массам партийцев основные идеи национал-социализма, которые понимались порой очень расплывчато и запутанно. Здесь мы сплавляли их в единую систему политического мировоззрения. В дальнейшем оказалась, какое огромное значение имела эта работа, которую мы систематически проводили в течение тогдашних недель. Если впоследствии сама партия и особенно ее старая гвардия оказались неуязвимы против всей внешней враждебности и преодолела без большого труда все кризисы, с которыми столкнулось движение, то за это нужно благодарить тот факт, что члены партии были воспитаны в единой и твердой догматике и тем самым могли справиться с любыми искушениями, к которым им хотел подтолкнуть враг.
Здесь как раз стоит рассказать о непреходящих заслугах, которые имела старая партийная гвардия во время создания и развития берлинского движения. Хотя это были только несколько сотен мужчин, которые тогда встали под наше знамя как подвергающаяся насмешкам секта. Они переносили любую клевету и преследования и так через силу их подавления сами росли за пределы их собственных сил. Первые национал-социалисты в Берлине с трудом справлялись с этим. Кто тогда становился на нашу сторону, тот должен был побеждать не только террор грубой силы, он должен был позволить также изо дня в день в бюро и цехах подвергаться ледяной насмешке и насмешливому презрению безразличной и заносчиво надменной массы. Маленький человек страдает от этого большей частью гораздо больше, чем тот, кто стоит во главе организации. Он всегда находится в непосредственном тесном контакте с противником, когда этот противник – сосед у столярного верстака и на конторском стуле. Он сидит вместе с ним в автобусе, в трамвае, в метро. В то время в Берлине дерзкой и смелой выходкой было даже носить наш партийный значок или публично продемонстрировать одну из наших газет.
Но и этого мало. До тех пор пока маленький человек проникнут убеждением, что за ним стоит массовая организация, и что таким образом его дело находится в хороших руках, что победа за победой и триумфом за триумфом будет завоевываться его движением, до тех пор пока можно молча и с высокомерием выносить позор и насмешку и насмешливое презрение. Но в то время все еще было совсем не так. Как раз наоборот! Мы были до смешного маленьким союзом. Нас даже не знали по имени. Нас считали в духовном плане несколько ограниченными сектантами; движение не могло еще похвастаться успехами, а к жестким притеснениям теперь добавлялись потери и неудачи.
Помимо всего этого, несколько сот членов партии должны были приносить неслыханные и едва ли сносные жертвы ради молодого прогрессирующего движения. Как известно, гораздо тяжелее начинать какое-то дело, чем поддерживать уже существующее в активном состоянии. Нужно было заложить самые примитивные основы нашей организации. Все это стоило большого количества денег, и деньги приходилось собирать из скудных голодных грошей маленьких людей.
Мы были бы тогда, вероятно, часто разочарованы в нашем задании, если бы достойная восхищения и не боящаяся никаких жертв преданность наших партийцев общему делу не наполняла нас снова и снова новым мужеством и новой верой. Сегодня новые вступившие члены партии иногда считают даже слишком большой для себя жертвой, если они должны уплачивать регулярные, в большинстве случаев чрезвычайно сносные ежемесячные взносы в пользу движения. Тогда же каждый член партии послушно и охотно жертвовал 10 % и больше всего своего дохода ради партии. Ибо мы исходили из убеждения, что, если мы под давлением законов отдаем десятину доходов современной системе, мы по принуждению морального долга должны быть готовы жертвовать, по меньшей мере, столько же для партии, которой мы верили и надеялись, что она возвратит честь немецкой нации и хлеб немецкому народу.
Старая партийная гвардия образует еще сегодня становой хребет всего движения. Товарищей того времени можно найти с тех пор повсюду в организации. Также сегодня они, как тогда, тихо и молча исполняют свой долг. Один как руководитель секции, другой как руководитель штурмовиков, один как староста уличной ячейки, другой как глава партийной ячейки на фабрике, и многие, как и в то время как простые члены партии или неизвестные штурмовики. Мало кто помнит их имена. Они также, пожалуй, довольствовались этим. Но как партийная гвардия, которая подхватила и вскинула наше пошатнувшееся знамя, когда ему угрожало шатание и падение, они останутся незабываемыми всегда, до тех пор пока в Германии говорят о национал-социализме.
Мы сплотили эту партийную гвардию в особенную, строго дисциплинированную маленькую организацию. Эта организация несла имя "Союз свободы". Уже одно имя выражало, что люди, собравшиеся вместе в этой организации, готовы были отдать все ради свободы. Они собирались ежемесячно и на протяжении целого года в геройском жертвовании предоставляли в распоряжении помимо своей крови и жизни также те финансовые средства, которые были необходимы для первичного создания партийной структуры.
Район Шпандау был в то время одной из первых прочных опорных баз политической организации СА. Говорят, что жители Шпандау были крещены другой водой, чем жители Берлина. И, в действительности, у этой базы были свои трудные особенности. Но если было нужно, если партия готовилась к ударам, будь это ради защиты или для продвижения ее позиций вперед во время атаки, тогда эта опорная база вставала как один человек. Из этой секции штурмовиков в Шпандау мы вели изначальную борьбу Берлинского движения. В Шпандау состоялись первые сенсационные национал-социалистические массовые собрания в столице Империи. Отсюда движение в беспрерывном развитии охватило сам Берлин.
Еще сегодня нам каждый раз доставляет радость и успокоение, когда приходит один из старых партийных гвардейцев и с глазу на глаз подвергает критике то или иное затруднение в движении. Тогда с самого начала все знают, что эта критика продиктована заботой о сохранении партии, и что тот, кто критикует, ни в коем случае не хочет с помощью критики поднять свой авторитет, и что только заинтересованность к делу партии побуждает его к таким действиям. Тот же человек, кто с глазу на глаз безжалостно критикует настоящие или мнимые недостатки партии, скорее откусил бы себе язык, чем нанес бы партии какой-то вред публичным неосмотрительным поступком. Он заслужил себе также это право на критику тем, что в течение долгих лет находился на самом переднем фронте и всегда был готов доказать, что он, если необходимо, полностью станет на защиту партии.
Как жалко выглядят в противоположность этому те задиры и крикуны, которые всегда всплывают на поверхность только тогда, когда ожидаются успехи, и видят свою задачу, прежде всего, в том, чтобы критически разжевывать то, что достигли другие без них и иногда против них. Когда нам нужно только работать, бороться и отдавать все свои силы, тогда этих привередников и днем с огнем не сыщешь. Они позволяли нам делать всю самую грубую работу; и только, когда тележку уже вытащили из грязи, они появлялись на краю партии, тут же прибегали с хорошими советами и не уставали бороться против нас со всей буржуазной пошлостью.
Потому мне в сотни раз ближе тот маленький, заслуженный партийный гвардеец, который с давних пор для исполняет молча свой долг и обязанность для движения, не требуя взамен этого ни славы, ни чести, пусть даже он иногда не умеет пользоваться словом так элегантно как прожженные акробаты стиля, чем те жалкие буржуазные фигуры, которые теперь, когда движение стало самой большой немецкой массовой партией и уже стучит в ворота власти, внезапно обнаруживают в себе горячую поддержку нашего движения, и в самоотверженной заботе стараются, чтобы движение оказалось также достойным той ответственности, которую оно взяло на себя с помощью народного мандата.
1 января 1927 года мы простились с "Опиумной норой" на Потсдамер Штрассе и заняли наше новое бюро на Лютцовштрассе. По сегодняшним меркам, оно кажется все еще маленьким, скромным и примитивным, да и методы работы, которые здесь вводились, тоже в общем еще соответствовали этому. Но для того времени это был рискованный скачок. Из дыры в погребе мы поднялись на первый этаж. Из прокуренного кабачка для споров появился твердый, единообразно организованный политический центр. Здесь можно было осторожно управлять движением. Новое бюро предлагало пока что еще возможность принимать дальнейшее пополнение в партию и сливаться с организацией. На работу был принят самый необходимый персонал, разумеется, иногда после жесткой и трудной борьбы с самими членами партии, которые уже настолько привыкли к старой медлительности и волоките, что считали их даже необходимыми и думали, что каждое продвижение вперед – это признак капиталистического хвастовства и мании величия.
Наши цели были честолюбивы, но развитие, в конце концов, пошло однако, даже быстрее, чем наши рвущиеся к небу планы. Начиналось триумфальное шествие движения и оно очень скоро должно было стать беспрерывным. С растущим успехом массы получали все больше и больше доверия к нам. Партия росла также и с точки зрения численности.
В этом новом бюро у нее впервые было прочное местонахождение и опора. Здесь можно было работать, здесь можно было организовывать и проводить самые необходимые конференции. Здесь был гарантирован спокойный и упорядоченный ход дела. Отсюда в движении вводились новые методы работы. Администрация давала самой организации тот импульс, который придавал ей силу беспрерывно маршировать вперед и продвигаться дальше.
В те недели на берлинской сцене много сот раз с большим успехом ставили пьесу Гёцше «Нейтхардт фон Гнейзенау». Для меня это было первым большим театральным событием в имперской столице. Одна фраза этого одинокого генерала, который не понимал мира, и которого сам мир не хотел понять, навсегда осталась в моей памяти: «Пусть Бог даст вам цели, все равно, какие!»
Бог дал нам цели. И уже было не все равно, какие. Мы верили во что-то. Цель была понятна, вера в то, что мы смогли бы достичь ее, укреплена в нас непоколебимо, и таким образом мы, полные смелости и уверенности в себе, отправились в путь, даже не догадываясь, сколько бед и забот, сколько террора и преследований ожидали нас на этом пути.
Террор и сопротивление (часть 1)
У политического движения враги есть не только тогда, когда оно малочисленно и ему не хватает агитаторской остроты и пропагандистской активности. В этом случае, вне зависимости от своих целей, оно вообще никого не будет интересовать. Но как только движение преодолевает определенную стадию своего развития, выходит на новый уровень, начинает привлекать к себе внимание общественности, враги вынуждены вступать с ним в борьбу, сетуя на прежнюю недооценку этой организации. Однако на этом новом для себя этапе движение должно быть готово испытать на себе с избытком все «прелести» политических антагонизмов – ненависть, клевету, кровавый террор.
В политике никогда не зависело все только от идей, но в значительной степени от средств власти, через которые эти идеи достигаются. Идея без власти, будь она сто раз правильной, остается теорией. Поэтому носители идеи обязаны применить все усилия для достижения власти и посредством ее реализовать затем свои чаяния.
Национал-социалистическое движение в Берлине за два месяца внутренней перестройки в целом успешно преодолело первый этап своего развития. Оно значительно укрепилось, и было готово к нападкам извне. Партия сформировала уже ярко выраженные претензии на власть. Ее мировоззрение было четким, организационные структуры представлялись устойчивыми, и надо было закреплять и развивать наработанный потенциал. Но уже первые осторожные шаги организации на широком пропагандистском поприще, вызвали пристальное внимание противника и были легко предсказуемы, так что оставлять пропаганду без чуткого руководства в ее пока примитивном развитии не представлялось возможным.
Как только марксизм, который, как известно, всегда претендовал на монополизацию общественного мнения и считавший столицу Германии своей вотчиной, замечал, что в наших намерениях и планах имеется только претензия пошатнуть незыблемый девиз «Берлин останется красным!», он тут же обрушивался на нас всей мощью своей организации. Оборонительный бой, бушевавший по всей линии, осуществлялся нами, в тоже время, не только против коммунизма. Социал-демократия и большевизм демонстрировали в данном вопросе исключительное единодушие, и нам приходилось вести борьбу на два фронта – против царящего на улицах большевизма и против засевших в учреждениях и ведомствах социал-демократических чиновников.
Борьба начиналась со лжи и клеветы. Она выливалась как по команде на молодое движение. Марксизм хотел любой ценой удержать сомневающихся членов компартии, всё активней посещавших наши собрания и находивших там ответы на мучившие их сомнения. Он давал им заменитель и суррогат нашей истинной идеологии, при этом лживо и подло искаженный. В их интерпретации движение представлялось сборищем преступных и маргинальных элементов, боевые дружины клеймились как шпана, вожди вообще были жалкими и пошлыми подстрекателями, состоящими к тому же на службе у капитализма и имевшими одну цель – вносить раздор, брожение в единый марксистский фронт, который, в свою очередь, стремится сокрушить буржуазное классовое государство.
Эта травля приобрела невиданные доселе масштабы. Не проходило дня, чтобы газеты не сообщали о «преступлениях» нацистов. Общий тон задавался с подачи Форвертс (Vorwärts) и Роте Фане (Rote Fahne), и уже потом весь еврейский газетный оркестр затягивал свою демагогическую травляфонию.
А под этот мотивчик рука об руку шел по улице красный террор. Любой из наших товарищей, возвращающийся домой после собрания, мог быть зарезан или застрелен в ночной темноте. Нападавшие старались обеспечить как минимум десятикратный перевес и атаковали обычно на задних дворах больших арендных казарм, где жило немало наших соратников. Угрожали нашим друзьям в их собственном бедном жилище. Мы обращались за защитой в полицию, что, впрочем, было бесполезно.
Привычным становилось отношение к нам как к людям второго сорта – никто не мог гарантировать, что в один прекрасный день любой из нас не мог оказаться с братским пролетарским ножом в спине.
Это время было тяжело и почти невыносимо. Однако при всех кровавых жертвах, которые навязывали исключительно нам, эта борьба имела и положительные стороны. О нас стали говорить. Нельзя уже было замалчивать нас или не замечать. Наши имена зазвучали, пусть и с оттенком гневной досады. Партия обретала известность. Она молниеносно стала центром общественного интереса. Летаргический сон Берлина был прерван горячим штормовым ветром, который поставил всех перед дилеммой – за или против. То, что раньше казалось нам лишь несбыточной мечтой внезапно воплотилось в реальность. О нас говорили, нас обсуждали, и при этом общественность заинтересовалась – а кто это такие и чего собственно они хотят? Пресса достигла того, чего, в общем, и не держала в намерениях. То, на что нам понадобились бы, возможно, годы – отныне мы не были в забвении! Наши имена передавались из уст в уста, пусть и с неприкрытой ненавистью. До сих пор над нами только смеялись. Но потребовалось два месяца работы, чтобы врагу было уже не до смеха. Из безвредной игры получилась суровая реальность.
Противник тем временем совершал очевидные психологические ошибки. Например, искусные попытки внести раскол в организацию на данном, еще непрочном этапе, породить сомнения среди ее низшего уровня, возможно, привели бы к нежелательным для нас последствиям. Но, напротив, одновременные нападки на лидеров движения и его рядовых членов приводили к консолидации общего фронта яростной обороны. Локальные предательства, конечно, случались, но общая атмосфера окружавшей нас враждебности лишь укрепляла партийный дух товарищества перед вражеским давлением.
Как-то сами собой скапливались на моем столе полицейские и судебные повестки. Словно в один момент я стал неблагонадежным гражданином. Но кто ищет, тот находит. В данном случае неприятности. Ведь если принимаешь решение противостоять правящему режиму, ты должен отдавать себе отчет, что твоя деятельность неизбежно войдет в конфликт с законом.
Каждое такое любезное приглашение к общению приближало меня к Моабиту.[5] Впервые появляясь в обширном красном здании Берлинского суда, я еще не думал, как часто мне придется здесь бывать. К немалому удивлению, я узнавал здесь, что именно делает человека государственным преступником. Они выжимали из меня все соки и можно было заметить, что не одно из сказанных и написанных мною слов не оставалось без внимания высокопоставленных чинуш.
Настоящая борьба на общественном поприще началась в нашей твердыне – опорного пункта в Шпандау. Там в последних числах января мы устроили первое настоящее массовое собрание. Мы апеллировали к марксистской общественности, и этот призыв оказался услышан. Свыше пятисот красных фронтовиков рассредоточились по залу, растворились среди наших зрителей, и теперь «шабаш ведьм» мог начинаться. Они старались не обнаруживать себя, им нужна была информация о нас, говоря их языком, они собирались «проверить нас на вшивость».
Наше чистосердечное агитационное намерение, приглашение к диалогу, было, тем не менее, перечеркнуто и разрушено в дальнейшем. С самого начала мы четко объявили, что мы готовы к открытой дискуссии с любым «честным товарищем», что каждая сторона получит достаточно времени для высказываний, но регламент определяем мы по домашнему праву проведения мероприятия, и каждый, нарушающий установленный порядок, будет выдворен членами СА на свежий воздух.
Это был язык, на котором до сих пор в Берлине говорили только на марксистских собраниях. До сих пор красные чувствовали себя уверенно и всесильно в этом городе. Они абсолютно не воспринимали серьёзно большинство дискуссионных собраний по поводу марксизма, организуемых буржуазными объединениями. Более того, у них считалось нормальным просто игнорировать или высмеивать подобные собрания.
У нас же был принципиально другой подход. Мы говорили и с марксистом, и с простым человеком из народа на понятным им языке на разные, в том числе самые злободневные темы. И это подкупало. Мы были открыты для общения, готовы к любой дискуссии, мы вставали с пролетарием на одну ступень, друг против друга.
А пролетарий обладает обострённым, ярко выраженным чувством справедливости. И кто это понимает и подает ту или иную проблему в понятной для него форме, всегда может рассчитывать на ответную симпатию.
Но тогда диалог был практически нереален, поскольку красные провокаторы путем своей бессовестной демагогии еще до начала собрания сделали невозможным любое конструктивное общение. Однако для нас было достаточно уже одно присутствие такого количества народа, ибо мы знали, что достаточно нам просто начать выступать перед этими ищущими и запутавшимися людьми, и мы будем обречены на успех.
Это первое крупное рабочее собрание продолжалось свыше двух часов. Тема социализма активно дебатировалась, и я переживал большую радость в ходе выступления, что эти пятьсот человек, с «жесткими пролетарскими кулаками», как писала Роте Фане, постепенно затихали, несмотря на попытки нескольких заказных провокаторов громкими репликами расстроить спокойный ход собрания. Однако вскоре эти записные выступалы были осажены своими же дружинниками, и в финале собрание проходило при торжественной и напряженной тишине.
Дискуссия была в самом разгаре. Тем временем какой-то тип поднялся на трибуну и сообщил, будто только что поступило сообщение о нападении красных боевиков на двух членов национал-социалистического движения, которые с многочисленными ранениями поступили в больницу, где и балансируют в настоящий момент между жизнью и смертью. После чего начал призывать «отомстить за наших соответствующим способом» и т.п. Я тут же поднялся, назвал случившееся чудовищным событием, и объявил – НСДАП посчитает своим долгом в дальнейшем не допускать к участию на собственных собраниях представителей тех партий, чьи дружины, не имея других более интеллектуальных аргументов, трусливо, исподтишка атакуют на улице в темноте безоружных противников.
Я продолжил, и если сообщение об этом низком нападении привело в волнение практически весь зал, так что сами коммунисты посчитали за благо на время замолчать, то объявление о нежелании НСДАП действовать схожими методами и поддаваться на провокации вызвало восторженные отклики у подавляющего числа присутствующих. Этого же бедолагу заклеймили подстрекателем, и не успел он опомниться, как через минуту при помощи множества добровольцев оказался выдворенным из помещения.
В заключительном слове я еще раз открыто объявил со всей ответственностью и решимостью, что мы всегда и везде готовы к откровенной дискуссии с любым честным политическим противником и рабочим. Но в тоже время любая попытка кровавого террора против нас будет встречаться адекватными методами. Враги напрасно думают, что на том месте, где растут руки и кулаки у нас находятся ливерные колбасы.
В итоге собрание закончилось для нас успехом по всей линии. Красные уходили мрачными и понурыми. Наши же партийные активисты в этот вечер были преисполнены радостного чувства, что движение в Берлине наконец-то преодолело тесные ограниченные рамки политической секты, и теперь борьба будет разворачиваться по всему фронту. Больше не могло быть никакой остановки. Мы бросили вызов врагу, и каждый понимал, что этот вызов не останется без ответа.
В таком же духе были выдержаны и последующие комментарии марксисткой прессы. Мы осознавали с самого начала, что писаки на Бюловплатц и Линденштрассе перевернут всё с ног на голову, что нас начнут разоблачать как жалких провокаторов и убийц рабочих, истребителей безвредных пролетариев, которых лишь за желание обозначить дискуссию тут же утопили в крови.
«Нацисты устроили в Шпандау кровавую баню! – вот один из кричащих газетных заголовков тех дней, – это сигнал тревоги для всего революционного рабочего класса столицы!» Далее, как правило, следовала недвусмысленная угроза: «Мы ответим вам тем же!»
Оставалось два пути: либо отступить и признать невозможным продуктивную агитацию среди пролетариата, либо с удвоенной силой продолжать вдалбливать наши постулаты, вызывая марксистов на всё новые и новые дискуссии, конечный результат которых, и мы это знали, был призван на настоящем этапе определить нашу судьбу.
«Буржуазное государство движется к своему концу. Необходимо выковать новую Германию! Труженик мозга и кулака, в твоих руках находится судьба немецкого народа. В пятницу, 11 февраля, Фарусзеле! Тема: «Крушение классового буржуазного государства».
Плакат: «Буржуазное государство движется к своему концу» Фарусзеле


Разумеется, наше объявление выглядело вопиюще провокационно. В Берлине ничего подобного ранее не происходило. Да вдобавок в рабочем квартале, в сердцевине марксистских владений. Националисты в Веддинге?! Ведь этот пролетарский район был насквозь красным. Подобное положение складывалось десятилетиями, и никто доселе не отважился противопоставить что-либо коммунистическому влиянию.
А Фарусзеле? Это вообще считалось бесспорной вотчиной КПГ. Здесь обычно проходили партийные съезды, здесь почти каждую неделю формировались все новые рабочие дружины, из политической лексики здесь можно было услышать только громкие фразы о международной классовой солидарности и всемирной революции. И именно там НСДАП запланировала проведение очередного массового собрания.
Это был откровенный вызов на бой. Это понимали не только мы, но и наши противники. Партийные товарищи ликовали. Пахло настоящим делом. На чашу весов была поставлена, немного немало, судьба всего движения. Теперь оставалось одно – победить или проиграть.
Приближался назначенный день – 11 февраля. Коммунистическая пресса захлебывалась в кровавых угрозах. Нам был гарантирован теплый прием и соответствующая атмосфера всего вечера. Среди рабочего класса города распространяли слухи, будто из нас сделают как минимум отбивную.
Тогда мы еще не представляли, насколько серьезная опасность нам угрожает. Я в то время знал марксистов не очень хорошо, чтобы предусмотреть возможные последствия. Я не придавал большого значения нагнетанию страстей в красной прессе, но предстоящий вечер ожидал с напряжением. Около восьми часов мы отправились на дряхлом разваливающимся автомобиле из центра в Веддинг. Холодный серый туман окутывал все вокруг. Сердце готово было выскочить из груди от нетерпения и тревожного ожидания.
Уже в районе Мюллерштрассе появились первые предпосылки для опасений. На всех углах улицы скапливались многочисленные группы подозрительных зевак. Видимо, их вид должен был вселить ужас в наших партийных товарищей, прежде чем они пожелали бы переступить порог собрания. Непосредственно перед Фарусзеле стояла уже огромная толпа, подогреваемая многочисленными воплями ярости и грязной ругани.
Руководитель охраны вечера продрался к нам и быстро сообщил, что зал заблокирован еще с семи часов и на две трети занят красными фронтовиками. Это то, чего мы и хотели. Сейчас рождалось Решение. Мы или они. Мы были готовы идти до конца.
При входе в зал в голову тут же ударил смрадный запах из смеси табака и пива. Воздух был накален до предела. Атмосфера на самом деле очень возбуждала. Зал набился до отказа. Люди сидели очень тесно, по двое на одном месте. На ораторский постамент удалось пробиться с большим трудом.
Как только меня узнали, отовсюду полетели нелестные эпитеты, самые ласковые из которых: «пес кровавый!», и «убийца рабочих!». Но эти крики вскоре потонули в радостном приветствии наших партийных активистов и штурмовиков. С верхних трибун также отозвались звонкими боевыми кличами. Да, мы оставались в этом районе в меньшинстве, но это меньшинство было готово смести все на своем пути ради победы.
Тогда у нас еще существовал обычай, по которому все общественные мероприятия вёл руководитель штурмовиков. Также и здесь. Он возвышался глыбой над партером и с поднятой рукой пытался призвать присутствующих к спокойствию. Однако сделать это оказалось непросто. Значительная часть зала ответила бодрым насмешливым смехом. Вновь посыпались оскорбления. Стоял беспросветный шум и гам. Отдельные группы подвыпивших перманентных революционеров, в которых алкоголь, видимо, был призван заменить мужество, вели себя особенно вызывающе. Восстановить тишину не представлялось возможным. Пролетарии заявились явно не для дискуссии, а для того, чтобы похулиганить. Чтобы показать, фашист с мозолистыми трудовыми руками – это нонсенс, привидение, с которым необходимо покончить раз и навсегда.
Мы старались не терять контроль над ситуацией. Мы понимали, что если нам сейчас удастся победить, и мы не позволим противнику воплотить его мечту и сделать из нас фарш, наше дальнейшее триумфальное шествие по Берлину будет неотвратимо.
Перед сценой стояло от пятнадцати до двадцати штурмовиков и эсэсовцев в униформе и с партийными повязками, что также было расценено красными как неслыханная наглость. Я чувствовал себя надёжно в окружении этих отборных парней, готовых в критический момент отразить любые атаки разгорячённого большевистского сброда.
Очевидно, что коммунисты ошиблись в своей тактике. Переоценили свои возможности. Не наблюдалось какого-либо внятного управления среди этих хаотичных групп, они были бессмысленно рассеянны по всему залу. Некоторая концентрация, впрочем, наблюдалась в правом крыле, откуда и исходил главный очаг волнений. Как и на предыдущем собрании, каждый раз, когда председатель собрания пытался направить его течение в нормальное русло, поднимался на стул некий мрачноватый индивидуум и кричал нарочито визжащим голосом шаблонную фразу: «К регламенту!». После чего этот бред подхватывали его многочисленные сторонники.
Если лишить толпу её стихийного вождя, она тут же становится податливой и легко приводится в чувство. Мы преследовали ту же цель – изолировать этого крикуна, особенно смелого за спинами своих приятелей. Пару раз мы попытались сделать это в вежливой форме. Председатель, уже охрипшим голосом кричал в бушующий зал: «Дискуссия состоится после доклада! Но регламент определяем мы!»
Однако это был глас вопиющего в пустыне. Этот крикун, видимо, хотел одного – через монотонное повторение своего слогана – сорвать собрание и сделать ситуацию неуправляемой. Последующее развитие событий пошло спонтанно и без какой-либо команды.
Когда стало очевидно, что все наши усилия направить ход мероприятия в спокойное русло оказываются безуспешными, я отозвал в сторону начальника охраны, и мы обсудили с ним меры по локализации возможного конфликта. Вскоре его люди несколькими группами вышли в зал и попытались пробраться через враждебный, но немного ошалевший, слой красных фронтовиков к основному провокатору. Пока те опомнились, крикуна стащили со стула и вытащили из зала. На секунду наши противники остолбенели. Такого они еще не видели. Но в итоге произошло то, чего я более всего опасался. Откуда-то сверху полетела пивная кружка и вдребезги разбилась об пол. Это послужило сигналом к первому побоищу, развернувшемуся в зале. Затрещали стулья, из-под столов стали вырываться ножки, в считанные мгновения образовались целые батареи из стаканов и кружек, которые полетели в разные стороны – началась свалка, продолжавшаяся около десяти минут. Ножки от мебели, кружки, стаканы свистели туда-сюда. В воздухе висели вопли сражавшихся; красная бестия получила свободу и жаждала крови.
Сначала показалось, будто всё для нас потеряно. Коммунистическая атака произошла стихийно и стремительно, и, несмотря на то, что внутренне мы были к этому готовы, она всё равно застала нас врасплох. Но после того как прошел первый натиск и первое смущение и стычка в зале разбилась на локальные схватки, штурмовики и эсэсовцы организовали мощное контрнаступление со стороны сцены. Сопротивление красных было массированным, но беспорядочным. Оно было сломлено под напором дисциплинированных и хладнокровных бойцов, сумевших за небольшой отрезок времени восстановить в зале относительное спокойствие. Да, оно воцарилось с помощью грубой силы, поскольку большинство субъектов, пришедших «проверить нас на вшивость», не понимало другого языка.
Многие фрагменты этой битвы со временем стёрлись из памяти. Однако некоторые из них остались в сознании. Как сейчас я вижу перед глазами картину – на сцене стоит ещё юный, неизвестный мне доселе штурмовик и яростно швыряет всё что попадется под руку в налетающий красный сброд. Внезапно ему в голову попадает кружка, кровь стекает по вискам, со стоном он опускается на пол. Но через несколько секунд поднимается снова, хватает подвернувшуюся бутылку и бросает ее обратно в зал, где та с треском разбивается о голову противника.
Лицо этого юноши живет во мне. Оно молниеносно врезалось в память как драматичный эпизод тех событий. Этот тяжелораненый в Фарусзеле штурмовик стал впоследствии на все времена моим самым верным и надежным товарищем.
Только когда поле боя было очищено от красных, смердящих бесконечными проклятиями в наш адрес, стало возможным установить, какими потерями для нас обернулось это столкновение. На сцене лежало десять окровавленных тел; в основном с ранами головы и двое с тяжелыми сотрясениями мозга. Все вокруг было залито кровью. Зал представлял из себя груду развалин. И посреди этой усеянной обломками и кровью пустыни поднялся огромный командир штурмовиков и невозмутимо объявил: «Собрание продолжается. Слово имеет докладчик».
Я старался никогда не упоминать о тех волнующих обстоятельствах, при которых мне пришлось произносить эту речь. За моей спиной были стонущие от боли товарищи. Вокруг многочисленные обломки, разбитая мебель, расколотая посуда и всюду кровь. Но при этом собрание застывает в ледяной тишине.
Нам не хватало ёще тогда собственных медицинских команд, и мы были вынуждены сами выносить наших раненых соратников, так как находились в пролетарском пригороде, при посредстве прибывших так называемых «рабочих санитаров». И с их участием, не выходя даже за стены помещения, разыгрывались отвратительные неописуемые сцены. Эти озверевшие люди, которые борются якобы за равенство и братство во всем мире, позволяли себе издеваться над нашими беззащитными тяжелоранеными и обращаться к ним с фразами, типа: «Ну, как, свинья, еще не сдох?»
Невозможно было при таких обстоятельствах держать связную речь. Как только я начал, в зале снова появилась команда санитаров, и мимо меня на качающихся носилках пронесли очередного штурмовика. На его громкие стоны один из этих охамевших апостолов человечества ответил грязной и пошлой бранью, которую я услышал. Я прервал речь, спустился в зал, где ещё находились разрозненные группы коммунистических боевиков, уже, правда, жалких и подавленных поражением, и горячо простился с раненым бойцом СА.
Мою речь продолжил незнакомый мне штурмовик.
Хорст Вессель

Одно ясное, даже весёлое переживание, послужившее неким примирительным жестом в этом кровавом столкновении, также достойно упоминания. Уже после окончания доклада, в ходе обсуждения, слова попросил хилого невзрачного вида мещанин, член «Ордена немецкой молодежи». С пасторским пафосом он принялся призывать присутствующих к согласию и братству, указывал на аморальность прошедшего кровопролития, потрясая перстом призывал к единству. Разгорячившись, он поклонился перед собранием и объявил, что желает посвятить всех в свои поэтические изыскания и прочитать стихотворение патриотического содержания. Его высокопарный бред уже начинал утомлять, и на сцену поднялся внушительного вида штурмовик, который под одобрительный смех абсолютно всего собрания напугал незадачливого обывателя громовым возгласом: «Чур тебя, маленький словоблуд!»
Террор и сопротивление (часть 2)
Под это веселое интермеццо битва в Фарусзеле обрела свой финал. Полиция убрала улицу. Отряды СС и СА отходили организованно и безупречно. Этот во многом определяющий день в развитии национал-социалистического движения в Берлине остался за нами.
Никаких слов не найдется, чтобы передать возмущение тем потоком лжи, который выплеснулся на следующий день в отношении этих событий в еврейской прессе. Бюловский сброд, подчинивший все свое политическое существование идее подстрекательства к кровному братоубийству и разыгрывающий из себя безвредную жертву, задался целью обвинить наше движение в убийстве рабочих.
Берлинер Моргенпост от 12 февраля1927 года:
«Вчера вечером, около девяти часов в районе Мюллерштрассе 142 произошли тяжёлые столкновения между коммунистами и членами немецкой социальной рабочей партии, которые проводили там собрание. Многие участники драки получили тяжелые ранения. Санитарные команды доставили четверых пострадавших в больницу Вирхоу, другие, около десяти человек, получили первую помощь на месте.
Немецкая социальная рабочая партия проводила вчера вечером на севере Берлина в Фарусзеле политическое собрание. Уже перед началом выступлений в фойе появилось около сотни представителей коммунистов, значительная часть из которых сумела просочиться в зал. Выступления ораторов беспрерывно сопровождались провокационными репликами. Внезапно ситуация вышла из-под контроля и вылилась затем в массовую драку. При помощи стульев, пивных кружек и других вспомогательных средств партийные активисты принялись избивать друг друга. Помещению был нанесён огромный ущерб. Наконец, при стечении значительных полицейских сил, противоборствующие стороны были разделены. Был предпринят ряд арестов».
Ди Вельт ам Абенд от 12февраля 1927 года:
«Вчера вечером произошли кровавые столкновения в районе Веддинга между рабочими этого района с одной стороны, и провокаторами из национал-социалистической партии и полицией – с другой. Национал-социалисты проводили собрание в Фарусзеле. На нём доктор Геббельс должен был зачитать доклад о крушении буржуазного классового общества. Собрание, насчитывавшее около 2000 слушателей, среди которых было замечено немало коммунистов и социал-демократов, уже в дебюте взяло бурный ход.
Нацисты были готовы к провокациям с самого начала. Председатель собрания Далюге пресекал все попытки коммунистов обозначить какую-либо дискуссию. Последовали возгласы протеста. Примерно 300 человек с повязками, изображающими свастику, призванные обеспечивать порядок во время вечера, довольно брутальными способами принялись усмирять недовольных. Доходило до серьезных драк, фашисты избивали рабочих ножками от стульев и пивными кружками. В течение этих столкновений многие рабочие были тяжело ранены. В итоге коммунисты и эсдеки были вытеснены на улицу, где уже скапливалась огромная толпа.
Полиция пыталась зачистить Мюллерштрассе с обеих сторон, безжалостно избивая рабочих. Доходило до жестоких столкновений, особенно у Амрумерштрассе, где в общей сложности было произведено семнадцать арестов.
Инциденты вокруг Фарусзеле распространялись по всему району с быстротой молнии. Провокации гитлеровцев не прекращались, что вызывало нескрываемое возмущение все прибывавших рабочих масс.
Усилия полиции позволили оттеснить нациствующих юнцов к вокзалу Путлицштрассе. Новые столкновения случились на углу Торф- и Трифтштрассе. По утверждению полицейских, в них полетели булыжники. Раздавались выстрелы, произведено двадцать арестов. Арестованные были доставлены в участок.
Однако беспорядки не закончились. На углу Нордуфер и Линарштрассе обозначились новые дикие сцены, где отступавшие нацисты успели схлестнуться с рабочими».
Ди Роте Фане от 12 февраля 1927 года:
«Национал-социалисты атаковали рабочих. Подготовленное нападение в Фарусзеле.
Вчерашним вечером в Фарусзеле состоялось собрание национал-социалистов, о начале которого можно было узнать из развешенных задолго до события плакатов. На нём присутствовало и немало рабочего люда, так что зал заполнился до отказа. Повестка дня провозглашала об упадке капитализма. Если кто-то и допускался к выступлению, то строго по повестке. Председатель собрания объявил, что доклад не подлежит обсуждению и не подразумевает какой-либо дискуссии. По сути, это и послужило сигналом для развязывания чудовищного и низкого побоища, организованного национал-социалистами.
Спецбригады нацистов, составленные преимущественно из выходцев из Шонеберга, принесли с собой массу пивной посуды и ножек от стульев, что только свидетельствует о подготовленном нападении. Вся эта орава расположилась на верхней галерее зала. После того как председатель отказал присутствующим рабочим в дискуссии, сверху на головы зрителей полетели кружки и обломки от стульев. Доходило до тяжёлых столкновений. Многие рабочие были ранены, некоторые достаточно тяжело, возможны даже смертельные случаи. Однако этому пока нет официальных подтверждений.
Сообщение о национал-социалистической атаке распространилось в Веддинге молниеносно. Массы людей вышли на улицы с протестом против действий нацистских убийц. Несмотря на попытки полиции рассеять эти группы, они образовывались вновь и вновь.
Мы протестуем против этих вражеских и убийственных нападений! Рабочий, включайся в борьбу против фашистских убийц!»
Это был ответ коммунистическо-еврейской прессы на поражение, которое стало для них весьма неожиданным и серьёзно вывело их из равновесия. Впоследствии нам не раз приходилось отражать нападки в собственный адрес по поводу обвинения в «убийствах рабочих». Мы не молчали. В многолетней разъяснительной работе мы старались указать общественности на истинных убийц. Ярлыки «бандитов», подаренные нам в своё время из уст евреев, частых посетителей дома Карла Либкнехта, выглядели теперь как комплимент. А уж то, что меня нарекли «верховным бандитом» распространялось по всей Германии с неведомой даже для наших врагов быстротой, с той лишь разницей, что данные прозвища зачастую обретали обратный эффект и работали на нас.
Внезапно столь необходимый авторитет, которого так не хватало нашей берлинской организации, был успешно обретён и закреплён в дальнейшем.
Политическое движение должно быть управляемо в своей борьбе, и если его рядовые члены видят, что руководство прогрессирует не только в теории, но и на практике, они всё более начинают доверять своим вождям, в конце концов, безоговорочно подчинив себя интересам движения.
В свою очередь, полученный фонд доверия позволяет руководству в критические моменты склонять чашу весов в свою сторону. Здесь был как раз такой случай. Берлинская организация получила востребованную сплочённость. Отныне её не разрывали искусственные противоречия. Лидеры и рядовые члены действовали сообща, приобретя необходимую манёвренность для крупных политических акций. Тогда в полной мере мы не могли еще осознать всё значение произошедших событий. Их опыт пригодился нам в будущем, ибо грядущие суровые испытания в решающие моменты истории были призваны проверить непоколебимость выбранного курса нашей партии.
* * *
Тогда же я установил первые контакты с так называемыми «духовными вдохновителями» национализма. Но должен признаться, что данное знакомство мало меня порадовало. Во всей этой компании едва ли кто-то осознавал, что именно необходимо делать для борьбы за национальную идею. В основном же они упражнялись в остроумии среди своих знакомых, расщепляя национал-социалистическое мировоззрение на сотни тысяч атомов и пытаясь слепить из этих осколков нечто оригинальное. Их жизненным кредо стало бесконечное жонглирование словами, терминами, этакая словесная акробатика, предназначенная исключительно для удовлетворения собственного тщеславия. Однако всё это самолюбование оставалось мало полезным в борьбе национального фронта, который тем временем жертвовал собой в жестоких уличных сражениях и дышал национализмом в прокуренных залах для собраний.
Национализм – это идеология дела, а не слов.
«Духовные вдохновители» же были озабочены в основном победами в дискуссиях. Но какой прок от таких побед идеологии? Оставим заботы о блестящем стиле и фейерверках острот «цивилизованным» еврейским литераторам. Это может быть полезно национализму в крайнем случае, и уж не при каких обстоятельствах не должно становиться самоцелью.
Национал-социалистическое движение укрепляется через своих ораторов, а не журналистов. Если кто-то и использовал в своей пропагандистской работе перо и бумагу, то ставил это исключительно во благо интересов организации. У вышеназванных мыслителей всё было наоборот. Интересы организации работали на их собственное Я. Для меня лично диагноз в отношении этих типов был ясен. Им фатально не хватало гражданского мужества. Они всегда испытывали страх и необъяснимый пиетет в полемике с буржуазными авторами. Это был страх образованщины, которая не решается протестовать против еврейского беспредела в печати из опасения показаться несовременной и быть осмеянной из-за якобы старомодности своих взглядов.
Национализм всегда будет выглядеть в глазах «цивилизованных авторов» беспробудно реакционным. И надо иметь гражданское мужество, чтобы всегда бесстрастно принимать эти обвинения в лицо; в конце концов, если евреи обвиняют нас в реакционизме, значит мы реакционеры именем Божьим! Однако мы не позволим интерпретировать на свой лад наше божественное мировоззрение перу какого-либо заносчивого писаки. И не стоит питать иллюзий, будто немецкий национализм может импонировать еврейским мастерам пера, если даже они преподносят его в блеске слова и тонкости стиля. В итоге они уважают только силу и любят все вокруг, как только увидят кулак перед носом.
* * *
К нашей большой радости начавшаяся кровавая борьба за главный город империи значительно повысила интерес к движению. Эхо ноябрьских событий прокатилось как единый вздох через всё государство. Что доселе казалось невозможным и сумасбродным, а именно противостоять врагу в его логове, отныне превратилось в реальность. Всё германское движение сплотилось вокруг нас. Со всех концов страны потянулись денежные пожертвования для израненных бойцов берлинского СА. Это позволяло оказать им хотя бы минимальную защиту и медицинскую помощь. Теперь организация осознавала, что в своей бескомпромиссной борьбе, она имеет за спиной поддержку всей партии. С этого момента наши сердца бились в унисон.
Последовали акция за акцией. Длинные колонны грузовиков СА выезжали в провинцию. Одна демонстрация сменяла другую. В Коттбусе прошел национал-социалистический день свободы, закончившейся кровавой стычкой с полицией. Не прекращались собрания. Мы вновь бросали вызов КПД. Спустя четыре дня после битвы в Фарусзеле мы провели новую массовую демонстрацию в Шпандау. Опять Роте Фане захлебывалось в ярости и обещало положить конец коричневому разгулу.
Но было слишком поздно! Плотина была прорвана. Штурмовики берлинского СА занимали зал за залом. Красному фронту не помогло, что его боевые группы усыпали улицу вдоль и поперек. Нашлось несколько мягкосердечных членов нашей партии, которые пытались убедить меня, что, возможно, не стоит провоцировать и без того возбужденных коммунистов. Но их слова услышал только ветер.
На шести машинах мы двигались вверх по Хеерштрассе, когда до нас дошло сообщение, что отдельные группы Красного фронта намереваются воспрепятствовать нашему проезду. Запланированный срыв собрания нельзя было допустить. Из нашей штаб-квартиры, располагавшейся в неприметном ресторанчике, недалеко от Шпандау, пришло подкрепление. Коммунистам, тем не менее, удалось спровоцировать нас на кровавую схватку в районе Путлицштрассе. В наших рядах вновь оказалось несколько тяжелораненых, но и в этой схватке мы не упустили победу.
* * *
Попытка задушить быстро прогрессирующее в логове марксизма национал-социалистическое движение не удалась во всех отношениях. Кое-чему мы научились в этой борьбе. В который раз стало очевидно единство всех усилий международного еврейства, направленное против нас. Если кому-то приходилось сравнивать публикации тех дней в Берлинер Тагеблатт (Berliner Tageblatt) и Роте Фане, то он с трудом мог обнаружить разницу. Оба издания видели в нас исключительно разрушителей мира. Оба чувствовали в нас прямую угрозу для своей трусливой власти. Оба настраивали против нас полицию. Оба солидаризировались с государственным насилием в воплях «Держи вора!» и средствах кровавого политического террора, хотя по идее должны были выступать гарантами противодействия этим средствам и методам.
Но движение прошло это испытание огнем. Оно атаковало противника в его собственной резиденции, вынудило его к борьбе, и когда эта борьба стала неизбежной, было готово к сражениям с отчаянной решимостью.
Штурмовик! Это слово, доселе в Берлине никому неизвестное, в один момент приобрело почти мистический оттенок и смысл. Друзья произносили его с восхищением, враги с ненавистью и страхом. Дерзкий наступательный дух этого небольшого подразделения в короткий срок сумел завоевать высокий авторитет. Их деятельность доказала, что любые тяжелые обстоятельства преодолимы, если подходить к ним с политической страстью, сумасшедшей смелостью и презрительной усмешкой. Прежде всего, был сокрушен террор, направленный против наших собраний; большевизм с его непобедимым ореолом и лозунгом «Берлин останется красным!» был потрясен и поколеблен.
Мы приобрели исходный пункт. Кровавый террор, развязанный против нас, закалил нашу волю к восстанию. И оставалось немного времени, чтобы единый фронт этого восстания, защитив свои передние рубежи, перешел в наступление по всем направлениям.
Неизвестный штурмовик (часть 1)
Неизвестный штурмовик! Это слово, впервые брошенное в массы в зале Фарус после кровавой бойни во время собрания, с быстротой молнии охватило все движение. Это было пластичным выражением того сражающегося политического солдата, который поднялся в национал-социализме и выступил на защиту от угрозы немецкому народу.
Только немногие тысячи тогда во всей Империи и, в частности, в Берлине, рискнули надеть коричневую рубашку и тем самым поставить на себя клеймо парии в политической жизни. Но эти несколько тысяч в решающей мере проложили путь движению. Их нужно благодарить за то, что его первые истоки не были утоплены в крови.
Позднее возник спорный вопрос о том, является ли SA (СА) сокращением от спортивного отделения или от штурмового отряда. В этой связи этот вопрос не имеет никого значения. Потому что это сокращение стало самостоятельным понятием. Под ним всегда подразумевают тот тип политического солдата, благодаря которому в национал-социалистическом движении впервые проявилась новая Германия.
Штурмовика ни в коем случае нельзя сравнивать с членом какого-либо военизированного союза. Военизированные союзы по своей сущности аполитичны, в лучшем случае общепатриотичны, без ясного политического целевого направления. Но патриотизм – это как раз то, что мы должны преодолеть. У штурмовика нет предшественника в старой Германии. Он возник из взрывных политических сил послевоенного времени. Не его делом было и есть на краю политики предоставлять услуги службы доставки для финансовых сил или в качестве полицейского охранять буржуазные сейфы. Штурмовик произошел из политики и тем самым раз и навсегда определил своим назначением политику.
Он отличается от обычного члена партии тем, что он берет на себя для движения больше определенных обязанностей, прежде всего, защищать движение, если оно наталкивается на грубую силу и бороться с направленным против движения террором. Марксизм, как известно, вырос с террором. Он террористическими методами захватил улицу, и так как из буржуазных партий ему никто не противостоял, он продержался также до возникновения национал-социалистического движения. В буржуазных кругах считали невежливым и недостаточно элегантным выходить на улицу ради демонстраций и выступлений за политические идеалы.
Но улица – это все равно характерная черта современной политики. Кто может захватить улицу, тот может захватить также и массы; а кто захватывает массы, тот захватывает тем самым и государство. На длительный срок человеку из народа импонирует только развитие силы и дисциплины.
Хорошая идея, защищенная правильными средствами и осуществленная с необходимой энергией, на длительный срок всегда сможет завоевать широкие массы.
Штурмовик избран для того, чтобы показать перед всем миром и общественностью пластичную силу и связанную с народом силу национал-социалистического движения, и всеми средствами защищать его там, где оно подвергается нападению. В то время это, правда, было легче сказать, чем сделать, потому что марксизм претендовал на полную власть над улицей и воспринимал как наглую провокацию, если кто-то другой хотя бы даже намеревался открыто оспорить это его право. Буржуазные партии со временем трусливо и беспрекословно склонились перед этими дерзкими претензиями. Они освободили поле для марксизма и довольствовались со своей стороны тем, что защищают шаткие позиции либеральной демократии в парламенте и в промышленных объединениях. Тем самым их лишили какой-либо агрессивной нотки, и марксизму было нетрудно затоптать их в смелом и дерзком массовом вдохновении и тем самым раз и навсегда поставить их в позицию обороняющегося.
Агрессор, как известно, всегда сильнее, чем обороняющийся. И если оборона ведется с совсем недостаточными и половинчатыми средствами, что и имеет место в случае буржуазии, тогда пользующийся наступательной тактикой противник во время нападения захватит очень скоро одну позицию за другой и насильственно выдавит обороняющегося с его последних позиций.
Таким было положение в Империи после бунта 1918 года; прежде всего, в Берлине это состояние сформировалось как естественный, беспрекословно принятый факт. Казалось, что только у марксистских партий было право требовать улицы для себя. При каждом представляющемся случае они призывали массы, и десятками тысяч и сотнями тысяч двигались они тогда в Люстгартен, чтобы перед глазами общественности представить живописную картину их многочисленной силы и непреодолимой народной мощи.
Национал-социалистическая агитация хорошо понимала, что она никогда не смогла бы захватить массы, если она не провозгласила бы право на улицу для себя и не вырвала бы этого права у марксизма в смелой дерзости. Это должно было стоить, это мы знали, кровавой борьбы; так как официальные органы, которые в основном были сформированы социал-демократией, были ни в коей мере не готовы осуществлять средствами поддержания власти государства одинаковое право для всех, также и на улицу, как это было гарантировано в конституции.
Потому мы были вынуждены сами организовать себе ту защиту, в которой нам отказывали государственные органы власти. Кроме того, нам было необходимо обеспечить беспрепятственное проведение нашей публичной агитации с помощью защитного подразделения. Потому что марксизм очень быстро разглядел в национал-социализме своего единственного серьезного противника, с которым требовалось считаться, и он также знал, что этому противнику в долгосрочной перспективе удастся отнять у марксизма еще марширующие за интернационалистской классовой идеологией пролетарские массы и присоединить их к националистическому и социалистическому фронту, который должен был быть заново создан.
Из всех этих соображений возникла идея SA. Ее истоком была естественная потребность национал-социалистического движения в защите. Штурмовик был его политическим солдатом. Он заявлял о своей готовности защищать его мировоззрение всеми средствами, и если против него применялось бы насилие, то также и с использованием противостоящего насилия.
Здесь самый важный момент – в слове «политический». Штурмовик был и есть политический солдат. Он служит политике. Он – не наемник, не солдат удачи. Он сам верит в то, что он защищает и за что он выступает.
Организация SA входит в структуру общей организации национал-социалистического движения. SA – это позвоночник партии. С нею движение стоит и падает.
Элементы, которые только в дальнейшем вошли в движение, попытались сфальсифицировать, извратить идею SA. Они стремились к тому, чтобы вырвать организацию SA из организации общей партии, унизить SA в какой-то мере до уровня организационного инструмента, который предоставлялся бы в распоряжение партии только по необходимости, по требованию или даже по произволу ее вождей. Это означает перевернуть подлинную идею SA до ее полной противоположности. Не партия возникла из SA, а наоборот, SA – из партии. Не SA определяет политику партии, а партия определяет политику SA. Никак нельзя терпеть того, чтобы SA занималась собственной политикой или, тем более, сделала бы попытку диктовать политическому руководству курс партии. Политики делают политику. А задание SA – участвовать в проведении этой политики.
Поэтому необходимо, чтобы штурмовик уже рано был обучен, подготовлен и воспитан в мировоззрении, которому он служит. Он не должен безвольно и необдуманно выступать за что-то, чего он вовсе не знает и понимает. Он должен знать, за что он борется; так как только из этого знания он получает силу, чтобы полностью посвятить себя своему делу.
В особенности еврейские газеты преследовали организацию SA с беспрецедентной ненавистью; и так как на самом деле нельзя подвергать сомнению, что SA выступали со слепым фанатизмом и героическим жертвенным чувством за национал-социалистическое мировоззрение, желтая пресса снова и снова пыталась заподозрить в этом героическом поведении неверные и ложные мотивы. Они хотели заставить общественность поверить, будто штурмовик это нанятый и оплачиваемый наемник, который только за деньги и красивые слова готов рисковать своей жизнью. Средневековая идея наемничества, говорят они, возрождена в SA. Наконец сам штурмовик якобы следует только за тем, кто обещал и давал ему лучшую кормежку и самое высокое жалование.
Нечистые элементы, которые прокрались в национал-социалистическое движение и некоторое время занимавшие высокие и наивысшие командные посты в SA, прямо-таки содействовали недобросовестной травлей этой лжи. Они пытались из SA развязать честолюбивую борьбу против партии и всегда обосновывали свои коварные и подлые цели материальными претензиями и требованиями SA. Вероятно, от этого в общественности неоднократно возникало впечатление, как будто бы штурмовику платят за его тяжелую службу на пользу партии, и как будто бы национал-социалистическое движение в форме боевого инструмента SA владело отобранным и дерзким наемным формированием, которая готова на все и ко всему. Не может и быть мнения, более неверного и ошибочного, чем это. Штурмовику за его опасную и иногда кровавую партийную службу не только не платят, но ему и самому приходится ради этого идти на неслыханные материальные жертвы; прежде всего, во времена высокого политического напряжения он вечер за вечером, и иногда все ночи, на службе движения. Это означает здесь охранять собрание, там расклеивать плакаты, здесь распределять листовки, там агитировать новых членов, здесь собирать абоненты для его газеты, там доставлять оратора на место выступления или снова безопасно отвозить домой. Не редкость, что группы SA в периоды напряженной предвыборной борьбы неделями не могут сменить одежду. В шесть часов вечера они приступают к службе, которая продолжается всю ночь. Один или два часа позже, когда эта служба заканчивается, они снова стоят у машины или они сидят на конторской табуретке.
Этот политический героизм в действительности не заслуживает того, чтобы его публично оскверняли обвинением в продажности. Да и просто невозможно, что люди могут проявить такую большую жертвенность ради денег. Ради денег вполне можно жить, но редко кто готов умирать за них.
Национал-социалистическое партийное руководство в дальнейшем было абсолютно право в том, чтобы без лишних разговоров убрать из организации те элементы, которые нанесли ущерб репутации SA публично связав ее с продажным наемничеством; так как они причинили общему движению самую тяжелую обиду, которую вообще можно было бы ему причинить. Собственно, они виновны в том, что сегодня каждый пишущий индивидуум считает себя вправе ругать смелого политического солдата нашего движения как нанятого кондотьера.
Обо всех этих соображениях мы тогда, когда идея SA как раз начинала обосновываться в столице Империи, знали только очень немного. Политическое руководство призвало к борьбе, и SA безусловно предоставила себя в распоряжение для этой борьбы. Да, SA была настоящей носительницей решающих конфликтов, которые теперь через запрет и преследование должны были привести к блестящему подъему движения в столице Империи.
SA носит одинаковую одежду: коричневую рубашку и коричневую шапку. Из этого факта кое-кто сделал вывод, что SA является военным подразделением. Это мнение ошибочно. SA не носит оружия, и не обучается военному делу. Она служит политике средствами политики. Она не имеет никакого отношения к многим, прежде всего, возникшим из добровольческих корпусов военизированным союзам. Военизированные союзы коренятся в основном еще в старой Германии. Но SA – это представительница молодой Германии. Она осознанно политизирована. Политика – это ее смысл, ее намерение и ее цель.
В лице SA национал-социалистическое движение также создало себе свое самое активное подразделение пропаганды. Оно могло опираться на нее при всех пропагандистских акциях; и вместе с тем у него было по сравнению с другими партиями, которые должны были оплачивать каждую пропагандистскую кампанию огромными средствами, значительное превосходство. Также и из-за этого обстоятельства в дальнейшем неоднократно последовали упреки в адрес национал-социалистического партийного руководства. Заявляли, что революционный отряд движения якобы унизился в службе пропаганды до буржуазной колонны расклейщиков афиш. Эти упреки объясняются абсолютным непониманием существа пропаганды. Современная политическая борьба ведется всеми современными политическими средствами, и самое современное из всех политических средств – все равно пропаганда. Она, в принципе, также и самое опасное оружие, которое может применить политическое движение. Против всех других средств есть противоядие; только пропаганда неудержима в ее действии. Если, к примеру, сторонники марксизма хоть раз будут поколеблены в их способности верить, тогда они уже побеждены, потому что в тот самый момент они теряют свою активную силу сопротивления. То, во что больше не верят, то больше и не защищают, и в еще меньшей степени готовы ради этого атаковать.
Если SA проводит пропагандистские акции, то она тем самым только применяет современное политическое боевое средство. Это ни в коем случае также не стоит в противоречии к ее настоящему смыслу и, прежде всего, к цели, которую она защищает.
Неоднократно также заявлялось, что современная работа пропаганды якобы противоречит прусскому военному духу, последняя носительница которого – это национал-социалистическая организация SA. Но старой Пруссии порой очень пошло бы на пользу, если бы она пользовалась оружием политической пропаганды более часто и более целеустремленно, чем это было. Старая Пруссия пыталась убеждать мир только своими достижениями. Но какая польза даже от самых лучших достижений, если за границей их бранят и на них клевещут, и ложь портит то, чего добились усердие и талант! В особой степени нам пришлось ощутить это на себе во время мировой войны к большому ущербу для немецкой нации. Против всего оружия, которое враг изобретал и использовал против нас, наши инженеры изобретали противооружие. У нас были противогазы и зенитные пушки. У нас не было только крупномасштабной организованной государственным руководством всемирной пропаганды, которая могла бы давать отпор бесстыдному походу лжи стран Антанты. Там мы оказались беззащитны против злостной пропаганды ненависти государств враждебного союза. В течение долгих лет за границей показывались те бельгийские дети, которым «немецкие солдаты отрубили руки», или «зверства» немецких офицеров наглядно демонстрировались слезливой публике снова и снова в кино, театре и прессе. В этом массовом психозе американская финансовая олигархия сумела втравить США в войну, враждебный союз смог привить убеждение своим сражающимся солдатам в том, что они пошли на войну ради цивилизации и человечности и против варварства и угрожающего крушения культуры.
Если национал-социалистическое движение научилось на горьких последствиях злосчастных упущений на немецкой стороне, то оно доказывает вместе с тем только то, что оно очень далеко от того, чтобы быть реакционным, и что оно ни в коем случае не поклоняется слепо прошедшему, так как это как раз прошло. Если SA с самого раннего времени уже воспитываются, чтобы решительно применять оружие пропаганды, то это ни в коем случае не противоречит боевому характеру этого подразделения. Пропаганда – это только новая форма выражения современной политической борьбы, в любом случае ставшей необходимой с момента появления марксизма и организации пролетарских масс.
Но лучше, чем все теоретические изложения доказывает успех, насколько мы были правы, что воспользовались этим средством. По яростному вою марксизма мы очень скоро узнали, что мы с нашей массивной пропагандой взяли быка за рога и нанесли марксистским организациям ужасные раны.
Само собой разумеется, марксистские партии не сдавались без боя и беспрекословно. Они оборонялись против этого, и так как они ничего не могли противопоставить нашему четко продуманному, логичному политическому приведению доказательств в умственных аргументах, им пришлось апеллировать к грубой силе. Движению грозил кровавый террор, который не только не ослабел до сегодняшнего дня, а усиливается с каждым месяцем и с каждой неделей. Прежде всего тогда, когда партия в Берлине была еще мала и незначительна, SA как носительнице активной борьбы нашего движения пришлось переносить невыносимое. Штурмовик был заклеймен уже тем, что он надевал коричневую рубашку, превращаясь для публики в политическую дичь, объявленную вне закона. Его били на улицах до крови и преследовали его, где он только рискнул оказаться. Уже дорога на собрание была равносильна риску для здоровья и жизни. Каждый вечер красные апостолы человечности нападали на наших товарищей, и уже скоро больницы заполнялись тяжелоранеными штурмовиками. Одному выкололи глаз, другому пробили череп, третий лежал с тяжелым пулевым ранением в живот.
Тихое, героическое кровопролитие торжественно вступило в ряды берлинских штурмовиков. И чем тверже и непоколебимее вбивали мы наше революционное знамя в асфальт имперской столицы, тем большими и более невыносимыми были жертвы, которые вся организация, и в особенности SA, должна была для этого приносить.
Нельзя ставить нам в вину, что мы героизировали эту героическую борьбу нашей пропагандой и окружили штурмовика нимбом смелой политической «солдатчины». Только этим мы могли придать ему мужество для дальнейшей упорной выдержки. И мы также не устали показывать нашим сторонникам, что то, за что они выступали, было большим делом, и что это дело действительно стоило тех огромных жертв, которые они принесли на его алтарь.
Иногда и часто берлинские штурмовики в жутко холодное зимнее воскресенье выдвигались из Берлина. Тогда они маршировали плотными колоннами под снегом, дождем и холодом через скрытые, одинокие бранденбургские хутора и деревни, чтобы также и в окрестностях Берлина агитировать за национал-социалистическое движение и привлекать новых сторонников.
Если в какой-то деревне нам отказывали в возможности разместиться, то кто-то из сочувствующих быстро освобождал конюшню или хлев; и там наши ораторы говорили тогда перед удивленными деревенскими жителями. И мы никогда не прощались, не оставив прочную партийную ячейку.
В течение тех недель наш художник Мьольнир создавал свою захватывающую серию рисунков о борьбе SA. Шесть почтовых открыток страстно волнующего изображения. Художественные отображения той кровавой борьбы, которую мы вели за имперскую столицу. Тогда возник ставший известным рисунок углем с изображением раненого штурмовика с подписью: "Думайте о нас! SA Берлин!" Он как молния разорвался в центре нашего общего движения. Все глаза обратились на героическую борьбу берлинских штурмовиков. Борьба за столицу империи сразу стала популярной по всей стране. Движение во всей Империи приняло самое искреннее участие в этом и последовало с захватывающим дух продвижением партии в Берлине.
"Знамя стоит! "Теперь этот захватывающий лозунг на одной из шести боевых карт был полностью оправдан. Мы принесли вперед знамя национал-социалистической идеи против террора и преследования. Теперь оно стояло твердо и непоколебимо среди нас, и – это было нашим неизменным решением – никогда больше нельзя было его спустить.
Неизвестный штурмовик (часть 2)
Было очень трудно размещать наших раненых товарищей и обеспечить им соответствующий уход и лечение при тяжелых травмах. Общественные больницы в Берлине как правило принадлежат городу и, по крайней мере что касается нижнего персонала, сильно пропитаны марксистским духом. У нас в этих больницах с нашими ранеными было мало благоприятного опыта. Уход был большей частью очень плох, и многие товарищи чувствовали себя забытыми Богом и всем миром под руками социал-демократического санитара или еврейского врача. При этом нельзя забывать, что некоторые из самых храбрых смельчаков, так сказать, больше не снимали белую повязку с головы. Бывало нередко, что один и тот же штурмовик в течение двух, трех месяцев трижды, четырежды был ранен и большее время лежал в больнице. Мы пытались обходиться, прежде всего, тем, что размещали наших находящихся под угрозой раненых в быстро приведенной в порядок собственной импровизированной палате и предоставляли им самое необходимое в уходе и медицинском обеспечении за счет наших собственных средств, которые в значительной степени поступали в виде пожертвований из Империи.
Уже скоро в SA сформировалась твердая, боевая традиция. Кто принадлежал к SA, тот был тем самым и членом партийной элиты. Штурмовик должен был пройти через тяжелую борьбу, но он также гордился, и по праву, тем, что мог и должен был бороться за партию. SA был вместе с тем цветом всего движения.
Тогда она состояла и, пожалуй, также еще сегодня в основном состоит из пролетарских элементов; и среди них безработные составляли основной контингент. В сущности рабочего лежит не только верить в политическую идею, но и бороться за это. Рабочий не имеет собственности, и неимущий всегда быстрее готов, в конечном счете, рисковать всем ради дела, в которое верит. В действительности, ему нечего терять, кроме своих цепей; и поэтому его борьба за политические убеждения наполнены совсем другой преданностью и воодушевлением, чем борьба обывательски настроенного человека.
Тот скован гораздо большими препятствиями. Воспитание и образование уже мешают ему в том, чтобы он с той же беспощадной последовательностью выступал за политический идеал.
Штурмовик должен делать это. Он вынужден ежедневно нести ответственность за свое дело и при необходимости даже платить за него последнюю кровавую дань.
«Через могилы вперед!»

Он должен быть готов к тому, что ночью и в темноте его могут избить политические противники, и на следующее утро вместо своей работы оказаться на операционном столе.
Только дерзким и до самой глубины души убежденным людям хватает силы для этого.
Настоящая сила SA основывается в том, что она состоит по существу из пролетарских элементов. Однако, этот факт также залог для того, что SA и вместе с нею все движение никогда не соскользнут в буржуазно-компромиссный фарватер. Пролетарский элемент, прежде всего, SA, придает движению снова и снова то целостное, революционное вдохновение, которое оно, слава Богу, сохранило до сегодняшнего дня. Много партий и организаций возникли с конца войны и после короткого подъема снова утонули в буржуазных темных сторонах жизни. Компромисс испортил их всех. Национал-социалистическое движение владело в революционной активности ее мужчин SA гарантией того, что его боевой дух остался несломленным, и большая политическая страсть его первых истоков сохранилось до сегодняшнего дня.
Из духа и характера SA в течение лет сформировался также совершенно определенный образ жизни и стиль обращения. Штурмовик – это новый политический тип, и как таковой он создавал себе также в языке и манерах ту внешнюю форму, которая соответствует его внутреннему содержанию. Удивительным и примерным для всей партии является тот дух товарищества, который охватывает всех членов SA сверху донизу. В SA маршируют рабочие и буржуа, крестьяне и горожане, все без исключения, молодые и старые, в одной и той же шеренге. Там нет классовых и сословных различий. Все служат общему идеалу, и унифицированная форма – это выражение одинакового образа мыслей. Студент подает здесь руку молодому рабочему, и принц марширует рядом с самым бедным крестьянским сыном. Опасности и лишения переносятся всеми вместе, и кто исключает себя из духа этого смелого товарищества, у того в длительной перспективе нет места в SA. На руководящие посты продвигаются в результате достижений, и их приходится каждый день заново заслуживать образцовой смелостью.
Язык SA жесткий и близкий к народу. Здесь обращаются только на «ты». Здесь формируется тот новый фронт народной общности, который, как мы надеемся, позже однажды будет путеводным примером для новой, организованной в духе народной общности немецкой нации.
В течение марта нужно было решиться теперь на первое вступление в столицу Империи. SA в один субботний вечер стянулись в Треббин на свое первое собрание в Бранденбурге. Поблизости от мельницы была зажжена гигантская поленница, и под усеянным звездами ночным небом берлинские штурмовики дали клятву не оставлять общее дело, продолжать его защищать, как бы трудно и опасно это ни было. Воскресенье было заполнено большими демонстрациями SA в самом Треббине, а потом подразделения поехали на специальном железнодорожном вагоне до вокзала Лихтерфельде-Ост, откуда вечером нужно было приступить к маршу на запад Берлина.
Никто из нас не мог даже предвидеть, что в ходе этой демонстрации дойдет до такого тяжелого и рокового кровопролития.
Слепой случай хотел, чтобы на том же поезде, который должен был везти SA из Треббина в Лихтерфельде-Ост, ехали большие группы Союза красных фронтовиков (ротфронтовцев), возвращавшихся с политической демонстрации в Лёйне. Полицейские из отдела IA, которые в прочих случаях так проворно оказываются на месте, если нужно наблюдать за национал-социалистами или проверить одну из наших политических речей на предмет нарушений закона, были виновны в непростительной халатности, ибо впихнули в один поезд самых радикальных политических на почти одночасовую поездку. Уже тем самым кровавые столкновения при высоком напряжении политической атмосферы в Берлине стали неизбежными. Еще при посадке на поезд в Треббине штурмовики были обстреляны ротфронтовцами из трусливой засады; и во время поездки теперь от купе до купе вспыхивала роковая маленькая война, которая на вокзале Лихтерфельде-Ост превратилась в открытую перестрелку.
Я с несколькими товарищами, ничего не зная об этих событиях и вообще о возможности их возникновения, выехал из Треббина на машине, чтобы подготовить безупречную транспортировку штурмовиков с вокзала Лихтерфельде-Ост. Перед вокзалом уже стояли черные человеческие массы, которые ожидали прибывающих SA, чтобы окружить их во время их марша на запад Берлина на тротуарах и сопровождать.
Незадолго до появления поезда штурмовики из Шпандау, которые участвовали в демонстрации в Треббине, на грузовиках доехали до привокзальной площади и выстроились поблизости для выступления. Поезд въехал в здание вокзала, и в то время как ждущие снаружи соратники ожидали еще вступающих SA, на платформе открыли оживленный огонь из пистолетов, который мы услышали снаружи с удивлением, не догадываясь, что могло быть его настоящей причиной. Вслед за тем с вокзала уже вынесли одного тяжелораненого штурмовика, и объятые ужасом человеческие массы узнают, что штурмовиков в тот самый момент, когда поезд двинулся дальше, самым жестоким образом обстреляли ротфронтовцы, которые ехали дальше до Анхальтского вокзала и чувствовали себя в своих купе в достаточной безопасности. В то же самое мгновение один храбрый штурмовик запрыгивает в купе отъезжающего поезда, дергает стоп-кран и останавливает поезд. Один из командиров SA лежит с тяжелым огнестрельным ранением в живот на перроне, у других огнестрельные ранения таза и ног. Сами подразделения SA возмущены до предела и устраивают трусливым террористам короткую, но тем более эффективную месть. По воле случая среди коммунистов сидел один из их депутатов ландтага. Тем самым расправе со стороны преследуемых подвергаются не только соблазненные, но и один из трусливых соблазнителей. Стоит большого труда удержать бушующую массу от опрометчивых поступков. В сопровождении криков ярости и возмущения, коммунисты покидают вокзал под защитой полицейских. Через пару минут порядок снова царит в рядах SA, колонна собирается к выступлению, и спустя еще несколько минут она молча и ожесточенно движется через темный район города на запад Берлина.
Тогда впервые по мостовой столицы Империи звучали шаги марша батальонов SA; SA вполне сознавал величие этого мгновения. Сквозь Лихтерфельде, Штеглиц, Вильмерсдорф колонна достигает центра Запада и как раз к часу пик вливается в центр еврейской метрополии Берлина, на площадь Виттенбергплац.
В тот поздний вечерний час еще несколько дерзких евреев, которые, очевидно, не могли держать свой грязный язык за зубами, были вознаграждены несколькими крепкими пощечинами. И на следующий день это дало желанный повод еврейской прессе для беспрепятственной и отвратительной провокационной кампании. Желтая пресса прямо-таки кувыркалась от ярости и отвратительной клеветы. Газета «Берлинер Тагеблатт» даже писала о погроме. Тогда впервые на страницах биржевой прессы появился «безвредный пешеход с еврейской внешностью». Тот самый безвредный пешеход, которого, как газеты хотели уверить читателя, грубые хулиганы якобы избили до крови только за то, что он выглядел как еврей. Жалобные показания свидетелей наполняли полосы взволнованной еврейской прессы. Призывали к самозащите, кричали, угрожали и буянили, апеллировали к полиции и государству и бурно требовали, чтобы положили конец бесстыдным поступкам людей со свастикой. Заявляли, что имперская столица – это не Мюнхен, нужно оказывать сопротивление в самом начале; то, что якобы хозяйничало здесь на улицах, больше не было уже никакой политикой, это была организованная преступность, и преступники должны были почувствовать на своей шкуре всю строгость закона. Газета «Роте Фане» была единодушна с Моссе и Ульштайном. Еврейские интересы были под угрозой, и тогда исчезают всегда и без того только искусственно установленные партийно-политические различия; весь Израиль в трепетном негодовании требовал: Это было в последний раз! Запрет! Запрет!
Для нас начинались тяжелые дни. Судьба движения висела на волоске. Вопрос стоял: быть или не быть. На этот раз нам, впрочем, еще удалось избежать открытого запрета. Но теперь мы знали, что мы созрели для запрета, и были убеждены в том, что при первом случае запрет был бы произведен на практике.
Но с другой стороны мы также полагали, что движение внутри настолько укрепилось, что оно могло преодолеть, в конечном счете, любое сопротивление, также и террор запрета. Неуклонно и целеустремленно мы продолжали борьбу за столицу Империи, не позволяя себе бояться предстоящего запрета, и не останавливая из-за этого свою деятельность.
Свой первый большой экзамен SA выдержала. Значительно быстрее, чем сама партия она преодолела кризис и начала борьбу. Через несколько недель связанные партийными узами границы некогда маленькой секты уже были взорваны, теперь движение обладало именем и положением. Хотя раненые наполняли больницы, и тяжелораненые массами лежали в нашей собственной импровизированной палате. Некоторые боролись со смертью. Штурмовиков дюжинами беспричинно арестовывали и бросали в тюрьмы. После долгого изматывающего следствия дошло до процесса, и штурмовик, который только защищал свою жизнь, всегда был обвиняемым, зато трусливый коммунистический подстрекатель был свидетелем и обвинителем в одном лице. Ни в полиции, ни в правительстве не находили мы полагающуюся нам, гарантированную конституцией защиту. Нам не оставалось ничего иного, кроме как помогать себе самим! Мы еще не были массовой партией, которая импонировала своей численностью. Движение было маленькой, потерянной кучкой, которая в несломленном отчаянии пыталась штурмовать еврейский вредный дух имперской столицы.
Презираемые, высмеянные и осыпанные издевками, заплеванные трусливой партийно-политической клеветой, униженные до парий и превратившиеся в политическую дичь, такими маршировали берлинские штурмовики за светящимся, красным знаменем со свастикой в лучшее будущее.
Невозможно назвать по именам всех, которые завоевали себе бессмертные заслуги в продвижении берлинского движения. Они не будут по отдельности зарегистрированы в книге нашей партийной истории, те, кто жертвовали для этого кровь и жизнь. Но SA в целом, как политическое боевое подразделение, как активистское движение воли, ее смелое и откровенное поведение и действие, ее тихий, непатетический героизм, ее дисциплинированный героизм, все это будет бессмертным в истории национал-социалистического движения.
Носитель этой гордой позиции не отдельный человек. Это организация в целом, SA как войско, коричневая армия как движение. Однако, над всем этим поднимает свое вечное лицо боевой тип этого духа, неизвестный штурмовик, молчаливо, напоминая и требуя. Это тот политический солдат, который появился в национал-социалистическом движении, безмолвно и без пафоса отдает свой долг этой идее, повинуясь закону, которого он иногда даже не знает и только чувствует сердцем. Перед ним мы стоим в почтении.
Текст плаката
Убийство! 50.000 марок вознаграждения не будут назначены, так как убийцы принадлежат к фашистским организациям. Трое мертвых, двадцать раненых – это жертвы подлых, коварных нападений национал-социалистов и орд Стального шлема. 500 этих грабителей напали на 23 Красных фронтовиков в Лихтерфельде-Ост и в Шпандау. Так выглядят эти [изображение штурмовика] убийцы. С этими ордами Стального шлема хочет [неразборчиво] 7 и 8 мая организовать свое триумфальное шествие в Берлине и повторить убийство рабочих. Рабочий класс должен организовать оборонительный бой! Рабочий! Служащие! Вступай в единственную военизированную и защитную организацию рабочего класса – в Союз красных фронтовиков! Прием осуществляется при [остаток неразборчиво]
Кровавый подъем (часть 1)
Террор как средство политической борьбы был совершенно неизвестен перед появлением марксизма. Только за социал-демократией сохранялось право применять его для воплощения своих политических идей. Социал-демократия – это первая партийно-политическая организация марксистской идеологии классовой борьбы. Она стоит на почве пацифизма. Это, однако, не мешает ей пропагандировать самую кровавую идею гражданской войны в собственной стране. Когда социал-демократия впервые вышла на политическую сцену, ей противостояло прочное буржуазное классовое государство. Парламентские партии уже приняли прочную, даже закостеневшую форму, и казалось невозможным сблизиться с массами парламентско-демократическим путем. Если бы буржуазия с самого начала распознала марксистскую опасность и боролась бы не только с ее симптомами, но и с причиной, тогда марксизм не мог бы завоевать существенного числа сторонников в Германии. Немецкий рабочий по своей природе и склонности не мыслит ни интернационалистски, ни пацифистски. Он ведь тоже сын национального, сильного немецкого народа. Только потому, что марксизм учил его, что диктатуру пролетариата можно достичь исключительно путем пацифистского интернационализма, немецкий рабочий смирился с этой на самом деле чуждой ему идеологией. Социал-демократия вовсе не была демократической в ее истоках, как уверяло, пожалуй, ее название. Во время ее нахождения в оппозиции она стремилась точно к тем же целям и точно теми же средствами как сегодня коммунизм; и только после биржевого бунта в ноябре 1918, когда она твердо получила в свои руки власть и могла закрепиться в ней парламентскими средствами, она внезапно стала демократической.
Но ее прошлое доказывало точную противоположность. Там речь шла о крови и гражданской войне, о терроре и классовой борьбе, там хотели прижать к стенке капиталистические партии, там не уставали осквернять идеалы нации и дерзко и самонадеянно насмехаться над великим прошлым немецкого народа. Бесцеремонно боролись они с буржуазным государством с целью соорудить диктатуру пролетариата на его обломках.
В этой борьбе партийно-политический террор сыграл решающую роль. Он применялся без всяких опасений, в уверенности, что у буржуазных партий не было ни малейшей возможности защищаться от него своими силами.
Им не оставалось ничего другого, кроме как противостоять этой угрожающей анархии средствами государства в виде полиции и армии; и они тоже представляли собой для социал-демократии перед войной послушный объект подлой и низкой травли и клеветы.
Лейтенант гвардии, каска с шишаком, жестокий, бездарный полицейский, армия на службе капитализма, подавляла духовное движение, в этих границах распространялись постоянные хамские грубости марксистской прессы, которую императорская Германию беспрекословно терпела.
Вина буржуазии была в том, что марксизм такими способами мог обгрызать и подтачивать фундамент государства, не опасаясь помех со стороны государства даже в случае явно преступного поведения. Государственное руководство исходило из той точки зрения, что нужно марксизм предоставить самому себе; в случае реальной опасности социал-демократия не сможет игнорировать требования нации. Политическая буржуазия систематически пребывала в этой иллюзии и поддерживала ее. И только так можно понимать, что последний представитель императорской Германии в судьбоносный час со словами: "Я больше не знаю партий, я знаю только лишь немцев!" протянул руку для создания союза профессиональным изменникам родины и этим самым роковым способом распахнул перед марксистской анархией все двери даже во время войны. Собственно, в тот пагубный день, так как Шайдеманн был назначен имперским государственным секретарем, история монархической Германии уже заканчивалась. Шестидесятилетняя низкая и безответственная партийная травля продемонстрировала тем самым успех, что старая Германия рухнула, и социал-демократия спустилась с баррикад и вступила в кабинеты государственных учреждений.
С тех пор умеренный марксизм изменил свою тактику. Из окровавленных революционеров, которые организовали революцию до крушения старой империи под колпаком якобинцев, теперь сразу появились состоятельные, жирные политические буржуа во фраке и цилиндре. Прежде они пели «Интернационал», а теперь объявили «Песнь немцев» национальным гимном. Они очень быстро научились умело двигаться по парламентско-дипломатическому паркету; но у них и близко не было намерений отказаться от своих настоящих целей.
Социал-демократия вечно останется тем, чем она была всегда. Самое большее она согласится временно сменить ее партийно-политическую тактику и поменять средства, которые она применяет в ежедневной борьбе. До тех пор пока она сидит во власти, она будет присягать спокойствию и порядку и требовать от ограниченного разума подданных уважать авторитет государства. Но в тот же момент, когда она будет отстранена от власти, она снова вернется в оппозицию, и методы, с которыми она тогда будет бороться с правительством, ни на йоту не будут отличаться от тех, которыми она пользовалась до войны.
Государственная идея, за которой она сегодня скрывается ханжески и лицемерно, для нее только предлог. Государство для марксистского партийного функционера – всегда только социал-демократическая партия. Она идентифицирует свои партийно-эгоистичные интересы с интересами всего государства, и если такой диванный стратег говорит о "защите республики", то он имеет в виду только его партийный загон, который он хочет с помощью государственных законов вывести из-под огня общественной критики. Марксизм никогда не менялся, и он также никогда не изменится. Какова его настоящая суть всегда проявляется, когда молодое политическое движение встает против него и объявляет ему борьбу. Тогда и в социал-демократической партии внезапно просыпается ее старое прошлое, и те же средства борьбы, которые она лицемерно отвергает у своего политического противника и воспринимает их с пренебрежением, ей как раз подходят, чтобы бесцеремонно применить их именно против этого противника.
Терроризм вырос вместе с социал-демократией; и пока в Германии еще есть марксистская организация, он больше не исчезнет с политического поля боя. Но если марксизм беспощадно пользуется партийно-политическим террором, то его политический противник никогда не может с самого начала заявить, что он сам отказывается от применения любой грубой силы, в том числе и для самозащиты. Потому что тем самым он окажется полностью в руках произвола марксистского террора. Это на длительный срок становится тем более невыносимым, что марксизм с 1918 года прочно сидит в учреждениях и органах власти и имеет поэтому возможность дать вторую, намного более опасную сторону партийно-политическому террору; так как теперь не только банды боевиков коммунизма на открытой улице насилием подавляют любое проявление национального мышления и всякое противостоящее коммунизму мнение, но и на другой стороне государственные учреждения и органы власти им при этом послушно оказывают вспомогательные услуги.
Результат состоит в том, что вместе с тем немецкий образ мыслей беззащитно отдан террору улицы и администрации.
Как часто нам приходилось испытывать, как наши штурмовики, которые воспользовались только самым примитивным правом самообороны, которое принадлежит каждому человеку, представали перед судом и были осуждены как нарушители общественного порядка на тяжелые тюремные наказания. Можно понять, что при этих обстоятельствах возмущение в национальной оппозиции на длительный срок растет до точки кипения. У национальной Германии отбирают оружие, которым она могла сама защищаться от террора. Полиция отказывает ей в полагающейся по гражданскому праву защите жизни и здоровья; и если миролюбивый человек, наконец, от последнего отчаяния защищает свою жизнь голыми кулаками, то его к тому же еще и тянут к судье.
Никакой объективно воспринимающий человек не может сомневаться в том, что марксистская пресса не владеет мандатом на то, чтобы бороться против национал-социализма с принципом спокойствия и порядка. Марксизм против каждого неудобного мнения действует методами террора; только, где это мнение защищается, желтая пресса зовет судью по уголовным делам – по давно известному методу: "Держите вора!". Затем стремятся заставить общественность поверить, что национал-социализм якобы угрожает спокойствию и безопасности, он несет раздор и ненависть в классы и сословия, и поэтому его вообще невозможно оценивать политически, с ним должен разбираться только прокурор.
Дело будущего национально-сознательного государственного руководства однажды снова провозгласить самое примитивное право самообороны для немецкой Германии. Сегодня это выглядит так, что каждый, кто еще решается открыто выступить за немецкую самобытность, получает клеймо политического изгоя; марксистский субъект из одного этого выводит уже только для себя право или даже обязанность нападать на носителя такого образа мыслей с кинжалом и револьвером.
Намерения, которые марксизм преследует при этой тактике, вполне понятны. Он знает, что его власть основывается преимущественно на владении улицей.
До тех пор пока он мог требовать только для себя мандата вести массы и вынуждать по своему усмотрению принимать политические решения под давлением улицы, у него не было причин выступать кровавыми средствами против буржуазных партий, которые все проглатывали молча. Но когда появилось национал-социалистическое движение и использовало для себя то право, на которое марксизм претендовал как на свою постоянную привилегию, социал-демократия и КПГ были вынуждены бороться против этого методами террора. Против подкрепленного логикой националистического мировоззрения им не хватало умственных аргументов, и тогда кинжал, револьвер и резиновая дубинка, в конце концов, должны были заменить этот недостаток.
Буржуазные партии все еще живут в глубоком заблуждении, что якобы существует какое-то принципиальное различие между социал-демократией и коммунизмом. Они руководствуются стремлением дерадикализировать социал-демократию, и включить ее в государственно-политическую ответственность. Это бессмысленно и бесцельно, непригодная попытка с непригодным объектом. Социал-демократия будет до тех пор ответственно стоять на стороне государства, пока она владеет этим государством. Но стоит ей утратить свое право участия в принятии политических решений, то она наплюет на государственный авторитет и попытается помешать спокойствию и порядку террористическими средствами и таким образом привести враждебное ей правительство к падению.
Трусость буржуазных партий по отношению к марксизму беспрецедентна в партийной истории всего мира. У буржуазных партий больше нет никакой силы, чтобы мобилизовать народ и двигать массы. Буржуа будет готов, если припечет, голосовать за свою партию; но ничто не сможет побудить его к тому, чтобы он ради своей партии и ее политических целей вышел на улицу.
Иначе обстоит дело с национал-социализмом. Он с самого начала не сражался в парламентах.
Он с самого начала пользовался современными средствами пропаганды: листовки, плакаты, массовые собрания, уличные демонстрации. При этом ему очень скоро пришлось столкнуться с марксизмом. Неизбежно возникла необходимость вызвать его на борьбу; и нам, в конце концов, ничего другого не оставалось, кроме как воспользоваться теми же средствами, которые применял марксизм, если мы хотели успешно довести борьбу до конца.
У национал-социалистического движения не было повода, чтобы по собственному почину начинать с партийно-политического террора. Его целью было завоевать массы, и оно чувствовало себя так уверенно в своем собственном праве, что оно могло с чистой совести отказаться от любого насилия. Применение силы стало необходимым только тогда, когда другие применили силу против него самого.
И как раз это случилось; прежде всего, в течение тех лет, когда национал-социалистическое движение было еще малочисленным, и противник мог надеяться, что сможет утопить его истоки в крови, когда его приверженцев избивали на улицах, полагая, что смогут тем самым взорвать движение изнутри и разобщить его. Марксизм намеревался теми самыми средствами, которые он до сих пор с таким большим успехом применял против буржуазных партий, поставить на колени теперь и национал-социализм.
Но в этом он полностью просчитался. Национал-социализм с самого начала правильно распознал марксизм как принцип. Ему также было совершенно ясно, что марксизм при первой угрожающей ему опасности снова применил бы старые, популярные для него средства грубой силы; поэтому он должен был также со своей стороны, решиться, наконец, на применение таких же средств.
Путь национал-социалистического движения отмечен следами крови. Но вина за пролитую кровь падает не на партию, а на те организации, которые сделали террор политическим принципом и десятилетиями действовали по этому принципу.
Марксизм уже воспринимает как дерзкое незаконное притязание, если какая-то немарксистская партия вообще апеллирует к массам, вообще устраивает народные собрания, вообще выходит на улицу. Массы, народ, улица являются, как хотел бы заставить поверить марксизм, бесспорными привилегиями социал-демократии и коммунизма. Парламент и промышленные объединения предоставляют другим партиям. Но народ должен принадлежать марксизму.
Теперь национал-социализм обращается как раз к этому народу. Он апеллирует к человеку улицы, он говорит его языком, говорит о нужде и притеснениях, которые угнетают его, дело народа делает своим делом в надежде, что народ тоже сделал бы его дело народным. И в тот же самый момент в этом возникает угрожающая опасность для марксизма. Тем самым национал-социализм коснулся раны социал-демократии и коммунизма и атаковал их на той позиции, где они могут быть разбиты. Социал-демократия прошла через Закон о социалистах и при этом получила опыт, что нельзя на длительный срок подавить духовное движение чисто механическими средствами. Наоборот, что насилие всегда порождает насилие, и что чем жестче будет давление, тем жестче будет и противодействие.
Это не признак ума совсем молчать о революционной позиции, если социал-демократия снова и снова делает попытки противостоять национал-социализму средствами государственного подавления. Это характеризует всю ее лицемерную лживость, если она при этом хочет представить национал-социализм как нарушителя общественного спокойствия. Эта попытка также всюду и всегда оканчивалась бы жалким провалом, если бы буржуазная пресса с самого начала была бы правдивой и отказалась бы оказывать услуги марксизму в его непростительном и преступном поведении.
Тем не менее, буржуазная пресса совершенно соответствует характеру или скорее бесхарактерности стоящих за нею парламентскими группировок. Там хотят мира ради мира. Десятилетиями там беспрекословно склонялись перед марксизмом и его террористическими требованиями. Теперь они приучены к этому искривленному положению.
Буржуазные партии намереваются жить дружно с марксизмом, не думая о том, что марксизм только тогда будет готов поддерживать гражданский мир, заключенный им с буржуазией, если ему во всем предоставят все права и полную свободу действий.
Национал-социалистическое движение отказывается от этого гнилого компромисса. Оно открыто и резко объявило марксизму борьбу не на жизнь, а на смерть. Уже скоро поле, на котором решалась эта борьба, было усеяно кровавыми жертвами; и здесь нужно констатировать, что у буржуазного общественного мнения везде и повсюду не хватало необходимого гражданского мужества, чтобы безоговорочно встать на сторону объективного права, которое в случае успеха, в конце концов, должно было помочь также и ему самому.
Общественное мнение молчит, если на улицах убивают национал-социалистических штурмовиков.
Отделываются несколькими строками в каком-то забытом углу на газетной странице. Такое сообщение не сопровождается никаким комментарием. Действуют так, как будто бы так и должно было быть. Марксистские газеты большей частью вообще ничего об этом не пишут. Они систематически умалчивают обо всем, что изобличает их собственные организации; и если они из-за неудобных обстоятельств и вынуждены что-то сказать, то они извращают реальную ситуацию до полной противоположности, превращают нападавшего в жертву, а жертву в нападавшего, кричат благим матом, призывают к вмешательству государственной власти, мобилизуют общественное мнение против национал-социализма и возмущаются против партийно-политического террора, который они сами сначала изобрели и ввели в политику. И если кто-то хоть пальцем тронет какого-то марксистского убийцу, то вся пресса заревет от ярости и возмущения. Национал-социалисты представляются как подлые кровавые подстрекатели и убийцы рабочих, на них клевещут, что они из одного лишь желания кровопролития бьют и стреляют безобидных пешеходов.
У буржуазных газет обычно для такой чудовищности остается только утонченное молчание. Они красноречивы в передовых статьях и комментариях, если марксистский хулиган пострадает при защите от его кровавого террора. О национал-социалистах, однако, никогда и нигде не говорится ничего хорошего.
Это в особенно опустошительных формах воздействует в самих пролетарских массах; так как вследствие того, что с национал-социализмом с самого начала обращаются как с чем-то второразрядным, что его клеймят как подонков рода человеческого, в народе укореняется мнение, что это движение вообще не стоит оценивать по правовым меркам. Любое беззаконие, которое в другом месте посчитали бы вызывающим и возмутительным, здесь становится правом и справедливостью. Разве коммунистический хулиган, настоящая профессия которого состоит в политических убийствах, вследствие этого не должен почувствовать себя прямо-таки призванным поддаться своим неукротимым кровавым инстинктам? Он знает с самого начала: пресса промолчит, общественное мнение признает его правоту. Если он и предстанет перед судом, то самое большее как свидетель, и даже при самом худшем исходе он получит за незаконное хранение оружия, вероятно, несколько месяцев тюрьмы, от которых его избавят с учетом смягчающих обстоятельств в порядке помилования.
Слово о "политических детях" все еще возникает в общественном мнении. Там привыкли к тому, чтобы не принимать коммунизм всерьез. В его кровавых эксцессах видят только случайные промахи и проявляют к этому широкое понимание и сочувствие. Когда коммунистическая пресса призывает к кровавой гражданской войне, они закрывают оба глаза, а для нанятого чекиста, который в ночной тьме трусливо застрелит национал-социалистического штурмовика, у них всегда открыто сердце. Они обхаживают его с той же заботливой добротой, с которой в сенсационной прессе обычно обращаются с преступником нравственности или с массовым убийцей.
Штурмовик является потерпевшим при этом безответственном поведении. Он чувствует себя жертвой трусливой кровавой травли, которую безнаказанно ведут против него, только лишь как человек вне закона политической жизни. Можно насмехаться над ним и клеветать на него, оплевывать и терроризировать, избить до крови и застрелить. Ни одна ворона после этого не каркнет. У собственной партии нет возможности предоставить ему защиту. Государственные власти отказывают ему в защите, пресса поддерживает не его, а его противников, а общественное мнение чувствует совершенно правомерным, что его прогоняют с улиц. Если бы национал-социализм был когда-нибудь хотя бы в малой степени виновен в тех насилиях и убийствах, в которых его обвиняет коммунизм, органы власти давно искоренили бы его подчистую.
Зато коммунизм охраняют и защищают. На него смотрят одним смеющимся и одним плачущим глазом. В конце концов, он борется против движения, которое ненавистно всем и враждебно всем, которое всеми воспринимается как надоедливый и неудобный конкурент. Как полагают ответственные лица, государственные учреждения не могли бы бороться с ними с тем же успехом, как это практически происходит на улице.
Эта ужасная безответственность должна была отразиться, прежде всего, в Берлине со страшными и тяжелыми последствиями. Этот четырехмиллионный город предоставляет самое удобное убежище для избегающих света дня политических элементов. Здесь марксизм в течение десятилетий прочно сидит на уверенных позициях. Здесь находится его духовный и организационный центр. Отсюда яд вошел в страну. Здесь в его распоряжении массы в руках и сильно разветвленная политическая пресса. Здесь полиция на его службе. Здесь можно всеми средствами подавлять национал-социализм, и, в конце концов, они также вынуждены делать это; так как если национал-социализм захватит Берлин, то придет конец марксистскому доминированию и во всей Германии.
Кровавый подъем (часть 2)
Берлин – это город, в котором думают жестче и безжалостнее, чем в любом другом городе Империи. Захватывающий дух темп этого асфальтового чудовища сделал человека бессердечным и бездушным. Охота за счастьем и борьба за хлеб насущный принимают в Берлине более жестокие формы, чем в провинции. Всякая патриархальная связь здесь разрушена. Столица империи населена бродящими массами, и до сих пор еще никто не сумел дать внутреннюю дисциплину и большой духовный импульс этим массам.
Социальное бедствие в этом городе тоже показывает совсем другие масштабы, чем в остальной Империи. Из года в год тысячи и тысячи людей из провинции прибывают в Берлин, чтобы искать здесь счастье, которое они большей частью не находят. В порыве штурма неба они бросают вызов судьбе, чтобы уже скоро, лишенные мужества и с ослабленными нервами, упасть назад в бесформенную массу анонимного пролетариата мегаполиса.
В действительности, берлинский пролетарий – это пример безродности. Для него счастьем является уже то, что он может влачить свое скудное, безнадежное и безрадостное существование на каком-то заднем дворе густонаселенного дома. Многие обречены на то, чтобы без своего крова прозябать в залах ожидания и под железнодорожными мостами в полной отчаяния жизни, больше похожей на ад.
В этом городе марксизм нашел подготовленное поле для своих разрушительных для государства тенденций. Здесь глаза и уши были открыты для его далеких от действительности идеологий. Здесь его воспринимали охотно и верили в него как в благую весть для спасения от нужды и бедствия. Марксизм прочно развил и защитил свою позицию в Берлине; когда национал-социализм выступил на борьбу против него, марксизм защищался, распространяя ложь, что национал-социалистическое движение якобы намерено разлагать и раскалывать международный пролетариат и его марксистские организации классовой борьбы, чтобы тем самым раз и навсегда выдать их в руки капиталистическим силам. В этой обороне сходились социал-демократия и коммунизм; и в тени этой лжи в широких трудящихся массах национал-социализм воспринимали только лишь как гнусного нарушителя мира и бесстыдного врага интересов мирового рабочего класса.
В Берлине не понадобилось много времени, пока марксизм не распознал опасность национал-социалистического движения. В других местах он в течение долгих лет только смеялся над нами, высмеивал или клеветал в лучшем случае. В Берлине он уже после двухмесячной борьбы понял значение угрожающей ему гибели и тут же выступил с применением того кровавого террора, который он иногда в остальной Империи к своему собственному вреду испробовал слишком поздно.
Давно известно, что преследования всегда убивают только слабых, зато сильный от преследований только растет, он приобретает больше сил от притеснений, и любое средство насилия, которое применяют против него, в конце концов, только усиливает его упорство.
Так это случилось и у нас. Движению пришлось вынести неописуемые трудности под террором марксистской кровавой травли. Иногда и часто мы были близки к отчаянию. Но, в конечном счете, ненависть и злоба снова и снова поднимала нас. Мы не уступили, чтобы не дать нашим врагам подумать, что мы рухнули под жестокостью их средств борьбы.
Кровь связывает друга с другом. Каждый штурмовик, который павший или избитый до крови покидал ряды своих товарищей, передавал им в наследие упорство и возмущение. То, что произошло с ним, могло произойти в другой день с его соседом; и если его били, то долгом его товарищей было заботиться о том, чтобы движение становилось сильнее, и больше нельзя было решиться бить его. На место каждого убитого вставали сто живых. Покрытое кровью знамя не дрогнуло. Его только все более упорно и ожесточенно сжимали сильные кулаки его знаменосца.
Не мы хотели крови, которая пролилась. Для нас террор никогда не был ни самоцелью, ни средством для достижения цели. С тяжелым сердцем мы должны были обратить силу против силы, чтобы обеспечить духовное продвижение движения. Но мы ни в коем случае не были готовы беспрекословно отказываться от тех гражданских прав, на которые марксизм дерзко и самонадеянно хотел претендовать только для себя.
Мы открыто признаемся: нашей целью был захват улицы. С улицей мы хотели завоевать для себя массы и народ. И в конце этого пути стояла политическая власть. На это у нас есть право; так как с помощью этой власти мы хотели защищать не наши собственные интересы, а интересы нации.
Не мы ломали мир. Мир был сломан, когда марксизм не хотел признавать равное право для всех, и пытался кровавым насилием бить каждого, кто рискнул требовать для себя того же права, что было у марксизма в руках.
Вероятно, буржуазия еще раз будет на коленях благодарить нас за то, что мы снова добились в Германии права на свободное выражение мнения также на улице в ходе кровавой борьбы. Возможно, буржуазные газеты узнают в нас однажды настоящих спасителей от марксистской духовной кабалы и большевистского преследования по политическим мотивам. Мы не жаждем симпатий со стороны буржуазии; но мы полагали, что сможем рассчитывать, по крайней мере, в борьбе за восстановление цивилизации и настоящего порядка, народного мира и национальной дисциплины на справедливое и объективное признание со стороны буржуазной прессы.
Эта надежда обманула нас; и если сегодня в широких кругах национал-социалистического движения распространилось безграничное презрение к трусости буржуазных взглядов, то это не последствие партийно-политической травли, а здоровая и естественная реакция на ту нехватку гражданского мужества, которую буржуазия снова и снова продемонстрировала по отношению к нашему движению. Нам хорошо известны причины, которые образованный обыватель снова и снова приводит к оправданию этого подлого отношения. Говорят, что борьба, как мы ее ведем, неблагородна и не соответствует привычным в воспитанных кругах манерам. Нас считают заурядными, когда мы говорим языком народа, которым, однако, надменный обыватель не может ни говорить, ни понимать.
Буржуа хочет мира ради мира, даже если он страдает от этого гнилого мира. Когда марксизм захватывал улицу, буржуа трусливо прятался в своих четырех стенах, и боязливо сидел за занавесками, когда СДПГ изгоняла буржуазное мировоззрение из общественного сознания и массивной атакой разрушила монархическое государственное устройство. Буржуазное общественное мнение стоит в едином фронте с еврейской желтой прессой против национал-социализма. Но оно тем самым само копает себе могилу и от страха перед смертью совершает самоубийство.
Прямо-таки вызывающей представляется, однако, та скрытая и лицемерная общность, которая связывает демократическо-марксистскую прессу с коммунистическо-интернациональной в борьбе против национал-социализма. Если «Роте Фане» иногда в борьбе против нас ссылается на буржуазные газеты концернов Ульштайна или Моссе, например, во фразе, что даже буржуазная газета вроде «Фоссише Цайтунг» в этом случае разделяет ее мнение, то у нас для этого остается только лишь сострадательная и понимающая улыбка. Разумеется, их связь еще не дошла до того, что они открыто здороваются друг с другом на Унтер-ден-Линден. Но когда они одни дома, то всегда все еще находится; и там где мы угрожали общееврейским интересам, там тогда от страха больше не стеснялись и открыто демонстрировать расовое родство.
Против нас они всегда едины. Если нужно притащить одного из наших руководителей к судье, утаить от общественности убийство штурмовика или взять под защиту красных нарушителей спокойствия с лицемерной ложью, тогда снова и снова проявляется тот подлый, преступный единый фронт от самого красного органа классовой борьбы до серьезной еврейской мировой газеты. Тогда они все с шумом бьют в один колокол. Тогда они не скрывают своих мыслей и говорят всему миру, что они братья по крови и единомышленники.
Я еще сегодня живо вспоминаю один эпизод, который произошел в течение тех кровавых и ужасающих месяцев после одного из наших массовых собраний в Берлине. Коммунистические орды осадили здание, где проводилось собрание, подготовившись к нападению и избиению наших возвращающихся домой штурмовиков.
Целыми днями до того желтая пресса травила нас и подстрекала к насилию. Органы государства отказывали нам в защите, а буржуазные газеты трусливо молчали.
Незадолго до конца собрания полиция занимала выходы из зала; и она, у которой, при нормальном рассмотрении, не могло быть никакой другой задачи, кроме как прогнать собравшиеся снаружи группы красных боевиков или арестовать их, в противоположность этому видела свое государственное поручение в том, чтобы обыскивать покидающих собрание штурмовиков на предмет, есть ли у них оружие.
Нашли несколько перочинных ножей, несколько гаечных ключей винтов и, вероятно, также, ради Бога, один кастет. Их владельцев посадили на грузовики и отвезли на Александерплац. Безграничное, разочарованное возмущение овладело всем собранием. Тогда один простой штурмовик подошел к дежурному офицеру охранной полиции, снял свою шапку и спросил с преданной скромностью, только с тихим оттенком гнева: – И где же, господин капитан, мы теперь можем получить наши гробы?
В этом предложении было сказано все. Национал-социалистическое движение было обезоружено и беззащитно. Оно было брошено на произвол судьбы всеми, представлено общественности как объявленное вне закона, и где оно с самыми скромными средствами самообороны выступало против угрозы его собственной жизни, оно попадало под суд как нарушитель общественного порядка.
Пожалуй, в истории трудно найти духовное движение, с которым боролись более низкими и подлыми методами, чем с нашим. Не часто приверженцы нового мировоззрения для достижения его целей понесли большие жертвы во всем, чем мы. Но также победное шествие подавляемой и преследуемой партии никогда не было настолько триумфальным и захватывающим, как у нашего движения.
Нам навязали кровь, но в крови мы поднимались. Кровь соединяла нас друг с другом. Мученики движения незримо двигались перед марширующими батальонами, и их героический пример придавал оставшимся в живых силу и мужество для жесткой выдержки.
Мы не капитулировали перед сопротивлением. Мы ломали сопротивлявшихся, а именно всегда теми средствами, которыми те противостояли нам. Непреклонным и жестким было движение в этой борьбе. Сама судьба выковала его своим тяжелым молотом. В ее первые годы оно уже было подвергнуто таким преследованиям, которые сломали бы любую другую партию в Германии.
То, что оно перенесло их победоносно, было несомненным доказательством того, что оно было не только приглашено, но и избрано. Если бы судьба решила иначе, движение в течение тех лет было бы задушено в крови и терроре. Но она, очевидно, планировала для нас нечто большее. История хотела нашей миссии, и поэтому нас испытывали, но после перенесенных испытаний также благословили.
Движение в последующие годы было буквально осыпано успехами и победами. Кто-то, кто только поздно нашел дорогу к нам, едва ли мог понять причину этого. У него возникали мысли, что путь для нас слишком облегчили, и он опасался, что движение могло бы однажды задохнуться в их собственных триумфах.
Он при этом забывал или, пожалуй, даже не знал, с какими усилиями движение пробилось наверх. Более поздние успехи были только справедливым вознаграждением за более раннюю стойкость; судьба не баловала нас и не подыгрывала нам, а только через много лет своими щедрыми руками дала нам то, что мы сами заработали себе много лет тому назад своим мужеством и жесткой выносливостью.
В то время как в Германии все тонуло, в то время как бессмысленная политическая система продавала последние остатки немецкого народного владения международной финансовой олигархии, чтобы тем самым продолжать поддерживать неосуществимую и сумасбродную политику, мы объявили войну упадку во всех областях общественной жизни. В Берлине как и во всей прочей Империи началась эта борьба немногих фанатично решительных людей, и тот способ, которым они вели эту борьбу, со временем приносил им все больше друзей, приверженцев и восторженных сочувствующих. Из сотен становились тысячи. Тысячи превращались в сотни тысяч. И теперь миллионная армия жестких и волевых борцов стоит посреди хаотичного крушения немецких дел.
Также и в Берлине нам пришлось полной мерой вынести страдания и преследования, которым всегда подвергалось общее движение. Берлинское движение показало, что способно справиться с ними. Первым национал-социалистам в столице Империи хватило мужества, чтобы жить опасно; и, все же, в опасной жизни они, наконец, преодолели судьбу, подавили все сопротивление, и победоносно пронесли свое знамя через просыпающуюся имперскую столицу.
Путь, по которому шла наша партия, был обозначен кровью; но посев, который мы сеяли, взошел в изобилии.
Запрещены! (Часть 1)
Начальник полиции (полицай-президент) Берлина – это обладатель исполнительной власти в Пруссии. Так как Берлин – это в то же время местонахождение Имперского правительства, тем самым в руках начальника берлинской полиции оказывается политика в Пруссии и в Империи, что касается ее практического проведения. Полицейское управление (полицай-президиум) в Берлине имеет в этом отношении, как ничто другое в империи, исключительно политический характер. Кресло начальника полиции Берлина также почти без исключения занимают политические представители.
До тех пор пока социал-демократия находилась в оппозиции, начальник полиции Берлина был излюбленной мишенью ее ненависти, ее вредных шуток и ее лживой демагогии. Начальнику полиции Берлина доверено сохранение спокойствия и порядка в имперской столице. Из-за этого все время возникали конфликты между властью полиции и революционной социал-демократией. Известно, что королевский прусский начальник полиции Ягов пытался указать на их место обнаглевшим марксистам ставшими крылатыми словами: «Улица принадлежит уличному движению. Я предостерегаю любопытных». Это было во время, когда социал-демократия еще не была верна государству, наоборот, она всеми средствами самой гнусной травли пыталась подточить и подорвать государственное устройство. Императорская Германия не могла противопоставить восходящему марксизму свою идею. Поэтому ей при защите от его разрушительных тенденций не хватило необходимой бесцеремонной беспощадности и остроты. Последствия этой непростительной вялости впоследствии сказались 9 ноября 1918 года, когда бунтующие массы затоптали государственную власть и внесли революционную социал-демократию в правительственные кресла.
С тех пор социал-демократия видит в должности берлинского начальника полиции одну из ее многочисленных партийно-политических привилегий. Человек, господствующий в здании полицейского управления на площади Александерплац, с тех пор без исключения представлял эту партию. Даже наихудшая коррупция, которая в дальнейшем расцвела в этом учреждении, не смогла заставить партии, входившие в коалицию с социал-демократами, снова лишить эту проникнутую духом классовой борьбы организацию исполнительной власти, по крайней мере, в столице Империи. Такие люди, как Рихтер, Фриденсбург, Гжезински и Цёргибель сменяли друг друга на этом посту на Александерплац в пестрой последовательности, и они давали в итоге в своей совокупности, в действительности, галерею республиканских голов, которая не требует дальнейших комментариев.
У социал-демократии с овладением полицай-президиумом в Берлине в руках была власть. Теперь ей было легко добиться свободных возможностей для развития ее собственной организации и подавлять и преследовать каждое неудобное враждебное мнение средствами государства. Социал-демократический полицай-президиум в 1918/1919 и 1920 годах не постеснялся воспользоваться помощью фрайкоров и добровольческих формирований для подавления большевистской опасности. Только когда ярко-красный террор был побежден на улицах, социал-демократия могла перейти и к тому, чтобы со всеми издевательствами бороться с национальным движением. Основная задача этого похода для уничтожения лежала в руках начальника берлинской полиции.
У кого есть полицейское управление в Берлине, у того есть Пруссия, а у кого есть Пруссия, у того есть вся Империя. Теперь эта фраза, которая была оправданной уже в императорской Германии, была бесцеремонно на марксистский язык теми политическими силами, которые в 1918 году рвали власть на себя. Социал-демократия захватила полицай-президиум Берлина, чтобы с тех пор защищать его руками и ногами. С помощью захвата самых важных министерских постов в Пруссии она прочно уселась в этой самой большой земле и завоевала этим опосредованное, но решающее влияние на имперские дела, даже если они обеспечивались кабинетом, который не стоял под ее непосредственным давлением. Было неизбежно, что восходящее национал-социалистическое движение в Берлине очень скоро попало в конфликт с социал-демократическим полицейским управлением. Этот конфликт мы вовсе не должны были провоцировать. Он лежал в природе вещей, и он тогда вырывался также в один момент, в котором национал-социалистическое движение поднималось из ее анонимного существования.
Тогда на Александерплац правил социал-демократ Цёргибель. На свой трудный и ответственный пост он не принес большой квалификации, кроме того, что он был владельцем социал-демократического партбилета, и его хвалили за то, что он проявил необходимую бесцеремонную пролетарскую силу локтя для выполнения его задания.
На его стороне занимал должность как начальник полиции еврей доктор Бернхард Вайсс.
Заместитель начальника полиции др. Бернхард Вайсс

Он постепенно поднимался по лестнице административной карьеры наверх, потом перешел на полицейскую службу, в молодые года стал начальником главного отдела Александерплац, политического отдела IA, близким сотрудником Зеферинга, когда тот в первый раз стал министром внутренних дел Пруссии, и после падения Фриденсбурга стал вице-полицай-президентом (заместителем начальника полиции). Ничто не может заставить нас поверить, что этот человек мог бы проявить необходимую для своего объективного использования на таком высоком посту непредвзятость по отношению к национал-социализму. Доктор Вайсс – еврей. Он также открыто признает, что исповедует иудаизм, и действует на ведущих должностях в больших еврейских организациях и союзах. Он обычно беспокоит судей по уголовным делам, если национал-социалистическая сторона обозначает его как еврея. Но это ничего не изменяет в том факте, чтобы он является как раз явным евреем внешне и внутри. Национал-социалистическое движение антисемитское, а именно оно придерживается антисемитизма, который только лишь в очень малой степени имеет отношение к антисемитизму в духе Штёкера и Кунце. Антиеврейская позиция нашего движения следует из принципиальных соображений. Мы вовсе не возлагаем только на евреев всю ответственность за все те беды, которые свалились на Германию с 1918 года. Мы видим в нем только типичного представителя упадка. Он – паразитическое живое существо, которое развивается, прежде всего, на болотистом грунте умирающих культур и извлекает из этого пользу.
В тот момент, когда упали последние барьеры, которые отстраняли международный иудаизм от административного управления и правительства в прусской Германии, собственно, уже пришел конец судьбе нации. С тех пор началось вторжение духовного кочевничества в сферы государственной дисциплины и национальной тесной связи, и теперь больше никак нельзя было задержать катастрофическое крушение немецкого государства.
То, что евреи вообще могли попасть на высокие государственные посты, это уже классический признак того, как глубоко Германия опустилась с 1918 года, и как беспрепятственно распространилось у нас извращение политического мышления. Когда национал-социалистическое движение преодолело свои первые юные истоки в Берлине, полицай-президиум тотчас же начал соответствующие контрмеры. Прохладную отстраненность, с которой до сих пор относились к нам, теперь сразу сменило заинтересованное участие. Внезапно на наших собраниях начинало кишеть шпионами с Александерплац. За каждым шествием, каждой демонстрацией, каждой встречей функционеров очень пристально наблюдала полиция. Посылали официальных шпионов, на берлинском жаргоне называемых «восьмигрошовыми мальчиками», как членов в организацию, в надежде добыть себе таким способом необходимый материал, чтобы в случае реальной опасности движения воспользоваться им при официальном запрете.
Душой всего этого предприятия был по нашему убеждению сам заместитель начальника полиции доктор Бернхард Вайсс. И так же, как социал-демократия перед войной боролась не только с системой, которая была ей враждебна, но и с ее видимыми, заметными представителями, так и мы тоже вынуждены были, хотели мы того или нет, строить нашу тактику на том, чтобы подвергать нашим политическим нападкам не только Александерплац как организацию, но и начальника полиции как конкретное лицо.
Так можно объяснить то, что наша борьба против методов, которые полицай-президиум применял против нас, и которые мы очень скоро вынуждены были в полной мере ощутить на собственной шкуре, все больше и больше заострялась на личности заместителя начальника полиции доктора Вайсса. В нем мы нашли мишень нашей критики, лучше которой и представить себе было нельзя.
Доктор Вайсс привносит на свой пост многое то, чему там совершенно нечего делать, и мало того, что по здравому смыслу должно было относиться к этому. Он не активный полицейский, и не явный политик. Он член еврейской расы, и уже одно это должно было с самого начала сделать его в наших глазах подозрительным. Только небо может знать, как к нему прилипло имя Исидор. Нам в дальнейшем пришлось убедиться в том, что это имя было только прибавлено ему, и что в действительности он несет более безобидное имя Бернхард. Разумеется, я должен признаться, что если все же его имя Исидор неверно, то оно, по меньшей мере, хорошо придумано. Тут снова проявилось неиспорченное и меткое берлинское народное остроумие, дававшее человеку то имя, которого у него не было, но зато оно ему прекрасно подходило.
Нас в дальнейшем часто осуждали на большие тюремные и денежные штрафы, так как мы применяли к этому человеку имя, которое он, несмотря на то, что в самом этом имени, по сути, нет ничего оскорбительного, воспринимал как словесное оскорбление и подавал на нас судебные иски. Все-таки, он стал широко известен под этим именем. Он вошел под ним и в современную историю, и наши массивные атаки против него привели в конце к тому, что он скоро стал одним из самых популярных персон в антисемитской борьбе национал-социалистического движения.
Доктор Вайсс! Теперь это слово быстро стало зажигательным лозунгом. Каждый национал-социалист знал его, каждый приверженец в самом живом и отчетливом виде запомнил его физиономию из тысяч юмористических журналов, фотографий и карикатур. В нем видели душу оборонительной борьбы против нашего движения, которую вел полицай-президиум. На него возлагали ответственность за все несправедливости, которые причиняли нам с Александерплац; и так как господин доктор Вайсс в противоположность многим другим крупным величинам системы почти столь же чувствителен как мимоза, национал-социалистическая агитация все больше и больше усиливалась, чтобы сделать из него посмешище, не принимая его всерьез как политического противника, представляя его преимущественно в карикатурном виде, а именно в ситуациях, которые были мало лестными для него, зато в большой степени отвечавшими естественным потребностям берлинской публики в шутке, юморе, насмешке и снисходительной улыбке.
Почти на каждой неделе мы должны были доводить до конца какой-то бой с доктором Вайссом. Он был излюбленным объектом наших безжалостных нападок. Мы вытянули его из анонимности неотчетливого, но более влиятельного существования, представили его на яркий свет общественности и наносили наши удары по нему с таким горьким агитаторским сарказмом, что это нравилось уже и другу и врагу.
Тем хуже, однако, это отмечалось на Александерплац; и так как против нас можно было предъявить только очень мало, так как на нашей стороне были насмешники, то они, вместо того, чтобы защищаться конструктивно, прятались за безопасностью своего учреждения и стремились полицейскими мерами заменить, похоже, очевидную нехватку умственных средств для борьбы с нами.
Уже после кровавого и чреватого тяжелыми последствиями столкновения на вокзале Лихтерфельде-Ост меня вызвали в полицейское управление и довольно прямо открыли мне, что движение в Берлине теперь в высшей степени созрело для запрета, и что самого незначительного повода хватило бы для введения этого запрета на практике. Тем самым борьба между НСДАП и полицай-президиумом достигла своего временного апогея, а то, что последовало за этим, было лишь неизбежным следствием.
Первого мая Адольф Гитлер впервые выступил на большом собрании в Берлине. Тогда еще во всей Империи был объявлен запрет на его публичные выступления, и поэтому мы должны были созвать собрание, на котором он говорил, в форме общего собрания членов. Оно происходило в «Клу», старом увеселительном кафе в центре Берлина. Мы выбрали этот зал, чтобы именно первого мая избежать всех попыток провокации коммунистов; так как нашим намерением было не превращать это мероприятие в боевое собрание, а с помощью первого выступления вождя национал-социалистического движения придать партии в столице Империи новый сильный импульс и показать общественности ее настоящую силу.
Собрание прошло успешнее наших ожиданий. Большие помещения кафе «Клу» были до последнего заполнены записанными членами партии, и речь Адольфа Гитлера в ее агитаторской остроте и программной глубине разорвалась среди всех слушателей, большинство из которых никогда еще не видели и не слышали выступлений Адольфа Гитлера, как бомба.
Столичная пресса не могла обойти это молчанием. Она должна была занять какую-то определенную позицию относительно этого. И она сделала это тогда как раз соответствующей ее характеру манере. Еще до начала собрания появился номер еврейской газеты за понедельник, где было напечатано сообщение о собрании еще до того, как оно вообще началось. Это сообщение изобиловало оскорблениями, подозрениями и подлой ложью. Адольфа Гитлера ставили на одну ступеньку с самыми обычными преступниками и оплевывали его движение такой манерой, которая была прямо-таки вызывающей.
Особенно тот факт, что сообщение о собрании продавалось в напечатанном виде уже перед собранием, и тем самым дал для всего мира красноречивое доказательство лживости еврейской желтой прессы, очень возмутил и рассердил берлинских членов партии.
Сообщения, которые появились во всей еврейской прессе на другой день, ни в коем случае не уступали этой публицистической низости. Настроение среди членов партии вместе с тем росло до точки кипения, прежде всего, когда стало ясно, что также так называемая национально-буржуазная пресса не только никак не возражала против этой журналистской дикости, но более того, отделалась от первого выступления Адольфа Гитлера в Берлине либо оскорбительным молчанием, либо несколькими пустыми, злобными замечаниями.
Против этого мы должны были занять определенную позицию. Это было требованием самоуважения. Национал-социалистическое движение сдалось бы морально, если бы оно проглотило это беспрекословно; и так как у нас тогда еще не было публицистического органа в Берлине, мы созвали на 4 мая массовое собрание в доме Союза бывших фронтовиков. Оно было задумано как собрание протеста против инсценированных тогда Дармштадским банком биржевых маневров, в частности его владельцем Якобом Гольдшмидтом. Мы уже на несколько недель раньше устроили против этого типичного представителя международного финансового капитализма сенсационную массовую демонстрацию и вместе с тем впервые представили его более широкой общественности. Это второе собрание должно было быть продолжением первого, и теперь я решил, что прежде чем я как оратор займусь настоящей темой, разобраться со всей остротой с этими атаками прессы на выступление Гитлера в Берлине.
При этом нельзя не упомянуть, что после гитлеровского собрания в одной еврейской берлинской газете появлялось интервью с Адольфом Гитлером, которого на самом деле никогда не было. Один журналист связался со мной по телефону, чтобы попросить об этом мнимом интервью. Я категорически отказался от этого и теперь к моему огромному удивлению должен был узнать, что оно, несмотря на это, все же появилось на следующий день в прессе, очевидно, выдуманное от «а» до «я». Это интервью было перепечатано всеми провинциальными газетами, находящимися под еврейским влиянием. Оно изобиловало самой злобной пошлостью и подлой низостью. Адольф Гитлер, который является, как известно, трезвенником, изображался там как общеизвестный пьяница, и самое подлое в этом скандале прессы было то, что автор интервью пытался создать впечатление, как будто бы он как представитель еврейской газеты весь вечер пил вместе с Адольфом Гитлером и так получил лучшую возможность наблюдать его вблизи.
Собрание в доме Союза бывших фронтовиков было переполнено и впервые должно было блокироваться полицией. Я начинал свою речь с острой полемики с берлинской желтой прессой и не упускал момент при помощи безупречных доказательств безжалостно пригвоздить мерзавцев из еврейской прессы к позорному столбу.
Я оглашал отдельные сообщения в печати массами людей, слушавших, затаив дыхание, и всегда противопоставлял им после оглашения действительные факты. Это было поразительно в своем воздействии, и слушателями овладевала постоянно растущая ярость и возмущение, которое пыталось излить себя в громких призывах негодования.
Когда я как раз закончил этот расчет с желтой прессой и хотел перейти к основной теме, какой-то, по-видимому, несколько подвыпивший индивидуум поднялся посреди зала на правой стороне. Я через туман сигаретного дыма увидел покрасневшую от вина голову, которая поднялась там вверх среди стиснутых людей, и услышал к моему чрезмерному удивлению, как этот дерзкий провокатор делал попытки помешать собранию, которое до тех пор проходило в самой полной дисциплине, вызывающими и оскорбительными репликами. Я сначала не хотел обращать на это внимания. Само собрание тоже было настолько поражено этой дерзостью, что оно на мгновение погрузилось в немую тишину; и в этой немой тишине этот субъект демонстративно повторял, чтобы спровоцировать и побудить слушателей к опрометчивым поступкам, самые оскорбительные выкрики в мой адрес, детали которых для меня с первого раза остались непонятными. И это выглядело тем возмутительнее, что я никому и ничем не дал повода для такого невоспитанного поведения.
Я сразу заметил, что мы тут, очевидно, имеем дело с провокатором, и поэтому я решил ни в коем случае не дать себя спровоцировать, а вместо этого легко отделаться от всего инцидента. Я прервал речь на две или три секунды, обратился к возмутителю спокойствия и сказал в пренебрежительном тоне: «Вы наверняка хотите помешать собранию! Не хотите ли вы, чтобы мы воспользовались нашим правом указать вам на дверь и отправить вас подышать свежим воздухом?» Когда субъект после этого вовсе не сел назад, а громким голосом пытался продолжать свои провокации, несколько храбрых штурмовиков приблизились к нему, выдали ему несколько пощечин, подняли его за затылок и задницу, и так вынесли из зала.
Все это происходило за долю минут. При этом само собрание ни на одно мгновение не утратило нервов. Участники только громкими репликами возражали против этого совсем беспричинного и неоправданного нарушения и, вероятно, также радовались тому, что возмутитель спокойствия теперь был удален, и сама речь могла продолжаться без инцидента.
Я лично не придал никакого значения всему этому процессу. Я со своего возвышения только видел, как провокатор покидал зал с несколько неделикатной помощью. Потом я совершенно спокойно продолжил свою речь, которая как раз подошла к главной теме собрания. Речь продолжалась после этого еще полтора часа, и так как никто не записывался в прения, собрание на этом закончилось. Слушатели как раз хотели покинуть зал в радостном воодушевлении, когда вовнутрь ворвалась полиция, которую мирные посетители, естественно, приняли с криками и свистом. Офицер полиции поднялся на стул и прокаркал повышенным голосом свое официальное мнение в бушующую толпу людей. Нельзя было понять ни слова. Я вмешался сам и приказал сохранять спокойствие, которое в тот же момент наступило. Офицер полиции тем самым получил возможность сообщить собранию, что у него есть приказ проверить каждого посетителя на наличие оружия; и когда я объяснял, что мы хотели бы молча и беспрекословно подчиниться этому мероприятию, собрание снова стало совершенно мирным и спокойным, и в течение двух часов, пока обыскивали две или три тысячи человек, больше не было никаких стычек, трений и столкновений.
Тем самым дело было, по сути, закончено. Я тоже был такого же мнения, но при этом не учел самого главного. На следующее утро мне с удивлением пришлось узнать, когда я читал прессу, что после окончания собрания на Александерплац произошли еще чрезвычайно интересные дела. По воле нашего несчастья тот провокатор, которого мы удалили из нашего собрания, был хоть и пьяницей и опустившимся субъектом, но совершенно напрасно носил прежде еще и титул священника, которого он, очевидно, вовсе не был достоин. Однако и этого хватило желтой прессе. Это был тот корм, которого она долго искала. Те же мерзавцы из прессы, которые десятилетиями оплевывали трусливой ложью и клеветой все, что было связано с духовным сословием или носило духовную одежду, внезапно превратились теперь в записных хранителей христианской морали и нравов. Из пропитого субъекта они сделали почтенного седого священника. Из дерзкой и немотивированной провокации на нашем собрании сделали безвредную и скромную реплику. Двух членов партии, которые вынесли индивидуума, хоть и несколько неделикатно, из зала, превратили в национал-социалистических убийц, и несколько пощечин, которые достались при этом уволенному священнику, оказались тяжелыми и роковыми ударами дубиной, которые проломали череп бедной и достойной сожаления жертве, которая теперь в какой-то больнице героически боролась со смертью.
Это было сигналом. Пресса с настоящим наслаждением набросилась на этот безобидный сам по себе инцидент. Он раздувался по всем правилам журналистского искусства искажения. «Чаша терпения переполнена!» «Пора с этим покончить! Долой этот преступный террор!» «Нужно ли было до смерти забить священника, чтобы власти обратили на это внимание?!» Такие крики и вопли были в еврейских низкопробных газетенках. Канонада прессы была, очевидно, заранее подготовлена и вдохновлялась и подпитывалась официальными властями. Еще в ночь после собрания состоялось обсуждение между органами власти полицай-президиума и прусского Министерства внутренних дел. Уже на следующий полдень орган Ульштайна сообщил о немедленном запрете партии. Национально-буржуазные газеты склонились, как всегда, трусливо и беспрекословно перед еврейским массовым психозом. Они и не подумали потрудиться над установлением объективного положения дел. Они только поддакивали и с самоуверенностью фарисеев заявляли, что если уж политическая борьба приняла такие формы, тогда нельзя ставить властям в вину, если бы они вмешались со всей строгостью закона.
Тем самым появился единый фронт от буржуазного патриотизма до пролетарского коммунизма. Все кричало в пользу запрета и без того ненавистного и надоедливого конкурента, и полицай-президиуму было легко теперь под защитой этой искусственно подготовленной бури в прессе также действительно объявить и провести в жизнь запрет. У нас не хватало публицистических возможностей, чтобы показать общественность истинное положение вещей. У нас не было ни одной газеты. Изданную в течение следующего дня листовку конфисковала полиция. После того, как буржуазная пресса оказалась несостоятельной в деле защиты справедливости, судьба движения была решена.
Только одна единственная газета в Берлине сохранила нервы и смело и бескорыстно защищала наше движение от лжи и клеветы еврейской желтой прессы: «Дойче Цайтунг». Нельзя забывать об этой честной газете. В дальнейшем, когда мы стали большой массовой партией, у нас было полно друзей в редакциях национально-буржуазных газет. Мы никогда не придавали большого значения этой дружбе; так как мы слишком хорошо знали их из тех еще времен, когда мы были малы и незаметны, и для буржуазного писаки было легким удовольствием бесстрашно бить нас, так как нас тогда били все. «Дойче Цайтунг» дала тогда открытое слово праву и справедливости, и она доказала этим, что у нее, если речь идет о национальном деле, также есть достаточно мужества, чтобы сказать что-то непопулярное, даже если это противоречит всему общественному мнению.
Запрещены! (Часть 2)
Теперь наступило то, что должно было наступить. Одно за другим. Уже в полдень еврейские газеты писали, что запрет неизбежен. Нам еще удалось в самый последний момент спасти почтово-сберегательный счет партии, перевезти самые важные документы в безопасное место, и тогда мы ждали того, что должно было случиться. Вечером около семи часов в бюро появился посланник полицейского управления, чтобы под подпись вручить нам официальное письмо. Нетрудно было догадаться, что это письмо содержало запрет партии, и поэтому мне показалось легким жестом просто отказаться его принять. Полицейскому пришлось, не достигнув своей цели, отправиться восвояси, прицепив письмо к входной двери партийного бюро. Теперь все равно все было потеряно, и потому мы стремились спасти, по крайней мере, в пропагандистском смысле, что еще можно было спасти. Письмо было засунуто в руку одному штурмовику, тот в последний раз надел свою полную форму, поехал к полицай-президиуму, и ему действительно удалось продвинуться вперед до кабинета начальника полиции.
Там он грубо и дерзко распахнул дверь, бросил письмо в кабинет и закричал: – Мы, национал-социалисты, отказываемся признавать этот запрет». Пресса на следующий день сделал из этого только вывод о нашем своенравном упрямстве и гнусном презрении к законам. На следующее самое раннее утро в бюро появился большой отряд охранной полиции и занял весь дом вплоть до крыши. Все шкафы, письменные столы и полки были опечатаны, и этим запрет был практически проведен.
Национал-социалистическое движение в Берлине по закону прекратило существовать. Это был удар, который мы смогли перенести только с очень большим трудом. Мы выстояли в борьбе против анонимности и против уличного террора, мы пронесли идею и знамя вперед, не обращая внимания на опасности, которые ждали нас при этом. Мы не боялись никаких усилий, чтобы показать населению имперской столицы нашу добрую волю и добросовестность наших целей. Это нам даже уже удалось до определенного объема. Движение как раз пыталось сбросить свои последние партийно-политические оковы и вступить в ряд больших массовых организаций, и как раз тут его механическим запретом пригвоздили к земле. Но они тогда и представить себе не могли, что также этот запрет ни в коем случае не сможет окончательно уничтожить движение, что это наоборот придаст ему новые, небывалые силы, и что оно, если только оно выдержит это испытание, в дальнейшем сможет справиться с любой враждебностью.
Еще ночью у меня было короткое обсуждение с Адольфом Гитлером, который как раз находился в Берлине. Он сразу окинул взглядом все обстоятельства, которые привели к запрету; мы были с ним единого мнения в том, что движение теперь должно доказать, что оно сможет выдержать и эту тяжелую проверку. Мы стремились спасти то, что можно было спасти. Если как раз допускалось, и для этого открывалась возможность, мы в приличной прессе в скромной форме пытались противостоять открытой клевете на движение со стороны еврейской желтой прессы. Мы немногого при этом достигли, но все-таки нам удалось, по крайней мере, сохранить непоколебленным прежде всего ядро партии.
Естественно, и теперь тоже хватало мудрых всезнаек, которые внезапно, как только запрет ударил по движению, появились из своей анонимной темноты, чтобы предоставить в распоряжение хорошие советы. Когда мы боролись, их нигде не было видно даже поблизости. Теперь, когда был дан сигнал для прекращения битвы, они внезапно снова вышли на свет, при этом не для того, чтобы прикрывать отход, а чтобы своим трусливым критиканством еще больше лишить мужества отступающие войска.
Прежде всего, я сам был объектом публичной беспрепятственной клеветы. Эти жалкие буржуа хотели теперь знать, что движение вполне могло бы продолжить свое существование, если бы оно только приняло менее радикальный и более умеренный характер. Они сразу все предвидели и все спрогнозировали. Но теперь они вовсе не помогали в том, чтобы из обломков разрушенной организации склеить новое строение, наоборот, они беспокоились только о том, чтобы способствовать дальнейшему разладу и увеличивать замешательство.
Пресса уже успела сообщить, что предстоял мой скорый арест. Это была очевидная ложь, так как я никоим образом не нарушал законов. Желание было отцом мысли. И, прежде всего, исходили из того, чтобы подготовить настроение и настроить общественное мнение против нас.
Тогда впервые в еврейской прессе появился также слух о внутренней размолвке между Адольфом Гитлером и мной, из-за которой, следовательно, я должен был отказаться от моего поста гауляйтера Берлина и, как сообщалось, потом переместиться как гауляйтер в Верхнюю Силезию. Слух варьировался в течение следующих лет снова и снова в самых разнообразных формах и до сегодняшнего дня не умолк. Каждый раз, когда движение приступает к тяжелым ударам или должно пройти временный кризис, на страницах еврейских газет этот слух появляется снова и дает нам повод для непрерывного веселья и радости. Также у него желание – это отец мысли. Они пытаются уговорить меня покинуть Берлин, очевидно, так как я для них неудобен и надоедлив и так как надеются, что в результате моего ухода они скорее найдут возможности взорвать партию изнутри.
Такой уход совершенно чужд мне. Хотя я полагал в течение первых недель моей деятельности в Берлине, что эта работа была только временной, и как только я победил бы наихудшее сопротивление, которое противостояло подъему движения в столице Империи, я мог бы предоставить мой пост в распоряжение другому, лучшему. Если я до сегодняшнего дня продержался на этой тяжелой, ответственной должности, то это связано не только с растущей радостью и удовлетворением, которое дает мне эта работа, но и – причем в значительной части – в том обстоятельстве, что в еврейской прессе я снова и снова вижу то, что они там с большим удовольствием смотрели бы на меня сзади, чем спереди. Ну, я обычно никогда не делаю того, чего хотел бы еврей. Так что ему следовало бы наоборот громко требовать, чтобы я оставался в Берлине, чтобы заставить меня уехать. До тех пор пока они не хотят меня там, я остаюсь, прежде всего, также принимая во внимание то, что я еще собираюсь выполнить некоторую работу в Берлине и добиться в этом того или иного успеха.
Только в более позднем ходе конфликта за имперскую столицу масштаб доставшейся мне там работы прояснился для меня. Если нам удастся завоевать Берлин для национал-социализма, собственно, тогда мы выиграем все. Столица Империи – это, прежде всего, центр страны; отсюда потоки сознания беспрерывно входят в народ. Вернуть Берлин немецкой самобытности – это в действительности историческая задача, и она стоит пота наилучших людей.
Посреди бушующей в прессе бури я должен был уехать, согласно старому обещанию, на два дня в Штутгарт. И это снова было поводом для безграничной, подстрекательской клеветы на страницах желтой прессы. Заявляли, что я трусливо спрятался, ускользнул от угрожающего мне полицейского ареста. Тот случай, что я отсутствовал в Берлине, использовали, чтобы мобилизовать общественное мнение против партии и меня в неопределенной надежде, вбить этим клин между руководителями и соратниками и разбить пошатнувшееся движение изнутри.
В самом Штутгарте я узнал, что некая безответственная инстанция в Берлине распространила по радио слух, что якобы есть приказ о моем аресте. Несмотря на это я вечером отправился в обратный путь, и хотя несколько верных товарищей выехали навстречу мне до Галле, чтобы удержать меня от возвращения в Берлин, я поехал дальше и тогда поздним вечером на Анхальтском вокзале меня почтили таким приемом, которого я не ожидал даже в самых смелых моих мечтах.
Вся платформа была полностью черной от масс людей. Вокзальный вестибюль был переполнен, и снаружи перед вокзалом стояли толпы восторженных членов партии и приверженцев, ожидавших меня. Сотни и тысячи людей бежали, не обращая внимания на запретный для демонстраций район, через Кёниггрецер Плац и Потсдамер Плац, за отъезжающей машиной, которая только с трудом могла проложить себе дорогу через эту толпу. К ночному часу в этот прекрасный майский вечер впервые прозвучал боевой призыв, который теперь на весь год должен был стать воодушевляющим массы лозунгом подавляемого движения в Берлине:
«Живы вопреки запрету!»
Да, движение нельзя было убить. Ни террором, ни запретами. Его били везде, где оно только решалось появиться. Оно было бесправным и беззащитным. Органы власти взяли его в клещи, и красная кровавая Чека преследовала его с кинжалом и револьвером; но над притеснениями и тюрьмой поднимались гордые орлы наших флагов. Идея была твердо закреплена в сердцах верных сторонников, и знамя победоносно развевалось перед марширующими батальонами. Запрет и преследования должны были в конце придать движению ту непоколебимую твердость, которая ему требовалась, чтобы суметь победоносно выдержать тяжелую борьбу за судьбу немецкого народа.
Так начался новый период нашей работы. Организация была разбита, легальное устройство партии распущено. Прежде всего, было невозможно объединить членов партии новой твердой опорой; так как, естественно, ее не оставалось при запрете. К этому добавлялись беды и издевательства всякого рода, которыми нам отравляли жизнь. Всеми средствами за партией наблюдали, следили и вынюхивали. «Восьмигрошовые мальчики» преследовали нас повсюду, и устраивала любая провокация, чтобы применить ее против движения.
Запрет был вынесен полицай-президиумом, причем не на основании Закона о защите республики, а на основании Всеобщего земского права. Так называемое обоснование, которое передали нам спустя несколько дней, было просто неописуемым. Тем, кто сидел на Александерплац, очень облегчило работу то, что мы не могли защищаться. Нам просто приписали эксцессы, по поводу которых еще не было никакого приговора суда, как правдивые. Вовсе не упоминали об инциденте в собрании в доме Союза бывших фронтовиков. Основывались на делах, которые лежали в далеком прошлом, и так как строгие мероприятия полицейского управления против нас в ходе запрета, разумеется, до предела увеличивали возмущение в собственном партийном товариществе, и неизбежно каждый вечер доходило до выходок на улице, их использовали как желанный предлог, чтобы обосновывать этим запрет, который, в действительности, только сам был причиной этого.
Они благоразумно остерегались провести процесс против меня, которого так бурно требовала пресса во время травли. Не было совсем ничего, в чем можно было бы обвинить меня. Вся акция прессы была только явной комедией, и ее можно было провести в этой наглой дерзости только потому, что мы не могли защищаться, и общественное мнение просто отказывало нам в защите приличного образа мыслей.
Уже несколько дней спустя каждому объективно и справедливо мыслящему представился случай заметить, насколько право было на нашей стороне. Тогда древний, почтенный бывший священник по имени Штукке, украсивший живописно голову белой повязкой, появился на собрании социал-демократического Железного фронта, чтобы рассказать гвардии боевиков с дубинками социал-демократической партии о своих героические свершениях на театре военных действий против национал-социализма. Священник как член социал-демократического союза! Это был конец трусливой, подлой и клеветнической кампании прессы. Церковные власти публично объявили, что «прежний священник Штукке из церкви Нацареткирхе имеющим законную силу дисциплинарным решением евангелической консистории провинции Бранденбург за свое недостойное поведение был наказан увольнением» и что он «согласно решению Берлинского апелляционного суда от 21 июля 1923 года тем самым утратил право на титул священника и на ношение должностной одежды духовного лица евангелической церкви». Дальше стало известно, что этот индивидуум вопреки его исключению из церкви занимался оживленной торговлей надгробными речами, что его нормальным состоянием была бессмысленная пьянка, и что его попытка провокации на нашем собрании допускала лишь еще вопрос, шла ли здесь речь только об акте опьянения или об оплаченном провокаторстве. Но какая была польза от всего этого после того, как партию запретили, и кампания прессы стихла. Желтая пресса достигла своей цели, канонада на общественное мнение принудила его к капитуляции, надоедливого политического противника убрали с дороги средствами государственной власти и искусственно произведенным массовым психозом успокоили общественную совесть.
На несколько дней позже КПГ устроила гигантскую демонстрацию в Шпортпаласте, в ходе которой один унтер-офицер охранной полиции решился, разумеется, даже и не думая о какой-то провокации, просто войти в зал, где проходило собрание. С трибуны ему в голову бросили пивную кружку, которая пробила полицейскому череп, так что его в тяжелом состоянии пришлось отвезти в больницу.
Каким мелким и несущественным в сравнении с этим выглядел наш проступок! Но у КПГ ни один волосок с головы не упал; так как коммунисты – это «политические дети» социал-демократии. Их предоставляют самим себе, так как их можно употреблять время от времени, и, наконец, они – оба брата одной плоти и одной крови.
Зато национал-социализм при запретах прижимали к стене, несмотря на то, что он достаточно часто доказывал свое миролюбие и даже на самые дерзкие и наиболее агрессивные попытки провокации отвечал только железным спокойствием и дисциплиной. Потому что национал-социализм – это принципиальный противник марксизма. Он бросил марксизму решительный вызов во всех аспектах. Между ним и марксизмом не может быть примирения, а только борьба до уничтожения. Об этом знали на Линденштрассе, об этом знали на Александерплац, и об этом знали также на Бюловплац. Поэтому наносили удар в подходящее мгновение. Поэтому желтая пресса заражала общественное мнение чумным дымом гнусной, лживой клеветы. Поэтому апеллировали к государственному авторитету и использовали параграфы закона, те самые, которые во всех других случаях не уставали презирать и оплевывать с насмешкой.
То, что социал-демократия действовала так, не могло удивлять нас. Социал-демократия защищает свою шкуру, и она борется, наконец, просто за свое существование. Но то, что буржуазные партии и их писаки могли унизиться до того, чтобы оказывать наемные услуги марксизму и помогать ему добивать движение, которое не могло защитить себя, это навсегда и вечно будет позором и стыдом для буржуазной прессы и стоящих за ней партий.
Они не достигли своей цели. Хотя на следующий день после запрета наивысшие прусские высокопоставленные лица в газете крупного капитала, издаваемой Ульштайном, постарались ввести себя в огромные духовные затраты, чтобы доказать, что в Берлине нет места для национал-социализма.
«Один раз и больше никогда! Если это не было известно уже из деятельности в других местах, то скандальные происшествия, которые случились в среду на собрании в доме Союза бывших фронтовиков, снова доказывают, что в случае так называемой национал-социалистической рабочей партии речь идет не о движении, а о сборище охочих на скандал и насильственные действия элементов, которые под руководством политических разбойников превращаются в опасность для общественного спокойствия и безопасности. Прямые призывы к актам насилия на собрании и результат обысков оружия, а также издевательство над нежелательными посетителями собрания указывают во всей ясности, какого вида это движение, которое, взращенное и развившееся на мюнхенской земле, теперь перенесло свое поле деятельности также в Берлин.
Но Берлин – это не Мюнхен. Так же, как мы сохранили Берлин от коммунистического господства советов, мы убережем берлинское население от террора этой скандально-социалистической рабочей партии. Это направленное на насилие против инакомыслящих и исчерпывающееся организацией беззаконий движение мы в Берлине и во всей Пруссии задушим в зародыше».
Так писал в пятничном номере «Берлинер Моргенпост» 6 мая 1927 года прусский премьер-министр Отто Браун. Он грубо просчитался. Движение не было задушено в зародыше ни в Берлине, ни в Пруссии. И его идея поднималась все выше и выше, вопреки ненависти и запрету! Каждое преследование делало организацию только сильнее и жестче. Хотя многие ушли от нас. Но это были только те, кто сами еще не доросли до таких самых тяжелых испытаний. Ядро оставалось твердым и непоколебимым. Сама партия продолжала жить также и под запретом. Идея слишком прочно укоренилась в сердцах верных соратников, чтобы ее можно было вырвать оттуда механическими методами.
Теперь национал-социалистическое движение в Берлине было подвергнуто испытанию; оно должно было доказать, что его жизненная сила была непоколебимой. Оно выдержало это испытание в героической, самоотверженной борьбе и в победоносном марше воплотило в жизнь тот лозунг, под которым оно начиналось:
Живы вопреки запрету!
Травля и преследование (Часть 1)
Триумфальное шествие молодого национал-социалистического движения в столице империи теперь на время из-за вынесенного полицай-президиумом запрета партии резко и внезапно закончилось. Общественная деятельность партии была запрещена, организация разбита, пропаганда парализована, толпы попутчиков рассеяны на все четыре стороны, любой непосредственный контакт руководства с партийным товариществом прерван. Запрет партии проводился органами власти с каверзной строгостью. Он был вынесен не на основании республиканского закона, и поэтому невозможно было наказывать за отдельные нарушения большими денежными штрафами и тюремным заключением. Запрет базировался на происходящем еще из времен Фридриха Великого Всеобщем земском праве и по хорошо продуманным причинам мотивировался не политическими, а уголовно-правовыми аргументами. Он был назначен полицией, а не министерством и, вероятно, поэтому его было легче и безопаснее обходить, чем политический запрет, который, в общем, выносится с угрозой тяжелых политических наказаний.
Начальник полиции Берлина др. Бернхард Вайсс

Уже при самом запрете полицейское управление превысило свои полномочия очевидным способом. Это вынесло запрет для Берлина и для провинции Бранденбург, несмотря на то, что оно, по крайней мере, не имело никакого права выносить какие-то решения, касающиеся Бранденбурга. Начальник полиции мог в лучшем случае запретить партию в Берлине; и если в обосновании говорилось о том, что партия была виновна в уголовно-правовых правонарушениях, то и в этом случае, даже при условии, что это обвинение соответствовало фактам, запрет партии был законным только тогда, если дальнейшее существование партии непосредственно угрожало общественному спокойствию и безопасности.
Однако это вовсе не принималось в расчет всерьез. Наши члены партии были атакованы политическими противниками и оборонялись. Они воспользовались при этом для себя самым примитивным правом, которое полагается каждому гражданину, правом самообороны. Наши люди никогда не были агрессорами, а всегда только атакованными. Нигде нельзя было сказать об эксцессах на нашей стороне. Мы пользовались грубой силой только тогда, когда защищали нашу жизнь и наше здоровье.
Кроме того, не было приведено и ни одного доказательства, что сама партия призывала к такому поведению или брала на себя ответственность за это; то, что каждый член партии защищался, когда это было необходимо, это просто разумелось само собой, и практически не имело ничего общего с партией самой по себе. Полицай-президиум, пожалуй, тоже вполне осознавал хрупкость и несостоятельность своей юридической аргументации при обосновании запрета. Мы сразу подали жалобу против запрета в верховном президиуме и в дальнейшем при высшем административном земельном суде. Но процесс по поводу запрета вследствие того, что полицай-президиум постоянно просил отсрочки для получения необходимого материала, тянулся в течение долгих лет и принял решение только тогда, когда запрет давно был снова отменен. Высший административный земельный суд земли подыскивал тогда ясную юридическую формулировку, которая оказалось бы уничтожающей, вероятно, для полицай-президиума, заявив, что сроки не были соблюдены и отсутствовала необходимая активная легитимация для возражения у жалобщика. Но уже сам факт, что полицай-президиум не смог предоставлять в распоряжение суда необходимый материал для процесса, был достаточным доказательством того, что запрет представлял собой партийный акт и имел очень мало общего с объективным исполнением служебных обязанностей.
Пока что, однако, этот запрет реализовывался против нас со всеми возможными издевательствами. Они намеревались полностью воспрепятствовать общественной деятельности партии и путем разрушения организации лишить ее также последних финансовых средств. Тогда мы еще не владели в Берлине партийной прессой. Пропагандистская работа движения состояла почти исключительно в проведении массовых собраний. Даже при самом широком толковании параграфов нельзя было запретить, чтобы в столице Империи под каким-либо именем кто-то агитировал за какое-либо мировоззрение. Все-таки была возможность созывать под другим именем собрания, на которых говорилось о национал-социализме. В первое время мы также пробовали это, скоро, однако, полицай-президиум приготовился к контрудару и запретил каждое собрание от случая к случаю под предлогом, что оно мешало бы общественному спокойствию и безопасности и его следует рассматривать как продолжение запрещенной организации.
Это был очевидный произвол; но, все же, это не промахнулось мимо цели. Теперь невозможно было вообще публично обсуждать само понятие национал-социализм; полиция сразу вмешивалась, если о нем хотя бы издалека заходил разговор.
Наша следующая попытка была направлена на то, чтобы позволить говорить, по крайней мере, нашим сидящим в парламенте депутатам перед берлинскими избирателями. Мне лично вскоре был назначен общий запрет публичных выступлений. На моем месте теперь выступал целый ряд парламентских представителей партии. Созывались массовые собрания, на которых говорили наши депутаты. Там занимали определенную позицию относительно актуальных вопросов политики и, естественно, не упускали возможности заклеймить методы преследования НСДАП берлинской полицией.
Запрет публичных выступлений нанес лично мне исключительно тяжелый удар. У меня не было никакой другой возможности поддерживать необходимый контакт с моими товарищами по партии. У нас еще не было прессы, где я мог бы агитировать пером. Все собрания, на которых я хотел говорить, запрещались. Если депутаты должны были выступать на наших собраниях, в последний момент на них тоже очень часто налагались запреты, и верный партийный коллектив вследствие этого приводился в постоянно растущую ярость и возмущение.
Не столько то, что нас преследовали, сколько то, как именно и какими методами движение подавлялось и избивалось дубинками, вызывало в наших рядах настроение ненависти и гнева, что давало повод для самых больших опасений. Полицай-президиум, похоже, находил для себя удовольствие в запретах наших собраний всегда только в последний момент, очевидно, в прозрачном намерении лишить партию возможности своевременно уведомлять посетителей собрания о запрете. Большей частью сотни и тысячи отправлялись тогда в путь и наталкивались в помещении для собраний только на запертые двери и твердое оцепление полицейских.
Это облегчало оплачиваемым шпионам и провокаторам подстрекать безрассудные и лишенные руководителей массы и подталкивать их к применению физической силы против полиции и политически инакомыслящих. Большей частью тогда от возмущенных человеческих масс отделялись маленькие группы, которые искали свое политическое удовольствие в том, чтобы двигаться на Курфюрстендамм и давать волю своей ярости пощечинами и порой избиениями случайных безобидных пешеходов с еврейской внешностью.
Разумеется, это давало повод прессе самым демагогическим образом обвинять в этом партию, которая была запрещена и поэтому не имела никакой возможности хоть как-то повлиять на массы своих приверженцев. Среди общественности эхом разносились шум и крики евреев, которым якобы угрожала опасность. Во всей стране стремились создать впечатление, как будто бы посреди самого глубокого мира в Берлине каждый вечер устраивались погромы еврейского населения, как будто у НСДАП был тайный центр, систематически организовывавший такие эксцессы.
«Прекратить беспорядки на Курфюрстендамм!
Едва ли можно согласиться с тем, что хулиганства национал-социалистов на Курфюрстендамм станут привычным развлечением этих молодчиков. Берлинский запад принадлежит к представительным районам Берлина, его дискредитация в форме таких отвратительных, мерзких сцен создает Берлину самую дурную славу. Так как полиции теперь достаточно известно пристрастие носителей свастики к Курфюрстендамм, то она должна принимать решительные меры там не только после уже произошедших выходок, а проводить соответствующие меры уже заранее, в каждый день скандальных национал-социалистических собраний».
Так писала «Берлинер Цайтунг» в полдень 13 мая 1927 года.
Вина за эти происшествия, если они вообще происходили на самом деле, была исключительно на полицай-президиуме. От него зависело предоставить нам возможность связаться с массами наших сторонников и успокаивающе повлиять на них. Но из-за того, что у нас во всех отношениях отобрали эту возможность, это привело, будь то вольно или невольно, к таким безобразным выходкам в политической борьбе, которые были неизбежным последствием такого образа действия.
Вероятно, как раз не без удовольствия смотрели на то, что дела развивались именно таким образом. Не было достаточных причин и дальше оправдывать запрет партии перед общественностью. Стремились достать себе алиби. Общественность должна была указывать пальцами на нас. Это должно было обосновать мнение, что эта партия – это действительно только сборище преступных элементов, и власти только выполняли свой долг, если они препятствовали любой попытке ее дальнейшего существования.
Национал-социалистическое движение, как никакая другая партия, настроена на идею вождя. У нее вождь и его авторитет значат все. И это дело вождя держать партию в дисциплине или позволить ей утонуть в анархии. Если у партии отбирают ее руководителей и разрушают вместе с тем основу авторитета, который поддерживает ее организацию, тогда делают массы безрассудными, и опрометчивые поступки тогда всегда являются последствием. Мы больше не могли влиять на массы. Массы становились мятежными, и тогда, в конце концов, нельзя было жаловаться на то, что они шагали к кровавым эксцессам.
Правящая система в Германии может быть, вообще и в целом, как бы абсурдно это ни звучало, благодарна национал-социалистическому движению за то, что оно есть. Ярость и возмущение по поводу последствий проводимой с 1918 года сумасбродной политики дани настолько велики в народе, что, не будь они усмирены и дисциплинированы нашим движением, они должны были бы в самый короткий срок столкнуть Германию в кровавую расправу. Национал-социалистическая агитация вовсе не ввела наш народ в катастрофу, как профессиональные политики катастроф снова и снова хотели бы заставить верить. Мы только своевременно и правильно разглядели катастрофу и из наших представлений о хаотичном состоянии в Германии никогда не делали тайны. Политик катастрофы – не тот, кто называет катастрофу катастрофой, а тот, кто является ее причиной. А в этом нас на самом деле уж точно никак нельзя было бы обвинить. Мы никогда еще не принимали участия в правительственной коалиции. Все время, пока движение вообще существовало, мы находились в оппозиции и самым серьезным и беспощадным образом боролись с правительственным курсом немецкой политики. Мы с самого начала прогнозировали последствия, которые во все более отчетливых контурах начали проявляться теперь на политическом горизонте.
Наши убеждения были настолько естественны и неизбежны, что массы в растущей мере проявляли к ним симпатии. До тех пор пока мы удерживали натиск народа против политики дани в руках и тем самым строго его дисциплинировали, по крайней мере, не было опасности, что волны возмущения в больше не усмиряемых формах ударят по господствующему режиму. Без сомнения, национал-социалистическая агитация была и оратором народной нужды. Но до тех пор, пока ей предоставляют свободу действий, народную ярость можно контролировать и тем самым гарантировать уверенность в том, что она будет выражаться в законных и терпимых методах.
Если у народа отбирают представителей и переводчиков его страданий, то этим открывают нараспашку двери анархии; так как не мы высказываем самый радикальный и самый бесцеремонный приговор о господствующем режиме. Радикальнее и беспощаднее, чем мы, думают сами массы, думает маленький человек из народа, который не научился правильно употреблять слова, который не скрывает своих намерений, а его растущая ярость выражается в постоянно все более острой форме.
Национал-социалистическая агитация – это в какой-то мере защитный клапан для правящего слоя. Благодаря этому защитному клапану у возмущения масс есть возможность стока. Если его заткнуть, то ярость и ненависть отгоняются назад в сами массы и забурлят здесь в неконтролируемых волнениях.
Политическая критика всегда будет руководствоваться ошибками критикуемой системы. Если ошибки легкой природы и нельзя отказать в доброй воле тому, кто их делает, тогда критика всегда проходит в культурных и корректных формах. Если ошибки, однако, принципиального рода, они грозят подлинному фундаменту государственного строения, и, сверх того, есть еще повод для подозрений, что те, кто их совершают, вовсе не люди доброй воли, а наоборот всегда ставят свою собственную дорогую персону выше государства и общих интересов, тогда критика также станет массивнее и безудержнее. Радикализм агитации всегда находится в непосредственном соотношении к радикализму, которым грешит правящая система. Если сделанные ошибки настолько роковые, что они угрожают в конечном счете столкнуть народ и экономику, всю государственную культуру в пропасть, тогда оппозиция больше не может довольствоваться тем, что разоблачает симптомы болезни и требует ее устранения, тогда оппозиция должна атаковать уже саму систему. В действительности, она тогда настолько радикальна, насколько она добирается до корневой сути ошибок и насколько стремится в корне устранить эти ошибки.
До запрета партии мы твердо держали в руках массы наших сторонников. Полицай-президиум имел возможность очень пристально наблюдать за партией при организации и пропаганде. За каждым партийно-политическим эксцессом могло сразу и непосредственно последовать наказание. Теперь после запрета это изменилось. Сама партия больше не существовала, ее организация была разбита, больше нельзя было правомочно возлагать ответственность на руководителей партии за то, что происходило от ее имени, так как их лишили всякой возможности воздействия на своих сторонников. Теперь я был частным лицом и совершенно не собирался брать на себя ответственность за те дурные сопутствующие явления в политической борьбе, которые вызвал полицай-президиум своими постоянно повторяющимися придирками. К этому еще добавлялось то, что еврейская желтая пресса, кажется, с особенным удовольствием принялась все больше ругать меня лично, зная, что у меня теперь больше не было возможности защититься от нападок политического и частного рода, пожалуй, в надежде, что массы, с которыми я потерял всякий контакт, отдалятся в результате этого от движения и от меня, и откроют тем самым доступ хитрым демагогическим нашептываниям, прежде всего, коммунистических шпионов.
Тогда я впервые узнал, что значит быть избранным любимцем еврейской прессы. Не было больше совсем ничего, в чем меня не упрекали бы; и, так сказать, все было просто высосано из пальца. У меня, разумеется, не было ни желания, ни времени вообще предпринимать что-то против этого. Непосвященный иногда спрашивает себя, почему же национал-социалистические руководители только так редко противодействуют еврейской клевете средствами законов. Можно ведь послать желтой прессе опровержения, можно предъявить им иск за оскорбление, можно привлечь их к суду.
Однако это легче сказать, чем сделать. Такая ложь появляется в какой-то берлинской газете, потом она делает круг по сотне и сотне зависимых от нее провинциальных газет. Каждая отдельная провинциальная газета привязывает к этому свой собственный комментарий, и если однажды начать заниматься опровержениями, то больше никогда не доберешься до конца. И как раз этого и хочет добиться еврейская пресса. Так как в изобретении клеветы еврей, которого уже Шопенгауэр назвал мастером лжи, неистощим. Едва ли исправили сегодня ложное сообщение, как завтра его сменяет новое, и пока вы боретесь против второй лжи, кто мешает такой рептилии прессы изобрести послезавтра третью. И вообще только идти судиться? Разве национал-социалистические вожди существуют только для того, чтобы драться с еврейскими клеветниками перед судьей по уголовным делам? Прокуратура во всех случаях отказывает во вмешательстве в нашу пользу из-за недостатка общественного интереса. Нас наставляют подавать частный иск. Это стоит много времени и еще больших денег. Нужно потратить всю жизнь и гигантское состояние, чтобы восстановить свою репутацию перед судами республики против еврейских чернильных пачкунов.
Такой процесс заставляет себя ждать тогда, по меньшей мере, полгода, а часто даже еще дольше. За это время общественность давно забыла о предмете процесса; еврейский пачкун тогда просто заявляет перед судом, что он сам пал жертвой ошибки, и отделывается большей частью штрафом в размере от пятидесяти до семидесяти марок; и даже эту сумму ему, естественно, очень охотно компенсирует издательство. Но сама газета на следующий день печатает заметку о процессе, из которой ничего не подозревающий читатель должен узнать, что еврейский лжец был абсолютно прав, что, пожалуй, кое-что правдивое в клевете должно было быть, раз уж суд присудил подсудимому такое снисходительное наказание. И еврейская пресса, собственно, достигла этим всего, чего она хотела достигнуть. Она сначала дискредитировала и испачкала честь политического противника перед общественностью; она украла у него время и деньги. Она делает из поражения перед судом победу, и иногда не имеющий чутья судья помогает клеветнику еще и в том, что он через признание соблюдения правомочных интересов вообще выкрутится безнаказанно.
Для противодействия личной клевете со стороны еврейской прессой это не пригодные средства. Человек общественной жизни должен отдавать себе отчет, что, если он наступает на хвост преступной политике, она очень скоро начнет защищать себя по рецепту «Держите вора!» и теперь с помощью личной клеветы попытается восполнить недостаток убедительных объективных доказательств. Поэтому он должен окружить себя толстой кожей, должен быть очень равнодушен к еврейской лжи и, прежде всего, в те времена, когда он готовится к тяжелым политическим ударам, сохранять холодную кровь и спокойные нервы. Он должен знать, что каждый раз, когда он становится опасен врагу, этот враг атакует его лично. Тогда он никогда не испытает неприятных неожиданностей. Наоборот! Он будет в конечном итоге даже радоваться тому, что его ругает и позорит желтая пресса, потому что для него это самое неопровержимое доказательство того, что он на верном пути, и нанес удар по врагу в уязвимое место.
Только с большим трудом смог я прийти к этой стоической точке зрения. В первое время моей деятельности в Берлине мне пришлось очень много страдать от нападок прессы. Я воспринимал все это слишком серьезно и часто был в отчаянии от того, что у меня очевидно не было возможности сохранить в политической борьбе мою личную честь незапятнанной. Со временем я стал совсем по-другому смотреть на это. Прежде всего, избыток нападок в прессе убил во мне всяческую чувствительность к ним. Если я знал или предвидел, что пресса поносила меня лично, я неделями не брал в руки еврейские газеты и сохранил вследствие этого свой спокойный рассудок и холодную решимость. Если прочитать все это вранье спустя несколько недель после того, как оно было напечатано, тогда оно сразу же теряет всякое значение. Тогда можно увидеть, насколько мелочна и бесцельна вся эта суета; и, прежде всего, при этом постепенно также вырабатывается способность разгадывать истинную подоплеку таких кампаний в прессе.
Сегодня в Германии вообще есть только две возможности стать известным: нужно либо, с позволения сказать, до невозможного пресмыкаться перед евреем, либо бороться с ним беспощадно и со всей остротой. В то время как первая возможность подходит только для демократических цивилизованных литераторов и охочих на карьеру акробатов образа мыслей, мы, национал-социалисты, решились на вторую возможность. И это решение также должно реализовываться со всей последовательностью. Нам до сегодняшнего дня не приходилось жаловаться на успех. Еврей от своего бессмысленного страха перед нашими постоянными массивными атаками потерял, в конце концов, весь свой спокойный рассудок. Он, если доходит до серьезного конфликта, все же, просто дурак. Иногда, прежде всего, в кругах немецких интеллектуалов переоценивают так называемую дальновидность, ум и интеллектуальную остроту еврея. Еврей всегда ясно судит только тогда, когда он владеет всеми средствами поддержания власти. Если политический противник противится ему жестко и непреклонно, и не оставляет сомнений в том, что это теперь борьба не на жизнь, а на смерть, тогда еврей в тот же момент утрачивает весь свой холодный и трезвый рассудок. Он, и это представляет, пожалуй, главный признак его характера, до самой своей глубины проникнут чувством собственной неполноценности. Можно было обозначить еврея даже как воплощенный вытесненный комплекс неполноценности. Потому также его нельзя поразить глубже иначе, как обозначить его настоящую сущность. Назови его подлецом, оборванцем, лжецом, преступником, бандитом и убийцей. Это едва ли коснется его внутри. Но посмотри на него некоторое время резко и затем скажи ему: – Вы, пожалуй, еврей! И ты заметишь с удивлением, каким неуверенным, каким смущенным и сознающим свою вину он станет в то же самое мгновение.
Здесь также кроется объяснение того, почему знаменитые евреи снова и снова беспокоят судью по уголовным делам, если их называют евреями. Ни одному немцу никогда не пришло бы на ум жаловаться на то, что его назвали немцем; так как немец чувствует в принадлежности к своей народности всегда только честь, но никогда стыд. Еврей жалуется, если его называют евреем, так как он в последнем уголке своего сердца убежден в том, что это что-то пренебрежительное и что не может быть худшего оскорбления, чем быть названым так.
Мы никогда не занимались много противодействием еврейской клевете. Мы знали, что на нас клеветали. Мы своевременно ориентировались на это и видели нашу задачу не в опровержении отдельной лжи, а скорее в том, чтобы поколебать правдивость еврейской желтой прессы самой по себе.
И это нам также удалось в течение лет в самой полной мере. Если спокойно предоставить ложь самой себе, то она скоро выдохнется в своем собственном перенапряжении. Еврей, в конце концов, от отчаяния изобретает такую ужасную клевету и подлость, что даже самый доверчивый образованный обыватель больше не клюнет на это.
Они лгут! Они лгут! С этим боевым призывом мы сопротивлялись еврейской канонаде грязи. Тут и там мы позволяли себе извлечь из всего клеветнического мусора отдельную ложь, на примере которой мы могли осязаемо подтвердить пошлость и низость желтой прессы. И мы из этого тогда делали вывод: не верьте им ни в чем! Они лгут, так как они должны лгать, и они должны лгать, так как они не могут выдвинуть никаких других доводов.
Это выглядит прямо-таки гротескно и вызывает тошноту, когда еврейский грязный листок утверждает, что видит свою моральную задачу в том, чтобы вынюхивать в частной жизни национал-социалистических руководителей с целью разыскать там какое-либо темное пятно. В действительности, раса, которая взвалила на себя поистине атлантов груз вины и преступлений на протяжении уже двух тысяч лет, и, прежде всего, по отношению к немецкому народу, не обладает никаким мандатом, чтобы среди благонравных людей выступать за очищение общественной жизни. Прежде всего, вопрос вовсе не в том, провинился ли в чем-то тот или иной национал-социалистический руководитель. Вопрос исключительно в том, кто привел немецкий народ к неописуемой беде, кто вымостил путь к этой беде фразами и лживыми обещаниями и в конце, сложив руки, смотрел на то, как всей нации угрожало утонуть в хаосе. Если этот вопрос решен и обвиняемые привлечены к ответственности, тогда можно было бы и исследовать, где мы совершили ошибки.
Здесь нельзя молча обойти ту трусливую бесхарактерность, с которой буржуазная пресса вплоть до сегодняшнего дня беспрекословно склоняется перед бесстыдными журналистскими делишками еврейских платных авторов. Буржуазная пресса в иных случаях всегда реагирует быстро, когда нужно всыпать национальному политику или заклеймить так называемые безобразия национал-социалистической прессы. Зато перед еврейской желтой прессой она напротив полна непонятного, буквально безответственного великодушия. Они боятся публицистической остроты и бесцеремонности желтой прессы. Очевидно, у них нет желания продвинуться в опасную зону. По отношению к еврею они полны непреодолимого чувства неполноценности и испробуют все возможности, чтобы жить с ним в хорошем мире.
Если буржуазная пресса однажды наберется смелости, чтобы высказать хотя бы мягко порицающее слово против еврейских клеветников, это уже значит очень много. Большей частью она остается в серьезном спокойствии и аристократическом молчании и удаляется в безопасность слова: Тот, кто хватает грязь, запачкается!
Текст к плакату 1:
Доктор Геббельс выступает на открытом предвыборном собрании национал-социалистических депутатов в четверг, 30 июня 1927 года, вечером в 8¼ ч. в зале Хоэнцоллерфестзаль, Шарлоттенбург, Берлинер штрассе, 105 на тему: Жизнь в красоте и чести.
Текст к плакату 2:
Немецкие соотечественники! Приходите на большое общественное предвыборное собрание в четверг, 1 сентября 1927 года, вечером в 8¼ ч., в Виктория-Гартен, Берлин-Вильмерсдорф, Вильгельмсавеню, 114. Национал-социалистический депутат Рейхстага граф Рефентлов выступает на тему: Внешняя, внутренняя и самая внутренняя политика.
Текст к плакату 3:
Национал-социалист депутат Рейхстага Ганс Дитрих (Франкония) выступает на большом общественном предвыборном собрании в пятницу, 30 сентября, вечером в 8 ч., в зале Шварц Фестзаль, Лихтендорф, Мёллендорфштрассе, 25-26, на тему: Вельс, Тельман или Гитлер!
Свободное высказывание! / вход с 7. 30 / взнос для покрытия издержек 30 пфеннигов / для безработных 10 пфеннигов
Травля и преследование (часть 2)
То, что еврейская пресса атаковала нас и клеветала, это даже не было наихудшим: так как мы знали, что вся эта ложь раньше или позже выдохнется. Еще никогда идею, если она была правильна, ее враги не смогли оболгать до смерти. Сильнее нас поразили удары со стороны властей, свалившиеся на движение после вступления в действие запрета партии. Организация была разрушена, надлежащее продолжение членского состава стало невозможным. Вместе с тем был перекрыт самый важный финансовый источник партии. Просто не правда, что национал-социалистическое движение живет за счет субсидий крупнокапиталистических кредиторов. Мы никогда не видели, во всяком случае, ничего из тех гигантских сумм, которые якобы перевели партии Папа Римский или Муссолини или Франция или Тиссен или Якоб Гольдшмидт. Партия жила и живет исключительно за счет взносов ее членов и излишков ее собраний. Если заткнуть эти источники денежных поступлений, то тем самым партия будет лишена всякой возможности дальнейшей жизни.
Так это было и у нас после указа о запрете. В тот момент, когда стихло надлежащее поступление членских взносов и излишки от собраний больше не поступали – большинство собраний были запрещены, а даже дозволенные не приносили доходы – партия попала в наихудший финансовый кризис. Она должна была ограничить свой управленческий аппарат до самого необходимого. Жалование снизилось до минимума, и даже в этом объеме его выплачивали только частично и маленькими суммами. Все партийные функционеры перестроились с достойной удивления жертвенностью на эту необходимость; ни один из служащих не был уволен, но тогда все отказались от 20 и 30 и даже 50 % их и без того скудного жалования, чтобы тем самым поддержать жизнь партии.
Время от времени полицейское управление милостиво позволяло мне выступить как оратору на общественном собрании. Тогда мне предоставлялась возможность, чтобы облегчить душу. Однако это происходило настолько редко, что политическая ценность такого великодушия была большей частью равна нулю.
После того, как полицейское управление по настоянию общественности решилось, наконец, отменить запрет партии в провинции Бранденбург, где оно вообще не имело право его вводить, мы снова смогли собирать вне Берлина, большей частью в Потсдаме, по крайней мере, функционеров партии и обсуждать с ними самые важные вопросы политики и организации.
В Берлине это было совсем исключено. Запрещали не только собрания партии, но и собрания всех ее подорганизаций. Да, они даже дошли до того, что запретили организованное Орденом немецких женщин, близкой к НСДАП женской организацией, торжество, посвященное памяти Альберта Шлагетера, из опасений, что оно «могло бы угрожать общественному спокойствию и безопасности».
Неизбежным последствием такой практики запрета были все повторяющиеся политические эксцессы на улицах. Не один еврей берлинского запада получил свои пощечины при этих выходках. Хотя он лично совсем не был виновен в том, что причинили НСДАП. Но масса все равно не знает этих тонких различий. Она хватает того, кто поблизости, и если даже господин Кон или господин Кротошинер с Курфюрстендамм ни в коем случае не влияли на полицай-президиум, все-таки они принадлежали к той же расе, все-таки они были партией, все-таки человек из народа в них видел виновных.
Тогда многие из штурмовиков отправились в тюрьмы, потому что их подозревали в том, что они поздними вечерами на Курфюрстендамм наказывали кого-то в пример другим. Суды подходили к этому с драконовскими наказаниями. Пощечина стоила в большинстве случаев от шести до восьми месяцев тюрьмы.
Но этим нельзя было искоренить зло. До тех пор пока партия была запрещена и ее руководителей лишили возможности успокоительно влиять на массы, такие эксцессы оставались неизбежными.
Теперь полицай-президиум выступил против этого с новым методом, и он был собственно куда более опасным, чем все использованные до сих пор. При больших политических столкновениях иногда по какой-либо причине задерживались сто или больше членов партии и без указания причин передавались политическому отделению полицай-президиума. Как правило, законных оснований для этого задержания обычно не было. Их помещали в один загон в больших помещениях и держали на протяжении двенадцати часов до следующего полудня. Затем их отпускали, не причинив им никакого вреда.
Это казалось господам на Александерплац также совершенно излишним; так как они вовсе не хотели наказывать членов партии и штурмовиков, а стремились только создать им трудности в их занятиях и службе. Так один достойный сожаления принудительно задержанный потерял из-за своего ареста половину рабочего дня, он в лучшем случае мог появиться на своем рабочем месте в два часа пополудни. Его марксистские или демократические начальники очень скоро узнавали причину его опоздания, и тогда его безжалостно выбрасывали на мостовую.
И, наконец, это и было целью упражнения!
Социал-демократическая партия перед войной с честным усердием боролась против системы островерхой каски. Островерхая каска пала первой жертвой революции 1918 года. Мы заменили ее на резиновую дубинку. В действительности, резиновая дубинка кажется эмблемой социал-демократической партии; под режимом резиновой дубинки в течение лет в Германии воцарился принудительный образ мыслей и наложение оков совести, которое не поддается никакому описанию. Именно мы смогли их в щедрой мере ощутить на собственном теле. Мы смогли научиться при этом отличать теорию от практики и иногда пришли к совсем другим выводам, чем то, о чем следует читать в Веймарской конституции. Как раз в те недели в Мюнхене хулиганы из Железного фронта накинулись на члена партии Хиршманна, простого рабочего, не обидевшего никого и посреди самого глубокого мира, избили его прямо на открытой улице и так долго били его досками, планками забора и дубинками, пока он не испустил последний вдох его несчастной и полной преследований жизни в какой-то водосточной канаве. Тут можно было установить, как буржуазный полицай-президиум отреагировал на такой бесстыдный акт беспощадности. Железный фронт никто и пальцем не тронул. Красная пресса могла безнаказанно засыпать нашего убитого приятеля ядом и пеной, и созванное против убийственного террора национал-социалистическое собрание протеста было запрещено полицией.
Буржуазный мир рухнул под ударами дубины марксистского террора, но другого конца он и не заслуживал. Однако мы были готовы сломить марксистский террор; никто не мог бы поставить это нам в вину, если мы сопоставляли друг с другом такие бросающие вызов противоположности и делали из этого выводы, которые должны были только лишь еще больше огорчать и возмущать нас.
И в эти тяжелые недели штурмовик был носителем нашей борьбы. Впервые его заставили снять свою любимую коричневую форму, его гордые знамена были скатаны, знаки партии больше не разрешено было носить. Тайком и стыдливо мы надевали на правый угол воротника наш «волчий крюк». По этому значку стойкие узнавали друг друга. Значок этот ускользнул от глаз закона, его скоро носили тысячи и тысячи, и он появлялся все больше и больше на улицах имперской столицы. Тот, кто носил «волчий крюк», выражал этим свою волю к сопротивлению. Он заявлял перед всей общественностью, что он был готов продолжать борьбу вопреки всему. Он бросал вызов всему враждебному миру и провозглашал свою убежденность, что в конфликте между национал-социализмом и еврейским недочеловечеством мы, в конце концов, добьемся победы.
Чем больше мы ощущали себя загнанными в угол враждебной прессой и издевательствами полицай-президиума, тем более страстным становилось наше желание добиться возможности публицистически защищаться, пусть даже временно, от желтой прессы. Нам не хватало газеты. Где мы не могли говорить, мы хотели смочь писать. Наше перо должно было пойти на службу организации, прерванная связь между руководством и соратниками должна была снова восстановиться. Было необходимо, по крайней мере, неделю за неделей укреплять в членах партии веру в движение и подкреплять их дальнейшую выдержку.
Тогда из нашего стесненного положения возникла в первый раз мысль основать собственную газету. Мы знали, конечно, что едва ли мы в начале смогли бы противопоставить что-то эффективное великой силе еврейской прессы. Все же мы начали с малого, потому что это было необходимо, и мы верили в нашу силу.
Мы начали первую подготовку к основанию еженедельника. Этот еженедельник должен был быть агрессивен в соответствии с боевой ситуацией в Берлине. Он должен был самыми острыми публицистическими средствами освобождать дорогу движению. Мы хотели сделать его равным по сарказму и циничной шутке с еврейской прессой, только с тем различием, что мы выступали за чистое и большое дело.
Мы были затравленной дичью, которую охотник, подстреленную, гонит через лес. Если ей в конце не остается совсем ничего иного, то она останавливается перед своим преследователем; но не для того, чтобы защищаться, а чтобы острыми зубами или склоненными рогами самой напасть на непреклонного загонщика.
На это мы теперь и решились. Нас затравили до отчаяния. У нас отобрали всякое средство для защиты. Так мы должны были броситься навстречу преследователю, должны были попытаться сначала завоевать прочную позицию во время отхода, а потом переходить к наступлению.
Этим сразу и определялись название и лозунг нашего нового основываемого боевого листка. «Атака» («Дер Ангриф») должна была она называться; и писали ее «За угнетенных! Против эксплуататоров!»
«Дер Ангриф» (Часть 1)
Выпуск собственной газеты стал для запрещенной партии в Берлине неизбежной необходимостью. Так как полицейское управление препятствовало любой общественной деятельности движения с использованием собраний, плакатов и демонстраций, нам больше не оставалось ничего другого, как завоевать новую почву с помощью средства публицистического массового влияния.
Уже в то время, когда партия еще была разрешена, мы носились с мыслью основывать собственный орган прессы для берлинского движения. Но проведение этого плана всегда терпело неудачу от самых разнообразных преград. Однажды у нас не хватало денег, чтобы организовать газетное предприятие, соответствующее современному значению движения. Потом нашему проекту помешал ряд организационных и обусловленных партийными проблемами трудностей; и не в последнюю очередь также из-за очень активной пропагандистской деятельности партии на собраниях и демонстрациях нам уже не хватало времени, чтобы реализовать этот проект эффективно и успешно.
Теперь партия была запрещена. Собрания были запрещены, о демонстрациях на улице не могло быть и речи. После того, как первая буря в прессе стихла, в желтой прессе вокруг нас воцарилось всеобщее молчание. Там надеялись, что путем замалчивания смогут преодолеть движение, сбитое в организационном плане на землю жестокой силой.
Мы хотели устранить это затруднение нашей газетой. Она должна была стать органом для общественности. Мы хотели участвовать в разговоре, в определении направления; мы хотели быть также частью общественного мнения; нашей целью было соединить снова ту связь между руководством и партийным товариществом, которая была сурово и безжалостно рассечена драконовской практикой запрета управления берлинской полиции.
Уже сам выбор имени газеты в начале столкнулся с большими трудностями. Изобретались самые дикие и самые агрессивные заголовки. Они делали честь боевому образу мыслей их духовных отцов, но, с другой стороны им не хватало какой-либо пропагандистской и программной формулировки. Я отдавал себе отчет, что от имени газеты зависела большая часть успеха. Имя должно было быть эффективным в агитаторском плане и выражать всю программу газеты уже в единственном слове.
Еще сегодня я живо вспоминаю, как мы сидели вместе однажды вечером в маленьком кругу и размышляли над названием газеты. Там меня внезапно как бы осенило: у нашей газеты может быть только одно название: «Атака»! Это название было пропагандистски эффективно, и, в действительности, оно выражало все, чего мы хотели и к чему стремились.
Целью этой газеты было не защищать движение. У нас больше не было ничего, что мы могли защищать, так как у нас отобрали все. Движение должно было перейти от обороны к наступлению. Оно должно было действовать воинственно и агрессивно; одним словом, оно должно было атаковать. Поэтому в качестве заголовка подходило исключительно слово «Атака» – «Дер Ангриф».
Мы хотели продолжать средством публицистики те методы пропаганды, которые были запрещены нам в форме свободных высказываний. Мы не собирались основывать информационный листок, который должен был заменить в какой-то мере ежедневную газету для наших приверженцев. Наша газета возникала из тенденции, и ее нужно было также писать в тенденции и для тенденции. Нашей целью было не информировать, а поощрять, подбадривать, приводить в действие. Орган, который мы основывали, должен был в какой-то мере действовать как кнут, который пробуждает медлительных сонь из дремоты и гонит их вперед к неутомимому действию. Как и имя, лозунг газеты был также программой. Рядом с заголовком можно было прочитать большими буквами бросающие вызов слова: «За угнетенных! Против эксплуататоров!» Также здесь уже выражалась вся боевая позиция нашего нового органа. Уже в заголовке и лозунге содержались очертания программы и круга воздействия этой газеты. Теперь нам только нужно было наполнить заголовок и лозунг активной политической жизнью.
У национал-социалистической прессы есть ее собственный стиль, и на этом месте стоит сказать об этом несколько слов. Пресса – это, по словам Наполеона, "седьмая великая держава", и со времен, когда были произнесены эти слова, возможности ее влияния скорее увеличились, чем уменьшились. Какая ужасающая сила скрывается в ней, проявилось, прежде всего, на войне. Если немецкая пресса в 1914-1918 годах была полна почти ученой, научной объективности, пресса Антанты бушевала в беспрепятственной и необузданной демагогии. Она с систематическим коварством натравливала все мировое общественное мнение против Германии, она была не объективна, а тенденциозна в самом радикальном смысле. Немецкая пресса старалась давать объективные сообщения на основе фактических данных и информировать свою читательскую аудиторию о больших событиях всемирной борьбы, действуя из лучших побуждений. Пресса Антанты напротив писала все, исходя из определенного намерения. У нее была цель укреплять силу сопротивления сражающихся армий и сохранять враждебные нам народы в вере в справедливость их борьбы и в «победу цивилизации над исходящей от Германии угрозы уничтожения культуры».
Немецкое правительство и командование сухопутными войсками должны были иногда запрещать, чтобы издававшиеся на немецком языке пораженческие газеты вообще направлялись на фронт. Во Франции и Англии то же самое было бы просто невообразимо. Там пресса, свободная от влияний партийных тенденций, в фанатичной сплоченности боролась за национальное дело. Она была одной из самых важных предпосылок для окончательной победы.
Органы Антанты служили, таким образом, не столько информационным, сколько пропагандистским целям. Для них было важно не устанавливать объективную правду, а скорее публицистически-агрессивно содействовать целям войны. К этому маленький человек относился с пониманием; это была, прежде всего, хорошая духовная пища для солдата, который там в траншеях жертвовал кровью и жизнью для дела нации.
Мировая война не была закончена для Германии 9 ноября 1918 года. Она продолжалась, только новыми средствами и методами и на другом уровне борьбы. Теперь она из области военного конфликта силами оружия переместилась в сферу гигантской экономико-политической борьбы. Тем не менее, целью оставалось то же; государства враждебного союза стремились к полному уничтожению немецкого народа; и самое страшное в этой судьбе было и состоит в том, что в Германии существуют большие, влиятельные партии, которые осознанно содействуют Антанте в этом ее дьявольском начинании.
Ввиду этой угрожающей опасности современнику не подобает занимать относительно политических процессов научную, объективную и трезвую позицию. Он ведь сам сосоздатель того, что происходит вокруг него. Он может с уверенностью предоставить более позднему времени поиск исторической правды. Его задача состоит в том, чтобы участвовать в создании исторических фактов, а именно в том смысле, что они служат пользе и преимуществу его народа и его нации.
Национал-социалистическая пресса руководствуется почти исключительно этой тенденцией. Она пишется из пропагандистских целей. Она обращается к широким народным массам и хочет завоевать их для национал-социалистических целей. В то время как буржуазные органы довольствуются тем, что распространяют информацию более или менее без тенденции, у национал-социалистической прессы есть, сверх того, гораздо большее и более решающее задание. Она из информации делает политические выводы, она не предоставляет читателю, чтобы тот сам делал выводы по его собственному вкусу. Читатель должен скорее воспитываться в ее смысле и в ее направлении цели, и на него оказывается соответствующее влияние.
Итак, национал-социалистическая газета – это только часть национал-социалистической пропаганды. Она имеет исключительно политическую цель и потому ее нельзя путать с буржуазным информационным или, тем более, публикационным органом. Читатель национал-социалистической прессы должен подкрепляться чтением его газеты в своей позиции. На него оказывается совершенно осознанное влияние. Это влияние должно быть однозначным, недвусмысленным, целесообразным и целеустремленным. Все мышление и ощущение читателя должно втягиваться в определенном направлении. Так же как у оратора есть только одна задача завоевать своими речами слушателя для национал-социалистического дела, то у журналиста может быть только задача достичь той же цели его пером.
Этот подход было уникальным во всей немецкой журналистике и поэтому также его сначала неправильно понимали, боролись с ним или просто высмеивали. У национал-социалистических печатных органов по самой своей природе не должно было быть честолюбивых намерений соревноваться с большими буржуазными или еврейскими газетами в точности репортажа и широте публикуемого материала. Мировоззрение всегда одностороннее. Тот, кто может рассматривать какую-то вещь с двух сторон, тем самым уже теряет свою надежность и бескомпромиссную остроту. "Упрямое упорство" нашего общественного воздействия, в котором нас упрекают так часто, – это, в конце концов, тайна нашей победы. Народ хочет ясных и недвусмысленных решений. Маленький человек не ненавидит ничего больше двойственности и точки зрения «и так, и сяк». Массы мыслят просто и примитивно. Они любят обобщать сложные положения дел и делать из этого обобщения ясные и бескомпромиссные выводы. Пусть они большей частью просты и несложны, но, все же, они, как правило, попадают не в бровь, а в глаз.
Политическая агитация, которая исходит из понимания этого, всегда возьмет народную душу за правильное место. Если она не умеет распутывать запутанное положение дел, а только передает народу всю сложность дел так, как та представляется в самих этих делах, тогда она всегда пройдет мимо понимания маленького человека.
Еврейская пресса тоже не без тенденции. Сегодня она может, разумеется, обходиться без ощутимой и явной тенденции; так как бывшая присущая ей тенденция уже оказала свое публичное воздействие и поэтому не требует больше агитаторской защиты.
Престижные еврейские газеты объективны и демонстрируют для виду трезвое бесстрастие только до тех пор, пока власть еврейства гарантирована. Но насколько мало эта трезвая и бесстрастная объективность соответствует истинной сущности еврейской желтой прессы, всегда можно заметить, когда эта власть еврейства вдруг оказывается под угрозой. Тогда наемные писаки в еврейских редакциях сразу теряют всякую спокойную рассудительность, и серьезные журналисты в один миг превращаются в самых лживых мерзавцев клеветнической еврейской желтой прессы.
Само собой разумеется, мы с начала нашей публицистической работы не могли и не хотели конкурировать с большими еврейскими газетами относительно информации. Для этого у желтой прессы было второе превосходство; у нас также не было такого большого честолюбия, чтобы информировать без тенденции, мы хотели бороться по-агитаторски. При национал-социализме все является тенденцией. Все направлено на определенную цель и настроено на определенную задачу. Все делается ради достижения этой цели и решения этой задачи, и что не может быть для этого пригодным, то упраздняется безжалостно и без больших сомнений. Национал-социалистическое движение было создано большими ораторами, не большими писателями. Это его общая черта со всеми решающими революционными движениями мировой истории. Движение должно было с самого начала позаботиться о том, чтобы и его пресса подчинялась его большим агитаторским тенденциям.
Прессу должны были писать преимущественно агитаторы пера, так же как самой общественной пропагандой партии занимались агитаторы слова.
Но в нашей тогдашней ситуации это было легче сказать, чем сделать. Мы располагали значительным корпусом подготовленных и успешных партийных агитаторов. Наши значительные ораторы сами вышли из движения. Они изучили искусство устного выступления в движении и для движения. Искусством современного влияния на массы плакатом и листовкой пропагандисты партии владели уверенно. Теперь, однако, нужно было перенести это искусство в область журналистики.
У движения был здесь только один учитель: марксизм. Марксизм перед войной воспитал свою прессу как раз в вышеописанном духе. Марксистская пресса никогда не носила информационный, а всегда только тенденциозный характер. Марксистские передовые статьи – это написанные речи. Все оформление красной прессы осознанно направлено на массовое влияние. Здесь кроется одна из больших тайн марксистского подъема. Руководители социал-демократии, которые привели свою партию в сорокалетней борьбе к власти и положению, были преимущественно агитаторами и оставались такими также и тогда, когда хватались за перо. Они никогда не выполняли просто работу за письменным столом. Они были одержимы честолюбием воздействовать на массы из массы.
Уже тогда это понимание не было чуждо нам. Мы не подходили к нашему тяжелому заданию без подготовки. Новое в нашей работе состояло лишь в том, чтобы применить на практике эти теоретические принципы.
«Дер Ангриф» (Часть 2)
И даже об этом сначала речь могла идти только в скромном объеме. Так как прежде чем мы могли бы приступить к нашему настоящему агитаторскому заданию, мы должны были убрать с дороги множество материальных трудностей, которые пока что отбирали у нас все наше время и все силы.
Нетрудно основать газету, владея или располагая неограниченными денежными средствами. Нужно принять на работу лучших авторов и специалистов издательского дела, и тогда едва ли дело может не наладиться. Куда сложнее приступить к газетному предприятию без денег и опираясь только на организацию; так как тогда отсутствие финансовых средств приходится заменять и компенсировать строгостью и внутренней солидарностью самой организации. Но труднее всего организовать газету и без денег, и без организации; так как тогда все зависит лишь от эффективности органа, и определяющим для его успеха является интеллект тех, кто его пишет.
У нас в распоряжении не было никаких денег для нашего нового печатного органа. Да и кому пришла бы в голову безумная мысль дать деньги нам, этой смешной карликовой партии, которая к тому же еще была запрещена, и не пользовалась никакими симпатиями ни у властей, ни у публики!
На любых деньгах, которые нам давали в долг, можно было поставить крест. И за нами не стояла ни одна строго дисциплинированная организация с солидарными убеждениями. Именно в тот момент, когда мы собирались создавать газету, эта организация была разбита строгим запретом. Как мы должны были решиться на отчаянную попытку, без денег и без твердых приверженцев создать нашу газету, так сказать, прямо из ничего. Сегодня я признаю, что мы вовсе не сознавали тогда все трудности этого задания. Наш план был скорее плодом дерзкой отчаянности; мы подошли к его проведению только из соображения, что нам все равно уже нечего было больше терять.
Но уже само название газеты было попаданием в «десятку». Использованная для газеты пропаганда сделала остальное, по крайней мере, истоки молодого предприятия были оформлены многообещающе.
В последнюю неделю июня на тумбах для афиш и объявлений в Берлине появились таинственные афиши, из-за которых кое-кому приходилось ломать себе голову. Мы держали наш план в тайне, насколько это было возможно, и в действительности нам удалось полностью скрыть его от глаз общественности. Большое удивление прокатилось по Берлину, когда однажды утром на афишных тумбах появились кроваво-красные плакаты с надписью в лаконичной сжатости: «Атака»! Удар достиг цели, когда несколько дней спустя появился второй плакат, на котором таинственный намек первого расширялся, хотя и не давал непосвященному возможности получить полную ясность. Этот плакат гласил: «Атака состоится 4 июля».
По воле счастливого случая в тот же день со стороны Красной помощи расклеили плакаты, где угрожающими красными литерами было написано, что при несчастных случаях и ранениях нужно сразу обращаться в ответственные санитарные пункты этой коммунистической организации по оказанию помощи.
Тем самым гнусная тайна, которая скрывалась за этими таинственными намеками, была теперь открыта для общественности. Было очевидно, что под атакой подразумевался коммунистический путч. Этот путч должен был начаться 4 июля в Берлине, и, как доказывало объявление Красной помощи, компартия уже позаботилась о квалифицированном уходе и обслуживании ожидающихся тяжелораненых.
Этот слух с быстротой молнии пронесся по столице Империи. Его подхватила пресса, которая начала большое отгадывание загадок. Провинциальная пресса заикалась в боязливом смущении; в ландтаге центристские партии направили запрос государственному правительству, готово и способно ли оно дать информацию о тревожных сообщениях, которые попали в общественность, касающихся предстоящих беспорядков и попыток путча коммунистической партии. Одним словом, всюду господствовало большое замешательство; пока через два дня не появился наш последний, третий плакат с сообщением, что «Атака» – это «немецкая газета в Берлине, выходящая по понедельникам», что она будет выходить раз в неделю, сколько она стоит при выписывании по почте, и что ее пишут «За угнетенных и против эксплуататоров!».
Мы достигли этой действенной и рассчитанной на эффект плакатной рекламой того, что имя газеты распространилось еще до того, как она вообще появилась. Труднее было теперь собрать пусть даже самые скромные денежные средства, необходимые для основания газеты. Никто не давал партии в долг даже ломаного гроша. Наконец, я должен был решиться на то, чтобы занять две тысячи марок на мое имя, под мою личную ответственность. Эта сумма должна была послужить тому, чтобы обеспечить первые истоки молодого предприятия. Сегодня кажется смешным вообще упоминать такие незначительные суммы. Тогда же эти деньги означали для нас целое состояние; я должен был целыми днями бегать, чтобы добрыми словами и заклинаниями собрать их у друзей партии.
Первичную основу абонентов составил еще сохранившийся остаток членов партии. Сами члены партии приступили к работе по рекламе газеты с неутомимым усердием. Каждый член партии был убежден в том, что речь здесь шла о самом важном задании в данный момент, и что бытие или небытие нашего движения в имперской столице зависело от успеха этой работы.
Уличная продажа организовывалась безработными штурмовиками, печать и издание газеты передано в руки дружественной фирмы, и тогда мы приступили к работе.
Самая большая трудность состояла в том, чтобы найти подходящий коллектив сотрудников. У движения не было публицистического прошлого. В нем были хорошие организаторы и замечательные ораторы, но писателей или хотя бы дипломированных журналистов всюду не хватало. От последнего отчаяния пришлось просто откомандировать членов партии для этой работы. Они принесли с собой, пожалуй, добрую волю и, вероятно, также в благоприятных зачатках скромное авторское мастерство. Но журналистского опыта у них не было и следа. Правда, я, когда еще только впервые подумывал об организации газеты, следил за одним постоянным главным редактором. Мне даже удалось привлечь его для молодого предприятия, но как раз в тот момент, когда план приобретал конкретные очертания, он был арестован на основании старого нарушения закона о печати и на два месяца отправлен в тюрьму Моабит.
Мы в результате этого оказались в бедственном положении. Никто из нас ничего не понимал в ремесле прессы, никто даже не умел делать верстку. Все оформление газеты, технические подготовительные работы для каждого номера, даже чтение корректуры, было для нас книгой за семью печатями. Мы приступили к этому заданию без самых слабых предварительных знаний. Нужно назвать настоящим счастьем, что наш эксперимент еще удался в конце без самого тяжелого позора.
Лучше мы разбирались в стиле и позиции нового органа. Это мы понимали, и об этом среди нас не было споров. То, что газета должна была обладать новым лицом, что это лицо должно было соответствовать лицу просыпающейся молодой Германии, это было четко понятно нам с самого начала. Газета должна была быть боевой и агрессивной во всем ее характере, а также ее оформление, ее стиль, ее метод должны были приспосабливаться к сути и духу движения.
Газета писалась для народа. Поэтому она должна была пользоваться также тем языком, который говорит народ. Мы не намеревались создавать орган для «образованной публики». «Дер Ангриф» должны были читать массы; а массы все равно читают только то, что они понимают.
Всезнайки иногда и часто упрекали нас в бездарности и некультурности. Они презрительно морщили нос из-за недостатка интеллекта, который якобы характеризовал наши публицистические рассуждения, и указывали в противоположность этому на то, как остроумно и цивилизованно пишут буржуазные, прежде всего, еврейские органы печати. Над этими упреками нам не приходилось долго ломать голову. Мы и не собирались подражать ошибочной и ложной мании цивилизации. Мы хотели привлечь на свою сторону массы, мы хотели обращаться к сердцу маленького человека. Мы хотели поставить себя на его место в мыслях и чувствах и завоевать его для нашей политической идеи. Как позже показал успех, нам именно это и удалось в большой степени.
Когда мы в июле 1927 года начинали с тиража от двух до трех тысяч экземпляров, в Берлине были большие еврейские газеты, тираж которых насчитывал сто и больше тысяч. Они не считали нас достойными того, чтобы вообще обращать на нас внимание. Сегодня, когда наша газета располагает авторитетным тиражом, эти органы давно принадлежат прошлому. Они были написаны настолько умно, что читателя тошнило при чтении. Их живодеры пира настолько тщеславно и самодовольно упивались блистательными сложностями их интеллектуализма, они в своем изысканном цивилизованном стиле настолько далеко отошли от действительности, что массы, в конце концов, просто больше не понимали их язык.
Мы никогда не поддавались этому заблуждению. Мы были просты, так как народ прост. Мы мыслили примитивно, так как народ мыслит примитивно. Мы были агрессивны, так как народ радикален. Мы осознанно писали так, как чувствует народ, не для того, чтобы льстить народу или подпевать ему, а чтобы с употреблением его собственного жаргона постепенно перетягивать народ на нашу сторону и затем систематически убеждать в правильности нашей политики и вредности политики наших противников.
Три существенные черты отличали наш новый орган от всех существующих до сих пор в Берлине газет. Мы изобрели новый вид политической передовой статьи, политического обзора недели и политической карикатуры.
Первый номер газеты «Дер Ангиф»

Политическая передовая статья была у нас написанным плакатом, или, скажем лучше, записанным на бумаге уличным обращением. Она была короткой, четкой, продуманной в пропагандистском плане и эффективной с точки зрения агитации. Она осознанно предполагала что то, в чем она, собственно, хотела убедить читателя, является просто известным, установленным фактом, и непреклонно делала из этого свои выводы. Она обращалась к широкой публике, и была написана в таком стиле, что читатель вовсе не мог ее пропустить. Передовые статьи буржуазной или еврейской газеты большей частью публика вообще не читает. Маленький человек полагает, что они написаны только для избранного интеллекта. Передовая статья у нас напротив была ядром всей газеты. Она была написана на языке народа и прямо в начальных фразах была настолько наполнена агитаторской остротой, что никто, кто приступал к чтению, не откладывал ее, не прочитав до конца.
Читатель должен был получить впечатление, будто автор передовой статьи – это, собственно, оратор, который стоит рядом с ним и хочет простым и веским ходом мысли обратить его в свое мнение. Решающим было то, что эта передовая статья была как бы каркасом всей газеты, вокруг которого органически группировались все остальные статьи и заметки. Таким образом, у всего номера была определенная тенденция, и читатель на каждой странице укреплялся и закалялся в этой тенденции.
Политический дневник в коротком обзоре давал знания о политических процессах, которые произошли в течение одной недели. Также они распределялись и подчинялись большой объединенной тенденции всего номера. Дневник представлял ход вещей в лапидарной сжатости и делал из этого с непреклонной последовательностью политические выводы.
С точки зрения долгосрочной перспективы это было несколько однообразно, но воздействие достигло своих результатов. Вообще, мы видели в нашей агитаторской задаче не столько отражать живописное разнообразие, сколько сформулировать несколько очень больших политических требований, а потом в сотне и больше вариаций в жесткой последовательности навязывать их читателю, вбивая их ему в голову.
К этому прибавлялся новый стиль политической карикатуры. Под давлением законов едва ли было возможно выражать словами все то, чего мы хотели и требовали. Слово дает ясный и точный состав преступления и поэтому всегда юридически опасно. Иное дело – политическая карикатура. В ней могут быть разнообразные интерпретации. За ней при необходимости можно спрятаться. То, что увидит в ней какой-то отдельный человек, это его дело. Также публика скорее склонна простить и сделать снисхождение художнику, чем пишущему автору. Искусство чертежного карандаша кажется читательской аудитории труднее и поэтому более достойным удивления, чем искусство пера. Поэтому к нему проявляют более теплые симпатии. Карикатура по своей сути оказывает причудливый, ироничный и иногда также циничный эффект. Они стимулируют больше смех, чем интеллект. И у кого есть хохотуны на его стороне, тот, как известно, всегда прав.
Мы воспользовались этим. Где нам запрещали атаковать пером, там мы пользовались карандашом. Теперь прототипы демократии, которые по отношению к слову были чувствительны как мимоза, представлялись склонной публике в виде карикатур. Благоприятствующая судьба дала нам политического рисовальщика, который владел способностью к этому в большой мере. Он связывал дар художественного изображения с эффективным формулированием политических лозунгов в такое удачное единство, что из него возникали карикатурные изображения непреодолимого комизма. В каждом номере мы наседали таким образом на главных противников нашего движения в Берлине, прежде всего, на начальника полиции доктора Вайсса.
Это происходило в большинстве случаев с такой шикарной и наглой дерзостью, что атакованному просто невозможно было применять против этого строгость закона; он неизбежно подверг бы себя опасности быть высмеянным как обидчивый человек без чувства юмора. Читающая публика очень быстро привыкла к этому виду карикатурной атаки, и скоро с напряжением ожидала каждую субботу, что же еще «Дер Ангриф» опубликует в своем очередном номере против всемогущего хозяина на Александерплац.
Передовая статья и политический дневник, карикатура и журналистские украшения давали в итоге в совокупности то агитаторское единство, которое обладало непреодолимым воздействием; и газета достигла этим ее настоящей цели. Она заменяла, если это вообще возможно, устное слово. Она идеальным способом восстанавливала разорванный контакт между руководством и партийными массами; она обвивала всю партию снова едиными узами товарищества и возвращала убеждение каждому члену партии, что его дело не проиграно, а только проводится другими средствами.
Но до тех пор, пока мы достигли этой цели, прошло еще довольно много времени. Мы были только у самых истоков и столкнулись с массой технических трудностей. Все наши силы и труды использовались для этого. Так как выбранный на должность главного редактора сотрудник все еще сидел в тюрьме Моабит, я после короткого обдумывания решил направить на этот пост нашего политического ответственного секретаря. Он временно возглавил редакцию молодого предприятия; хотя у него тоже не было ни малейшего представления о доставшейся ему работе, он все же привнес на своей новой должности здравый смысл и определенную сумму природных способностей. Он должен был сначала разобраться со своим заданием; и это было тем труднее и ответственнее, что результаты его работы непосредственно попадали на глаза широкой публике, а газету читал не только друг с благосклонностью, но и враг с горьким скепсисом и надменной самонадеянностью. Первая верстка первого номера была вещью в себе. Никто из нас ничего в этом не понимал, один ссылался на другого. Время припекало, и мы столкнулись с неразрешимой задачей.
Утром понедельника, когда я возвращался после короткой поездки из Судет, я в вокзальном киоске в Хиршберге нашел первый номер как раз впервые появившейся «Атаки». Стыд, отчаяние и безнадежность подстерегали меня, когда я сравнивал этот суррогат с тем, чего я собственно хотел. Жалкая газетенка, напечатанный вздор! Таким показался мне этот первый номер. Много доброй воли, но очень мало мастерства. Таков был результат моего беглого чтения.
И так же как я думали большинство наших соратников и читателей. Обещали много, но достигли очень мало. Мы уже почти готовы были бросить все и окончательно отказаться от этой затеи. Но, в конце концов, мы упрямо снова и снова поднимались вверх. Мы не хотели дать противнику возможность насладиться триумфом, если бы тот заставил нас пасть, в конце концов, под его ударами и видеть, как мы капитулируем.
Едва я заметил, что само движение начинало оказывать сопротивление, что сами члены партии недовольно и упав духом разочаровались в этом труде, тогда я решился поставить на службу нашему общему делу последнюю силу. На специально созванном для этой цели партийном съезде области в Потсдаме я выступил перед партийцами и в долгих и принципиальных рассуждениях разъяснял цель и задачу этого предприятия. Я пытался объяснять членам партии, что недостойно национал-социалиста отступать при настоящих неудачах и бросать дело, которое представлялось бы необходимым, потому, что оно сопровождается трудностями. Я не преминул указать на то, что если мы в разочаровании откажемся от этого, то потеряем окончательно все, что вообще было сделано для национал-социалистического движения в Берлине и утратим до сих пор захваченную почву, что на наших плечах лежит огромная ответственность, и что каждый должен подумать, не хочет ли он трусливо сбросить с себя эту ответственность. Это объяснение возымело свое действие.
Со свежим мужеством все партийное товарищество снова приступило к работе. Мы начали с нашим графиком выхода газеты в исключительно неблагоприятное время; первый номер вышел посреди лета, 4 июля. Организация была парализована, у нее отсутствовали денежные средства, твердый коллектив сотрудников еще не был составлен, журналистское мастерство оставляло желать еще много лучшего. Но, в конце концов, путеводным знаком для нас и тут, как во всех прочих безвыходных ситуациях, стали воля и жесткая решимость.
Мы хотели! Этого должно было хватить. Задание, которое мы решились выполнить, было необходимым. Этого должно было быть достаточно. Сопротивление всегда можно сломать, если только есть воля. Но такое движение, как наше, никогда не может позволить сломать себя никаким сопротивлением. Наше молодое предприятие с самого начала тут же оказалось под угрозой краха и банкротства. Но мы мужественно бросились навстречу этой угрозе. Работа, усердие, воля, упорство и талант помогли нам справиться и с этими трудностями. Вскоре «Дер Ангриф» стал на самом деле атакой. В неутомимом труде мы его заострили и отшлифовали: и из жалкого грязного бульварного листка, который впервые увидел свет мира 4 июля 1927 года, в самый короткий срок появилась уже авторитетная и увлекающая боевая газета. Мы приблизились к цели. Мы атаковали. И теперь уже молодой орган в его новой форме должен был приносить больше хлопот тем, против кого его писали, чем тем, кто сам его писал!
Отчаяние и упадок
Тем временем наступил разгар лета. Воцарилось летнее затишье. Политическая жизнь имперской столицы постепенно стихала и теряла любую остроту. Рейхстаг ушел на каникулы, сенсаций или больших политических неожиданностей пока не следовало ожидать. Национал-социалистическое движение в Берлине, на первый взгляд, развалилось, и ни в прессе, ни в другом месте в общественности оно не производило никакого шума.
Этим воспользовались пораженческие элементы, которые были искусно внедрены в движение, чтобы разлагать и ослаблять его изнутри. Наша только что основанная газета стояла еще у самых первых истоков и вовсе не соответствовала в этой форме правомерным желаниям и требованиям партийного товарищества. Общественная эффективность партии сократилась под запретом вплоть до минимума. Мы могли дальше вести нашу членскую картотеку только тайно и очень не полностью, и таким образом поступление членских взносов тоже было очень затруднено и нерегулярно.
Партия влачила жалкое существование. Ей не хватало необходимых для политической работы денежных средств; у нее не было частных кредиторов, ни тогда, ни сегодня, и из нашего собственного имущества мы не могли уже больше ничего вносить, так как мы все были бедны и не имели средств к существованию, и те немногие суммы, которые еще находились в распоряжении того или иного, были полностью израсходованы уже в первое время после запрета.
В самом партийном товариществе обращало на себя внимание растущее неудовольствие, которое систематически разжигалось и подстрекалось провокационными элементами. Движение, частично осознанно, частично неосознанно, волновалось из-за снова и снова появляющихся алармистских сообщений или из-за тайной подрывной работы и пребывало в постоянной нервозности.
Мы могли только в очень малой мере защищаться от этого публично; ибо мы, разумеется, старались, чтобы внутренняя жизнь партии, которая продолжала существовать и после ее запрета, по возможности не попадала на глаза полиции, так как мы должны были опасаться, что любое видимое проявление партии могло бы побудить власти с самыми строгими принудительными мерами выступить против нас и партии.
Организационная связь движения вновь почти исключительно базировалась на отдельных союзах SA. Политическая партия не была настолько твердо разделена и структурно едина, чтобы ее можно было использовать для подпольной политической работы. SA, тем не менее, держалась, по крайней мере, в ее старых группах, в полном порядке. Основывали союзы под псевдонимом, иногда с самыми странными названиями, в которых национал-социалистическая идея сохранялась, и продолжалась работа, насколько это было вообще возможно под давлением запрета.
Возникали сберегательные союзы "К золотой шестерке", кегельные клубы «Хорошее дерево», союзы пловцов «Хороший мокрый» и подобные фантастические предприятия, которые в действительности представляли собой только продолжения тщетно запрещенного полицай-президиумом национал-социалистического движения в Берлине.
Конечно, для этой работы всегда можно было привлекать только избранных и совершенно надежных членов партии. Опасность шпионства и организованных провокаций была слишком ощутимой. Как только наша работа выходила за рамки определенного узкого круга людей, она неизбежно доходила до ушей органов власти, и тогда на нее следовал ответ в форме принудительных мероприятий и издевательств. Для всех нытиков и критиканов это было самое лучшее время. Они чувствовали в себе призвание мелочно критиковать и придираться к мероприятиям, проводимым партийным руководством под давлением запрета, вместо того чтобы дисциплинированно и ответственно реализовывать их. Они, конечно, чувствовали себя в безопасности, зная, что у партии не было возможности принять какие-то меры против них или защищаться против их работы по разложению. Нам действительно приходилось смотреть со сдержанной досадой на эти бесстыдные поступки, которые только в малой степени устраивались строптивыми членами партии, а большей частью оплаченными, подлыми элементами, и откладывать наше возмездие на лучшие дни.
При таких обстоятельствах наша инициатива, которая уже существенно была парализована официальными методами преследования, опустилась до минимума. Едва было принято решение, как оно разбиралось и разжевывалось недоброжелателями, и большей частью из этого выходило немного больше, чем бесплодный и безрезультатный спор. А если не делали ничего, тем не менее, то эти же субъекты злорадно заявляли, что партия застыла в своей деятельности, а о национал-социалистическом движении в столице Империи вообще больше ничего нельзя было сказать.
«Дер Ангриф» приносил нам большие заботы. Насколько быстро мы преодолели первые технические трудности, настолько тяжело было справиться с финансовой нуждой. Мы основали газету без какой-либо денежной поддержки. Ее крестными отцами были только мужество и отчаяние. Юное предприятие потому с самого начала своего существования находилось под угрозой самых тяжелых потрясений. Наши честолюбивые ожидания осуществились только в незначительной мере. Повсюду после короткой, внезапной вспышки общественное участие в нашей публицистической работе угасло, и так как не было возможно сделать наш орган действующим за пределами собственного партийного товарищества, твердые приверженцы тоже скоро потеряли интерес к этому предприятию. Они посчитали это дело безнадежным. Заявляли, что основание газеты не было достаточно подготовлено, нужно было подождать до осени и не подвергать себя опасности выпускать газету летом, чтобы она тут же зачахла в политическом застое летнего мертвого сезона.
Контингент твердых абонентов был жалок и совершенно недостаточен; в уличной продаже мы продавали только незначительное количество нашей выходящей еженедельно по субботам вечером газеты. Необходимые средства отсутствовали, мы должны были занимать деньги у нашего печатника и брать кредиты, и это снова влекло за собой, что газета теряла престиж в ее внешнем оформлении. Бумага была плохой, печать слабой, «Атака» создавала впечатление грязного бульварного листка, выходящего где-то в неизвестной анонимности и лишенного всякого честолюбия, однажды войти в ряд больших печатных органов столицы Империи.
Уже через один месяц «Дер Ангриф» при нормальном рассмотрении стоял перед банкротством. Лишь то, что нам снова и снова в последний момент удавалось занимать тут и там небольшую денежную сумму, спасал нас от открытого банкротства.
Все наше время и работа были заполнено денежными затруднениями. Деньги, деньги и снова и снова деньги! Мы не могли оплачивать типографию. Жалование выплачивалось только маленькими суммами. Мы погрязли в долгах за аренду помещения и телефонные разговоры. Движение, кажется, задыхалось в денежной нужде.
Если бы у нас была, по крайней мере, еще возможность устраивать общественные собрания и с помощью замечательных ораторов влиять на массы! Вероятно, мы таким путем преодолели бы угрожающий финансовый кризис. Ведь наши собрания приносили всегда значительные доходы, которые вплоть до сегодняшнего дня тратились на нужды политического движения. Но собрания были большей частью запрещены; и где они для виду разрешались, власти позволяли нам только проводить затратную подготовку, чтобы в последний момент все же нанести нам удар внезапным запретом. Они этим лишали нас не только ожидаемого дохода, но и тех денег, которые были уже истрачены нами на подготовку сорванного собрания.
Часто у публики возникал вопрос, откуда национал-социалистическое движение брало огромные денежные суммы, в которых оно нуждается для содержания его большого партийного аппарата и для финансирования его гигантских пропагандистских кампаний. Предполагали самые разнообразные тайные источники денежных поступлений. Однажды это был Муссолини, другой раз Папа Римский, третий раз Франция, четвертый раз крупная промышленность, а в пятый раз какой-то известный еврейский банкир, который финансировал национал-социалистическое движение. Самые слабоумные и самые сумасбродные подозрения выдвигались против нас, чтобы скомпрометировать движение. Наихудшие враги партии назначались ее самыми щедрыми кредиторами, и слепо верящая общественность в течение долгих лет клевала на эти бабьи сказки.
И, все же, нет ничего проще, чем решение этой, только внешне такой таинственной загадки. Национал-социалистическое движение никогда не брало деньги у людей или организаций, которые стояли вне его рядов или тем более, публично боролись с этим движением, а движение боролось с ними. Движению финансирование с такой стороны вовсе не было необходимым. Национал-социалистическое движение так велико и внутренне здорово, что оно может финансировать себя из собственных средств. У партии с численностью в несколько сот тысяч, сегодня даже почти миллион членов есть здоровый финансовый фундамент уже в партвзносах. Тем самым она может содержать весь ее организационный аппарат, если он построен экономно – и это у нас само собой разумеется. Пропагандистские кампании, однако, которые мы устраиваем при выборах или больших политических акциях, финансируют себя сами. Это так непонятно для общественности потому, что другие партии, с которыми сравнивают нас, вовсе не могут брать плату за вход на их собрания. Они чрезвычайно довольны, что могут наполнять свои залы при условии свободного входа, а в случае необходимости привлекают людей еще и предоставлением бесплатного пива. Это объясняется с одной стороны тем, что у этих партий есть только посредственные ораторы, а с другой стороны, что политические представления, которые представлены на их собраниях, для широких народных масс полностью неинтересны и мало привлекательны. У национал-социалистического движения ситуация иная. Она располагает корпусом ораторов, который очевидно вообще можно было бы назвать самым лучшим и самым убедительным в сегодняшней Германии. Мы систематически не отправляли агитаторов в школы и не обучали их как великих ораторов. Они выросли из самого движения. Внутреннее воодушевление давало им силу и способность, увлекая, влиять на массы.
У народа есть чутье, думает ли политический оратор на самом деле то, что он говорит. Наше движение не поднялось ни из ничего, и люди, которые с самого начала предоставили себя в его распоряжение, проникнуты правильностью и необходимостью политической идеи, которую они в слепой убежденности представляют общественности. Они думают то, что говорят; и они с силой слова переносят эту веру на своих слушателей.
Политических ораторов до этого никогда еще не было в Германии. В то время как западная демократия уже с самого начала учила и совершенствовала искусство политической речи для народа, политический оратор в Германии даже до конца войны был ограничен в его действии почти исключительно парламентом. Политика никогда не была у нас делом народа, всегда только делом привилегированного правящего слоя.
Теперь с подъемом национал-социалистического движения это должно было измениться. Не марксизм политизировал широкие массы в настоящем смысле. Хотя народ благодаря Веймарской конституции стал «совершеннолетним», но никто не удосужился также дать необходимую политическую возможность воздействия этому народному совершеннолетию. Тот факт, что после войны вообще отказались создавать помещения для собраний, в которых большие народные массы могли бы размещаться для политического просвещения, уже был доказательством того, что у отцов демократии обоснованно вовсе не было намерения воспитывать народ политически, что они скорее видели в массе только голосующий скот, достаточно хороший, чтобы бросать соответствующий листок в урну на выборах, но во всем остальном низкий плебс, который по возможности нужно было отстранить от настоящего оформления политического развития.
Национал-социалистическое движение создало здесь во всех отношениях знаменательную перемену. Она сама обратилась в ее пропаганде к массам, и ей удалось также в многолетней борьбе снова привести в движение уже полностью закостеневшую политическую жизнь в Германии. Она изобрела новый язык для политической агитации и сумела популяризовать проблемы немецкой послевоенной политики в такой мере, что даже маленький человек из народа мог это понимать и интересоваться.
Нашу агитацию неоднократно упрекали в примитивности и бездарности. Но при этой резкой критике исходили из неверных предпосылок. Действительно, национал-социалистическая пропаганда примитивна; но ведь и народ тоже мыслит примитивно. Она упрощает проблемы, она сознательно снимает с них всю запутанную второстепенную мишуру, чтобы они могли соответствовать кругозору народа. Когда массы однажды узнали, что животрепещущие вопросы современности на национал-социалистических собраниях рассматривались в том стиле и на том языке, что каждый мог их понимать, тогда поток десятков тысяч и сотен тысяч беспрерывно нахлынул на наши собрания. Здесь маленький человек находил просвещение, стимул, надежду и веру. Здесь он в заблуждениях и хаосе послевоенного времени получал твердую опору, за которую он мог зацепиться от отчаяния. Для этого движения он был готов жертвовать своим последним голодным грошом. Только из пробуждения масс – в этом он должен был здесь убедиться – нацию можно было привести к пробуждению.
Таково объяснение того, что наши собрания очень скоро пользовались растущим одобрением, и партии не только больше не пришлось выделять для этого средства, но наоборот эти собрания стали для нее лучшей и самой длительной возможностью финансирования.
Власти поразили нас в самом уязвимом месте, запретив известным национал-социалистическим ораторам, во главе с самим вождем движения, иногда на месяцы и годы всяческую ораторскую деятельность. Они знали об огромном влиянии этих агитаторов на массы, они совершенно ясно понимали, что большое ораторское воодушевление, которое окрыляет самих этих людей, будет также перенесено на массы, и движение в результате этого получит такой импульс, который никакая пресса и организация не может возместить другим способом. Также и полицай-президиум в Берлине сначала исходил при объявлении запрета из того, чтобы сделать агитаторскую деятельность движения полностью невозможной. И это был самый тяжелый удар, который мог поразить нас. Мы теряли вместе с тем не только духовный контакт с массами, но и наш самый важный источник финансов тоже был перекрыт.
Мы пытались снова и снова проводить нашу общественную агитацию тем или иным скрытным методом. Это удавалось один раз, два раза, но внезапно власти разгадывали наши уловки, и снова шел дождь запретов. Конституция в современной демократической полицейской практике играла только подчиненную роль. Демократия обычно с ее собственными написанными законами обходится большей частью не слишком снисходительно. Право свободы слова всегда гарантировано только тогда, когда мнение, которое представляют в общественности, совпадает с мнением всемогущего правительства и стоящей за ней партийной коалиции. Если подлый субъект однажды решается, однако, представить другое мнение, чем выхоленное в учреждениях и признанное правильным, тогда большей частью на свободу слова плюют, и на ее место приходят принуждение к «правильному» образу мыслей и затыкание рта свободному слову. Конечно, преследуемый может ссылаться на конституцию. Но ответом ему будет только злой смех. Конституция в ее правах существует только для тех, кто ее изобрел, а в ее обязанностях только для тех, против которых она была изобретена.
Наши собрания запрещались при всех возможных обоснованиях. Даже национал-социалистическим депутатам Рейхстага запрещали говорить перед их избирателями, не стеснялись ссылаться при этом на старое Всеобщее земское право времен короля Фридриха Великого и призывать тем самым в сообщники ту самую Пруссию, которая якобы бунтом 9 ноября 1918 года была полностью разрушена.
Нам пока не хватало еще возможностей заменить эти агитаторские неудачи прессой. Стиль «Атаки» еще был слишком нов, чтобы он сразу дошел до масс. Кроме того, газета только-только начала выпускаться. Сущность этого молодого газетного предприятия еще так слабо выкристаллизовывалась, что его далеко идущее влияние было пока совсем исключено.
В то время «Дер Ангриф» подвергался самой большой критике, вероятно, со стороны собственной партии. Газету считали слишком острой, слишком радикальной, слишком безрассудно смелой. Ее манера агрессивного подхода была для вечно половинчатых слишком шумной и грохочущей. Она до сих пор не сумела завоевывать сердца читательской аудитории и пока что еще обращалась в пустоту.
Но это затруднение представляло для нас самую маленькую проблему. Трудом и усердием ее можно было устранить. Куда хуже обстояло дело с другой трудностью, которая порой приводила партию в очень опасные ситуации, и начала проявляться также и на этот раз, как при всех кризисах:
У национал-социалистического движения в Германии нет, собственно, предшественницы. Хотя он и продолжал в своих требованиях и духовном содержании традиции того или иного политического или культурного движения прошлого. Его социализм связан с социализмом в духе Адольфа Штёкера. В своих антисемитских тенденциях движение базируется на подготовительных работах Дюринга, Лагарда и Теодора Фрича. Ее расово и культурно определенные требования испытали существенное и отчетливое влияние фундаментальных знаний Чемберлена.
Но НСДАП не приняла результаты этих работ вслепую и без критики и не смешала их в неопределенную кашу. В нашей духовной и программной работе они переработаны и структурированы, и самое важное в этом процессе «переплавки» состоит в том, что национал-социалистические программы сплавили все это большое интеллектуальное богатство к всеобъемлющему синтезу.
Настоящий национал-социалист никогда обычно не ссылается на то, что он уже сотрудничал в том или ином движении довоенного времени, у которого есть удаленное сходство с нашей сегодняшней партией. Национал-социалист – это совершенно современный политический тип; и он чувствует себя также таковым. Его суть определяется в основном большими революционными взрывами военного и послевоенного времени.
Разумеется, по рядам партии все еще бродят немецко-народнические типы, которые полагают, что являются настоящими духовными кормильцами всего национал-социалистического мировоззрения. Какая-либо специальная область из нашего большого мира идей – это их любимое занятие, и теперь они верят, что партия существует лишь для того, чтобы применять всю свою силу и агитаторскую работу как раз для этого их любимого занятия.
До тех пор пока партия полностью посвящает себя большим политическим задачам, эти стремления совершенно неопасны для ее развития. Они становятся опасными только тогда, когда партия из-за запретов и внутренних трудностей попадает в кризисы. Тогда для этих интересующихся только антисемитскими или только расовыми аспектами специалистов открывается широкое свободное поле деятельности.
Они с усердием пытаются сконцентрировать всю партийную работу на их иногда исключительно забавной специализации. Они добиваются от руководителей партии, чтобы те направили всю силу организации на их специальные любимые занятия, и если руководители от этого отказываются, тогда они большей частью из прежде наших наиболее воодушевленных приверженцев превращаются в наших самых яростных противников, и приступают к слепым и безудержным нападкам на партию и ее общественную деятельность.
Едва против нас был вынесен полицейский запрет и воспрепятствовал общественной эффективности движения, тут же эти национальные чудесные апостолы появлялись толпами. Один выступал за реформу немецкого языка, другой верил, что можно найти философский камень в биохимии или гомеопатии, третий видел спасителя двадцатого столетия в антисемитском графе Пюклере, четвертый изобрел новую и опрокидывающую мир денежную теорию и пятый обнаружил причинно-следственную связь между национал-социализмом и разложением атомного ядра. Все эти специальные задания связывались тогда как-нибудь с партией и ее стремлениями. Специалисты путали их гротескные любимые занятия с национал-социализмом и требовали, чтобы партия следовала за их в большинстве случаев дерзкими и надменными требованиями, ибо в противном случае она без толку проиграет всю свою историческую миссию.
Против этого помогает только золотая беспощадность. Мы никогда не позволяли появляться таким наивным причудам в нашем движении, и некоторым из таких народнических всемирных благодетелей национального всемирного виновника счастья, которые приходили к нам большей частью в сандалиях, с рюкзаком и в потрепанной охотничьей рубашке, мы указывали на дверь с улыбкой и со смехом.
У полицай-президиума, очевидно, не было желания предоставить решить вопрос о запрете приличному суду. Хотя в Моабите часто проводились допросы по делу пьяного священника Штукке, но для настоящего процесса у ответственных властей еще очевидно не было ни достаточного материала, ни мужества.
Несмотря на это, партия также и дальше оставалась под запретом. Все наши крики протеста были бесполезны. Национальная пресса все еще отказывала нашим правомерным требованиям защиты и помощи. Она, пожалуй, тайком радовалась, что в столице Империи была приостановлена эффективная деятельность ее надоедливого конкурента в нашем лице, и что тем самым поддерживалось прежнее испытанное буржуазное спокойствие и порядок.
Наше бюро на Люцовштрассе было тогда своеобразным «заговорщическим центром». Упорядоченная работа тут становилась все больше и больше невозможной. Почти каждую неделю нас посещали с обысками. Внизу на улице кишело шпионами и провокаторами. Наши досье и картотеки были размещены где-то в частных квартирах, на дверях мы прикрепили большие таблички, где было написано, что здесь находится бюро национал-социалистических депутатов; однако, это никогда не мешало полиции по своему усмотрению осматривать эти помещения и во всяком отношении препятствовать нашей работе.
Это было все равно, что драться с тестом. Противник больше даже не принимал вызов для борьбы. Где мы ни делали попытку его атаковать, он уклонялся. Он удалился в безопасное укрытие тактики полного замалчивания, и никакая агитаторская изощренность не была в состоянии выманивать его из этого убежища. О нас совсем ничего не говорили. Национал-социализм был в Берлине табу. Пресса демонстративно избегала вообще называть наши имена. Даже из еврейских газет исчезли, как по тайной команде, подстрекательские статьи против нас. Они рискнули зайти слишком далеко и теперь стремились с помощью усердного молчания заставить забыть слишком громкий крик прошедших месяцев.
Для нас это еще труднее было перенести, чем открытое и жестокое нападение. Потому что этим мы были вообще и полностью прокляты на безрезультативность. Враг сидел скрытно в трусливой засаде и стремился уничтожить нас полным замалчиванием и пренебрежением.
Национал-социализм должен был быть только эпизодом в столице империи. С помощью тактики замалчивания его хотели постепенно «заморозить», чтобы с приходом осени смочь просто обойти его в повестке дня.
В Моабите перед судьями ежедневно стояли национал-социалистические штурмовики. Один надел запрещенную коричневую рубашку, другой угрожал общественному спокойствию и безопасности показыванием партийного значка, третий влепил пощечину дерзкому и надменному еврею на Курфюрстендамм. Тихо и бесшумно их наказывали самыми тяжелыми драконовскими наказаниями. Шесть месяцев тюрьмы были минимумом, на который наши штурмовики осуждались за смешные пустяки. Пресса даже больше не регистрировала это. Это стало постепенно естественным.
То, что еврейские газеты работали по определенному и на долгий срок разработанному плану похода, было нам понятно. Цель этого плана похода называлась: замораживание национал-социализма, безмолвные похороны, запрет высказываний для его вождей и ораторов. Непонятным, однако, остается, что буржуазная пресса содействовала своими услугами этому позорному ремеслу. В ее руках тогда была возможность вызволить национал-социалистическое движение в Берлине. При этом ей даже вовсе не нужно было оказывать нам любезность, а только дать слово справедливому делу. Ее долгом было, по крайней мере, требовать, что если уж национал-социалистическое движение было запрещено, тогда должны быть запрещена и компартия. Ведь на кровавом счету компартии – при условии, что то, в чем нас упрекали, действительно соответствовало фактам – было куда больше убийств, чем у нас. Но и буржуазные органы печати тоже не решались атаковать коммунистическую партию жестко, так как коммунисты были политическими детьми социал-демократии, так как знали, что там, где их атаковали, вся Иудея ручалась друг за друга и противостояла единым фронтом от Ульштайна и Моссе до Дома Карла Либкнехта.
Тогда мы от нашего отчаяния и ввиду, по-видимому, неизбежного упадка нашей берлинской организации раз и навсегда разучились хоть в чем-то надеяться на политическую буржуазию. Политическая буржуазия труслива. Ей не хватает мужества решений, характера и гражданского мужества. В буржуазной прессе модно выть с волками, и никто там не рискнет хоть однажды дерзко завыть против волков. Преследовать национал-социализм было как раз модно. Еврейская желтая пресса заклеймила его как нечто второразрядное. Для интеллектуальных кругов он считался бездарным и некультурным, пошлым и назойливым, и приличный человек не хотел иметь с ним ничего общего. Таким был неписаный закон для общественного мнения. Образованный филистер присоединялся к хору преследователей от страха, что его будут воспринимать, например, как отсталого и несовременного. Движение было окружено со всех сторон. Усталые, больные и апатичные, мы взирали на неизбежный ход вещей. Партия ускользнула из наших рук, попытка поднять ее еще раз с помощью смелой и агрессивной боевой газеты оказалась полностью неудачной. Казалось, то, что нам больше не удастся подняться в имперской столице, было решенным делом.
Часто мы тогда на несколько часов теряли веру в наше будущее. И все же мы продолжали работу. Не из воодушевления, а из разочарованной ненависти. Мы не хотели, чтобы наши противники наслаждались триумфом, поставив нас на колени. В казавшемся беспрерывным упадке упрямство снова и снова давало нам мужество для выдержки и продолжения борьбы.
Порой и судьба была к нам тогда милостива. Однажды закончился срок заключения нашего главного редактора. Оборванный и апатичный, он вышел из Моабита и сразу снова молча и без пафоса принялся за свою работу. «Дер Ангриф» получил тем самым свой журналистский центр. Работа началась снова и со свежими силами.
Сквозь темные тучи, которое угрожающе и зловеще нависали над нами, впервые на короткое время пробился солнечный луч. Мы уже снова начинали надеяться, мы уже ковали новые планы. Заботы остались у нас за спиной, и мы мужественно шли вперед. Мы не хотели капитулировать. Мы были твердо убеждены: однажды судьба тоже не откажет в благословении и милости тому, кто оставался несломленным и в буре, нужде и опасности!
Нюрнберг 1927
Партийные съезды партии всегда играли в истории национал-социалистического движения особенную роль. Они были, так сказать, точками прицеливания в большом агитаторском развитии партии. Там делался отчет о выполненной работе, и принятые политические решения определяли тактическую линию будущей борьбы.
Съезд партии в 1923 году существенно повлиял на кризисные решения внутри движения в этом году бури и натиска. В ноябре 1923 года партия готовилась к последним ударам, и когда они не удались, все движение во всей Германии было подвергнуто официальному запрету. Вожди партии отправились в крепость или в тюрьму, аппарат организации был разбит, свобода печати отменена, и приверженцы партии рассыпались по всем сторонам света.
Когда Адольфу Гитлеру в декабре 1924 года вернули свободу, он сразу принялся за подготовку к новому основанию партии, и в феврале 1925 года старое движение возникло снова. Тогда Адольф Гитлер предсказал со свойственным ему пророческим даром, что, пожалуй, понадобились бы пять лет, чтобы снова развить движение так, чтобы оно могло решительно вмешиваться в политический процесс. Эти пять лет были заполнены неутомимой работой, боевым вдохновением и революционной массовой пропагандой. Хотя движение с момента его нового основания должно было снова пробивать себе дорогу из самых маленьких истоков, и это казалось еще тяжелее, потому что прежде оно обладало большим политическим значением и затем внезапно было столкнуто в ничто. В 1925 году мы еще не могли на съезде партии отчитываться о только что начатой новой работе. Организация только стояла снова у своих первых истоков. Во многих частях страны она работала еще под давлением со стороны властей, частично даже при еще не отмененных запретах. Массы приверженцев еще не были снова объединены в прочное единство; поэтому партийное руководство посчитало себя вынужденным отказаться от проведения партийного съезда, а вместо этого интенсифицировать агитаторскую работу партии изо всех сил.
В 1926 году мы теперь созрели для этого. Движение победоносно преодолело первые начальные трудности, и теперь снова во всех областях и больших городах создало свои прочные базы. Летом 1926 года она снова призвала к первому большому партийному съезду после крушения 1923 года. Он проходил в Веймаре и для нашего тогдашнего соотношения сил уже означал неожиданный успех. После этого к работе приступили сразу со всеми силами. Партия постепенно начала ломать оковы анонимности и теперь ворвалась в общественную жизнь как решающий политический фактор.
В 1927 году можно было приниматься за организацию съезда партии в большем размахе. Местом съезда избрали Нюрнберг, и по всему движению распространилось воззвание в сплоченности и дисциплине дать на этом съезде выразительное свидетельство мощи и непоколебимой силы возродившейся партии.
Партийные съезды НСДАП существенно отличаются от съездов других партий. Последние в соответствии парламентско-демократическим характером их организаторов являются лишь дешевым поводом для дискуссий. Там собираются представители партии из всех частей страны для обычно совсем платонических обсуждений. Политика партии подвергается критическому исследованию, и результат этих споров находит потом большей частью свое выражение в пышных стилевых упражнениях, так называемых резолюциях. Эти резолюции большей частью не имеют никакой ценности для современной истории. Они рассчитаны лишь на публику. В них часто только стремятся искусственно залатать латентные противоположности, которые разрывают партию, и никто не ощущает это тяжелее и мучительнее, чем те, кто весь год верно и неуклонно трудился для партии «на земле».
Большей частью партийные представители покидают свои партийные съезды скрепя сердце. Трещины в партийном организме там становятся им еще более явными. Они входят в раж в бесплодных до головной боли дискуссиях и представляют публике жалкий спектакль шатающихся и враждующих единомышленников. Результат работы на партийных съездах большей частью, при политическом рассмотрении, равен нулю. На дальнейшую партийную политику съезды партии едва ли влияют. Партийные отцы получают для себя с помощью такой искусственной демонстрации доверия только алиби на будущий год и продолжают затем старую политику старыми средствами в старой форме. Принятые резолюции должны своим сильным и мощным видом служить только для того, чтобы пускать пыль в глаза запротестовавших приверженцев и не давать им в будущем уклоняться от партийной линии.
Наши партийные съезды наполнены совсем другим духом. На них собираются не только партийные функционеры и официальные представители партии. Они – смотры войск всей организации. Каждый член партии, и, прежде всего, каждый штурмовик считает для себя особой честью лично присутствовать на партийных съездах и участвовать в них вместе с массой собравшихся членов партии. Партийный съезд это не повод для бесплодных дискуссий. Он наоборот должен дать общественности образ согласия, сплоченности и несокрушимой боевой мощи партии в целом и наглядно показать тесную внутреннюю связь между руководством и партийным товариществом. На съездах член партии должен собрать новое мужество и новую силу. Созвучие маршевого шага батальонов SA должно поднимать и укреплять его точно так же как острая и бескомпромиссная формулировка принятых решений; он должен возвращаться с партийного съезда как новорожденный к его старой работе.
Веймарский съезд партии в 1926 году дал собравшимся там руководителям, членам партии и штурмовикам тот огромный запас энергии, с использованием которого они могли выдержать тяжелую политическую борьбу до августа 1927 года. Отблеск этого огромного развития силы воспринимался в работе на протяжении всего года. Теперь нюрнбергский съезд партии в 1927 году должен был доказать, что партия с тех пор вовсе не остановилась на старых позициях или тем более отступила со своих командных позиций, но что ее работа наоборот повсюду по всей территории Империи увенчалась победой и успехом, и что партия теперь могла выйти за организационные рамки и предложить также всей немецкой Германии несокрушимую картину новой политической силы и мощи.
Прежде всего, у тех частей страны, в которых с движением в течение долгих лет боролись и терроризировали, было естественное право на то, чтобы партийный съезд выразил согласие и сплоченность общего движения, а отнюдь не раскололся из-за внутренних ссор о программе и тактике.
Берлинская партийная организация ожидала от съезда в Нюрнберге большего, чем просто встречу партийцев. Ей пришлось в истекшем году вынести самую тяжелую борьбу. Эта борьба укрепила ее и сделала более зрелой, и теперь ей представлялась возможность вне давления властей и без политического сковывания выразить нерушимую сплоченность берлинской организации перед движением всей Империи.
Подготовка к этому съезду партии требовала месяцев. Чем сильнее было давление снаружи, тем выше росла радость и напряжение, с которым ожидали эту массовую встречу. Берлинский партиец и штурмовик хотел получить здесь новую силу для дальнейшей борьбы. Он хотел для себя упоения демонстрирующих массовых шествий, на которых встречались организации всей Империи, с востока и запада, с юга и севера.
За три недели до нюрнбергского партийного съезда примерно пятьдесят безработных штурмовиков уже отправились из Берлина пешим маршем в Нюрнберг. Выйдя за границы столицы, они снова надели свою старую любимую форму и маршировали ровным шагом многие сотни километров к цели их желаний.
Обывателю может показаться непонятным, как можно было вопреки запрету партии составить три особых поезда из Берлина в Нюрнберг и до последнего момента скрыть это массовое выступления от глаз властей. И, все же, это было возможно.
В субботу перед партийным съездом, который представлял собой в какой-то мере начало большой национал-социалистической встречи, уже было ясно, что это заседание станет огромным успехом для всего движения. Более сорока специальных поездов из всех частей Империи прибыли утром на главный вокзал Нюрнберга. К ним еще нужно добавить громадное количество участников, которые прибывали в старый имперский город пешком, на велосипедах, маршевыми группами и на грузовиках.
Национал-социалистическое движение мертво! Так ликовали его враги два года; и теперь оказалась вдруг полная противоположность. Движение не только не обрушилось под ударами дубины официальных преследований, оно победоносно преодолело их и поднималось сегодня еще более непоколебимо, чем прежде.
Уже само имя Нюрнберг для большинства членов партии было окружено бесподобным волшебством. Оно означало для них нечто истинно немецкое. Под стенами этого города происходили культурные события всемирно-исторического масштаба. Если говорили о Нюрнберге, то подразумевали лучшую немецкую традицию, которая многообещающе указывает вперед.
В этом городе немецкие мужчины уже маршировали в тяжелое время, десятками тысяч, приветствуемые ликующими немецкими патриотами, думавшими, что новая Империя уже возникла. То, что демонстрировалось тогда так сильно и пленительно в самое критическое время послевоенной политики, утонуло в себе самом, так как оно еще не было до конца связано и структурировано, так как большим наследием в течение несчастных месяцев после крушения партии управляли люди, которые оказались не готовыми к этой задаче.
Теперь национальная Германия вновь смотрела на Нюрнберг, где национал-социалистические коричневые рубашки десятками тысяч выходили демонстрацию, чтобы демонстрировать против политики дани для нового государства. Вера и надежда многих сот тысяч руководила победным маршем этих молодых активистов, которые в двухгодичной ожесточенной борьбе доказали, что национал-социалистическую идею и ее партийно-политическую организацию нельзя потрясти никакими средствами и никаким террором.
9 ноября 1923 года рухнуло первое творение. Оно выполнило свое историческое задание, и должно было пока уступить место хаосу. По прошествии времен самого глубокого крушения восстановление движения началось в феврале 1925 года, и теперь впервые силами огромных масс нужно было показать, что состояние партии 1923 года уже давно ушло в историю, и движение снова маршировало во главе национально-революционной Германии.
Нация смотрела на эту национал-социалистическую массовую демонстрацию, полная веры и доверия. Каждый штурмовик чувствовал, что он с его марширующими товарищами вновь образовывал железное острие свинцового клина, и что он должен был быть обязан только своей смелости, мужеству и жесткой выносливости. С гордостью и внутренним подъемом входил он в эти дни. Он подхватил опускающееся знамя и пронес его сквозь ночь и мрак. Знамя стояло прочно. Везде и повсюду, в каждом городе, в каждой деревне знали светящееся знамя национал-социалистического народного порыва, и где движение не хотели полюбить, там, все же, его, по крайней мере, научились ненавидеть и бояться.
Они прибывали из фабрик, из шахт и контор, от плуга и бороны, и среди них стоял вождь движения. Его нужно было благодарить за то, что политика партии ни на сантиметр не отклонилась от прямого курса. Он был гарантией того, что так это оставалось бы и в будущем.
Сегодня один из них не был уже писарем, а другой пролетарием, не было среди них ни батрака, ни мелкого чиновника. Сегодня все они были теми последними немцами, которые не хотели терять надежду на будущее нации. Они были носителями будущего, людьми, гарантирующими то, что Германия была предопределена не для заката, а для свободы. Они стали символом новой силы веры сотен тысяч и миллионов. Если бы их не было, они все это знали, тогда Германии пришлось бы утратить надежду. И потому они высоко поднимали знамена и сердца, потому они позволяли грохочущему ритму их массового марша разноситься у стен старого имперского города.
Молодая Германия вставала и требовала своих прав.
Знамена развевались над городом; бесчисленные проливали кровь под этими знаменами, бесчисленные были брошены за них в тюрьмы и некоторые среди них погибли.
Они не хотели это забывать; они не хотели это забывать, прежде всего, сегодня, когда эти знамена проносили под ярким солнцем по улицам города, полным десятков тысяч ликующих.
Газета «Дер Ангриф» к партийному съезду в Нюрнберге впервые выпустила специальный номер. На первой странице было восхитительное графическое изображение: скованный оковами кулак разбивает удерживающие его цепи и вздымает наверх развевающееся знамя. Под ним в лаконичной сжатости только слова: «Живы вопреки запрету!»
Это было то, что каждый берлинский член партии и штурмовик неопределенно ощущал: движение победоносно преодолело все кризисы и сокрушительные удары. Оно смело и дерзко сопротивлялось сумасбродному, механическому запрету и теперь выходило на демонстрацию, чтобы показать общественности, что его можно запретить, но нельзя уничтожить.
Особые переговоры начались уже в пятницу после полудня. Участники конгресса заседали в отдельных специальных группах, которые как таковые представляли собой уже поучительные попытки подготовки будущих сословных парламентов. Совещания, как само собой разумелось в партии, руководствовались нравственной серьезностью и самым глубоким чувством ответственности. Обсуждающиеся пункты выполнялись – и это не было противоречием в себя – почти без дебатов, потому что, так сказать, во всех вопросах среди делегатов было единодушие. Здесь не говорили, а действовали и принимали твердые решения. Референты групп формировали из сути мнений их предложения, которые передавались открывавшемуся на следующий день конгрессу. Голосований не было. Они и не были нужны, так как они всегда дали бы в итоге ту же картину единодушия и сплоченности.
Снаружи уже били барабаны. Прибывали первые специальные поезда коричневых рубашек.
Суббота принесла мелкий моросящий дождь. Рано утром уже при вступлении в город Нюрнберг представлял собой новую картину. Один специальный поезд прибывал за другим. Коричневые рубашки за коричневыми рубашками двигались длинными колоннами по городу к месту их размещения.
Звучная игра на улицах, которые уже стояли в украшении знамен.
К полудню конгресс открылся. Прекрасный зал культурного союза был плотно наполнен празднично настроенными людьми. Двустворчатая дверь распахивается, и под бесконечное ликование собравшихся в зал вступает Адольф Гитлер с ближайшим руководством.
В коротких, сжатых, направляющих рефератах политика партии определяется однозначно и бескомпромиссно. Конгресс продолжается до семи часов вечера, и затем Нюрнберг был полностью опьянен от шествующего национал-социалистического массового движения. Когда около десяти часов вечера перед Немецким Двором бесконечные ряды несущих факелы штурмовиков проходят маршем перед их вождем, тогда каждый может почувствовать, что эта партия – как каменная глыба, посреди разбивающегося моря немецкого крушения.
И тогда наступает великий день. Еще туман лежит над городом, когда в восемь часов утра национал-социалистические штурмовики собираются на большой массовый сбор в Луитпольдхайне. Колонна за колонной коричневые подразделения подтягиваются в образцовой дисциплине, пока через один час широкие террасы не переполнены сплоченными отрядами нашего войска.
Когда Гитлер появляется под бесконечное ликование его верных, солнце пробивается через темные тучи. В спонтанном акте происходит передача новых флагов.
Старые цвета спущены, знамя старой Империи втоптали в грязь. Мы дали новый символ нашей вере.
Выступление! Улицы до предела наполнены тысячами и тысячами. Цветы, цветы, цветы! Каждый штурмовик украшен как победоносный воин, возвращающийся после битвы на родину.
На Главном рынке перед необозримой толпой происходит торжественное прохождение. Бесконечно, беспрерывно, часами! Все новые коричневые толпы маршируют и приветствуют их вождя.
Солнечный свет лежит над всем, и всё снова и снова в цветах.
Юная Германия марширует.
Испытанные в борьбе берлинские штурмовики шагают первыми. Их осыпают ликованием и цветами. Здесь впервые встречает их сердце немецкого народа.
Посреди них в том числе немецкие пролетарии из Берлина, совершившие пеший марш, которые не находили ни работу, ни хлеб в империи обещанной красоты и чести и в один июльский день отправились в Нюрнберг. Ранец полностью набит листовками, газетами и книгами. Каждый день, будь там дождь или огненное солнце, они маршировали двадцать пять километров, и если они вечером прибывали на ночлег, то до глубокой ночи не знали ни отдыха, ни спокойствия, агитируя за их политическую идею.
В крупных городах их оплевывали и избивали.
Но это им не помешало! Они пробились и раньше времени прибыли в Нюрнберг.
Теперь они маршируют со своими товарищами. Из запрещенной организации в Берлине в Нюрнберг прибыло семьсот штурмовиков, добравшихся сюда пешком, на велосипедах, грузовиках и специальных поездах. Месяцами они экономили на хлебе, отказывались от пива и табака, кое-кто буквально голодал, чтобы собрать деньги на проезд. Они теряли зарплату за два рабочих дня, и только цена билета на специальный поезд составляла двадцать пять марок. Кое-кто из тех семисот за неделю зарабатывал всего двадцать марок.
Но даже он накопил денег на билет, и в субботнее утро со стучащим сердцем вместе со своими товарищами выкарабкался из вагонов, прикативших из Берлина в Нюрнберг; а вечером он проходил маршем с десятками тысяч мимо вождя, высоко поднимал горящий факел и приветствовал. Внезапно его глаза начинали блестеть. Он вовсе не знает, может ли он верить, что все это происходит на самом деле. Дома его только оплевывали и ругали, сбивали с ног дубинкой и бросали в тюрьму. А теперь у обочин стоят тысячи и тысячи людей, они приветствуют его и кричат «Хайль!».
Над старым имперским городом поднимается глубокое, синее небо; воздух ясен как стекло, и солнце смеется, как будто бы оно никогда не видела такого дня.
И теперь фанфары трубят с оглушительной силой. Марширующие колонны. Бесконечные, бесконечные! Почти хотелось поверить, что они будут идти так вечно. И на улицах ждут черные людские стены. Никто не выкрикивает воплей возмущения. Ничего подобного! Они машут всем и смеются и ликуют, как будто это маршируют победители, вернувшиеся после выигранной битвы; и бросают цветы, снова и снова цветы.
Семьсот маршируют первыми. За то, что они целый год вели самую тяжелую борьбу, их теперь засыпают цветами. Они засовывают их за пояс, все больше. Скоро их шапки – это лишь цветущие букеты цветов, и девушки смеются и машут им. Дома на них плюют.
И теперь они проходят маршем мимо вождя. Тысячи, десятки тысяч кричат «Хайль». Они едва ли слышат это. Из-за поясов они достают цветы и бросают ликующим людям.
Торжественный марш. Ноги взлетают, в то время как музыка с силой играет «Парадный марш долговязых парней».
И потом приходит вечер, усталый и тяжелый. Начинает идти дождь. Во время пленительной заключительной демонстрации конгресса делегатов собранная революционная сила движения манифестирует еще раз. Улицы снаружи переполнены ликующими и восторженными людьми. Это похоже на то, как будто новая Империя уже родилась.
Дробь барабанов и игра труб. Воодушевление, которое порождает только еще неиспорченное сердце полной страстного желания немецкой молодежи. На семи массовых собраниях великие партийные ораторы выступают вечером перед десятками тысяч людей.
Ночь наступает. Большой, благословенный день уходит. Он должен был стать для всех, кто принимал участие в нем, источником силы на целый год работы, тревог и борьбы.
И теперь тверже завяжите шлем!
Берлинские штурмовики на их специальных поездах поздним вечером покидали старый имперский город. Но перед Берлином их ожидал сюрприз, о котором никто не мог подумать даже во сне. Поезда внезапно задержали в Тельтове, весь вокзал был занят полицейскими и чиновниками уголовной полиции, там с большой осторожностью сначала ищут оружие, а потом проводят действительно самый безумный из всех экспериментов – прямо на месте арестовывают семьсот национал-социалистов, которые в самом полном спокойствии и миролюбии только ездили на съезд их партии в Нюрнберг, на предоставленных грузовиках везут в полицейское управление Берлина.
Это был теперь действительно удачный ход Александерплац. Тогда в первый раз массовый арест был проведен в этом стиле, и он также произвел по всей родной стране и заграницей самую большую сенсацию. Под прикрытием карабинов и поднятых резиновых дубинок семьсот человек без всякой вины массово арестовываются и передаются полиции.
Тем не менее, это еще не было самым худшим. Более провоцирующей была манера, как этот арест был проведен. Было известно, что вождь партии очень торжественно передал в Нюрнберге два новых флага берлинским штурмовикам. Пожалуй, вообразили, что эти оба флага вместе со всеми другими увенчанными славой и победой знаменами берлинской SA находились в поезде, и теперь не стеснялись приказать полиции конфисковать эти боевые символы движения.
Молодой штурмовик в последний момент в отчаянии придумывает решение. Он отрезает полотнище от его знамени и прячет под своей коричневой рубашкой.
- Что там у вас под рубашкой? Расстегнуть!
Юноша бледнеет. Грязная рука разрывает коричневую ткань рубашки; и теперь этот юноша вспыхивает. Он бушует и царапается и плюет и яростно брызжет слюной. Чтобы справиться с ним, требуется восемь человек. Любимое полотнище знамени в клочьях срывают у него с груди.
Подвиг ли это, и делает ли оно честь полиции порядочного государства?
У юноши слезы подступали к глазам. Внезапно он поднимается прямо среди своих товарищей и начинает петь. Его сосед подпевает, а потом все больше и больше, до тех пор, пока, наконец, не поют все. Это больше не транспорт пленных, которых на тридцати, сорока грузовиках провозят по улицам как раз просыпающегося из его сна Берлина – это колонна молодых героев.
«Германия, Германия превыше всего!» с такой оглушительной силой звучит это в массовом хоре из грузовиков во время всей поездки. Удивленно обыватель трет себе глаза. Все же полагали, что национал-социалистическое движение мертво. Все же, верили, что запрет, издевательства, нужда и тюрьма окончательно покончили с ним. И теперь оно снова поднимается энергично и окрылено мужеством, и никакие каверзы не смогут затормозить его подъем.
Семьсот человек стоят как пленники, помещенные в один загон в большом зале. Их по одиночке вызывают для допроса. Они упрямо и дерзко стоят перед допрашивающим полицейским и на каждый вопрос твердо и непоколебимо отвечают в стереотипном единообразии: «Я отказываюсь давать показания». Все это сопровождается пением товарищей: «Еще свобода не потеряна!»
С этими людьми SA можно было маршировать против черта. Они обвязали их запрещенные знамена вокруг сердец. Там они покоились под хорошей защитой, и не далек был день, когда они снова поднимутся в светящейся чистоте. Конечно, семьсот принудительно задержанных пришлось очень скоро освободить без всяких осложнений. Они не были виновны ни в каком преступлении; но речь ведь шла вовсе не об этом.
Полиция хотела только показать побитому противнику вновь ее официальную власть. Она хотела доказать, что она была на посту. На следующее утро, когда семьсот снова возвратились на работу, некоторые из них нашли свое место уже занятое другим работником.
Тогда пролетарий возвращался к своему станку и видел, что его уже сменил другой коллега. В этой демократии свободы и братства ведь так легко выбрасывают на улицу. Чиновник возвращался домой и находил на столе письмо об открытии против него дисциплинарного производства. Ему официально гарантировали свободу выражения мнения, когда реакцию свергли и основали самое свободное государство в мире.
Акция берлинской политической полиции в Тельтове, состоявшая во внешне бессмысленном аресте национал-социалистов, возвращающихся домой с нюрнбергского съезда партии, оказалась, как мы узнали в дальнейшем, с точки зрения ее авторов, совсем не безуспешной. После подъема партии, из числа арестованных, потерявших от полицейских допросов один рабочий день, в целом 74 трудящихся человека были уволены с их мест работы и лишены хлеба и работы. Среди наказанных находился целый ряд высоких, средних и нижних чиновников, бухгалтеров, стенографистов, а большая часть была представлена ремесленниками самых различных отраслей.
С этим успехом власти заслуживали себе внимания. Можно было получить удовлетворение от того, что смогли навредить, по крайней мере, в материальном плане в их профессии людям, с которыми ничего нельзя было сделать по закону. И это была, наконец, пусть даже дешевая, однако эффективная месть.
«Атака» нанесла свой контрудар в ее манере. Газета в следующем номере напечатала карикатуру, изображавшую начальника берлинской полиции доктора Бернхарда Вайсса в неподражаемо гротескной ситуации. Он стоял, большие черные очки в роговой оправе на широкой спинке носа, руки скрестив сзади, и удивленно рассматривал штурмовика, который стоит напротив него, со сдвинутой на затылок коричневой, украшенной цветами шапкой, и с широко ухмыляющимся смехом подает ему «нюрнбергскую воронку». Заголовок звучал: «Кому Бог дает учреждение...» А под ним можно было прочитать: «Мы привезли из Нюрнберга кое-что красивое дорогому Бернхарду».
«Берлин, 30 августа 1927 года.
Полицай-президент.
Регистрационный номер 1217 P 2. 27.
Ассистенту по уголовным делам господину Курту Кришеру, отдел IV.
Из вашего участия в так называемом гитлеровском костюме в поездке в Нюрнберг запрещенной берлинской организации Национал-социалистической Немецкой рабочей партии и из того, что у вас были найдены различные экземпляры газеты «Дер Ангриф» и заявлений о приеме в партию я делаю вывод, что вы по-прежнему принимаете участие в деятельности запрещенной организации. Это подтверждение несовместимо с вашим положением государственного чиновника. Поэтому я считаю себя вынужденным бессрочно расторгнуть служебные отношения с вами с тем результатом, что вы после 31 числа текущего месяца уволены со службы.
Подписано Цёргибель»
Это было смыслом, и это было методом. Тревога и нужда снова обрушились на движение. Многие из его членов заплатили за участие в поездке в Нюрнберг голодом, бедствиями и безработицей. Тем не менее, у этого была также и положительная сторона. В рядах членов партии ярость и возмущение достигли точки кипения. Но на этот раз они не изливали себя в бессмысленных террористических актах. Скорее эти чувства отразились в работе и успехе. Большое воодушевление, охватившее дрожью национал-социалистические массовые демонстрации в Нюрнберге, теперь переносилось в серую заботу будней. Как могли огорчить нас теперь запрет на публичные высказывания, финансовые трудности и роспуск партии? Берлинская организация показала движению, что она стояла в империи на посту, и что мы боролись не на проигранной позиции, а скорее наша борьба вызвала реакцию во всем национал-социалистическом движении. Вся партия стояла за берлинской организацией и с пламенным сердцем следила за дальнейшим продолжением борьбы.
Съезд партии начал отражаться в нашей ежедневной работе. Мертвый сезон был преодолен, лето со всеми его заботами и притеснениями лежало у нас за спиной. Застой политической жизни начал смягчаться. Нужно было идти навстречу новым целям с новыми силами. И над всем дни нюрнбергского съезда светились как возвещающий победу сигнал!
Преодоление кризиса
«Полицай-президиум
Отдел I A
Господину депутату Рейхстага Дитриху (Франкония).
В ответ на вчера выдвинутую лично жалобу я сообщаю, что у меня нет возражений против возвращения конфискованных значков, которые принадлежат экономическому отделу бюро депутатов.
Я также готов к разрешению на возврат конфискованных знамен, если может быть безупречно доказано, что эти знамена принадлежат внешним местным группам НСДАП.
Полицай-президент
Исполняющий обязанности: Вюндиш».
«Полицай-президиум
Отдел I A
Господин Хайнц Хааке.
На письмо от 25 августа 1927 года касательно запрета публичных выступлений для доктора Геббельса:
С роспуском НСДАП в Большом Берлине любая деятельность распущенного объединения в пределах этого района недопустима. Исключением из этого являются лишь мероприятия, к которым доступ есть у каждого, и на которых ораторами являются исключительно депутаты НСДАП, чтобы агитировать за идею представленных ими партийных приверженцев для будущих выборов. Выступление прежнего руководителя НСДАП в Берлине господина доктора Геббельса, как оратора на избирательных собраниях НСДАП в Берлине не относится к таким мероприятиям, так как здесь мы видим продолжение деятельности запрещенной организации НСДАП Большого Берлина. Если доктор Геббельс, тем не менее, выступит на собраниях НСДАП как оратор, то я тотчас распущу эти собрания.
Исполняющий обязанности:
заверено: Краузе, ассистент канцелярии».
Ответ «Атаки».
«Итак, я, Краузе, могу бить конституции в лицо, могу отказывать доктору Геббельсу в свободном выражении мнения, которое гарантировано каждому немцу, и если он, тем не менее, решится раскрыть рот, я распущу собрание.
Злюка Краузе, мы с дрожью слышим твои ужасные угрозы. Потому мы не забудем перед каждым собранием испуганно спрашивать: здесь ли Краузе?
Прежде всего, однако, мы возьмем в руки дневник, чтобы отметить там твое имя».
Карикатура из «Атаки»:
На ящике сидит, согнувшись и смущенно, маленький еврей, в котором читатель легко узнает заместителя начальника берлинской полиции доктора Вайсса. Он со всей силы пытается удержать крышку ящика закрытой. На ящике надпись: «НСДАП. Берлин».
Рисунок рядом: ухмыляющийся штурмовик выпрыгивает из ящика. При этом еврей взлетает высоко в воздух. Подпись: «Когда ты думаешь, что ты справился с ним, он выпрыгивает из ящика».
«Так выглядят запреты: Когда ты думаешь, что ты его поймал – он выпрыгивает из ящика!»
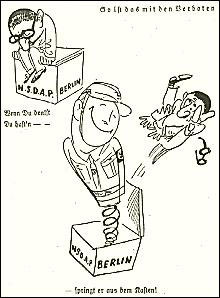
Один штурмовик из-за ареста в Тельтове впал в горькую нужду. Он принадлежал к числу принудительно задержанных. Но его работодатель не хочет верить ему, что причиной прогула был незаконный арест. Этот штурмовик пишет письмо начальнику полиции и просит его предъявить причины, которые привели к аресту в Тельтове, чтобы он смог объясниться с работодателем. Ответ:
«Полицай-президент
Отдел I A
Господину Й. Ш., Берлин-Л.
На заявление от 24 августа 1927 года о выдаче справки со стороны полиции, по каким причинам вы в понедельник, 22 августа 1927 года были принудительно задержаны на вокзале Тельтова, я не в состоянии ответить.
Подписано: Вюндиш».
Из статьи в «Атаке» в понедельник, 26 сентября 1927 года:
«Бессмысленно производятся аресты. Того, кто роняет хоть слово возмущения по поводу грубостей охранной полиции, арестовывают. Безобидный обыватель, который как раз попадается им на пути, получает удар прикладом карабина в крестец, и когда он озадаченно поворачивается, зеленый изверг кричит ему в лицо: – Проваливайте, а то я проломлю вам череп.
Когда депутат Рейхстага Дитрих отправляется в участок, чтобы позаботиться об арестованных, на него там физически нападают. Сопровождающего его калеку, инвалида войны, сбивают на землю, когда он решается заступиться за женщину, у которой срывают блузку с тела, и полицейский лейтенант Лаубе ругает ее самыми грязными словами».
Из того же номера:
«Кровавая битва в Шёнеберге. Сразу после предвыборного собрания депутата ландтага Хааке дошло до кровавых столкновений с коммунистами. Так как один из трех коммунистических ораторов на дискуссии, который не мог предъявить свой партбилет, согласно распоряжению полицай-президиума не был допущен к выступлению, многочисленно присутствующие коммунисты после завершения собрания, когда большинство участников уже покинули зал, напали на оставшихся, в том числе на доктора Геббельса и депутата Хааке, избивая их пивными кружками и ножками от стульев. В течение развивающейся битвы коммунистов с окровавленными головами выгнали из зала, и они убежали по крышам и через подвалы. Позднее также были еще нападения на отдельных возвращающихся домой национал-социалистов.
Ответственность за это несет полицай-президиум своим запретом и последующими придирками».
Из того же номера:
«Озорной удар. Когда шофер доктора Геббельса, Альберт Тонак, в пятницу возвращался домой после собрания, его перед домом подкараулили красные боевики. Теперь он лежит с двумя ножевыми ранениями руки и сильным ударом в живот».
«Берлин, 10 сентября 1927 года.
Совет служащих полицай-президиума.
Господину ассистенту по уголовным делам Курту Кришеру, Берлин.
Совет служащих на заседании 6 числа текущего месяца занял однозначную позицию относительно вашего увольнения и единогласно пришел к выводу, что в увольнении виновны вы сами. Он не может удовлетворить ваше возражение или представлять ваши интересы при возможном иске.
По поручению: К. Мейер
Секретарь».
В понедельник, 2 октября 1927 года, генерал-фельдмаршал Гинденбург заканчивал свой 80-й год жизни. Судьи национального суда феме, которые защищали честь и безопасность немецкой армии в самое тяжелое время с напряжением всех сил, и даже рискуя своей жизнью, все еще по-прежнему оставались в тюрьме.
Из газеты «Роте Фане» в конце сентября:
«Главный бандит появляется снова».
Ответ в «Дер Ангриф»:
«Прежде всего, доктору Геббельсу, главному бандиту, совсем не нужно появляться, так как он никогда не прятался. Но он решился, вопреки тяготеющему над ним запрету публичных выступлений, неоднократно открывать рот на бурном собрании в Шёнеберге, чтобы призвать к спокойствию и утихомирить возникающий беспорядок.
Без его успокаивающего выступления именно при провокационном поведении большевистской гвардии боевиков уже гораздо раньше дошло бы до драки, и собрание не удалось бы довести до конца...
Никак нельзя назвать подвигом поведение коммунистической орды, когда она потом в полном составе оставалась в зале, пока в зале остался только лишь маленький остаток национал-социалистических избирателей с доктором Геббельсом и депутатом Хааке, чтобы тогда напасть на эту горстку людей. Это уже и потому не подвиг, что эти трусы точно знают, что мы теперь во время запрета не можем организовать нашу охрану зала и защиту руководителя как обычно.
Все же это злодейское нападение с пивными кружками, ножками стульев и кофейными чашками совсем не пошло им впрок; так как национал-социалисты с их руководителями во главе защищались, и вскоре выгнали весь преступный сброд из зала. Но основной крикун, который стремился провоцировать скандал уже во время собрания продолжительными вызывающими репликами, преступный тип в рубашке апаш, как раз в начале боя сбежал – в женский туалет.
Настоящую вину за весь инцидент несет, без сомнения, полицай-президиум с его столь же противоречащим конституции сколь и необоснованным запретом берлинской организации. Если еврейская пресса от «Берлинер Тагеблатт» до «Роте Фане» рассердилась на то, что мы допускали к дискуссии только тех ораторов, которые могли предъявить партбилет соперничающей партии, и если, прежде всего, поэтому начались беспорядки на собрании, то эти господа могут обращаться, как уже отметил председатель собрания, в ответственную инстанцию, в полицай-президиум, который рекомендовал нам именно этот порядок, угрожая в случае отказа денежным штрафом в сумме тысячи имперских марок».
Карикатура из того же номера «Атаки»:
Два санитара вносят тяжелораненого в полицейский участок. Три грубо и жестоко выглядящих полицейских цинично смотрят на него, скрестив руки на груди. Тяжелораненый лежит безжизненно и неподвижно на носилках. Со стены на портрете ухмыляется начальник берлинской полиции. Подпись: «Этот человек попал под машину?» «Нет, под берлинскую полицию!»
«Регистрационный номер 2083 I A 1. 27
Господину доктору фил. наук Йозефу Геббельсу
Писателю
Берлин-В.
Берлин, 29.9.1927
Ваше выступление на последних общественных предвыборных собраниях НСДАП в Берлине привело к тому, что вы вопреки моему распоряжению о роспуске НСДАП от 5 мая 1927 года публично участвовали в деятельности распущенной группы НСДАП в Берлине.
Согласно полученному мною сообщению член ландтага господин Хайнц Хааке, как организатор и ответственный руководитель 30 сентября 1927 года в восемь часов вечера в залах Шварца в Берлине-Лихтенберг собирает большое общественное предвыборное собрание. Я сообщил господину Хааке, что я буду рассматривать это собрание как предвыборное собрание только тогда, если от НСДАП в качестве ораторов будут выступать лишь депутаты, чтобы агитировать за идеи представляемой ими партии своих приверженцев для наступающих выборов, и в прениях слово получат только те участники собрания, которые достоверно не принадлежат к НСДАП.
Я особо обращаю ваше внимание на то, что вы не принадлежите к людям, которые могут говорить на этом большом общественном предвыборном собрании 30. 9. 27. Вы должны воздерживаться также от речи до и после начала собрания и от высказываний и реплик с места. В случае нарушения вам в соответствии с распоряжением о роспуске от 5 мая 1927 года на основании §10217 Всеобщего земского права 1796 года и согласно §132 Земельного административного закона от 30.7.1883 года угрожает принудительный штраф в размере 1000 имперских марок, в случае неуплаты которого он будет заменен 6 неделями заключения.
По поручению: подписано: Вюндиш
Заверено: Лэтерманн, секретарь канцелярии».
На маленький запрос национал-социалистического депутата ландтага Хааке из-за запрета выступлений против доктора Геббельса в Берлине прусское Министерство внутренних дел дало такой ответ:
«Доктору Геббельсу не запрещено выступать в Берлине. Однако дальше побеспокоились о том, чтобы доктор Геббельс не злоупотреблял предвыборными собраниями национал-социалистических депутатов для обхода запрета берлинской НСДАП».
«Берлин, 25 августа 1927
Газете «Берлинер Локаль-Анцайгер»
Берлин, Циммерштрассе, 35 – 41.
Я очень давно являюсь читателем «Берлинер Локаль-Анцайгер» и поэтому прошу справку по нескольким вопросам. Я ваш читатель по той причине, что у меня есть потребность читать большую национальную ежедневную газету, которая непременно выступает за черно-бело-красный флаг. Тем больше меня удивило, что вы с некоторого времени публикуете искажающие смысл сообщения о НСДАП. Я понимаю это тем меньше, что НСДАП все же тоже представляет собой черно-бело-красное движение, основная задача которого – это полная борьба с марксизмом, против которого также и вы занимаете четко определенную позицию в вашей газете.
Мы испытали это на имперском съезде партии НСДАП в Нюрнберге, что как раз эти круги, читатели вашей газеты, приветствовали нас возгласами ликования и засыпали нас цветами. Почему вы вообще ничего не пишете в вашей газете о мощной демонстрации национальной Германии против марксизма? Вы сообщили о 12000 участников. Если бы вы были там, то знали бы, что там было, как минимум, в пять раз больше людей. Я дал бы вам совет взглянуть на официальное сообщение Имперской железной дороги. Тогда у вас было бы совсем другое мнение».
«Берлинер Локаль-Анцайгер», редакция. 9. 9. 27.
Глубокоуважаемый господин!
После очень подробного ответа, который мы получили между тем от нашего нюрнбергского корреспондента, мы должны сообщить вам, что причины для опровержения, за исключением второстепенных моментов, нет.
С глубоким уважением
«Берлинер Локаль-Анцайгер», редакция.
Доктор Бреслауэр».
Доктор Бреслауэр, главный редактор национально-буржуазной газеты «Берлинер Локаль-Анцайгер», это так называемый национально-немецкий еврей.
Это лишь несколько подтвержденных документами кадров из фильма "Борьба за Берлин". Здесь речь не о том, что потрясло мир. Здесь речь, конечно, идет только о мелочах, о чепухе, которая, если рассматривать ее по отдельности и вне контекста, вообще ничего не значит. Но встроенные во время и в систему, где они вообще были возможны, эти малозначительные факты создают резкую и недвусмысленную картину того, что должно было перетерпеть и вынести национал-социалистическое движение в Берлине во время его запрета.
Каверзы против нас настолько усовершенствовали, что они, наконец, совершенно перестали работать и даже больше влекли за собой не ненависть и возмущение, а только лишь насмешку и смех. С ними перегнули палку до полного абсурда, и в результате каждый удар, который должен был поразить нас, был только лишь ударов в воздух.
Какая польза, в конечном счете, от того, что запрещают публично выступать одному человеку, если вследствие этого все более растущее число приверженцев укрепляется в своем подозрении, что раз этому человеку не дают выступать в Берлине, значит, он говорит правду. Какая польза, если в противоположность этому находятся сотни возможностей обойти этот запрет. К примеру основать «школу для политики», которая ничем не связана с партией. В ней оратор, которому запрещают выступления, выступает как преподаватель, и школа вскоре наслаждается такой массовой поддержкой, какой нет обычно ни у одного общественного политического собрания в Берлине.
Законодатель, таким образом, постепенно приобретает все более смешную славу. Народ теряет к нему внимание. Для кровавого и бесцеремонного преследования ему не хватает масштабов и беспощадности. На политику иголочных уколов преследуемый реагирует лишь с насмешливым презрением; и, наконец, против каждого средства можно найти и противоядие.
Только если режим подавления распространяет вокруг себя ужас и панический страх, он может, в конечном счете, задержать движение на некоторое время. Но если он пользуется лишь мелкими пакостями, то он всегда достигнет полной противоположности той цели, к которой стремится.
Запрет больше не давил так тяжело, после того, как мы понемногу научились справляться с ним. Партия отвечала на это ледяной улыбкой и холодной насмешкой. Если нам запрещали собирать партийное товарищество в Берлине, то мы просто встречались в Потсдаме. Туда приезжало на несколько десятков меньше, но они прибывали, верно и непоколебимо стояли у знамени, и одним своим появлением уже выражали, что они хранят верность делу и выдержку в опасности. В Потсдаме они тогда гордо и дерзко носили напоказ свою старую форму, проходили торжественным маршем в коричневых рубашках и гитлеровских фуражках, с перетянутыми портупеями и с партийными значками на груди.
У границы Берлина они должны были потом снова переодеться в свою полную фантазии гражданскую одежду, и всегда было полно замечательных шалостей и веселья, когда они прокрадывались в столицу Империи, как на враждебную территорию. Законодатель всегда оказывался обведенным вокруг пальца. Пусть он и мог готовить трудности движению и его приверженцам, но подходил к этим трудностям так робко и скромно, что большинству, которое они затрагивали, это приносило скорее забаву, чем боль.
Коммунистическая партия тогда на мгновение подумала задушить последние остатки национал-социалистического движения кровавым террором. Она нападала на наших приверженцев и на ораторов в залах собрания на востоке и севере Берлина и пыталась силой прижать их к земле. Но для всех штурмовиков и партийцев это было только причиной на следующем собрании появляться в полном составе, чтобы раз и навсегда сделать такие дерзкие попытки провокации невозможными. Полицай-президиум запрещал руководителю запрещенного движения, чтобы он даже репликами вмешивался в ход собрания.
Но это свидетельствовало о таком маленьком и детском страхе, что члены партии чувствовали к этому только презрение.
Если нам запрещали выступления и агитацию в Берлине, мы выходили в провинцию. Вокруг столицы, в пригородах и деревнях Бранденбурга мы собирали наших членов партии, основывали всюду прочные базы и опоясали столицу Империи кольцом национал-социалистических ячеек. Отсюда однажды, когда движение снова было бы разрешено, могло распространяться продвижение в столицу Империи. Так мы завоевали прочные позиции в Тельтове и Фалькензее, участвовали в освежающих и иногда также кровавых дискуссиях с КПГ. На одной территории за другой устраивали мы наши гнезда в Бранденбурге и настолько интенсифицировали здесь пропаганду, что ее воздействие проникало даже и до Берлина.
Худ. Генрих Боманн «Твоё ДА Фюреру». Из книги: Фридрих Альфред Бек «Идея в Борьбе»

Но и в самом Берлине у нас тут и там была еще возможность для пропагандистского и ораторского воздействия. С быстротой молнии иногда проносилось по партийному товариществу: «Сегодня вечером все на массовое собрание той или иной партии. Мы говорим в дискуссии». Тогда один из нас участвовал в прениях, мы даже с помощью большинства на собрании добивались времени на выступление в один или два часа и получали так, все же, возможность сказать то, что мы хотели сказать.
Тем самым запрет потерпел неудачу в своей действенности. Также наша газета «Дер Ангриф» получила к тому времени новое лицо. Вся революционная сила партии возросла из-за массового воодушевления дней нюрнбергского съезда. Кризис летних месяцев постепенно преодолевался, надежды наших противников не оправдались. Против каждой из их мин мы клали наши контрмины, и потому организованный против нас поход преследования был обречен на полный провал.
Только забота о деньгах была нашим постоянным спутником. «Атака» из одного финансового кризиса попадала в другой. Мы должны были хозяйничать экономно, и только в дни радостей мы могли в маленьких задатках оплачивать части больших счетов за типографию. На другой стороне, однако, стоял, как эквивалент этому растущий пропагандистский успех. Все больше и больше общественность снова обращала на нас внимание. Нас больше нельзя было не замечать и обходить. Движение расплавляло ледяной бойкот, в который его хотели втиснуть, и снова беспрерывно хлынуло на публику. Мы опять стали предметом дискуссии. Общественное мнение, если оно сохранило еще последний остаток приличного образа мыслей, считало себя вынужденным принимать нашу сторону, и все громче и громче становился протест против мелочных и каверзных методов преследования, которые применял против нас берлинский полицай-президиум. Издержки средств больше не соответствовали тому делу, с которым боролись на Александерплац. Стреляли из пушек по воробьям.
У народа есть выраженное чувство справедливости. Если бы мы развалились от запрета, ни одна ворона не каркнула бы в нашу поддержку. Но так как мы преодолели запрет и цель, которой добивались своими силами и, рискуя последними резервами, мы снова отвоевывали себе симпатии широких масс. Даже коммунист в последнем уголке своего сердца сохранил для нас один грамм понимания и глубокого уважения. Он должен был сам признать, что движение было все же сильнее, чем хотела допускать его провокационная пресса. Едва ли оно снова твердо сплоченное и непоколебимое в своем ядре предстало перед политической общественностью, как оно также снова пользовалось старым уважением и той мерой расположения, которую человек из народа всегда склонен проявлять только к тому, кто своими силами умеет побеждать преследования и притеснения.
Попытка парализовать нас замалчиванием и официальным стеснением, не удалась. Сначала, прежде всего, беспрепятственная и подлая кампания прессы сделала нас известными. У представителей партии, о которых писали, было имя, и сама партия стала известной. Мы вырвали наших врагов из анонимности; но и наши враги сделали с нами то же самое.
Фронты были определены, борьба продолжалась в других формах. Никто не мог больше утверждать, что национал-социализм исчез из политической жизни имперской столицы. Он завоевал, также в запрете, новую жизнь, победоносно преодолел кризис, и теперь партия готовилась к новым уничтожающим ударам!
Текст к плакату 1:
Немецкие соотечественники!
Приходите на большое общественное предвыборное собрание в пятницу, 23 сентября 1927 года, в восемь часов вечера, в пивоварне Шлоссбрауэрай в Шёнеберге, Хауптштрассе, 122-123.
Национал-социалистический депутат ландтага Хайнц Хааке говорит на тему:
Преследование немцев в Берлине!
Текст к плакату 2:
Большевизм или национал-социализм? так звучит вопрос молодой Германии. Хочешь ли ты немецкого социализма или интернационально-еврейского коммунизма? Должен ли стать освободителем рабочих Троцкий-Бронштейн, Зиновьев-Апфельбаум, Радек-Собельзон или Адольф Гитлер? Ответ на этот вопрос зависит также от тебя! Приходи на наше общественное собрание в пятницу, 14 октября, в восемь часов вечера, в большом зале "Немецкого трактира" в Tельтове, Берлинер Штрассе 16.
Национал-социалист доктор Геббельс выступает на тему: Ленин или Гитлер? Открытие зала в 7.30 / взнос для покрытия издержек 20 пфеннигов / для безработных 10 пфеннигов.
Местная группа НСДАП в Тельтове. Свободное высказывание
Живы вопреки запрету! (Часть 1)
Теперь тяжелый организационный кризис, в который национал-социалистическое движение в Берлине было брошено изданным 5 мая 1927 года против него полицейским запретом, был преодолен в духовном плане. Потрясения, которые привели партийное устройство в тяжелое положение, были устранены, нарушенный контакт между руководством и соратниками заново восстановлен благодаря радикальной и агрессивной еженедельной газете и пропагандистскими возможностями, которые совершенно отсутствовали у нас в течение первых летних месяцев. У нас была еще масса забот, прежде всего, в финансовом отношении. Но время от времени и тут полоса света также показывалась между темных туч, нависших над нами. И нам совсем ничего не требовалось, наконец, кроме порой маленькой надежды, за которую мы могли бы зацепиться.
Судьба была злой к нам, и у нас часто были причины отчаиваться и молча отказываться от борьбы и от цели. Новый курс движения в столице Империи был прерван официальными мероприятиями как раз в его самом преисполненном надежды начале, и казалось почти невозможным продолжать его дальше только в скрытой или подпольной форме.
Тогда спасительным оказалось вмешательство «Атаки». С этой газетой партия консолидировалась снова. На ее страницах у нас была возможность дальше продолжать пропагандировать национал-социалистические идеи в имперской столице.
Молодое предприятие было создано нами, так сказать, прямо из воздуха. При этом вновь проявилось со всей ясностью, что там, где опекают мужество и уверенность в себе, а также хорошая порция дерзости, даже самые отчаянные предприятия могут увенчаться успехом. Все зависит лишь от того, чтобы его носители верили в свое дело и не позволяли первым тяжелым ударам сбить себя с однажды выбранного правильного курса.
Один великий современник однажды так сказал о себе самом:
«Три вещи привели меня на вершину жизни: немного интеллекта, много мужества и высокомерное презрение к деньгам».
Мы действовали в соответствии с этими словами. Нельзя было отказать в некотором интеллекте руководству национал-социалистического движения в Берлине. Большое мужество доказала SA в тяжелой борьбе, которая месяцами каждый вечер велась за пролетарские кварталы. И высокомерное презрение к деньгам казалось нам хотя бы потому уместным, когда деньги у нас отсутствовали совершенно и повсюду, и мы могли не принимать близко к сердцу их нехватку только с именно этим высокомерным презрением.
«Дер Ангриф» уже в течение первых месяцев после его основания долен был пройти через тяжелый кадровый кризис. Сотрудники, которые в начале полные воодушевления взялись за наш газетный проект, гнусно бросили его на произвол судьбы, когда он оказался опасным и безнадежным, и столкнули этим наше молодое предприятие в тяжелые и почти непреодолимые трудности. Мы временно совершенно лишились способных сотрудников и должны были пробиваться посредством того, что каждый из политических руководителей обязывался самостоятельно писать часть статей для газеты. Самая большая доля нашего времени на неделе была заполнена этой журналистской работой. Под самыми различными псевдонимами мы публиковали наши боевые статьи. Все же у газеты, несмотря на вечно неизменных сотрудников, даже в этом оформлении было разнообразное лицо, и читательская аудитория едва ли замечала, сколько забот и труда стоил нам каждый отдельный номер.
Однако мы чувствовали радостное удовлетворение, что «Атака» пользовалась постоянно растущим значением и вниманием в берлинской журналистике. Она прошла другой ход развития, чем большие капиталистические газетные предприятия. У нас не было кредиторов, которые предоставляли бы в наше распоряжение необходимые для основания печатного органа суммы. Тогда легко принять на работу редакцию и персонал издательства, и такое предприятие едва ли может не удаться. Но роковым при этом является то, что каждая газета, финансируемая большими кредиторами, также вынуждена беспрекословно представлять политическое мнение своих спонсоров. Потому ни один новый голос не появляется на совместном выступлении общественного мнения. Серьезный финансист покупает себе собственную газету только для того, чтобы смочь влиять на общественное мнение в своих интересах.
У нас была полная противоположность. То, что мы говорили, было именно нашим мнением, и так как мы не зависели от кредиторов, мы могли выражать это мнение вполне открыто. Тогда мы были уже в совсем Берлине, вероятно, единственной газетой, которую писали на основе идей, и политическая позиция которой не находилась под влиянием тайных источников денежных поступлений. Сам читатель чувствует это яснее и отчетливее всего. Даже если бы еврейские органы появлялись в миллионных тиражах и имели самую широкую читательскую публику, все же, они сами не владели большей частью внутренней связью с их собственными абонентами. Такую газету не любят. Читатель воспринимает ее только как необходимое зло. Он использует ее для своей ежедневной ориентации. Но, все же, в глубине души он убежден в том, что она обманывает его, даже если он не может установить это в деталях.
Слепая вера в напечатанное слово, которая в Германии так часто и таким роковым образом воздействовала на общественную жизнь, постепенно исчезает. Сегодня читающая публика как никогда требует от своей газеты убеждения и откровенности мнения.
Массы с 1918 года в растущей мере стали лучше слышать и лучше видеть. В биржевом бунте, который закончил войну, международной желтой прессе как зачинательнице биржевого капитализма удался ее последний большой переворот. С тех пор ее и его дела, сначала постепенно, а потом в неистовой катастрофе покатились под гору. Сегодня либерально демократическое мировоззрение давно преодолено в духовном плане. Она держится только лишь с помощью регламентных, парламентских трюков.
Для масс это означает, прежде всего, огромное разочарование. Мы предвидели это разочарование и уже заблаговременно построили против него дамбу. Современными средствами и абсолютно новым и увлекающим стилем мы сразу попытались влиять на общественное мнение. Конечно, в начале это было примитивно и дилетантски. Но покажите нам мастера, который упал с неба. Также и нам пришлось внести свою плату за обучение, но зато мы кое-чему научились; и если сегодня национал-социалистическую прессу можно подавлять только лишь официальными запретами, то это классическое доказательство того, что наша журналистика справляется с требованиями времени, и что мнению, которое там представлено, можно противопоставлять не умственные, а только лишь насильственные аргументы.
У нас были только маленькие и по численности незначительные представительства в парламентах Рейхстага и ландтага. Все же запрещенное движение за ними владело возможностью убежища. Бюро области было превращено в бюро депутатов. В помещениях, в которых работало прежде партийное чиновничество, теперь разместились неприкосновенные депутаты. Нелегко было перестраивать весь ход дела на эту новую систему. Но в течение месяцев мы научились и этому. Постепенно вся партийная организация перестроилась на так сказать нелегальное положение. Мы изобрели новый, почти неконтролируемый рабочий процесс для нашего бюро, самые важные дела размещались вразброс во всем городе у надежных членов партии, картотека велась только для старой партийной гвардии. Однако она была готова для всех крайних случаев и для дела. Она была выше всяческих подозрений в нерешительности. Можно было строить дома на этом.
Мы очень скоро ясно поняли, что запрет не будет отменен в недалеком будущем. Поэтому мы принялись за реорганизацию всей партию на состояние запрета. Из бывших секций произошли дикие или безвредные союзы. Они часто подвергались повторным официальным запретам. Но из распущенного кегельного клуба появлялся новый союз игры в скат, и запрещенная секция пловцов на несколько дней позже превращалась в сберегательную организацию или футбольный клуб. За этим всегда стоял национал-социализм. Базы партии вопреки запрету функционировали совершенно исправно.
Полицай-президиум чувствовал себя по отношению к нам в неправомочности и остерегался поэтому бороться с нами с помощью тяжелых наказаний, для применения которых против нас также не было никакой законной возможности. Из обломков разбитой организации постепенно расцветала новая жизнь.
SA не дрогнула ни на мгновение. Она была невелика по численности, но твердо дисциплинирована и сплочена в надежных кадрах. Немногие еще не закаленные элементы, которые в течение первых боевых месяцев присоединились к нам, постепенно отошли. Ядро всей формации сохранялось нерушимым. Тогда еще почти каждого партийца и штурмовика знали лично. Решительные на борьбу лица, которые неделю за неделей и иногда каждый вечер мелькали перед глазами на больших мероприятиях партийной пропаганды, неизгладимо врезались в память. Вся партия была чем-то вроде большой семьи, и в ней тоже царило это чувство сплоченности. Тогда у партийной гвардии было ее великое время, и ей нужно быть благодарным, что национал-социализм в Берлине не погиб.
Были приняты также меры предосторожности, чтобы все время привносимая посторонними в партию нервозность не могла угрожать внутренней жизни организации. Все попытки провокации были большей частью заблаговременно обнаружены и затем бесцеремонно задушены в зародыше. Ядро партии должно было оставаться невредимым. Тогда после будущей отмены запрета было бы легко заново отстроить всю организацию.
Наше основное внимание направлялось на то, чтобы давать задания и цели запрещенной партии, занимать ее и препятствовать этим тому, чтобы внутри отдельных групп появилась возможность недостатка ежедневной работы, грозящего спокойному продолжению нашей деятельности склоками и искусственно созданными кризисами.
Кольцо, которым мы опоясали Берлин с прочно организованными базами, заметно объединялось в твердую цепь. Мы выковали ближайшую окрестность столицы Империи в большой фронт для наступления; это давало нам возможность в любое время, когда почва под нами стала бы слишком горяча в Берлине, переместиться в провинцию.
Каждое большое мировоззрение, когда оно проявляется с дерзкой волей, однажды отдает духовные и культурные, и, в конце концов, также материальные основы народного бытия, в своем развитии должно пройти четыре этапа. И от образа действий, как оно умудряется преодолевать силы, с которыми сталкивается на всех этих четырех этапах, зависит, действительно ли оно призвано. В истории человечества появлялось много идей. Некоторые люди выходят на общественную сцену с претензиями что-то значить для народа и быть в состоянии что-то ему сказать. Многие приходили и многие проходили. Но будущее поколение не замечает их. Только редкие одиночки призваны давать народам новые идеалы, и судьба достаточно милостива, что уже рано принуждает этих одиночек доказывать перед всей общественностью, что они не только избраны, но и призваны.
Каждое большое движение начинается в анонимности. У его истоков стоит идея, которая берет начало из головы отдельного человека. Это не так, как будто этот отдельный был, например, гениальным изобретателем этой идеи. Этому отдельному только благоволит судьба сказать то, что народ глухо чувствует и страстно предугадывает. Он выражает непонятный инстинкт широкой массы. Это чувствовали даже при появлении нашей молодой идеи. Тогда в основном было так, что человек из народа говорит: «Я всегда верил в это, думал так и имел это в виду. Это то, что я ищу, что я чувствую и смутно сознаю».
Отдельный человек призван, и теперь он придает выражение желанию и предчувствию широких масс. Тогда из идеи начинает появляться организация. Так как у отдельного человека, который дает освобождающее слово идее, неизбежно появится стремление привлечь на сторону его идеи других людей, позаботиться, чтобы он не был один, привести за собой группу, партию, организацию. Группа, партия и организация будут вместе с тем служанкой идеи.
Само собой разумеется, современники и окружение сначала вообще не смогут понимать его; так как он со своей идеей опередил свое время на несколько лет или десятилетий. То, что он объявляет сегодня как парадоксальное, только через двадцать лет или еще позже будет тривиальностью. Он указывает дорогу народу, это он, который хочет вести своих современников из глухих низменностей к новым высотам. Понятно, что современность не хочет понять его, да и не может понять, в конце концов. Сначала первая группа носительницы новой идеи остается в анонимности. И это тоже неплохо; потому что маленький дубок, который впервые нерешительно и стыдливо высовывает свою маленькую крону из рыхлой земли, мог бы быть сломан и растоптан одним единственным необдуманным шагом. У него еще нет силы, чтобы оказывать сопротивление. Сила еще сидит в корнях; вначале она лежит только в возможностях, которые есть у маленького растения, а не в том, что представляет собой маленькое растение в данный момент. Само собой разумеется, оно меньше, скромнее, незаметнее, чем большой травянистый многолетний сорняк. Однако, это не доказательство того, что такое положение будет еще и через десять лет. Через десять лет, когда этот травянистый многолетний сорняк давно стал гумусом, могущественный дубовый ствол с широко выступающими ветвями затенит все вокруг себя.
Судьба поступает мудро, что окружающие вначале совсем не замечают этот маленький дубок. Потому что этим она дает ему возможность стать тем, что является его определением. Природа всегда заботится о том, чтобы живые существа, люди и организации подвергались только тем испытаниям, которые они могут выдержать.
Конечно, для первых носителей молодой идеи это почти невыносимое состояние, когда окружающие их не замечают. Тот, в ком есть боевой настрой, тот любит бросаться на бой с врагом, того может устроить, что враг с ним борется и спорит. Но то, что другой его совсем не видит, никак его не замечает, это оскорбительное отсутствие внимания, это самое невыносимое, что может происходить с героическим характером.
Первые передовые бойцы, выступающие за юную идею, разумеется, в начальных стадиях движения точно те же, кто однажды позднее станут теми, когда они захватят власть. Потому что не они изменяются, но они изменяют их окружающую среду. Не Гитлер изменился, а изменилась Германия, в которой он живет.
Судьба теперь в этой первой фазе развития проверяет, достаточно ли силен тот человек, который с большим честолюбием выходит делать историю, чтобы на определенный срок молча перенести анонимность. Если он преодолеет это без повреждений в его душе, тогда судьба будет считать, что он выдержал свою вторую проверку. Так как по прошествии определенного времени движение добудет внутреннюю силу, чтобы расплавить ледяной блок сжимающего его духовного бойкота. Оно находит тогда средства и пути, чтобы знакомиться с окружением; если не в доброте, тогда в ненависти. Если они не любят меня, то они должны бояться меня, но, по крайней мере, они должны знать меня. И тогда очень скоро наступает мгновение, когда общественность вынуждена обратить внимание на идею и организацию. Тогда просто больше нельзя молчать. Если это стало предметом публичных разговоров, если об этом уже чирикают воробьи на всех крышах, тогда и трусливые газеты не могут оставаться дальше в их элегантной сдержанности. Тогда им придется занять определенную позицию, так или иначе.
Они делают это сначала в соответствующей им манере; так как они убеждены, что приемы, которые являются привычным делом в их политической сфере, могут также безоговорочно и без изменения применяться и по отношению к новому движению. Разумеется, тут они совершают фундаментальную ошибку, потому что именно это молодое движение опирается на совсем другом политическом уровне, исходит из совсем других духовных мотивов, несет совсем другой стиль и представляет собой совсем другой тип. Просто невозможно подходить к нему теми средствами, которые являются эффективными и модными у его объединенных противников. Враг тогда к своему ужасу должен испытать, что все то, что, по его мнению, должно было бы повредить и помешать движению, на самом деле его усиливает и укрепляет. Да, в конце концов, выходит так, что сила, которую противопоставляют движению, снова возникает в самом движении. Сначала полагали, что его можно высмеять. Его ставили на одну ступеньку с какими-то детскими и наивными попытками в религиозной и культурной области. Мы, старые национал-социалисты, еще хорошо помним то время, когда нас ставили примерно на одну линию с армией спасения; когда общий приговор в наш адрес звучал так: они приличного характера, их ни в чем нельзя обвинить на основании уголовного кодекса. Это безвредное заблуждение, которое лучше всего предоставить самим себе и своей собственной ограниченности.
Это вторая фаза развития: больше не ругаются, а смеются. И хорошо, что смеются. Если бы враг теперь боролся, то у него была бы, вероятно, возможность задушить движение. Но пока он смеется и остается при этом бездеятельным, движение увеличивается больше и больше, выигрывает в силе, размере и страсти. Да, сторонники идеи чувствуют себя только укрепившимися от смеха противника. Честолюбие добавляется к этому. Каждый воодушевлен только лишь жгучим желанием: «Мы отучим вас смеяться!» Насмешливая надменность противника только разжигает усердие в приверженце молодого движения. Он не бросит на произвол судьбы свою идею, так как над ним смеются, но он позаботится о том, чтобы смех у его противников пропал.
Это второй этап. И если, наконец, смех прекращается, то начинают бороться с движением, а именно сначала ложью и клеветой. Ничего другого также не остается противнику; так как он не может противопоставить программе нового мировоззрения лучшие аргументы. Какие идеи, к примеру, буржуазная партия могла бы противопоставить национал-социалистическому движению? Как могла бы, например, СДПГ справиться с нами, если бы мы скрестили клинки в духовном поединке. Они тоже очень хорошо об этом знают. Как только мы меряемся силами на подиуме в объективной политической дискуссии, тогда мы – молодость, а они старость. Поэтому они стремятся по возможности избегать духовной борьбы и ведут ее с помощью клеветы и террора. И тогда море грязи и клеветы выливается на движение и его руководителей. Ничто не достаточно пошло, что приписывают им. Противник каждый день находит новую ужасную сказку. Он высасывает эту ложь, так сказать, из своих грязных пальцев. Прежде всего, конечно, это произведет впечатление на тупую массу, не умеющую делать самостоятельных выводов. Но только до тех пор, пока противоположная сторона может удерживать массу от того, чтобы та вступила в непосредственный, личный контакт с движением и его руководителями. Если это больше не возможно, то враг проиграл; в тот самый момент, когда таким часто обманутым массам представляется случай самим познакомиться с движением и с его вождями, они узнают различие между тем, что им до сих пор лгали, и что значит движение в действительности. Теперь масса чувствует себя оскорбленной. Потому что народ больше всего не переносит, когда его водят за нос. Сначала с оговорками и внутренними препятствиями они приходят на наши собрания, но потом сами убеждаются в том, что разница между тем, что им лгали, и действительностью настолько вопиющая, что ложь убийственным ударом обрушивается на самих лгунов.
Вместе с тем в третьей фазе развития очень скоро из клеветы появляется преследование. Движение подвергается террору государственных учреждений и улицы. Пробуют силой сделать то, что не довели до конца клеветой. Но это трагичность системы, что она применяет свои средства всегда слишком поздно. Если бы она поступила так раньше, то вероятно добилась бы этим успеха. Но люди, которые собрались в анонимности и клевете под знаменами движения, – это не пугливые трусы; иначе они не смогли бы вынести то, что им до сих пор пришлось перенести. Только у цельных парней есть внутренняя сила, противопоставить себя враждебному миру и сказать ему в лицо: – Смейтесь пока – только мужчины смогут вынести это; клевещите только – лишь трусливый человек от этого станет нерешительным. Он останется при широкой массе, он будет плевать, высмеивать, будет ухмыляться и будет выглядеть дураком.
Тем временем, однако, корпус дисциплинированных борцов поставил себя под флагами идеи. Они умеют использовать не только свой разум, но – если их жизни или жизни их движения угрожают – и кулак тоже. Если их подвергают кровавому террору, если их травят власти и суды, посылают на борьбу с ними колонны красных убийц, нужно полагать, что мужчины, которые сопротивлялись презрению и клевете, вынесли вранье и насмешки, окажутся теперь слабыми против насилия. Совсем наоборот: по применению этих средств противником носитель новой идеи еще больше понимает, что он на верном пути. Если бы против него не применили этих средств, то ему угрожала бы опасность, вероятно, заподозрить себя в душе, что он шел неправильно. Но террор теперь для него доказательство того, что враг узнал его, что он ненавидит его, и это только потому, что он узнал его и его боится. В крови движение только теснее сплачивается друг с другом. Вождь и соратник объединяются в одно неразрывное целое. Из них теперь сразу получается неразлучный общий корпус, фаланга революционной идеи, против которой ничего больше нельзя предпринять всерьез.
Так это было при всех революционных восстаниях прошлого, и так это происходит также при том революционном движении, которому мы служим. Оно существует. Его просто нельзя отрицать. У него есть собственная сила и идея, у него есть сплоченные и дисциплинированные приверженцы. Оно продолжит неуклонно свой путь, прежде всего тогда, когда оно хорошо распознало свою цель и никогда не теряет ее из виду, какими бы обходными путями ему туда ни пришлось добираться. И в конце противник узнает тогда, что его средства остались безуспешными.
Тем временем образ мыслей народа тоже изменился. Движение в течение лет его ожесточенной борьбы не прошло бесследно мимо народной души. Оно оказывало широкое влияние, оно мобилизовало массы и активизировало их, оно привело народ в движение. Немецкий народ сегодня больше нельзя сравнивать с народом 1918 года. Авторитет находящейся у власти системы упал. И в как раз в той же мере, как опускался авторитет власти, поднимался авторитет оппозиции. Что это значит, если нас, национал-социалистов, сегодня ставят перед судом. Это имело бы успех, если бы народ смотрел на эти суды еще с тем же детским доверием, как например, тот мельник из Сансуси на Берлинский апелляционный суд. Если бы маленький человек еще мог сказать себе, что суды – это кладезь справедливости, и если эти суды осуждают людей из оппозиции к тяжелым наказаниям, тогда эти наказания для народного ощущения имели бы в себе что-то позорное и клеветническое. Но если суд, который, так сказать, оправдывает Бармата, приговаривает национал-социалиста к тяжелому тюремному заключению, то народ это не понимает. Тогда маленький человек говорит себе: «Ах, это же так всегда. Либо выпускают жулика, либо сажают за решетку приличных людей. Потому что так же, как жулик угрожает приличному человеку, так и приличный человек угрожает жулику».
Авторитет системы упал. Система не хочет этого видеть, но с каждым днем ей приходится все больше испытывать это. Наступает мгновение, когда основное внимание обращают на оппозицию, так как народ стоит на стороне оппозиции, и правительство видит себя изолированным от народа. Вместе с тем борьба уже решена в духовном плане, и она очень скоро решится также и в плане насилия.
Теперь больше никакая клевета не помогает; потому что, если клевещут на движение, то клевещут на лучшую часть народа. Если поносят его руководителей, то миллионы встанут и заявят: «Эти люди – это наши люди. И кто оскорбляет их, тот оскорбляет нас. Честь этих людей – это наша честь».
Народ чувствует тогда: где помещают национал-социалиста под замок и за решетку, где арестовывают национал-социалиста в ночное время в его квартире, там с ним случается то же, что случается с каждым в народе, который больше не может оплачивать свой налог.
Решающий бой вспыхнул. Больше нельзя замалчивать движение, больше нельзя убить его ложью, также больше нельзя убить его физически. Где бьют его, там народ кричит "меня бьют", и где клевещут на человека из движения, миллионы восклицают "это мы". Если одного из соратников застрелят на темной улице, то массы встанут и заявят угрожающим тоном: «Лицо мертвого несут сегодня сто тысяч человек, и они это суд».
Тогда только лишь последнее средство остается, и оно состоит в том, что враг безусловно капитулирует перед духовным доминированием оппозиции и не может помочь себе иначе, кроме как он попытается завладеть ее идеей – не для того, конечно, чтобы эту идею реализовать, а чтобы изменить ее, согнув до полной противоположности. В каждой голове всегда находятся только соответствующие ей идеи. Если один всю свою жизни служил пацифизму, то у него не может внезапно появиться воинственный образ мыслей. Если человек двадцать лет боролся за демократию, то он не станет за одну ночь аристократом. Кто подтачивал и подрывал десятилетиями государство, тот не может вдруг стать ответственной опорой государства. Он может только делать вид. Он может надеть фальшивую маску. Теперь социал-демократ, который двенадцать лет заботился о том, чтобы немецкий народ усыплялся наркозом, вдруг кричит, дико жестикулируя перед широкими массами: Германия, проснись! Сразу эти старые кучки классов и интересов снова вспоминают о народе. Они называются тогда народной партией. Это наша немецкая трагедия: у нас есть три народных партии, но нет больше никакого народа. Они все ставят слово «Народ» перед их именами. Где их старое имя вообще испорчено и скомпрометировано, там они упраздняют его и добавляют себе новое. Десятилетиями они боролись под флагом демократии – и когда больше у демократии нет силы тяги, тогда они внезапно именуют себя государственной партией.
Они остаются такими же; они только хотели бы с удовольствием под новыми ключевыми словами продолжать их старую политику. Это те же ленивые головы, и в них находятся те же устаревшие мысли. Но на народ это больше не действует. Старые имена скомпрометированы, и где они добавляют себе новое имя, там народ сравнивает их с теми сортами людей, которые, если вокруг них становится жарко, тоже с охотой меняют свое имя. Аферисты и евреи делают это. Если один проходит в картотеке фотографий преступников как Майер, то он называется новым именем Мюллер. И если кто-то приезжает из Галиции как Мандельбаум, то в Германии он именуется уже Эльбау.
Двенадцать лет они давили нацию ногами, они затоптали честь народа, они оплевали отечество и насмехались над ним и пачкали; и теперь внезапно они снова вспоминают об измученном народе-страдальце, теперь они – сразу крепкие патриоты и дружно борются против измены отечеству и пацифизма. Они за броненосный крейсер, за обороноспособность народа и объясняют с убежденным тоном, что так, как дела обстояли до сих пор, больше не может продолжаться. Нужно дать нации то, что принадлежит нации. Они плывут под фальшивым флагом, и их нужно сравнивать с теми пиратами, которые перевозят контрабанду. У них вовсе нет намерения освобождать свой народ, они хотят только воспользоваться восстанием народа в целях их собственного партийного трупа.
Но уже скоро они узнают, что также это напрасно. И теперь они теряют свое спокойствие. Они утрачивают уверенность в себе. И если человек, прежде всего, еврей, однажды утратил спокойствие и уверенность в себе, то он начинает делать глупости. По нему видно, как плохо идут у него дела, и если он даже строит из себя возвышенного, то какие горькие слезы он проливает. Он охотно хотел бы играть Голиафа перед общественностью. Он действует так, как будто это ему удалось. Один говорит другому: только не бойтесь, не нервничайте, никакого психоза перед Гитлером, это все вовсе не так плохо. Они кричат: «Мы не боимся», но это точно так, как у того мальчика, которому пришлось ночью идти по темному лесу, и он громко кричит «Я не боюсь», чтобы этим заглушить свой собственный страх.
Также национал-социалистическое движение должно было пройти эти различные фазы в своем развитии, а именно как движение в целом, так и движение в его отдельных подорганизациях. Везде и повсюду его пытались замалчивать, оболгать, и убить. И сегодня уже больше в Германии нет никакой другой возможности, чтобы справиться с национал-социализмом, кроме как завладеть его мыслями и требованиями и его же мыслями и требованиями двинуться на бой против него.
Национал-социалистическое движение в Берлине осенью 1927 года стояло на поворотном пункте между второй и третьей фазой этого развития. Хотя в прессе его еще пробовали оболгать; но, все же, это было слишком очевидно непригодной попыткой с непригодным объектом. Теперь попытались его убить; однако, в трехмесячном оборонительном бою движение сокрушило также угрожающую опасность этой попытки, и теперь больше не было остановки для триумфального шествия этой партии. Национал-социализм пробился. Он мог переходить к тому, чтобы развивать свои позиции и после прорыва своей партийно-политической стесненности завоевывать новые территории.
Живы вопреки запрету! (Часть 2)
Теперь «Дер Ангриф» стал популярным органом наших политических воззрений. Беспечно и беспрепятственно мы могли представлять там наше мнение. Здесь говорилось на характерном и недвусмысленном языке. Но народ с удовольствием слушал это. Именно так обычно говорит маленький человек на улице, на работе, в автобусе и в метро; требования, которые здесь поднимались, были охвачены дрожью от крика возмущения народа, и народ принимал этот крик.
Наша газета, так члены партии и ее приверженцы называли «Атаку». Каждый чувствовал себя как совладелец этого органа. Каждый был убежден в том, что без его сотрудничества газета вовсе не смогла бы существовать. Если газета однажды приносила доходы, то было определено, что они полностью использовались для политической работы движения. «Дер Ангриф» была единственной газетой в Берлине, которая не плясала под дудку капитализма. Ни у кого из нас не было от этого своих преимуществ, только у самого движения.
Так это сохранилось вплоть до сегодняшнего дня. Мы всегда всеми силами противились тому, чтобы сделать из нашей газеты частное капиталистическое предприятие. Каждый, кто сотрудничает в нем, получает за свою работу столько, сколько возможно согласно нашим финансовым возможностям и в соответствии с его производительностью. Но сама газета принадлежит партии и вместе с тем каждому отдельному члену партии. Кто помогает газете, тот служит вместе с тем партии, не только с пропагандистской, но и с финансовой точки зрения. Каждый взлет, каждый прирост абонентов или уличной продажи сразу превращается в лучшую производительность. Так значение газеты росло все больше и больше, и если тогда еще нельзя было и говорить о доходах, то, все же, всего за три месяца мы достигли того, что газета окупала себя и для ее дальнейшего существования у нас оставалась только одна забота, как нам в течение длительного времени справиться с большим бременем долгов, которые мы набрали для ее основания частично как партия, частично как частные лица.
Бывает так, что иногда нужно проводить рискованные финансовые операции. При этом мы, мало что понимающие в финансовых вопросах, были самыми искусными политиками долгов и кредитов. Мы делали дыру здесь, чтобы залатать ее там. Со всеми уловками мы пытались поддерживать финансовый баланс; и при этом нам всегда приходилось стараться, чтобы общественность ничего не узнала о порой угрожающей финансовой ситуации «Атаки».
Сегодня уже можно спокойно признаться в том, что мы иногда доходили до предела всех возможностей; но в каждой ситуации, в конце концов, снова и снова находился выход, пусть даже совсем отчаянный, но и при этом мы сохраняли мужество и продолжали исполняли нашу работу в надежде, что, наконец, однажды, все же, судьбы улыбнется и нам.
Не стоит думать, что мы в заботах о вечно повторяющихся мелких нуждах будней превратились в мизантропов в плохом настроении и в пессимистичных нытиков. Как раз наоборот! Мы все были слишком молоды, чтобы утратить мужество хоть на минутку. Да, мы постепенно настолько привыкли к безнадежности нашего положения, что воспринимали их как нормальное, можно было бы почти сказать, чуть ли не идеальное состояние. Все критические ситуации мы пережили со здоровым юмором. Тогда мы больше смеялись, чем вешали нос. Если, оглянувшись назад, проверить сейчас все развитие национал-социалистического движения, с самого начала, от маленькой, незначительной секты, до большой, внушительной массовой партии, снова и снова придем к результату: прекрасно и приятно стоять перед исполнением целей или исполнять их. Но еще прекраснее и приятнее начинать с борьбы за свои цели и из отчаяния невыносимой ситуации черпать силу и веру, начинать работу, даже когда она кажется бессмысленной, сумасбродной и безнадежной.
Тогда мы отнюдь не были темными и дикими путчистами. Такими обычно представляла нас пресса. Национал-социалистическое руководство в основном было представлено молодыми немцами, которые пошли в политику из нужд времени. Немецкая молодежь, узнавшая, что более старые неспособны справиться с тяжелыми нуждами времени, ворвалась в политику и придала ей тот поднимающий толчок, который отличает ее сегодня от политики всех других стран.
С дерзкой беззаботностью мы овладевали делами общественности. Мы начинали нашу работу с юношеским темпераментом, и только этому юношескому темпераменту нужно быть благодарным, что она не осталась безуспешной.
Молодежь поднималась против преждевременного старения политического сословия, которое стало для них невыносимым. Она растворила застой политической жизни и проломала дамбы, которые суживали активную подвижность немецкой послевоенной политики. Молодежь пробудила дух, сделала сердца горячими и растормошила совесть. Если сегодня еще есть надежда на другое будущее в Германии, кому нужно быть обязанным за это, если не нам и нашему движению!
В жизни каждого отдельного человека бывают дни, в которые хотелось бы верить, что все счастье или все несчастье собралось разом в одно время. При этом можно предположить, что человека вознаграждают избытком счастья за перенесенные несчастья или наказывают избытком несчастий за испытанное им в прошлом счастье. Судьба собрала к этому моменту все свои приятные или неприятные неожиданности и выливает их теперь в избытке на человека, которого она хочет поразить или благословить.
Таким днем для берлинского движения и для меня лично было 29 октября 1927 года. Я в этот день как раз отмечал мой тридцатый день рождения. Уже на заре в изобилии посыпались счастливые неожиданности. Вторая почта в полдень принесла письмо полицай-президиума, в котором меня информировали, что запрет на публичные выступления, висевший надо мною уже больше четырех месяцев, был отменен при условии, что я теперь могу снова выступать на общественных собраниях, если полицай-президиум после предшествующей заявки выдаст разрешение на проведение собрания. Это был неожиданный счастливый случай. Теперь массовый приток на собрания станет беспрерывным. У партии была новая возможность финансирования, и так мы могли постепенно справиться с настоятельными денежными затруднениями.
С этого первого поздравления к 29 октября 1927 года цепь счастливых событий больше не прерывалась. Сыпались цветы, поздравления и телеграммы от верных членов партии, и совершенно стихийно прорвалось отношение солидарности, которое за почти целый год борьбы постепенно сформировалось между национал-социалистическим движением в Берлине и ее руководством.
Я проводил вечер этого памятного дня у одного старого соратника. Там меня с таинственным выражением лица пригласили на прогулку, в ходе которой мы, при чем я ничего не подозревал, оказались в каком-то заведение в пригороде Берлина.
Ни о чем не догадываясь, я с моим провожатым вошел в зал, и можно представить себе мое удивление, когда за запертыми дверями я увидел собравшуюся там почти всю партийную организацию Берлина. Они импровизированно устроили празднование дня рождения для меня, и члены партии не упустили придумать для этого свои собственные сюрпризы.
Самым характерным способом при этом проявился берлинский народный юмор во всей его красе. Мне торжественно вручили намордник, официально запатентованную, защищенную законом «маску Исидора»: «Абсолютно верна конституции, защищает от ударов резиновой дубинкой!» Последовал целый ливень поздравительных писем SA и политических секций, написанных на настоящем диалекте и с природным умом, как бывает только в Берлине.
Один политический функционер передает мне огромный пакет; и удивленному взору представляется полностью неожиданная, поразительная картина. В пакете лежит две с половиной тысячи новых абонентов для «Атаки», которые все партийное товарищество в течение двух месяцев в неутомимой рекламной работе собрало без моего ведома к моему дню рождения.
Но и это еще не все. Эти бедные и неимущие люди устроили среди своих сбор личных средств и в результате вывалили на стол для подарков почти две тысячи наличных марок. Благодаря этому у меня появилась возможность оплатить самые срочные долги. У меня был теперь свободен тыл для новой политической и пропагандистской работы.
Один штурмовик, который представился мне, передает мне закрытый конверт. В нем разорванные долговые обязательства на сумму свыше двух тысяч марок, которые я одолжил на свое имя при основании «Атаки». В лаконичных словах при этом написано, что тем самым мой долг оплачен.
Одним ударом все финансовые заботы теперь были преодолены. «Дер Ангриф» освободился от долгов, у политического движения были деньги на случай нужды, чтобы справиться с будущими осложнениями и кризисами. «Дер Ангриф» увеличил число своих подписчиков, его дальнейшее существование было абсолютно гарантировано. Объявленный запрет на мои публичные выступления был отменен полицай-президиумом, и таким образом были созданы все предварительные условия, чтобы в широком масштабе снова приняться за работу и на будущую зиму вести партию к новым успехам и победам.
Так неожиданным способом вознаграждались все заботы и притеснения, которые мы взяли на себя ради движения. Наша счастливая звезда всходила снова. Теперь кризисы, которые мы давно преодолели внутри, ликвидировались также и снаружи. Прочный контакт в пределах партии был восстановлен, организация укреплена; мы могли начинать новые политические акции, не боясь болезненных тормозящих финансовых забот. Политическое руководство снова взяло инициативу, и его время и сила больше не были перегружены мелочными денежными затруднениями. Я сам был свободным человеком и мог снова публично посвятить себя моему политическому агитационному заданию.
Группа SA представила этим вечером любительскую пьесу, которая вызвала у слушателей слезы своей волнующей простотой и художественной самоочевидностью. Здесь в пластических изображениях на сцене была представлена духовная дорога немецкого рабочего от коммунизма к национал-социализму. Пьесу сочинил неизвестный штурмовик и поставили анонимные участники любительского драмкружка.
«Национальный театр выходит из нации, рождается из народа через народные спектакли и игру на любительской сцене. Национальный театр должен быть родиной для таких драматических произведений, которые являются носителями героического образа мыслей, большой идеи, для драматических произведений, которые являются носителями национал-социалистического мировоззрения. Из народа должен вырасти национальный театр, и принадлежать ему, не массе».
Так было сказано в краткой речи, которую произнес один из актеров-любителей до начала спектакля. Все мероприятие закончилось единодушной и подавляющей демонстрацией доверия. Весь зал внезапно был затемнен. Один штурмовик в форме и с обвитым партийным знаменем вышел на сцену и в пленительных, потрясающих стихах дал за нас всех торжественное обещание, что мы будем неутомимы в борьбе и будем решительно продолжать ее новыми средствами и новыми методами до победы.
«Нам, берлинцам, нужен кто-то, кто подгонял бы, знаете, таким с размахом и грацией, и мы тоже такая толковая братва, и те балбесы, кто не тут не в теме – это просто тупые понаехавшие, ведь мы знаем, что вы кое-что умеете, и если сюда приваливает типа кто-то из приятелей и начинает выделываться тут с этими дурными штуками и нагружать всякой хреновиной, так дайте ему, пусть так и делает, для этого же вы у нас и есть! Так что глубокоуважаемый доктор, дорогой соотечественник, мы вас поздравляем, как говорится, и желаем вам всего хорошего для борьбы, которая для нас все никак не станет достаточно бурной, особенно с вами, ведь вы же всегда тут при деле!»
Так было произнесено в ужасно смешном, остроумно заостренном поздравительном письме неизвестного штурмовика. В этом выражалась благодарность приверженцев за весь год работы, хлопот и борьбы. Мы преодолели много трудностей. Но, все же, теперь у нас могло быть чувство удовлетворения от того, что борьба и хлопоты были не зря.
«Разрешено полицейским управлением во вторник, 8 ноября 1927 года, в 8 часов вечера, в «Орфеуме», Нойкёлльн, Хазенхайде, 32-38, доктор Геббельс выступает на тему: «Пляска смерти немецкого народа». Приходите все!»
Этот плакат был на следующей неделе расклеен на всех афишных тумбах имперской столицы. Общественность с удивлением услышала, что подавляемое и связанное национал-социалистическое движение возродилось.
Живы вопреки запрету! Этот лозунг нашел великолепное подтверждение в тот решающий вечер вторника, когда уже около семи часов вечера перед «Орфеумом» на Хазенхайде, в пролетарском квартале, в тот же день, что и накануне биржевого бунта 1918 года, и в тот же самый день, в который в 1923 году Адольф Гитлер провозгласил в Мюнхене национальную революцию, столпились массы и вскоре после открытия касс большой зал «Орфеума» из-за переполненности был заблокирован полицией.
Туда пришли все, передовые бойцы национал-социалистического движения в Берлине, штурмовики и эсэсовцы, политические функционеры, приверженцы из близких и далеких мест. Старая партийная гвардия собралась, чтобы торжественно отметить воскресение национал-социалистического движения. Хотя запрет полицай-президиума еще не был снят; еще почти полгода мы должны были ждать того, чтобы на смену беззаконию снова пришло право. Но этот запрет уже стал недейственным. Придирки и принудительные меры оказались очевидно безуспешными. Движение с жестким постоянством разбило цепи, в которые его хотели заковать.
Придя от станков и машин, от конторских табуреток и фабричных столов, из светлых домов запада и темных дворов учреждений для безработных, они сидели теперь здесь, люди старой партийной гвардии. С пламенным сердцем они давали торжественное обещание продолжать служить делу, которому мы все служили бескорыстно и со всей силой, и что никакая власть мира не смогла бы заставить нас отказаться от нашей политической веры.
Над террором и преследованиями, притеснением и тюрьмой восторжествовали право и правда, и знамя нашей веры снова поднималось, ярко сверкая. Нас можно согнуть, но сломать – никогда. Нас можно заставить стать на колени, но мы никогда не капитулируем!
Мы, молодые национал-социалисты, знаем, в чем тут дело. Мы проникнуты убеждением, что если мы потеряем надежду, Германия утонет в хаосе. Поэтому мы стоим прямо и твердо, защищаем наше дело, даже если это кажется безнадежным, и удовлетворяем тем самым требованию, которое Рихард Вагнер присоединил однажды к понятию, что значит быть немцем: Это значит, делать дело ради него самого.
29 октября 1927 года даже самым упрямым пессимистам и скептикам стало ясно, что наступила новая фаза развития национал-социалистического движения в Берлине. Тот штурмовик, который с обвитым знаменем сильно и упрямо вышел перед взволнованным товариществом и в пленительных и потрясающих стихах излил свой гнев и досаду, высказав то, что переполняло горячо бьющееся сердце старой партийной гвардии в этот большой час:
«Сплотиться! Собрался вокруг знамени
Вал тевтонских богатырей.
Выше голову, храните упорство!
Трубач! Труби побудку!
Слушайте сигналы, немцы в Империи!
Партия запрещена в Берлине!
Они хотят борьбы, мы дадим ее вам,
И сокрушим красный террор.
Мы потрясем фундамент насилия,
Пока не зашатаются еврейские троны,
И тогда в нашей манере
Вас поблагодарим!»
Конец
Др. Геббельс произносит речь. Фото: Генрих Гофман (Heinrich Hoffmann)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фотографии из альбома Генриха Гофмана (Heinrich Hoffmann) "Говорит др. Геббельс"
Капитулировать! – Никогда!

Сегодня вы у власти. А завтра мы. Потом мы рассчитаемся. Будьте уверены!

Бросьте нас в тюрьмы этой республики и пустите дубинку вашей демократии плясать по нашим головам. Придет день и мы отблагодарим ваc за вашу любезность.

Мы ничего не имеем против республики. Но мы против этих республиканцев.

Вы приглашаете нас в государство, а имеете в виду эту провинцию мирового капитала. Конечно, это вас бы очень устроило.