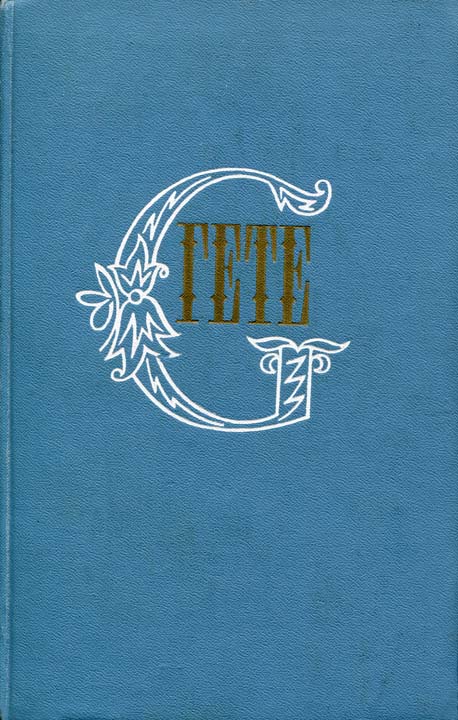
Иоганн Вольфганг Гете
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Том третий
Из моей жизни
ПОЭЗИЯ И ПРАВДА
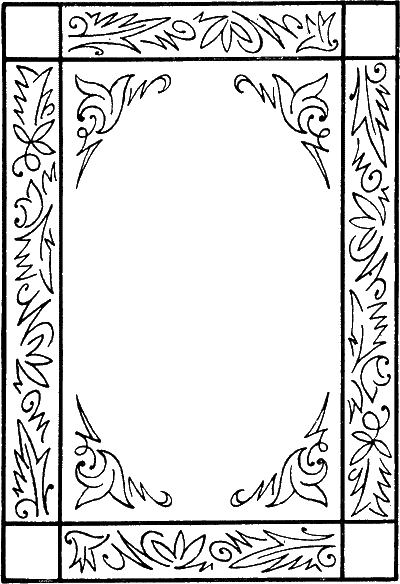
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

‘Ο μή δαρείς άνυρωπος ού παιδεύεται.[1]
Предисловием к настоящему труду, а он в нем нуждается более, чем какая-либо книга, да послужит письмо друга, подвигнувшего меня на это сугубо рискованное предприятие.
«Наконец-то, дорогой друг, мы видим перед собой все двенадцать томов ваших поэтических произведений и, перечитывая их, встречаем много знакомого, много и незнакомого; более того, это собрание воскрешает в нашей памяти кое-что из, казалось бы, давно позабытого. На эти стоящие друг возле друга двенадцать книг одинакового формата невольно смотришь как на единое целое и, конечно же, хочешь с их помощью составить себе представление об авторе и его таланте. Если вспомнить о стремительном, бурном начале его литературного пути, то двенадцати томиков за долгое время, с тех пор истекшее, пожалуй, и маловато. Далее: читая отдельные произведения, нельзя не отметить, что почти все они обязаны своим возникновением тому или иному поводу и в каждом из них отчетливо видны определенные внешние обстоятельства, равно как и ступени внутреннего развития автора, а также моральные и эстетические максимы и взгляды, породненные духом времени. В целом эти произведения ничем между собой не связаны: иной раз даже не верится, что они вышли из-под пера одного и того же писателя.
Тем не менее ваши друзья не отказались от дальнейших изысканий; хорошо знакомые с вашей жизнью и образом мыслей, они силятся разгадать те или иные загадки, разрешить те или иные проблемы; поскольку же им сопутствуют старая любовь и прочные взаимоотношения, то они находят даже известную прелесть в трудностях, встречающихся на их пути. И все же в иных случаях помощь, в которой вы, будем надеяться, не откажете тем, кто питает к вам столь дружеские чувства, была бы весьма и весьма желательна.
Итак, первое, о чем мы вас просим: разместить в хронологическом порядке поэтические творения, расположенные в новом издании согласно их внутренним тематическим связям, а также поведать нам о житейских и душевных состояниях, послуживших материалом для таковых, и далее, в известной последовательности рассказать о примерах, на вас повлиявших, и о теоретических принципах, которых вы придерживались. Пусть эти ваши усилия будут посвящены только узкому кругу читателей — не исключено, что из них возникнет нечто приятное и полезное и для более широкого. Писателю, даже в глубокой старости, не следует пренебрегать беседой со своими приверженцами, хотя бы и на расстоянии. И если не каждому дано в преклонные годы по-прежнему выступать с неожиданными, мощно воздействующими творениями, то именно в эту пору, когда обширнее становится опыт и отчетливее сознание, как же интересно и живительно было бы вновь обратиться к ранее созданному и по-новому его обработать, так, чтобы оно вторично посодействовало формированию людей, в свое время сформировавшихся вместе с художником и под его влиянием».
Этот столь дружелюбно высказанный призыв пробудил во мне желание на него откликнуться. Если в юности мы непременно хотим идти собственным путем и, чтобы с него не сбиться, нетерпеливо отклоняем требования других, то в позднейшие годы мы не можем не радоваться, когда взволновавшее нас участие любящих друзей дает гам толчок к новой деятельности. Посему я без промедления взялся за предварительную работу и расположил в хронологическом порядке свои как крупные, так и мелкие сочинения, напечатанные в упомянутых двенадцати томах. Далее, я постарался воскресить в памяти время и обстоятельства, при которых эти произведения возникли. Но вскоре оказалось, что это не так-то просто: для заполнения пробелов между произведениями, мною опубликованными, потребовались подробнейшие указания и разъяснения. Дело в том, что в этом собрании отсутствуют мои первые опыты, а также многое из начатого, но незаконченного, — более того, в иных случаях стерлось внешнее обличье некоторых законченных произведений, ибо с течением времени они были переработаны и отлиты в новую форму. К тому же я не мог обойти молчанием и свои занятия другими искусствами и науками — все то, что было мною сделано в этих, казалось бы, чуждых областях, как в одиночку, так и в сотрудничестве с друзьями, в тиши, для самого себя или для обнародования.
Всего этого я также хотел коснуться, стремясь удовлетворить любознательность моих благожелателей, но изыскания и размышления уводили меня все дальше и дальше; по мере того, как я — в соответствии с их глубоко продуманными требованиями — тщился по порядку воссоздать все свои внутренние побуждения, извне воспринятые влияния, равно как и пройденные мною — теоретически и практически — ступени развития, меня внезапно вынесло из частной жизни в широкий мир: в моей памяти возникло множество значительных людей, так или иначе на меня повлиявших, и уже тем более нельзя было пройти мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни, мощно воздействовавших на меня и едва ли не на всех моих современников. Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира. Но для этого требуется нечто почти невозможное, а именно: чтобы индивидуум знал себя и свой век, себя — поскольку он при всех обстоятельствах оставался все тем же, свой век — поскольку время увлекает за собою каждого, хочет он того или нет, определяя и образуя его, так что человек, родись он на десять лет раньше или позже, будет совершенно иным в том, что касается его собственного развития и его воздействия на внешний мир.
Таким образом, из подобных поисков и наблюдений, воспоминаний и раздумий возникла настоящая книга; только отдав себе отчет в истории ее возникновения, читатель сможет правильно судить о ней, ее понять и усвоить. А то, что здесь можно было бы еще сказать — главным образом о поэтической и вместе с тем исторической обработке материала, — несомненно, найдет себе место в ходе дальнейшего повествования.
КНИГА ПЕРВАЯ
Двадцать восьмого августа 1749 года, в полдень, с двенадцатым ударом колокола, я появился на свет во Франкфурте-на-Майне. Расположение созвездии мне благоприятствовало: солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените. Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий — без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли; лишь полная луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рожденью, каковое могло совершиться не ранее, чем этот час минует.
Сии добрые предзнаменования, впоследствии высоко оцененные астрологами, вероятно, и сохранили мне жизнь: из-за оплошности повивальной бабки я родился полумертвый, и понадобилось немало усилий для того, чтобы я увидел свет. Это обстоятельство, так встревожившее мою родню, пошло, однако, на пользу моим согражданам, ибо дед мой, шультгейс Иоганн Вольфганг Текстор, озаботился учредить должность городского акушера и ввел, вернее, возобновил обучение повивальных бабок, что, надо думать, сохранило жизнь многим явившимся на свет после меня.
Вспоминая младенческие годы, мы нередко смешиваем слышанное от других с тем, что было воспринято нами непосредственно. Итак, не вдаваясь по этому поводу в кропотливые изысканья, ибо они все равно ни к чему бы не привели, скажу, что жили мы в старинном доме, состоявшем, собственно, из двух соединенных вместе домов. Лестница, наподобие башенной, вела в комнаты, расположенные на разной высоте, а неровность этажей скрадывалась ступенями. Мы, дети, то есть младшая сестра и я, больше всего любили играть в просторных сенях, где одна из дверей вела в деревянную решетчатую клеть, на улице, под открытым небом. Такие клети имелись во Франкфурте при многих домах и звались «садками». Женщины, сидя в них, занимались шитьем и вязаньем, кухарка перебирала там салат, соседки перекликались друг с другом, и в теплую погоду это придавало улицам южный характер. Здесь, в непосредственном общении с внешним миром, все чувствовали себя легко и непринужденно. Благодаря «садкам» дети легко знакомились с соседями, и меня очень полюбили жившие насупротив три брата фон Оксенштейн, сыновья покойного шультгейса. Они всячески забавлялись мною и иной раз меня поддразнивали.
Мои родные любили рассказывать о разных проделках, на которые меня подбивали эти вообще-то степенные и замкнутые люди. Упомяну лишь об одной из них. В городе недавно отошел горшечный торг, и у нас не только запаслись этим товаром для кухни, но и накупили разной игрушечной посуды для детей. Однажды, в послеполуденное время, когда в доме стояла тишина, я возился в «садке» со своими мисками и горшочками, но так как это не сулило мне ничего интересного, я шнырнул один из горшочков на улицу и пришел в восторг от того, как весело он разлетелся на куски. Братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставляет удовольствие, — я даже захлопал в ладоши от радости, — крикнули: «А ну еще!» Нимало не медля, я кинул еще один горшок и, под непрерывные поощрения: «Еще, а ну еще!» — расколотил о мостовую решительно все мисочки, кастрюлечки и кувшинчики. Соседи продолжали подзадоривать меня, я же был рад стараться. Но мой запас быстро истощился, а они все восклицали: «Еще! Еще!» Не долго думая, я помчался на кухню и притащил глиняных тарелок, которые бились даже еще веселее. Я бегал взад и вперед, хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал все, что стояли на нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил всю посуду, до которой мог дотянуться. Наконец пришел кто-то из старших и пресек мои забавы. Но беда уже стряслась, и взамен разбитых горшков осталась всего лишь веселая история, до конца дней забавлявшая ее коварных зачинщиков.
Мать моего отца, в доме которой мы, собственно, и жили, занимала большую комнату, непосредственно примыкавшую к задним сеням, и мы часто вторгались к ней и играли возле ее кресла или даже у ее постели, когда она бывала больна. Мне она вспоминается как некий светлый дух, прекрасная, легкая, всегда в белом опрятном платье. Кроткой, милой, благожелательной навек запечатлелась она в моей памяти.
Мы знали, что улица, на которой стоял наш дом, зовется Оленьим Оврагом, но, не видя ни оленей, ни оврага, полюбопытствовали, откуда же взялось это название. В ответ мы услышали, что дом наш стоит на месте, некогда находившемся за городом, и что там, где пролегает улица, в давние времена был овраг, а в нем содержалось несколько оленей. Этих животных охраняли и кормили, ибо, по старому обычаю, сенат ежегодно давал обед горожанам, к которому подавалась оленина, в овраге же всегда был под рукою олень для предстоящего пиршества, в случае если князья и рыцари чинили препятствия городской охоте или — того хуже — враги, окружив город, держали его в осаде. Это объяснение пришлось нам по душе, и мы очень сожалели, что в наше время нет уже заповедного оврага.
С задней стороны дома, особенно с верхнего этажа, открывался приятнейший вид на необозримую чреду соседских садов, тянувшихся вплоть до городской стены. К сожалению, постепенное превращение общинных угодий в сады при домах привело к тому, что участки нашего дома и нескольких других, расположенных ближе к углу улицы, сильно уменьшились; и в то время, как владельцы домов, выходивших на Конный рынок, обзавелись усадьбами с обширными службами и просторными садами, мы оказались отгороженными от этих райских кущей высокой стеною нашего двора.
Во втором этаже находилась комната, называвшаяся «садовой»: предполагалось, что несколько растений у окна и на подоконнике возместят нам отсутствие сада. По мере того как я подрастал, она сделалась моим любимым уголком, настраивавшим меня на лад не столько грустный, сколько мечтательный. Поверх садов, о которых я уже говорил, поверх городских стен и земляных валов отсюда виднелась прекрасная плодоносная равнина, простиравшаяся до самого Гехста. В летнее время я учил здесь уроки, пережидал грозы и не мог вдосталь насмотреться на заходящее солнце, к которому было обращено окно. Но так как я видел еще и соседей, прохлаждавшихся в своих садах или ухаживавших за цветами, видел, как играют дети, как забавляются хозяева и гости, слышал, как катятся кегельные шары и падают кегли, то во мне очень рано пробудилось чувство одиночества и проистекавшее отсюда томление, которое, в сочетании с заложенной в меня природой серьезностью и настороженной пытливостью, вскоре завладело мною и с годами еще больше обострилось.
Старый сумрачный дом, с многочисленными закоулками, казалось, был создан для того, чтобы вселять страх и робость в детские души. На беду, в те годы еще держались воспитательной максимы — пораньше отучать детей от ужаса перед неведомым и невидимым, заставляя их свыкаться с разными страхами. Поэтому мы с сестрой должны были спать одни, а когда нам это становилось невмоготу и мы, соскочив с кроватей, бежали в людскую или на кухню, отец в вывернутом наизнанку шлафроке, то есть для нас почти неузнаваемый, внезапно вырастал у нас на пути и загонял перепуганных детей обратно в спальню. Каждому ясно, что ничего доброго такая система принести не могла. Как избавиться от пугливости тому, кто зажат в тиски двойного страха? Моя мать, всегда веселая и жизнерадостная, ценившая эти качества и в других, изобрела лучший педагогический прием: она добивалась той же цели путем поощрений. В то время как раз созрели персики, и она обещала по утрам давать их нам, сколько душе угодно, если мы сумеем побороть свои ночные страхи. Опыт удался, и обе стороны были довольны.
Внутри дома мое внимание в первую очередь привлекали виды Рима, которыми отец украсил один из залов, — гравюры нескольких искусных предшественников Пиранези, отлично разбиравшихся в зодчестве и перспективе и с превосходной четкостью работавших иглою. Здесь я ежедневно созерцал Пьяццу-дель-Пополо, Колизей, площадь Святого Петра, собор святого Петра изнутри и снаружи, Замок Святого Ангела и многое другое. Эти образы глубоко запечатлелись в моем воображении, и отец, обычно весьма немногословный, иной раз удостаивал меня довольно подробных описаний того или иного уголка Рима. Его пристрастие к итальянскому языку и ко всему, что имело отношение к Италии, выражалось ярко и определенно. Иной раз он показывал нам еще и небольшое собрание мраморов и естественноисторических редкостей, вывезенных им оттуда. Бо́льшую часть времени он писал по-итальянски воспоминания о своем путешествии, затем собственноручно их правил и с кропотливой тщательностью переписывал в тетради. В сих трудах ему помогал учитель итальянского языка, старый весельчак по фамилии Джовинацци. Этот старик к тому же недурно пел, и моя мать ежедневно аккомпанировала на клавесине ему и себе; так я узнал и затвердил «Solitario bosco ombroso»[2], прежде чем стал понимать слова песни.
Мой отец был вообще склонен к поучениям и, находясь не у дел, любил поучать других тому, что сам узнал и усвоил. Так, в первые годы совместной жизни он принуждал мою мать усердно совершенствовать свое письмо, а также играть на клавесине и петь; при этом ей еще вменялось в обязанность приобрести некоторые познания в итальянском языке и известную беглость в разговоре.
Обычно часы досуга мы проводили у бабушки, в просторной комнате, где было довольно места для наших игр. Она любила забавлять нас разными пустяками и потчевать отменными лакомствами. Но однажды, в канун рождества, бабушка велела показать нам кукольное представление, и это был венец ее благодеяний, ибо таким образом в старом доме она сотворила новый мир. Неожиданное зрелище захватило наши юные души, и на детях, особливо на мальчике, долго сказывалось это глубокое и сильное впечатление.
Маленькая сцена с ее немыми актерами, сначала только показанная нам, а потом всецело отданная в наши руки, с тем чтобы мы вдохнули в нее драматическую жизнь и научились управлять куклами, сделалась для нас, детей, вдвойне дороже уже оттого, что это был последний дар любимой бабушки, к которой нас вскоре перестали пускать из-за обострившейся болезни, а затем и навеки отнятой у нас смертью. Ее кончина имела для всей семьи тем большее значение, что повлекла за собой полную перемену житейских обстоятельств.
При жизни бабушки отец остерегался что бы то ни было менять или обновлять в доме, но все знали, что он носится с планами полной его перестройки, к которой он теперь и приступил без дальнейших промедлений. Во Франкфурте, как и во многих старинных городах, при возведении деревянных построек было принято, с целью выгадать место, строить этажи выступами, отчего улицы, и без того узкие, становились мрачными, даже жуткими. Наконец был издан закон, согласно которому при возведении нового дома разрешалось выдвигать над линией фундамента только второй этаж, остальные должны были строиться уже вертикально. Отец, не желая поступиться выдававшимися вперед помещениями третьего этажа и заботясь не столько о внешнем виде дома, сколько об удобствах внутреннего его устройства, прибег к уловке, к которой не раз уже прибегали его сограждане. Под верхний этаж были подведены подпоры, нижние этажи вынимали один за другим, а на их место как бы вдвигались новые, так, чтобы, когда от прежнего строения, собственно, ничего уже не оставалось, новое могло бы сойти за переделанное старое. Поскольку дом ломали и восстанавливали постепенно, отец решил не выезжать из него, чтобы лучше присматривать за стройкой и даже руководить ею, ибо он хорошо разбирался в строительной технике и к тому же не хотел расставаться с семьей. Эта новая эпоха для детей была неожиданной и странной. Видеть, как комнаты, где они нередко сидели взаперти за докучливыми уроками или другими занятиями, коридоры, где они играли, и стены, о чистоте которых так пеклись все в доме, рушатся под ломом каменщика, под топором плотника, да еще подсекаются снизу, в то время как ты паришь где-то вверху на подпорах, и вдобавок тебя понуждают, как всегда, делать уроки или какую-нибудь работу, — все это будоражило юные умы, и не так-то легко было их успокоить. И все же дети меньше чувствовали эти неудобства, потому что теперь было больше места для игр, к тому же иной раз предоставлялась возможность попрыгать с балки на балку или покачаться на досках.
Поначалу отец упорствовал в своих намерениях, но когда уже и крыша была частично снесена, и дождь, несмотря на натянутую сверху вощанку из-под содранных обоев, добрался до наших кроватей, он скрепя сердце все же решился отправить детей к благожелательным друзьям, уже давно предлагавшим им свой кров, и отдать их в школу.
В такой перемене было много неприятного. Дети, обособленно воспитывавшиеся дома хотя и в строгости, но в понятиях чистоты и благородства, вдруг оказались среди необузданной юной толпы. Нежданно-негаданно им пришлось претерпеть много грубого, дурного, даже низкого, ибо у них не было ни уменья, ни оружия, чтобы защитить себя.
В это время я, собственно, впервые узнал свой родной город. Мало-помалу я стал все дольше и беспрепятственнее бродить по нему один или с моими бойкими сверстниками. Для того чтобы хоть отчасти передать впечатление, произведенное на меня его чинными и величавыми улицами, я должен несколько забежать вперед и рассказать о нем в той постепенности, в какой он мне открывался. Всего больше мне нравилось гулять по большому мосту через Майн. Длина, прочность и красивый внешний вид делали этот мост поистине примечательным сооружением, к тому же он был едва ли не единственным старинным памятником того попечения о гражданах, каковое является долгом гражданских властей. Река, живописная как вверх, так и вниз по течению, тешила мой взор. И когда на мостовом кресте в лучах солнца снял золотой петух, я неизменно испытывал радостное волнение. Нагулявшись в Саксенгаузене и уплатив крейцер перевозчику, мы любили переправляться через реку. И вот уж опять оказывались на своем берегу и спешили на Винный рынок подивиться тому, как работают механизмы подъемных кранов при разгрузке товара, но еще интереснее было наблюдать за прибытием торговых судов: чего-чего тут не насмотришься и какие чудные люди иной раз сходят с них! Возвращаясь в город, мы всякий раз благоговейно приветствовали Заальгоф, который как-никак стоял на месте, где некогда высился замок императора Карла Великого и его преемников. Далее мы углублялись в ремесленный город и, особенно в базарный день, смешивались с толпою, кишевшей вокруг церкви святого Варфоломея. Здесь с давних пор теснились одна к другой лавчонки мелочных торговцев и старьевщиков, так что в новые времена оказалось нелегким делом сыскать на этой площади место для просторных и удобных торговых рядов. Более всего нас, детей, привлекали книжные лавки на так называемом Пфарэйзене, и мы снесли туда немало мелких монет в обмен на пестро раскрашенные бумажные листы с золочеными изображениями зверей. Но далеко не всегда удавалось нам протолкаться через забитую народом, тесную и грязную рыночную площадь. Помнится, я в ужасе шарахался от примыкавших к ней омерзительных узких мясных рядов. Тем более приятным местом для прогулок был Рёмерберг. Дорога в новый город, через новые торговые ряды, неизменно веселила и радовала сердце. Мы только досадовали, что от Либфрауенкирхе нельзя прямиком пройти к Цейле, а приходится делать крюк через Хазенгассе или ворота святой Катарины. Но всего сильнее на воображение ребенка действовали многочисленные маленькие городки в городе, крепостцы в крепости, то есть обнесенные стенами бывшие монастырские Земли и похожие на замки строения, сохранившиеся от прошлых веков: к примеру, Нюрнбергское подворье, Компостель, Браунфельс, родовой замок Штальбургов и множество разных других укреплений, в позднейшие времена приспособленных под жилье или мастерские. Ничего примечательного в смысле архитектуры в те годы во Франкфурте не было: все напоминало о давно прошедшем времени, весьма тревожном для города и его округи. Ворота и башни, обозначавшие границы старого города, дальше опять ворота, башни, стены, мосты, валы, рвы, обступавшие новый город, и доныне ясно свидетельствовали, что эти сооружения возводились в смутные времена для безопасности городских жителей и что площади и улицы, даже новые, более широкие и красивые, возникли по произволу и по воле случая, без строго продуманного плана. Любовь к старине укоренялась в мальчике, питаемая и поддерживаемая главным образом старыми хрониками и гравюрами на дереве, такими, к примеру, как гравюра Грава, изображающая осаду Франкфурта; наряду с этой любовью росло стремленье — познать человеческую жизнь во всем ее естественном многообразии, не посягающем ни на красоту, ни на значительность. Может быть, потому одной из любимейших наших прогулок, которую мы обязательно совершали несколько раз в году, была прогулка по городской стене. Сады, дворы, службы тянутся до самого вала, тысячи людей видны нам в их домашней, повседневной, обособленной и потайной жизни. Щегольские и нарядные сады богачей, плодовые сады бюргера, озабоченного только своим благосостоянием, дальше отбельные мастерские и тому подобные заведения и, наконец, кладбище, — целый маленький мир был заключен в стенах города; по пути мы любовались многообразнейшим, причудливейшим, на каждом шагу меняющимся зрелищем, которым не могло насытиться наше детское любопытство. Право же, знаменитый Хромой Бес, по ночам приподнимавший для своего друга крыши мадридских домов, вряд ли показал ему больше, чем увидели мы здесь, под открытым небом при ярком солнечном свете. Ключи, необходимые нам для того, чтобы проходить через всевозможные башенки, лестницы и ворота, находились в руках смотрителей, и мы всячески старались к ним подольститься.
Еще значительнее и в некотором смысле плодотворнее было для нас все связанное с ратушей, именуемой Рёмер. Мы подолгу торчали в ее нижних сводчатых залах. Всеми правдами и неправдами добивались разрешения войти в большой, но очень скромный зал заседаний. На стенах его, снизу обшитых панелями и таких же белых, как своды, не было ни единой фрески или картины. Только вверху на средней стене — надпись:
Одного мужа слово —
Для суда не основа;
Допроси и того и другого.
По древнему обычаю, для членов совета вдоль панелей были поставлены скамьи, на одну ступень поднятые от пола. Таким образом, мы наглядно уяснили себе, почему ранги в нашем сенате распределяются по скамьям. По левую руку от двери до противоположного угла, так сказать, на первой скамье, сидели старшины, в самом углу — шультгейс, единственный, перед кем стоял маленький столик, дальше до окон сидели господа второй скамьи, и уже вдоль окон тянулась третья, занимаемая ремесленниками, в середине зала стоял стол протоколиста.
Попав в Рёмер, мы немедленно смешивались с толпой, теснившейся у входа в бургомистров аудиенц-зал. Но наибольший интерес возбуждало в нас все касающееся избрания и коронации императоров. Заручившись благосклонностью привратников, мы получали разрешение подняться по новой, нарядной, расписанной фресками императорской лестнице, обычно запиравшейся решеткой. Зал выборов, с пурпурными шпалерами и мудреной золотой резьбой по карнизу, внушал нам благоговейное чувство. Мы внимательнейшим образом рассматривали створки дверей, на которых, образуя причудливые сочетания, были изображены не то гении, не то младенцы в монаршем одеянье и при императорских регалиях, — в надежде когда-нибудь собственными глазами увидеть коронацию. Немалых трудов стоило выдворить нас из большого императорского зала, если уж нам удавалось в него проскользнуть, и мы почитали за лучшего друга того, кто хоть немного рассказывал нам о деяниях императоров, поясные портреты которых, все на одной высоте, были развешаны по стенам.
Много легенд услышали мы о Карле Великом, но интересное начиналось для нас лишь с истории Рудольфа Габсбургского, чья отвага положила конец великой смуте. Привлекал к себе наше внимание и Карл Четвертый. Мы уже были наслышаны о Золотой булле и жестоком уголовном уложении, а также о том, что он не мстил франкфуртцам за их приверженность к его благородному сопернику, Гюнтеру Шварцбургскому. Императора Максимилиана нам восхваляли за его человеколюбие и благосклонность к бюргерству, рассказывали и о его, увы, сбывшемся пророчестве, что он будет последним императором из немецкого дома. И правда, после его смерти выбор уже колебался только между испанским королем, Карлом Пятым, и французским, Франциском Первым. Многие сокрушенно замечали, что и сейчас существует такое же пророчество, вернее — предзнаменование: ведь каждый своими глазами видит, что на стене осталось место лишь для одного императорского портрета. Это обстоятельство, может быть, и случайное, наполняло тревогой сердца патриотически настроенных граждан.
Совершая свой обход, мы не забывали заглянуть и в собор, чтобы там постоять у гробницы Гюнтера, равно почитаемого друзьями и недругами. Пресловутая плита, некогда покрывавшая его могилу, теперь была водружена на хоры. Рядом с нею находилась дверь в комнату конклава, долгое время остававшаяся для нас закрытой, покуда мы наконец не получили от высшего начальства дозволения войти и в этот примечательный зал. Но лучше бы мы по-прежнему рисовали его себе в воображении: покой, игравший столь важную роль в немецкой истории, покой, в котором собирались могущественные властители для совершения акта первостепенной важности, не только не имел торжественного вида, а был завален балками, жердями, досками и прочим хламом, который хотелось поскорее вышвырнуть оттуда. Но еще больше пищи получила наша фантазия, когда немного времени спустя нам позволили присутствовать в ратуше при показе Золотой буллы каким-то знатным иностранцам.
Не удивительно, что позднее мальчик с жадностью внимал своим родителям, а также пожилым родственникам и знакомым, любившим рассказывать о последних коронациях, быстро следовавших одна за другой. В то время вряд ли нашелся бы хоть один немолодой франкфуртец, который бы не считал эти события и все с ними связанное вершиной своей жизни. Необычайным великолепием была отмечена коронация Карла Седьмого — особенно прогремели тогда столь же богатые, сколь и изящные праздники у французского посла, — но тем печальнее оказались ее последствия для благодушного императора, не сумевшего удержать своей резиденции — Мюнхена и вынужденного чуть ли не молить о пристанище имперские города.
Коронация Франца Первого, пусть не такая блистательная, была зато украшена присутствием императрицы Марии-Терезии, красота которой, видимо, произвела не менее сильное впечатление на мужчин, чем в свое время на женщин горделивая осанка и голубые глаза Карла Седьмого. Так или иначе, но представители обоих полов наперебой расписывали мальчику, который весь превращался в слух, необычайные достоинства сих царственных особ. Всем этим воспоминаниям и восторгам старшие предавались в уже умиротворенном и радостном расположении духа: ведь Ахенский мир покончил со всеми распрями, и о коронационных празднествах франкфуртцы вспоминали так же благодушно, как о миновавших военных походах, о битве при Деттингене и прочих удивительных событиях минувших лет; казалось — как это часто бывает после наступления мира, — что все грозное и важное свершилось лишь для того, чтобы стать предметом разговора счастливых и беззаботных людей.
Не прошло и полугода в этих патриотических увлечениях, как уже приспела пора ярмарок, всегда производящих неимоверное брожение в детских умах. Постройка лавок и балаганов, благодаря чему в городе в кратчайший срок как бы возникал новый город, суета и спешка, выгрузка и распаковка товаров — все это с раннего детства пробуждало в нас неутомимо-хлопотливое любопытство и необоримую страсть к ребяческому приобретательству. Подрастая, мальчик старался то так, то эдак ее удовлетворить, в зависимости от содержимого своего маленького кошелька. Но заодно с этой суетой формировалось и представление о том, что производит человечество, в чем оно нуждается и чем обмениваются между собой обитатели разных частей света.
Наступление великой ярмарочной эпохи весной и осенью возвещалось своеобразными празднествами, тем более примечательными, что они давали нам живое представление о старом времени и о том, что дошло до нас от него. В День проводов весь народ был на ногах и целые толпы устремлялись на большую дорогу и к мосту; давка стояла до самого Саксенгаузена; окна были забиты любопытными, хотя ничего из ряду вон выходящего за весь день, собственно, не происходило. Казалось, народ высыпал на улицы, просто чтобы потолкаться, других посмотреть и себя показать. Ведь то, из-за чего поднималась эта кутерьма, должно было свершиться лишь с наступлением ночи, когда приходилось дополнять фантазией многое ускользавшее от глаз.
В давние беспокойные времена, когда каждый по собственному произволу творил злодеяния или по собственной охоте совершал добрые дела, отправлявшиеся на ярмарку торговые люди подвергались нападениям и жестоким издевкам разбойников благородного и неблагородного происхождения, а потому владетельные князья и другие высокие лица приказывали вооруженным отрядам сопровождать своих купцов до самого Франкфурта. Но и граждане имперского города не хотели уронить достоинства — своего и своих земель: они выезжали навстречу прибывшим, и тут нередко возникали споры — на какое расстояние подпустить вооруженный конвой и открыть ли ему доступ в город. Но так как дело доходило до серьезных потасовок не только во время ярмарок или при завозе товаров, но также в военное и мирное время, главным образом в дни выборов императора, когда многие высокие особы держали свой въезд во Франкфурт и их свиты — вопреки воле наших властей — пытались прорваться в город вслед за своими повелителями, то с давних пор велись переговоры, как избегнуть распрей, и были даже достигнуты известные соглашения на основе взаимных уступок, предвещавшие конец веками длившейся усобицы, тем паче что самый повод к этой бесконечной кровопролитной тяжбе давно уже устарел.
Итак, несколько отрядов бюргерской кавалерии с начальниками во главе выезжали из разных порот, в условленном месте встречались с кавалеристами или гусарами имперских чинов, имевших право на конный конвой, радушно их угощали и, помедлив до наступления вечера, едва видные нетерпеливо ожидающей толпе, возвращались в город, хотя к этому позднему часу многие всадники уже едва-едва держались в седле и с трудом правили лошадью. Наиболее многолюдные отряды въезжали в Мостовые ворота, и потому давка там была всего сильнее. Наконец, уже в полной темноте и тоже под конным конвоем, прибывала нюрнбергская почтовая карета, в которой, по старому поверью, якобы всякий раз восседала древняя старуха; тут уличные мальчишки поднимали отчаянный крик, хотя в потемках и невозможно было разглядеть пассажиров. Невообразимым и поистине пугающим становился в эти минуты напор толпы, через Мостовые ворота устремлявшейся к карете, почему окна соседних домов и были до отказа забиты народом.
Другой, еще более странный праздник, будораживший народ уже средь бела дня, был Суд дудошников. Церемония эта свершалась в память той давней поры, когда большие торговые города тщились если не освободиться от пошлин, возраставших по мере роста торговли и ремесел, то хотя бы снизить их. Император, нуждавшийся в пошлинах, иной раз даровал им эти льготы, но всего лишь на год, по истечении которого надо было снова ходатайствовать о возобновлении таковых. Ходатайство это выражалось в поднесении символических даров императорскому шультгейсу, который нередко бывал и главным мытарем; эти подношения для пущей таинственности совершались в канун Варфоломеевской ярмарки, когда шультгейс заседал в суде со старшинами. Позднее, хотя шультгейс более не назначался императором, а выбирался самим городом, за ним тем не менее сохранилось право принимать дары в день продления льгот, при соблюдении церемоний, которыми депутаты Вормса, Нюрнберга и Альтбамберга отмечали древнее высочайшее соизволение. В канун рождества богородицы объявлялось открытое заседание суда. В большом императорском зале, в огороженной его части, на возвышении сидели старшины, а ступенью повыше — шультгейс; место для уполномоченных сторонами прокураторов находилось внизу, справа. Актуарий оглашает назначенные на этот день важные судебные дела, прокураторы просят снять копии, пишут апелляции, — словом, делают все, что им положено.
Вдруг необычная музыка возвещает возвращение былых времен. Это три дудошника. Один свистит в старую свирель, другой играет на фаготе, третий — на поммере или гобое. На них синие, расшитые золотом плащи, головы покрыты, к рукавам пришпилены ноты. В таком виде они выходят из гостиницы ровно в десять часов утра в сопровождении послов и других выборных лиц и вступают в зал на глазах у любопытных франкфуртцев и приезжих. Заседание суда прекращается, дудошники со своей свитой остаются стоять перед загородкой, посол же входит в нее и становится напротив шультгейса. Символические дары точно соответствуют старинному обычаю и, как правило, состоят из товаров, которыми преимущественно торгует данный город. Перец некогда заменял собою любой товар, и потому посол города и сейчас вручает шультгейсу искусно выточенный деревянный бокал, до краев наполненный перцем. Поверх него положена пара перчаток с затейливыми прорезами, с шелковой обстрочкой и с кисточками — символ дарованной и принятой льготы, — такие перчатки, случалось, надевал и сам император. К дарам приобщена еще и белая палочка, без этой палочки в старину не обходилось ни одно судебное заседание или чтение закона, а также несколько мелких серебряных монет. Город Вормс неизменно подносил шультгейсу старую фетровую шляпу, которую тут же у него выкупал, так что она долгие годы была свидетельницей этого церемониала. Посол, произнеся свою речь, отдав дары и получив от шультгейса заверение, что льгота будет продлена, выходил из загородки, дудошники дудели, шествие удалялось в прежнем порядке, а суд продолжал заседание, покуда не вводили второго и, наконец, третьего посла. Они являлись через известные промежутки времени, отчасти чтобы продлить удовольствие публике, отчасти потому, что это были все те же старинные виртуозы, содержание которым за себя и за союзные города выплачивал Нюрнберг, ежегодно посылавший их на очередное лицедейство.
Мы, дети, особенно тешились этим праздником: очень уж лестно было видеть своего дедушку на столь почетном месте, к тому же мы в этот день со скромным видом отправлялись к нему в гости, где бабушка, высыпав перец в ящик для пряностей, отдавала нам бокал и палочку, а не то и перчатки или старинную монетку майнцской чеканки. Невозможно было понять символические церемонии, как бы по мановению волшебного жезла воскрешавшие старину, не перенесясь мыслью в минувшие столетия, не разузнав про обычаи, нравы и убеждения предков, как бы чудом восставших из мертвых в образе дудошников и городских послов, более того — в осязаемых дарах, становившихся нашей собственностью.
За праздниками в честь седой старины в летнее время следовал еще более радостный для детей праздник в сельской местности, под открытым небом. На правом берегу вниз по течению Манна и в получасе ходьбы от городских ворот бьет серный источник, тщательно оправленный в камень и окруженный древними липами. Неподалеку от него расположен постоялый двор «У добрых людей», в прошлом — больница при источнике. В определенный день сюда на общинные пастбища сгоняли стада со всей округи, и пастухи со своими девушками устраивали сельский праздник с танцами, пением и прочими вольными забавами. По другую сторону города еще шире раскинулись общинные земли, там тоже был ключ и росли еще более красивые липы. На троицу туда пригоняли овечьи стада, и из приютских стен выпускали на вольный воздух бледных и хилых детей-сирот. В то время никому еще и в голову не приходило, что надо пораньше ознакомить с жизнью бедняжек, которым придется пробивать себе в ней дорогу, и что лучше, чем холить и нежить, с младых ногтей приучать их к труду и долготерпенью, а главное — закалять как морально, так и физически. Мамки и няньки, всегда охочие до гулянья, с младенчества таскали нас по таким местам, и сельские праздники были едва ли не первыми моими впечатлениями.
Тем временем была закончена перестройка дома, и, надо сказать, за сравнительно короткий срок, ибо все было заботливо продумано, подготовлено и обеспечено необходимым капиталом. Мы опять были вместе и чувствовали себя превосходно. Когда хорошо разработанный план уже осуществлен, забываются все неудобства, которые были сопряжены с его осуществлением. Дом, веселый и светлый, был достаточно поместителен для нашей семьи, лестницу сделали широкой, переднюю — приветливой, а вышеупомянутым видом на сады теперь можно было любоваться уже из нескольких окон. Внутреннее устройство и отделка заканчивались постепенно, и это служило для нас занятием и развлечением.
Первым делом мы взялись за приведение в порядок отцовской библиотеки; решено было, что лучшие книги в сафьяновых и кожаных переплетах будут украшать стены его кабинета. У отца были прекрасные голландские издания латинских авторов, которые он ради внешнего единообразия старался приобретать всегда в формате ин-кварто, и множество книг о памятниках римской эпохи, а также об искусстве судебных ораторов. Не было недостатка и в итальянских поэтах, из которых отец всем предпочитал Тассо. Библиотека изобиловала еще и описаниями путешествий: отцу доставляло удовольствие дополнять и исправлять Кейслера и Немейца; кроме того, он окружил себя многочисленными пособиями, то есть разными лексиконами и энциклопедическими словарями; заглянув в них, можно было в любую минуту получить нужную справку или полезные и любопытные сведения.
Другая половина книг, в аккуратных пергаментных переплетах с красиво выписанными названиями, размещалась в специально для того приспособленной мансарде. Покупкой новых книг, переплетением таковых и расстановкой по местам отец занимался размеренно и тщательно. При этом на него большое влияние оказывали отзывы ученых о том или ином произведении. А его собрание юридических диссертаций ежегодно увеличивалось на несколько томов.
Вскоре и картины, в старом доме висевшие где попало, были собраны вместе и симметрично развешаны по стенам светлой веселой комнаты рядом с кабинетом — все до одной в черных рамах, украшенных золотыми планками. Отец мой держался убеждения и часто даже со страстью высказывал его, что надо давать занятие современным художникам и меньше интересоваться умершими, ибо в оценке старых работ большую роль играет предвзятое мнение. Он не сомневался, что с произведениями живописи дело обстоит так же, как с рейнскими винами, которые хоть и становятся дороже по достижении известного возраста, но в последующие годы изготовляются не хуже. Со временем новое вино делается старым и столь же ценным, а возможно, даже более вкусным. В такой мысли его укрепляло наблюдение, что для любителей старые картины представляют особую ценность главным образом потому, что от времени они стали темными и бурыми, а этот гармонический тон приводит знатоков в восхищение. Отец, со своей стороны, говорил, что вовсе не страшится, если новые картины почернеют в будущем, но никак не соглашался, что они станут от этого лучше.
Исходя из этого положения, он много лет подряд заказывал картины всем франкфуртским художникам: Хирту, который писал дубовые и буковые леса и прочие сельские ландшафты, искусно оживляя их пасущимися стадами; Траутману, взявшему себе за образец Рембрандта и достигшему немалого искусства в изображении света ламп и фонарей, световых бликов и еще более эффектных пожаров, так что однажды ему был даже заказан pendant[3] к картине Рембрандта; далее, Шюцу, усердно писавшему прирейнские пейзажи в манере Захтлебена, и, наконец, Юнкеру, в подражание нидерландцам аккуратно выписывавшему цветы, плоды, натюрморты и людей за мирными занятиями. Теперь, благодаря новой развеске картин и более удобному помещению, но прежде всего благодаря знакомству с умелым художником, тяга к коллекционерству вновь ожила в отце. Художник этот был некий Зеекац, ученик Бринкмана, придворный живописец в Дармштадте, о таланте и характере которого будет подробнее говориться в дальнейшем.
В том же духе продолжалась отделка прочих комнат, сообразно различному их назначению. Чистота и порядок царили в доме; свет, проникавший сквозь большие зеркальные стекла, заливал все помещения, тогда как в старом доме было темновато по многим причинам, но главным образом из-за круглых оконных створок. Отец, оттого что все так хорошо ему удалось, пребывал в наилучшем расположении духа, омрачавшемся иной раз только из-за нерадивости или недостаточной, по его мнению, расторопности рабочих. Итак, трудно было придумать более счастливую жизнь, чем в ту пору, когда много хорошего происходило в нашем семействе и столько же притекало извне.
Но вскоре величайшее мировое бедствие в первый раз нарушило душевное спокойствие мальчика. Первого ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, вселившее беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою. Ужаснейшая катастрофа обрушилась на Лиссабон, пышную королевскую резиденцию, большой порт и торговый город. Земля колеблется и дрожит, море вскипает, сталкиваются корабли, падают дома, на них рушатся башни и церкви, часть королевского дворца поглощена морем, кажется, что треснувшая земля извергает пламя, ибо огонь и дым рвутся из развалин. Шестьдесят тысяч человек, за минуту перед тем спокойные и безмятежные, гибнут в мгновенье ока, и счастливейшими из них приходится почитать тех, что уже не чувствуют и не осознают беды. Огонь продолжает свирепствовать, и вместе с ним свирепствует банда преступников, вырвавшихся на свободу во время катастрофы. Те несчастные, что остались в живых, беззащитны перед лицом убийства, грабежа, насилия. Так природа, куда ни посмотри, утверждает свой безграничный произвол.
Скорее, чем вести о страшном событии, распространились вдаль его симптомы; во многих местах ощущались легкие толчки, вдруг перестали бить некоторые источники, главным образом целебные. Тем сильнее было потрясение от быстро разносившихся вестей, сначала лишь о самой катастрофе, потом об ее ужасающих подробностях. Люди богобоязненные тотчас же стали приводить свои соображения, философы — отыскивать успокоительные причины, священники в проповедях говорили о небесной каре. Все это вместе на долгое время приковало внимание человечества к небывалому бедствию, и умы, встревоженные чужим несчастьем, тем паче были напуганы опасениями за себя и своих близких, что со всех концов земли поступали все более подробные сведения о влиянии подземного взрыва. Демон ужаса, может быть, никогда еще так внезапно и так грозно не повергал в трепет мир.
Мальчик, которому пришлось неоднократно слышать подобные разговоры, был подавлен. Господь бог, вседержитель неба и земли, в первом члене символа веры представший ему столь мудрым и благостным, совсем не по-отечески обрушил кару на правых и неправых. Тщетно старался юный ум противостоять этим впечатлениям; попытка тем более невозможная, что мудрецы и ученые мужи тоже не могли прийти к согласию в вопросе, как смотреть на сей феномен.
Следующее лето предоставило мальчику еще более непосредственную возможность познать грозного бога, о котором так подробно повествует Ветхий завет. Нежданно налетевший град под гром и сверкание молнии разбил новые зеркальные стекла на западном фасаде дома, повредил новую мебель, попортил несколько ценных книг и дорогих вещей; детям же все показалось еще страшнее, оттого что насмерть перепуганная челядь утащила их в темный коридор и там, пав на колени, отчаянными воплями и криками пыталась усмирить разгневанное божество. Отец, единственный не потерявший присутствия духа, успел распахнуть окна и вынуть рамы, чем спас несколько стекол, но зато открыл доступ ливню, разразившемуся после града; когда гроза наконец прекратилась, передние и лестницы были залиты журчащими потоками воды.
Подобные происшествия, хоть и вносившие известное беспокойство, лишь незначительно нарушали ход и распорядок уроков, которые отец решил сам давать детям. Юные свои годы он провел в кобургской гимназии, занимавшей одно из первых мест среди немецких учебных заведений. Оттуда он вынес превосходное знание языков и всего того, что причислялось к основным предметам. Позднее отец изучал юриспруденцию в Лейпциге и получил степень магистра в Гисене. Его старательно и серьезно написанная диссертация «Electa de aditione hereditatis»[4] и поныне одобрительно упоминается профессорами права.
Смиренное желание всех отцов: видеть осуществленным в сыновьях то, что не далось им самим, как бы прожить вторую жизнь, обязательно использовав в ней опыт первой. Уверенный в своих знаниях, полагаясь на свое долготерпенье и не доверяя тогдашним учителям, отец решил сам учить нас, лишь в силу необходимости приглашая учителей для нескольких предметов. В то время повсеместно утверждалось педагогическое дилетантство. Поводом к тому, вероятно, послужил унылый педантизм учителей в казенных школах. Начались поиски чего-то лучшего, но при этом никто не подумал о том, сколь неудовлетворительно должно быть такое любительское преподавание.
Жизненный путь отца до тех пор свершался в соответствии с его желаниями; мне предстояло идти по той же проторенной дороге, только дальше. Отец тем более ценил мои врожденные дарования, что ему недоставало их: он достиг того, что знал, лишь неимоверным прилежанием, упорством и зубрежкой. В юные мои годы и позднее он не раз говаривал, в шутку и всерьез, что с моими задатками вел бы себя иначе и попусту бы их не транжирил.
Благодаря способности быстро схватывать, вникать в глубь предмета и прочно его усваивать я вскоре оставил позади то, что мне могли дать отец и прочие учителя, ни в чем не приобретя основательных знаний. Грамматика не пришлась мне по вкусу, ибо я рассматривал ее как некое произвольное установление; грамматические правила, опровергаемые бесчисленными исключениями, которые надо было заучивать отдельно, меня смешили. Если бы не рифмованный латинский учебник, не знаю, что бы со мной было, но эти стишки я охотно отбарабанивал или же читал нараспев. Была у нас и география с памятными стишками, и, странное дело, с помощью самых безвкусных виршей лучше всего запоминалось то, что надо было запомнить, к примеру:
В Обер-Исселе — трясина,
Неприглядная картина.
Формы и обороты речи давались мне легко, отчего я быстро разобрался в том, что́ лежит в основе понятий. В риторике, хриях и тому подобном я был непревзойденным учеником, хотя сильно отставал в правописании. Тем не менее мои сочинения радовали отца, и за них он дарил меня деньгами, для мальчика довольно изрядными.
Отец учил сестру по-итальянски в той же комнате, где я затверживал Целлариуса. Быстро справившись с заданным уроком и все же вынужденный сидеть смирно, я, уже не глядя в книгу, прислушивался к речам отца и вскоре понаторел в итальянском языке, представлявшемся мне забавным отклонением от латинского.
Преждевременное развитие, в смысле памяти и сообразительности, роднило меня с детьми, рано прославившимися в силу тех же качеств. Поэтому отцу не терпелось послать меня в университет. Вскоре он объявил, что я тоже должен буду изучать юриспруденцию в Лейпциге, к которому он питал неизменное благорасположение, а затем перейду в какой-нибудь другой университет, чтобы там приобрести степень магистра. Что касается этого второго университета, то ему было довольно безразлично, какой я изберу, недоброжелательно он, по неизвестным мне причинам, относился только к Геттингенскому, о чем я очень сожалел, так как мне этот университет внушал доверие и я возлагал на него большие надежды.
Позднее он говорил, что мне надо будет отправиться в Вецлар и Регенсбург, наконец, в Вену и уже оттуда в Италию, хотя тут же настойчиво повторял, что сначала следует посмотреть Париж, ибо на обратном пути из Италии ничто уже не услаждает дух.
Я охотно и по многу раз слушал эту сказку о предстоящих годах моей юности, тем паче что она неизменно заканчивалась рассказами об Италии и описанием Неаполя. Куда в это время девалась всегдашняя суровость и сухость отца, он словно оттаивал, оживлялся, и в нас, детях, зарождалось страстное желание приобщиться к этому раю.
По предметам, которые нам преподавали учителя и которых становилось все больше, вместе со мной занимались и соседские мальчики. Эти совместные уроки мне мало что давали; учителя шли по проторенной дорожке, а проказы, иной раз даже злостные выходки моих соучеников вносили беспокойство, неурядицу и смуту в скудно отмеренные часы занятий. Хрестоматий, предназначенных оживлять и разнообразить уроки, в нашем городе еще не было. Слишком деревянный для юношества Корнелий Непот, не в меру легкий и благодаря проповедям и урокам закона божия уже приевшийся Новый завет, Целлариус и Пазор не представляли для нас никакого интереса; зато нами овладела поистине неуемная страсть к рифмоплетству и стихотворству, вызванная к жизни чтением тогдашних немецких поэтов. Меня она охватила еще раньше, когда я заметил, сколь забавно от риторического толкования предмета переходить к поэтическому.
Мы, мальчики, сходились по воскресным дням для чтения сочиненных нами стихов. И тут-то я столкнулся с поразительным явлением, на долгое время лишившим меня покоя. Мои стихи, каковы бы они ни были, всегда казались мне самыми лучшими. Вскоре, однако, я заметил, что и мои товарищи, довольно-таки незадачливые стихоплеты, не меньше меня чванятся своими стихами. И еще подозрительнее показалось мне, что, хотя стихи одного славного, но никак не созданного для подобных упражнений мальчика, с которым я был в самых дружеских отношениях, за него писал гувернер, тот не только считал их наилучшими, но был вполне уверен в своем авторстве; так, во всяком случае, он утверждал в откровенной беседе со мной. Будучи свидетелем столь безумного заблуждения, я однажды вдруг усомнился: не заблуждаюсь ли я в такой же мере, не лучше ли эти стихи моих стихов и не кажусь ли я моим приятелям таким же полоумным, какими они кажутся мне? Я долго из-за этого тревожился, ибо не мог отыскать внешней приметы истины, более того, перестал писать стихи, покуда легкомыслие, самомнение и, наконец, пробная работа, внезапно заданная нам учителями и родителями, внимание которых привлекли наши забавы, меня не успокоила, ибо я в ней отличился и заслужил всеобщее одобрение.
В те времена еще не существовали библиотеки для детей. Ведь и взрослым тогда был присущ детский склад мыслей, и они почитали за благо просто передавать потомству накопленные знания. Кроме «Orbis pictus»[5] Амоса Коменского ни одна книга, пригодная для детского чтения, не попадала к нам в руки, зато мы часто рассматривали Библию с гравюрами Мериана. Готфридова хроника, иллюстрированная тем же художником, повествовала нам о примечательнейших событиях мировой истории; «Acerra philologica»[6] расцвечивала их всевозможными сказаниями, легендами и курьезами. А так как вскоре мне в руки попали Овидиевы «Метаморфозы» и я внимательно проштудировал их, в особенности первые книги, и мои юный мозг наполнился целой массой картин, событий, значительных и оригинальных образов, то я уже никогда не скучал, непрестанно занятый переработкой этой поживы, повторением и воссозданием воспринятого.
Куда более чистый и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних, «Телемах» Фенелона, впервые прочитанный мною в Нейкирховом переводе, несмотря на все несовершенство такового, произвел на меня сладостное и благотворное впечатление. Стоит ли говорить, что за «Телемахом» последовал «Робинзон Крузо», а затем, уж конечно, «Остров Фельзенбург». В «Кругосветном путешествии лорда Ансона» достоверность сочеталась с причудливой фантастикой сказки, и в то время как мы странствовали вместе со славным мореходом, пальцем прочерчивая его путь по глобусу, нам открывалась вся широта мира. Но мне предстояла жатва еще более обильная, когда я наткнулся на множество писаний, устарелая форма которых, конечно, похвал не заслуживала, что, однако, не мешало им, при всей их наивности, знакомить нас с достойными деяниями былых времен.
Издательство, вернее, фабрика этих книг, впоследствии заслуживших известность, даже славу под названием «народных книг», находилась во Франкфурте. Из-за большого спроса они печатались со старого набора очень неразборчиво и чуть ли не на промокательной бумаге.
Итак, мы, дети, имели счастье ежедневно видеть эти бесценные останки средневековья на столике возле двери книгопродавца; более того, за несколько крейцеров они становились нашей собственностью. «Эйленшпигель», «Четыре Гаймонова сына», «Прекрасная Мелузина», «Император Октавиан», «Прекрасная Магелона», «Фортунат» и все их родственники вплоть до «Вечного Жида» были к нашим услугам на случай, если нам вдруг вздумается вместо сластей приобрести книжки. Тут надо упомянуть еще об одном преимуществе: разорвав или как-нибудь повредив такую книжонку, мы могли тотчас же приобрести новую и снова ею зачитываться.
Подобно тому как летний семейный пикник вдруг досаднейшим образом нарушается налетевшей грозой и радостное настроение сменяется хмурым, так детские болезни неожиданно омрачают лучшее время юности. То же самое случилось и со мною. Не успел я купить «Фортуната» с его мешком и волшебной шапкой, как на меня напали жар и общее недомогание, обычные предвестники оспы. Прививка тогда все еще считалась у нас делом сомнительным, и хотя даже известные писатели, разъясняя полезность таковой, настойчиво ее рекомендовали, немецкие врачи все еще боялись операции, как бы опережавшей природу. На материк, правда, приезжали предприимчивые англичане и за солидное вознаграждение делали прививки детям зажиточных и свободных от предрассудков родителей. Тем не менее большинство еще было беззащитно перед старым бедствием; болезнь свирепствовала в семьях, убивала и уродовала детей, но лишь немногие родители отваживались прибегнуть к средству, уже многократно себя зарекомендовавшему. Несчастье вошло и в наш дом, с особой силой обрушившись на меня. С телом, усеянным язвами, ничего не видя, с накрытым белой тряпкой лицом, я долгие дни лежал в жестоких страданиях. Чего-чего только не делалось, чтобы их смягчить, мне сулили золотые горы, если я буду лежать спокойно, не буду расчесывать и раздирать волдыри. Я поборол себя и лежал тихо; на беду, согласно господствовавшему тогда предрассудку, во время болезни нас кутали, как только возможно, отчего страдания еще обострялись. Наконец печальные дни отошли в прошлое, у меня точно маска спала с лица; видимых следов болезнь не оставила, но облик мой заметно изменился. Сам я был счастлив, что снова вижу свет божий и что пятна на моем лице мало-помалу исчезают, но окружающие немилосердно напоминали мне о моем былом состоянии; в особенности одна резвая тетушка, ранее меня обожавшая, даже несколько лет спустя, завидев меня, чуть ли не всякий раз восклицала: «Фу, черт, до чего же ты, братец, стал противный!» Затем она пускалась в подробные рассказы, как прежде любовалась мной и как все на нее заглядывались, когда она носила меня на руках. Так я еще в детстве узнал, что люди нередко сторицей взыскивают с нас за удовольствие, которое мы им доставляли.
Ни корь, ни ветряная оспа и как там еще зовутся мучители детских лет не обошли меня стороной, и всякий раз я слышал уверения: хорошо, что эта беда миновала и больше не повторится; но, увы, где-то вдали уже собиралась другая, чтобы вскоре меня настигнуть. Все это умножало мою склонность к размышлениям, и я, силясь избавиться от мучительного чувства нетерпения, уже давно упражнял себя в выдержке: прославленная добродетель стоиков казалась мне достойной всяческого подражания, тем паче что нечто подобное проповедовалось и христианством под видом долготерпения.
Заговорив об этой беде, поразившей нашу семью, я должен вспомнить и о своем брате. Будучи на три года моложе меня, он заразился той же болезнью и очень страдал. Хрупкого сложения, тихий и упрямый, этот мальчик не был мне близок, да он и не пережил своих детских лет. Из позднее родившихся братьев и сестер, тоже недолго проживших на свете, я помню только очень красивую и милую девочку, но и ее вскоре не стало, и когда, по прошествии нескольких лет, мы с сестрой поняли, что остались одни, это еще больше и глубже привязало нас друг к другу.
Болезни и другие неприятные нарушения нормального хода дней по своим последствиям были для нас вдвойне обременительны. Дело в том, что мой отец, видимо составивший календарное расписание занятий с нами, стремился немедленно нагнать пропущенное, и взваливал на плечи выздоравливающих двойную тяготу уроков. Справлялся я с ними без труда, но и безо всякой охоты, ибо внутренне мое развитие уже приняло определенное направление, а усиленные занятия его только задерживали, даже в какой-то мере подавляли.
От этих дидактических и педагогических притеснений мы обычно спасались у деда и бабки. Они жили на Фридбергской улице, в доме, который некогда был замком: во всяком случае, при приближении к нему видны были только большие зубчатые ворота, с обеих сторон примыкавшие к соседним домам. Начинавшийся за воротами длинный и узкий проход приводил нас в довольно широкий двор, окруженный строениями разной высоты, ныне соединенными в один жилой дом. Первым делом мы спешили в хорошо ухоженный сад, вширь и вглубь простиравшийся за этими строениями. Большинство дорожек было обсажено шпалерами вьющегося винограда, часть земли была отведена под овощи, другая под цветы, с весны и до осени в пестрой своей смене украшавшие грядки и клумбы. Вдоль длинной южной стены росли прекрасные персиковые деревья, на которых летом, как бы дразня нас, зрели запретные плоды. Зная, что нам здесь не полакомиться, мы избегали этой стороны, предпочитая ей противоположную, где необозримые ряды смородины и крыжовника обильно плодоносили с лета до поздней осени. Не меньше влекла нас к себе и старая, широко раскинувшаяся шелковица, и не только своими плодами, но и потому, что, как нам говорили взрослые, ее листьями питаются шелковичные черви. В этом мирном уголке дед наш с деловым и довольным видом каждый вечер собственноручно ухаживал за деревьями и цветами, предоставляя садовнику выполнять более тяжелую работу. Дед не жалел усилий, надобных для поддержания и разведения прекрасной культуры гвоздик, и самолично подвязывал ветви персиковых деревьев наподобие веера, что должно было способствовать обильному урожаю и поощрять рост плодов. Сортировку луковиц тюльпанов, гиацинтов и прочих луковичных растений, равно как и заботу об их хранении, дед тоже никому не доверял, и я доныне с удовольствием вспоминаю, как усердно он занимался окулировкой различных сортов розы. При этом он надевал для защиты от шипов старомодные кожаные перчатки, которых каждый год по три пары подносилось ему на Суде дудошников, так что он никогда не терпел в них недостатка. К тому же он постоянно ходил в похожем на ризы шлафроке, а на голову надевал черную бархатную шапочку, всю в складках, отчего и был похож на нечто среднее между Алкиноем и Лаэртом.
Прежде чем приступить к садовым работам, дед с тою же рачительной равномерностью занимался своими служебными делами и никогда не сходил вниз, в сад, не просмотрев регистра вновь поступивших жалоб и не прочитав дел, назначенных к слушанию. По утрам, всегда в одно и то же время, он уезжал в ратушу, обедал по возвращении, затем дремал в своем кресле, и так день за днем. Он был молчалив и не знал приступов гнева; не помню, чтобы я когда-нибудь видел его рассерженным. Все окружавшее деда носило печать старины и неизменности. В его обшитом панелями кабинете никогда не заводились новые вещи, а библиотека, помимо юридических книг, сплошь состояла из старинных описаний путешествий, мореплавании и открытий ранее неведомых стран. Ни в одном доме я не припомню уклада, который вызывал бы такое чувство нерушимости мира, вековечной прочности.
Что же касается почтения, которое мы питали к этому достойному старцу, то оно еще непомерно возрастало от уверенности, что он наделен даром предвидения, главным образом, конечно, в том, что касалось его самого и его судьбы. Правда, решительно он в этом не признавался никому, кроме бабушки, и подробностей не рассказывал, но все же мы знали — вещие сны открывают ему, что должно случиться в будущем. Так, например, в бытность его одним из младших членов совета, он заверил жену, что при первой же вакансии получит место на скамье старшин. Когда же вскоре один из старшин умер от удара, дед мой распорядился, чтобы в день выборов и баллотировки дома исподволь все приготовили для приема гостей и поздравителей, — и что же? — решающий золотой шар действительно достался ему. Бесхитростный сон, ему об этом возвестивший, он пересказал жене следующим образом: ему привиделось, что он сидит в собрании совета и все идет по раз и навсегда заведенному порядку; вдруг покойный старшина поднялся, сошел со ступеньки, отвесил ему церемонный поклон и предложил занять оставленное им место. Затем двинулся к двери и покинул зал.
Нечто похожее произошло и тогда, когда скончался штультгейс. С замещением этой должности обычно не медлят из опасения, как бы император не вздумал воспользоваться своим старинным правом — назначать шультгейса. На сей раз в дом моего деда, уже около полуночи, явился посланец с сообщением, что на следующее утро назначено чрезвычайное заседание. А так как у него уже догорала свечка в фонаре, то он попросил огарок, чтобы продолжать путь. «Дайте ему непочатую свечу, — сказал женщинам дед, — он ведь старается для меня». Так оно и вышло: дед вправду сделался шультгейсом. Этому событию сопутствовало еще одно примечательное обстоятельство: при баллотировке представитель деда должен был брать шар третьим, то есть последним; сначала вышли два серебряных шара, а золотой остался для него лежать на дне кошеля.
Вполне прозаичными, немудрящими, без следа чего-либо фантастического или чудесного были и другие его сны из тех, что стали нам известны. Помнится, мальчиком я как-то рылся в его книгах и записных календарях и среди заметок о садоводстве нашел следующие записи: «Сегодня ночью пришел ко мне NN и сказал…» Имя и слова были зашифрованы. Или же: «Сегодня ночью я видел…» Остальное, кроме союзов и предлогов, по которым ничего нельзя было понять, — тоже шифр.
Весьма примечательно, что лица, не выказывавшие ни малейшего предрасположения к ясновидению, вблизи от деда на время обретали способность по чувственным симптомам узнавать о болезни или смерти людей, находившихся в отдалении. Но ни к кому из его детей и внуков не перешел этот дар; в большинстве своем это были здоровые, жизнерадостные люди, ни о чем, кроме житейского, не помышлявшие.
Однажды упомянув о родичах, я не могу с благодарностью не вспомнить о том, как много хорошего видел от них в свои юные годы. Каких только удовольствий и развлечений не сулили нам посещения второй дочери деда, жены торговца колониальными товарами Мельбера, чей дом и лавка находились в самом оживленном и многолюдном квартале возле рынка. Боясь вмешаться в толчею и давку на улице, мы с превеликим удовольствием смотрели на нее из окон, в самой же лавке нас поначалу прельщала только лакрица, из которой пекли темно-коричневые печатные пряники, но постепенно мы ознакомились с множеством разнообразных товаров, обращающихся в колониальной торговле. Эта тетушка из всех сестер была самая резвая. Если моя мать в молодые годы любила, красиво одевшись, сидеть за изящным женским рукоделием или за чтением, то тетушка вечно разъезжала по знакомым, пеклась о недосмотренных детях, нянчила их, чесала, таскала на руках; впрочем, она долгое время проделывала это и со мной. Во время больших народных празднеств, как, например, коронации, ее никакими силами нельзя было удержать дома. Еще ребенком она хватала с земли деньги, разбрасываемые при таких торжествах, и, как нам рассказывали, однажды, набрав изрядное количество монет, с восторгом разглядывала их на ладони, но в это мгновение кто-то ударил ее по руке, и благоприобретенного богатства как не бывало. Сама она любила похваляться тем, что при проезде императора Карла Седьмого взобралась на тумбу и, воспользовавшись внезапно наступившей тишиной, громко крикнула «виват!» поравнявшейся с ней карете, чем и принудила императора снять шляпу и милостиво поблагодарить ее за шумное приветствие.
В ее доме тоже все вращалось вокруг нее, все веселилось и радовалось жизни, и мы, дети, были обязаны ей многими счастливыми часами.
Спокойнее, но тоже в полном соответствии со своей натурой, жила вторая наша тетушка, вышедшая замуж за пастора Штарка, служившего в церкви святой Катарины. Сообразно своему душевному складу и своему положению, он вел уединенную жизнь и владел прекрасной библиотекой. У него я впервые прочитал Гомера, кстати сказать, в прозаическом переводе, помещенном в седьмой части изданного фон Лоеном «Нового собрания рассказов об удивительнейших странствиях» и под заглавием «Гомерово описание покорения Троянского царства». Издание было иллюстрировано гравюрами в духе французского театра. Эти гравюры до такой степени отравили мое воображение, что я долго не мог себе представить героев Гомера в ином обличье. События, там изложенные, привели меня в несказанный восторг, я только не мог примириться с тем, что в повествовании отсутствуют исторические сведения о завоевании Трои и что оно обрывается на смерти Гектора. Я поделился своим неудовольствием с дядюшкой, и он посоветовал мне прочитать Вергилия, который вполне меня удовлетворил.
Само собой разумеется, что нас, детей, наряду с другими предметами, последовательно и постоянно обучали закону божию. Однако церковный протестантизм оставался для нас неким подобием сухой морали. Об увлекательном изложении никто не помышлял, а без оного это вероучение ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Недаром же столько людей отпало от официальной церкви. Появились сепаратисты, пиетисты, гернгутеры, «тихие братья» и как там еще зовутся и характеризуются все эти секты, имевшие общую цель: приблизиться к богу — в основном через посредство христианства, — познать его глубже, чем это казалось возможным в пределах официальной религии.
Мальчик непрерывно слышал разговоры о таких взглядах и убеждениях, ибо как духовенство, так и миряне делились на их защитников и противников. Сектанты, жившие обособленно, постоянно оставались в меньшинстве, но их образ мыслей был привлекателен своей оригинальностью, простосердечием и непоколебимой самостоятельностью. И каких только я не наслушался историй о доблестях этих людей! Наибольшей известностью пользовался рассказ об ответе некоего благочестивого жестянщика, которого другой рабочий понадеялся устыдить вопросом: кто же твой духовник? С простодушной убежденностью в благости своей веры тот отвечал: очень знатное лицо, ни более ни менее как духовник царя Давида.
Разумеется, на мальчика подобные речи производили впечатление и настраивали его на тот же лад. Более того, он воодушевился мыслью непосредственно приблизиться к великому богу природы, создателю и вседержителю неба и земли, чей прежний гнев давно позабылся перед лицом красоты мира и многообразия благ, которыми он дарит нас. Но путь, им выбранный, был очень странен.
Мальчик твердо держался символа веры. Бог, который непосредственно связан с природой, который видит и любит в ней свое творение, это истинный бог, и, конечно же, он печется о человеке так же, как о движении звезд, о смене дня и года, о скотах и растениях. В некоторых главах Евангелия это написано черным по белому. Не умея сообщить верховному существу видимый образ, мальчик искал его в его творениях и пожелал, на ветхозаветный манер, воздвигнуть ему алтарь. Произведения природы должны были символизировать собою мир, а пламя, горящее на алтаре, — возносящуюся к своему творцу душу человека. Итак, из имевшейся в доме и пополнявшейся случайными предметами естественноисторической коллекции были извлечены наилучшие экземпляры; трудность теперь состояла в том, как разместить и уложить их. У отца имелся красивый нотный пюпитр в форме четырехгранной пирамиды, с подставками для нот, покрытый красным лаком и разрисованный золотыми цветами. Он считался очень удобным для квартетов, но в последнее время был в забросе. Мальчик завладел им и разместил различные минералы и отобранных представителей природы друг над дружкой по ступеням — получилось занятно и вместе с тем многозначительно. Первое богослужение должно было свершиться на рассвете; правда, юный жрец был в затруднении: как сделать, чтобы пламя еще и источало благоухание? Наконец великолепная идея осенила его: в доме имелись курительные свечи, которые не горели огнем, а тлели, распространяя чудесный аромат. Что ж, медленная их убыль и сгоранье, думалось ему, лучше, чем пламя, выразят состояние человеческой души. Солнце уже давно взошло, но соседние дома заслоняли собою восток. Наконец оно вышло из-за крыш, мальчик тотчас же вооружился зажигательным стеклом и зажег ароматические свечи, стоявшие на вершине пирамиды в красивой фарфоровой чаше. Все удалось как нельзя лучше: то было истинное благолепие. Алтарь же и впредь продолжал украшать комнату, отведенную мальчику в новом доме. Все видели в нем лишь заботливо подобранную естественноисторическую коллекцию, а мальчик молчал о том, что знал он один. Он решил повторить торжественные минуты. К несчастью, когда взошло солнце, под рукой не оказалось фарфоровой чаши, он поставил курительные свечи прямо на пюпитр и зажег их. Жрец так благоговел перед свершаемым обрядом, что не сразу заметил, что́ сталось с алтарем, а после беде уже нельзя было помочь. Догорев, свечи прожгли красный лак и чудесные золотые цветы, так что казалось, злой дух прошелся по ним, оставив неизгладимые черные следы. Это обстоятельство повергло юного жреца в крайнее смятенье. Правда, он сумел скрыть ото всех печальное происшествие, заставив пюпитр самыми роскошными и крупными экспонатами из своей коллекции, но мужества для новых жертвоприношений у него уже недостало. Он даже готов был принять случившееся за указание и предостережение: сколь опасна попытка таким путем приблизиться к богу.
КНИГА ВТОРАЯ
Все доселе рассказанное свидетельствует о счастье и довольстве, в котором пребывают страны во время прочного мира. Но нигде этим прекрасным временем не наслаждаются больше, чем в вольных городах, достаточно просторных, чтобы вместить множество граждан, и достаточно удобно расположенных, чтобы способствовать их обогащению через торговлю и всевозможные промыслы. Чужестранцам выгодно приезжать туда. А радея о собственной наживе, они поневоле дают наживаться горожанам. Города, не владеющие большими землями, тем легче обеспечивают себе внутреннее благосостояние, что внешнеполитические отношения не понуждают их участвовать в дорогостоящих военных затеях.
Именно так протекали в пору моего детства счастливые годы франкфуртцев. Но едва 28 августа 1756 года мне минуло семь лет, как разразилась известная всему свету война, которая оказала немалое влияние на последующие семь лет моей жизни. Прусский король Фридрих Второй с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию и, вместо предварительного объявления войны, издал манифест, как говорили, им лично составленный, в котором излагались причины, будто бы дававшие ему право на этот неслыханный шаг. Мир, нежданно оказавшийся в положении не только зрителя, но и судьи, тотчас же раскололся на две партии, и наша семья в малом как бы олицетворяла картину великого целого.
Мой дед, в качестве главного судьи города Франкфурта несший коронационный балдахин над Францем Первым и получивший из рук императрицы массивную золотую цепь с ее портретом, вместе со всеми своими зятьями и дочерьми держал сторону Австрии. Отец, возведенный Карлом Седьмым в званье имперского советника, душевно скорбел об участи злосчастного монарха и потому заодно с меньшинством в семье стоял за Пруссию. Вскоре разладились и воскресные семейные встречи, неизменные в течение долгого ряда лет. Заурядные родственные несогласия теперь вдруг обрели определенную форму. За столом спорили, отпускали колкости, кто замыкался в молчанье, кто разражался внезапным гневом. Дед мой, прежде веселый, спокойный и покладистый человек, нередко выходил из себя. Женщины тщетно пытались погасить разбушевавшееся пламя, и после нескольких пренеприятных сцен мой отец первым прекратил эти встречи. Теперь мы могли без помехи радоваться дома прусским победам, о которых нам обычно с буйной радостью возвещала ранее упомянутая восторженная тетушка. Все остальные интересы уступили место политическим, и остаток года прошел в непрекращающейся ажитации. Занятие Дрездена, первоначальная осмотрительность короля, его медленные, но верные успехи — победа при Ловозице, пленение саксонцев — считались триумфами нашей партии. Заслуги врагов Пруссии отрицались или приуменьшались, а поскольку той же тактики держалась противная сторона, стычки между родственниками происходили даже при встречах на улице, как в «Ромео и Джульетте».
Итак, я тоже горой стоял за пруссаков, вернее, за Фридриха, ибо на что нам сдалась Пруссия? Но личность великого короля покоряла все умы. Вместе с отцом я радовался нашим успехам, охотно переписывал победные песни, но еще охотнее сатирические куплеты, высмеивающие врагов короля, несмотря на то что стишки были довольно-таки плоскими.
Как старший внук и крестник, я с раннего детства по воскресеньям обедал у деда и бабки, и это были самые лучшие часы за всю неделю. Но теперь кусок застревал у меня в горле, ибо при мне непрестанно и злобно поносили моего героя. Здесь мы дышали иным воздухом, и в разговорах звучал иной тон, нежели у нас дома, моя приверженность к деду и бабке, даже уважение к ним пошли на убыль. Родителям я ни словом о своих терзаниях не обмолвился из чувства такта и еще потому, что мать меня всячески сдерживала. Таким образом, я волей-неволей замкнулся в себе, и если на шестом году моей жизни лиссабонское землетрясение поколебало мою веру в благость господню, то теперь я усомнился в людской справедливости. По натуре своей я был склонен к благоговению, и что-то доподлинно должно было меня потрясти, чтобы убить по мне веру в достоинство человека. К сожалению, хорошим манерам и благопристойному поведению нас обучали не ради нас самих, а ради людей; «что скажут люди?» — эту присказку я слышал постоянно и полагал, что люди должны быть справедливы и уметь все расценивать по достоинству. И вот я столкнулся с обратным явлением. Величайшие и очевидные заслуги подвергались осмеянию, доблестные подвиги, если уж их никак нельзя было отрицать, искажались и умалялись; и такая грубая несправедливость по отношению к человеку, который, безусловно, возвышался над всеми своими современниками и подтверждал это ежедневно, показывая, на что он способен, исходила не от черни, но от таких разумных и хороших людей, какими я не мог не считать своего деда и дядьев. О существовании разных партий и о том, что сам он принадлежит к одной из них, мальчик, конечно, не догадывался. Он тем более считал себя правым и спои убеждения не заслуживающими упрека, что так же, как его единомышленники, высоко ценил красоту и разные добрые свойства Марии-Терезии, не порицал императора Франца за его страсть к деньгам и драгоценностям, а когда графа Дауна иной раз называли шляпой, ему это казалось справедливым.
Нынче, если хорошенько поразмыслить, мне кажется, что то был зародыш неуважения, более того — презрения к людям, некогда мне свойственного и лишь много позднее приведенного в равновесие путем глубокого проникновения в жизнь и расширения знаний. Так или иначе, но, убедившись в неизбежной пристрастности сторон, мальчик был огорчен до глубины души; к тому же это открытие пошло ему во вред: он стал отдаляться от тех, к кому прежде относился уважительно и с любовью. Непрестанно сменявшие друг друга военные и политические события не давали утихнуть семейной распре. Мы находили горькую радость в том, чтобы всякий раз заново обострять воображаемые беды, провоцировать необоснованные стычки; и так одна сторона в течение нескольких лет мучила другую, покуда французы не заняли Франкфурта и не внесли доподлинных трудностей в нашу жизнь.
Хотя большинство франкфуртцев в важных событиях, развернувшихся вдали от родного города, усматривали лишь повод для страстных споров, кое-кому все же уяснилась серьезность сложившейся обстановки и опасность, что наши земли станут ареной боев, в случае если Франция вступит в войну. Нас, детей, теперь редко выпускали из дому, и взрослые на все лады старались чем-нибудь нас занять или развлечь. Посему вновь был извлечен оставшийся от бабушки кукольный театр и установлен так, что зрители могли сидеть в моей комнате, те же, кто управлял куклами, да и сам театр вместе с просцениумом помещались в соседней. Приглашая на представления то одного, то другого мальчика, я было приобрел много друзей, но присущая детям подвижная нетерпеливость не позволяла им долго оставаться спокойными Зрителями. Они мешали спектаклю, и нам пришлось довольствоваться более юной публикой, которую, по крайней мере, сдерживали няньки и мамки. Основную драму, с первого дня разыгрываемую куклами, мы затвердили наизусть и поначалу только ее и представляли. Но вскоре нам это прискучило, мы переменили гардероб, декорации и храбро приступили к исполнению разных других пьес, безусловно, слишком громоздких для нашей маленькой сцены. Наверно, мы брали не по чину и потому портили, сводили на нет и то, что могли бы сделать хорошо; и все же эта детская забава способствовала многостороннему развитию моей выдумки и изобразительных возможностей, питала мою фантазию и вырабатывала во мне известный технический навык, который мне иным путем едва ли удалось бы приобрести в столь малый срок, на столь ограниченном пространстве и при столь малой затрате сил.
Я рано научился орудовать циркулем и линейкой и, стремясь к немедленному применению знаний, полученных мною из геометрии, очень увлекся картонажными работами. Однако на геометрических телах, коробочках и тому подобных изделиях я долго не задержался и решил строить изящные виллы, с пилястрами, наружными лестницами и плоскими крышами; но, по правде сказать, из этих замыслов ничего путного не вышло.
Гораздо упорнее я трудился с помощью одного из наших слуг, бывшего портного, над созданием реквизита для пьес и даже трагедий, которые мы, пресытившись куклами, стали разыгрывать сами. Мои приятели, правда, тоже обзавелись Реквизитом и костюмами, считая, что у них они не хуже, чем у меня. Но я предусматривал потребности не только одного актера и из своих запасов мог снабжать многих из нашей маленькой труппы всевозможными аксессуарами, а потому сделался самым необходимым лицом в нашем кружке. Само собой разумеется, что в этих играх происходило деленье на партии, затевались сражения, дуэли, кончалось же все, как правило, самым плачевным образом — ссорами и потасовкой. Несколько мальчиков обычно держались моей партии, другие — враждебной, но иной раз они менялись ролями. Только один мальчик, назову его Пиладом, всего однажды, и то подзадоренный товарищами, перешел на другую сторону, однако не смог и минуты пробыть в стане моих врагов. Проливая обильные слезы, мы помирились и довольно долгое время стойко держались вместе.
Этот мальчик и другие, из числа моих доброжелателей, ничего так не любили, как слушать сказки, которые я тут же сочинял, и больше всего наслаждались, если рассказ велся от первого лица; видно, их радовало, что со мною, их сверстником, могли случаться такие чудеса. Примечательно, что они ни на минуту не задавались вопросом, откуда у меня бралось время для этих приключений и дальних странствий, хотя отлично знали, как я был занят и когда и где бывал. Действие сказок происходило если не в ином мире, то, уж конечно, в иных странах и при этом вчера или сегодня. Следовательно, сами себя они обманывали больше, чем я их. И если бы, в соответствии со своей природой, я не научился претворять в художественную форму эти воздушные замки с их странными обитателями, то столь хвастливые начинания не довели бы меня до добра.
Если поточнее разобраться в такого рода стремлении, то оно окажется сродни дерзости, с которой поэт властно и гордо выговаривает самое невероятное, требуя, чтобы все признавали доподлинно существующим то, что ему, творцу вымысла, по какой-то причине представилось вероятным.
Но, может быть, то, что высказано здесь лишь как общее наблюдение, станет удобопонятнее и нагляднее при помощи конкретного примера, вернее — образчика. Ради такой наглядности я приведу сказку, которая доныне сохранилась в моей памяти и в моем воображении, ибо мне пришлось много раз повторять ее моим сверстникам и товарищам.
НОВЫЙ ПАРИС
Сказка для мальчиков
Намедни, в канун троицына дня, мне снилось, что я стою перед зеркалом и примеряю новое летнее платье, которое добрейшие родители заказали для меня к празднику. Наряд мой, как вы знаете, составляли туфли из блестящей кожи с большими серебряными пряжками, тонкие бумажные чулки, черные саржевые панталоны и зеленый камлотовый камзол с золотыми пуговицами. К нему полагался еще жилет из золотой парчи, перешитый из свадебного жилета моего отца. Я был завит, напудрен, и локоны, как крылышки, трепыхались на моей голове. Но мне никак не удавалось все на себя надеть, я то и дело хватал не тот предмет, и вдобавок уже надетый всякий раз сваливался с меня, когда я собирался присоединить к нему следующий. Я пребывал в величайшем замешательстве, но тут в комнату вошел красивый молодой человек и дружелюбно меня приветствовал.
— Добро пожаловать, — сказал я, — мне очень приятно вас видеть здесь.
— Разве вы меня знаете? — с улыбкой отвечал тот.
— Разумеется, — в свою очередь, улыбнулся я. — Вы Меркурий, и мне не раз доводилось видеть ваши изображения.
— Да, это я, — подтвердил гость. — Боги послали меня к тебе с важным поручением. Видишь эти три яблока?
Он протянул мне три яблока, едва умещавшиеся у него на ладони. Яблоки были не только крупны, но еще и удивительно красивы, одно красное, другое желтое и третье зеленое. Казалось, это драгоценные камни, которым придана форма плодов. Я было хотел взять их, но он отвел свою руку и сказал:
— Сперва узнай, что они предназначены не тебе. Ты должен отдать их трем самым красивым юношам в городе, которые затем, каждый по своему усмотрению, выберут себе жен, самых прекрасных, каких только можно отыскать. Возьми их и добросовестно выполни поручение! — добавил он на прощание и вложил яблоки мне в руки; мне почудилось, что они стали еще больше.
Я поднял их к свету и увидел, что они совсем прозрачны, но вдруг яблоки стали тянуться вверх и превратились в трех красивых-прекрасивых девушек, величиною с куклу, в платьях цвета яблок. Они мягко высвободились из моих пальцев, и когда я хотел их схватить, чтобы удержать хоть одну, они уже парили далеко в вышине, и мне осталось только глядеть им вслед. Я стоял, окаменев от удивления, с простертыми вверх руками и смотрел на свои пальцы, словно на них еще можно было что-то разглядеть. И вдруг я заметил, что на их кончиках танцует прелестная девочка, поменьше тех, но резвая и прехорошенькая; и раз уж она не улетела, как другие, а только порхала на пуантах с пальца на палец, то я некоторое время в изумлении созерцал ее. Она очень мне понравилась, и я подумал, что, наверно, словлю ее, надо только изловчиться, и в то же мгновенье ощутил удар по голове и, оглушенный, упал наземь. Очнулся я, когда уже пора было одеваться и идти в церковь.
Во время богослужения у меня то и дело вставали в памяти образы этих малюток, и за обедом у дедушки тоже. Под вечер я собрался посетить кое-кого из своих друзей — пусть посмотрят на меня в новом камзоле, со шляпой под мышкой да еще при шпаге; к тому же я задолжал им визиты. Но я никого не застал дома и, узнав, что они отправились в сады, решил пойти следом за ними и приятно провести вечер. Путь мой лежал через Цвингер, и вскоре я очутился в местности, по праву прозванной Дурной стеною, ибо там водилась нечисть. Я шел медленно и думал о своих трех богинях, но прежде всего о маленькой нимфе, и время от времени поднимал руку и растопыривал пальцы, надеясь, что она будет так любезна и снова попляшет на них. Погруженный в эти мысли, я шел все дальше и вдруг заметил в стене воротца, которых, насколько мне помнилось, я никогда раньше не видал. Они были низенькие, но под их готической аркой мог бы пройти самый высокий человек. Их свод и стены украшали прелестная резьба и лепные фигуры, но больше всего мое внимание привлекла дверца. Из старого побуревшего дерева, без замысловатых украшений, она была обита широкими, местами выпуклыми, местами углубленными медными полосами, в лиственной резьбе которых сидели птицы, до того натурально сделанные, что я только диву давался. Но самое удивительное — на двери не было ни замочной скважины, ни ручки, ни дверного молотка, из чего я заключил, что она отпирается только изнутри. И я не ошибся. Не успел я подойти, чтобы пощупать резьбу, как дверь открылась вовнутрь и из нее вышел человек в странном широком и долгополом одеянии. Густая борода скрывала его подбородок, так что я было принял его за еврея. Но этот человек, словно отгадав мои мысли, осенил себя крестным знамением, давая мне понять, что он добрый христианин и католик.
— Как вы попали сюда, молодой человек, и что вы здесь делаете? — произнес он с приветственным жестом и вполне дружелюбно.
— Я дивлюсь, как сработана эта дверь, — отвечал я, — ничего лучшего я не видывал — разве что по частям в художественных собраниях коллекционеров.
— Мне приятно, что вы цените такую работу, — отвечал он. — Изнутри ворота еще красивее. Войдите, если вам угодно, прошу вас!
При этом мне стало как-то не по себе. Необычное одеяние привратника, заброшенность этого уголка и еще что-то, таившееся в воздухе, удручало меня. Я помедлил, под предлогом, что хочу еще полюбоваться наружной стороною двери, и украдкой заглянул в сад: да, моему взору теперь открылся сад. Сразу же за воротами я увидел большую тенистую площадку. Переплетавшиеся сучья старых лип, посаженных через равномерные промежутки, затеняли ее всю, так что множество народу могло бы здесь в знойные часы наслаждаться освежающей прохладой. Я уже переступил через порог, а старик манил меня все дальше, шаг за шагом. Да и я не сопротивлялся, так как всегда знал, что принц или султан в подобных случаях не задаются вопросом, грозит ли им опасность. К тому же я был при шпаге и, уж конечно, справился бы со стариком, перейди он к враждебным действиям. Итак, я вошел в полном спокойствии, привратник закрыл дверь, и она едва слышно защелкнулась. Он стал показывать и толковать мне резьбу на ее внутренней стороне, и вправду еще более прекрасную, при этом выказывая мне особое свое благоволение. Окончательно успокоившись, я пошел вместе с ним по осененной липами площади, вокруг которой тянулась стена, повергшая меня в изумленье. В ней были устроены ниши, искусно выложенные раковинами и кораллами, со ступеньками из металла, спускавшимися к мраморным бассейнам, куда, из пастей тритонов, обильными потоками лилась вода; пространство между нишами занимали клетки с птицами; в более просторных клетках резвились белки, из угла в угол сновали морские свинки, бегали самые хорошенькие зверюшки, каких только можно себе представить. Птицы пели и, казалось, окликали нас, когда мы проходили мимо, а скворцы болтали несусветный вздор. Один кричал: «Парис! Парис!» — а другой: «Нарцисс! Нарцисс!» — отчетливо, как старательный школьник. Старик, слыша, что́ кричат птицы, все серьезнее смотрел на меня, я же делал вид, что не замечаю этого, да мне и вправду было не до него. Я убедился, что мы идем по кругу и что это тенистое пространство, собственно, большое кольцо, замыкающее в себе другой круг, более значительный и важный. И правда, мы снова пришли к воротцам; старик, надо думать, намеревался выпустить меня, но я вперил взор в золотую решетку, видимо огораживавшую середину этого дивного сада, которую я заприметил еще во время нашей прогулки, хотя старик умудрялся вести меня под самой стеной, то есть вдали от середины круга. Он уже шагнул к дверце, но тут я поклонился и сказал:
— Вы были так добры ко мне, что, прежде чем откланяться, я позволю себе потревожить вас просьбой. Нельзя ли мне поближе рассмотреть золотую решетку, которая, видимо, широким кругом охватывает внутреннюю часть сада?
— Охотно доставлю вам это удовольствие, — отвечал он, — если вы согласитесь на соблюдение известных условий.
— В чем они состоят? — поспешно спросил я.
— Вы должны оставить здесь свою шляпу и шпагу и все время держаться возле меня, покуда будет продолжаться прогулка.
— С радостью принимаю их! — ответил я, кладя шляпу и шпагу на первую попавшуюся скамью.
Правой рукой он тотчас же крепко схватил мою левую и с силой потянул меня за собой. Когда мы подошли к решетке, мое изумленье сменилось безмерным восхищением. Ничего подобного я еще не видывал. На высоком мраморном цоколе стояли неисчислимые ряды копий и алебард, причудливо заостренные концы которых сходились, образуя полный круг. Я заглянул в просвет между ними и увидел неторопливо текущие воды, с обеих сторон закованные в мрамор, а в их прозрачной глубине множество золотых и серебряных рыбок — и быстро снующих, и медлительных, которые то соединялись в стайки, то снова плыли вразброд. Мне очень хотелось увидеть другой берег канала и узнать, что делается в самой сердцевине сада, но, увы, он и с той стороны был забран решеткой, да так искусно, что против каждого просвета первой приходилось копье или алебарда второй, не считая украшений, так что, как ни становись, ничего нельзя было разглядеть. Вдобавок мне мешал старик, вцепившийся в мою руку, так что и не повернешься. Между тем любопытство мое еще возросло после всего виденного, и, набравшись храбрости, я спросил его, нельзя ли войти за решетку.
— Почему же, можно, — отвечал он, — но на новых условиях.
Когда я пожелал узнать, в чем они заключаются, он заявил, что я должен переодеться. Я обрадовался, и он повел меня назад к стене. Мы вошли в небольшой опрятный зал, где было навешано много всякой одежды, причем вся она походила на восточные костюмы. Я быстро переоделся, старик натянул на мои напудренные волосы пеструю сетку, предварительно, к вящему моему ужасу, с силою отряхнув с них пудру. Поглядевшись в большое зеркало, я очень понравился себе в этом новом наряде и решил, что он куда лучше моего чопорного воскресного платья. Я сделал несколько жестов и прыжков, точь-в-точь как танцовщик в ярмарочном театре. При этом я продолжал смотреться в зеркало и вдруг увидел отражение ниши, находившейся за моей спиной. В ее белом углублении висели три зеленые веревочки, и каждая из них была закручена на свой манер, а ка́к, издали мне было не разобраться. Поэтому я торопливо обернулся к старику и спросил, что́ это за ниша и что́ за веревочки. Он охотно снял одну из них и показал мне. Это оказался зеленый шелковый шнур средней толщины, оба конца которого были продеты сквозь два прореза в куске зеленой кожи, так что вся эта штука смахивала на некое орудие для весьма нежелательного употребления. Я содрогнулся и спросил старика, для чего предназначены шнуры. Он же спокойно и добродушно отвечал: для тех, кто злоупотребит доверием, которое ему здесь готовы оказать. Он повесил шнур на место и приказал мне следовать за ним. На сей раз он не брал меня за руку, и я шел подле него.
Меня разбирало любопытство, где же находятся калитка и где мост для прохода через решетку и через канал, ибо до сих пор мне не удавалось их обнаружить. Поэтому я так и впился глазами в золотую ограду, когда мы подходили к ней, и тут же у меня вся кровь отлила от лица, ибо копья, дротики, алебарды и бердыши вдруг зашатались, затряслись, и странное их шевеленье кончилось тем, что острия склонились друг к другу, — казалось, две древние рати, вооруженные копьями, изготовились к бою. Такая сумятица была невыносима для глаза, а лязг — для ушей, но самым поразительным было то, что все пики вдруг полегли, накрыли собою канал, образуя великолепнейший из мостов, который только можно себе вообразить, и моему взору явился пестрый цветник. Он был разделен на извилистые грядки, казавшиеся мозаикой из Драгоценных камней, причем каждую в отдельности окаймляли низкие, пушистые растения, никогда мною не виданные. Цветы на всех были разные, подобранные по тонам, и низкие, так что легко было проследить общий рисунок цветника. Это удивительное зрелище, представшее мне в ярком солнечном свете, сковало мой взор, но я не знал, куда поставить ногу, ибо извилистые дорожки были усыпаны чистейшим голубым песком, так что казалось, на земле повторяется небо, только более темное, как небо в воде. Опустив взоры долу, я довольно долго шел рядом со своим вожатым, покуда мне наконец не бросилось в глаза, что в центре этой цветочной окружности кольцом стоят кипарисы или какие-то другие деревья, похожие на тополя, в просвете между которыми ничего не было видно, так как нижние ветви, казалось, росли прямо из земли. Мой вожатый, хоть и не кратчайшим путем, вел меня прямо к этому зеленому кругу; и каково же было мое удивление, когда я, войдя в кольцо высоких дерев, увидел перед собою портик очаровательного садового павильона, со всех сторон которого, видимо, имелись одинаковые входы и открывались похожие виды. Но еще больше, чем это прекрасное творенье зодческого искусства, восхитила меня музыка, доносившаяся из павильона. То мне казалось, что я слышу лютню, то арфу, то цитру, а то вдруг какое-то бренчанье, ничего общего не имеющее ни с одним из этих инструментов. Дверь, к которой мы приблизились, тотчас же открылась в ответ на легкое прикосновенье старика, но как же я изумился, когда в вышедшей нам навстречу привратнице я узнал прелестную девочку, во сне танцевавшую у меня на пальцах. Она приветствовала меня как старого знакомого и пригласила войти. Старик остался на месте, а мы с ней пошли по небольшой сводчатой и красиво отделанной галерее в серединный зал, величавая соборная высота которого изумила и поразила меня. Но мой взор был немедленно отвлечен другим, еще более прелестным зрелищем. На ковре под самой серединой купола треугольником расположились три женщины, одна в красном, другая в желтом и третья в зеленом наряде. Они сидели в позолоченных креслах, а ковер под их ногами был совсем как цветник. Все три держали в руках инструменты, звуки которых донеслись до меня, когда я подходил к павильону, но при моем появлении они смолкли.
— Добро пожаловать, — сказала средняя, та, что была одета в красное платье и сидела лицом к двери подле своей арфы. — Садитесь рядом с Алертой и слушайте, ежели вы любитель музыки.
Тут только я заметил длинную скамейку, стоявшую чуть пониже, и на ней мандолину. Милая девочка взяла ее, села и меня усадила рядом. Теперь я уже мог рассмотреть и вторую даму, справа от меня. На ней было желтое платье, а и руках она держала цитру, и если арфистка была высока ростом, крупнолица и величественна в движениях, то девушка с цитрой выглядела премилым и резвым созданием. Она была стройна и белокура, тогда как голову арфистки венчали темно-русые волосы. Разнообразие и гармоничность их музыки не помешали мне, однако, рассмотреть и третью красавицу, в зеленом наряде, чья лютня издавала трогательные звуки, почему-то особенно меня поразившие. Она больше других дарила меня вниманием и, казалось, играла для меня одного. Только я никак не мог ее понять, она представлялась мне то нежной, то своенравной, то искренней, то упрямицей, смотря по тому, как менялось выражение ее лица и манера игры. Минутами я думал, что она хочет растрогать меня, а минутами — что она меня дразнит. Но как бы там ни было, а она ничего от меня не добилась, я весь был поглощен своей маленькой соседкой, с которой сидел бок о бок. С полной несомненностью узнав в трех дамах сильфид моего сна, одетых в цвета трех яблок, я сообразил, что мне нет нужды удерживать их. Я бы предпочел обнять прелестную малютку, не будь мне так памятен удар, которым она наградила меня во сне. До сих пор она спокойно сидела, держа в руках свою мандолину, но вот ее повелительницы, кончив играть, приказал»! ей исполнить несколько веселых пьес. Она было повиновалась и забренчала какую-то задорную танцевальную мелодию, но вдруг вскочила с места; я последовал ее примеру. Она играла на мандолине и плясала. Я не отставал от нее, и так мы исполнили своего рода балетный номер, которым дамы, надо думать, остались довольны, ибо по окончании его они приказали малютке попотчевать меня чем-нибудь еще до ужина. Мне же казалось, что на свете нет ничего, кроме этого маленького рая. Алерта тотчас же повела меня обратно на галерею, через которую я пришел. Сбоку там имелись две красиво обставленные комнаты. В одной из них, в той, где она жила, Алерта предложила мне апельсины, фиги, персики и виноград, и я с наслаждением отведал не только чужеземных плодов, но и тех, что должны были бы созреть много позднее. Сластей здесь тоже было вволю, да еще Алерта наполнила для меня игристым вином бокал граненого хрусталя. Но мне не хотелось пить, так как я утолил жажду плодами.
— Ну, а теперь давай играть, — сказала Алерта и повела меня в соседнюю комнату, забитую разными разностями, словно рождественский базар, только что на этих базарах никто сроду не видывал такого множества изящных и дорогих вещей. Здесь были куклы, такие и эдакие, кукольное приданое, кукольная утварь, игрушечные кухни, дома, лавки, еще целая тьма разных других игрушек. Но Алерта тотчас же закрыла первые шкафы, сказав: — Я знаю, это не для вас. А вот здесь, — добавила она, — мы найдем строительные материалы, стены и башни, дома, дворцы, церкви — все, что нужно для большого города. Но мне скучно строить город, и мы сейчас найдем другое занятие, одинаково приятное для нас обоих.
С этими словами она принесла несколько коробок, в них рядками были уложены оловянные солдатики, лучше которых я в жизни не видывал. Но она не позволила мне разглядывать их по отдельности и сунула себе под мышку одну коробку, я же взял другую.
— Мы пойдем на золотой мост, — сказала она, — там всего лучше играть в солдатики, потому что копья сразу же указывают, где надо расположить враждебные рати.
Мы вступили на золотой прогибающийся пол. Опустившись на колени, чтобы расставить свои полки, я услышал, как подо мной журчит вода и плещутся рыбы. Тут я заметил, что у меня в руках сплошь кавалерия. Алерта же не без гордости объявила, что у нее царица амазонок предводительствует женским войском. Зато у меня был Ахилл с великолепной греческой конницей. Армии уже выстроились друг против друга, и трудно было себе вообразить зрелище более прекрасное. Это ведь были не наши плоские оловянные солдатики, а объемные всадники и кони, тончайшей работы. И непонятно было, как они удерживались в равновесии, потому что подставок у них не было.
Не успели мы самодовольно оглядеть свои войска, как Алерта подала сигнал к бою. В коробках нашлись и орудия и к ним много ящичков с маленькими, хорошо отполированными агатовыми ядрами. Ими нам предстояло сражаться на известном расстоянии и при непременном условии: бросать не сильнее, чем нужно, чтобы свалить солдатика, не повредив ни одной фигурки. Мы открыли канонаду, поначалу доставившую одинаковую радость нам обоим. Однако моя врагиня, заметив, что я более меткий стрелок, чем она, и, следовательно, одержу победу, которая определялась количеством оставшихся стоять фигурок, подошла ближе, и ее грациозные броски теперь и вправду стали попадать в цель. Она уложила лучшие мои войска, и чем больше я протестовал, тем ретивее она действовала. В конце концов я разозлился и объявил, что буду поступать, как она, и не только встал ближе, но в гневе метнул несколько ядер с недозволенной силой, так что две или три из ее всадниц разлетелись на куски. В своем рвении она не сразу это заметила, но я положительно окаменел, увидев, что разбитые фигурки срастаются сами собой. Амазонка и конь снова слились воедино, да еще вдобавок ожили и галопом ускакали с золотого моста, пронеслись карьером под старыми липами и, наконец, каким-то непонятным образом скрылись из глаз, словно вошли в стену. Увидев это, моя прелестная противница принялась стонать и плакать, уверяя, что по моей вине она понесла невозвратимую утрату, куда большую, чем можно выразить словами. Но я, злорадствуя, что причинил ей горе, с размаху вслепую метнул оставшиеся у меня агатовые шарики в ее войско. На беду, я угодил в царицу, а в нее, согласно правилам игры, попадать не полагалось. Она разлетелась на куски, разбились и окружающие ее адъютанты, но тут же все они снова склеились, умчались, как и первые мои жертвы, весело прогалопировали под липами и исчезли, доскакав до стены.
Моя врагиня поносила меня на все лады, а я, уже не знал удержу, нагнулся, чтобы подобрать агатовые шарики, еще катавшиеся меж золотых бердышей. Мне страстно хотелось разнести в щепы всю ее рать. Но она, не растерявшись, подскочила и отвесила мне такую оплеуху, что у меня в глазах потемнело. Зная, что на пощечины девиц следует отвечать бесцеремонным поцелуем, я схватил ее за уши и несколько раз исцеловал. Она закричала так пронзительно, что я испугался и выпустил ее, как оказалось, на свое счастье, ибо в следующее мгновенье я уже не понимал, что происходит. Почва подо мной затряслась и загрохотала, тут же я заметил, что и решетка снова пришла в движение, но времени у меня уже не было ни на раздумья, ни на то, чтобы обратиться в бегство. Я понимал только, что вот-вот буду пронзен насквозь, так как копья и пики, вздыбившись, уже протыкали мое платье. Не знаю, что было дальше, зрение и слух мне изменили, и очнулся я от этого ужаса у подножия липы, куда меня отшвырнула поднявшаяся решетка. Заодно пробудился и мой гнев, возросший до предела, когда я услышал насмешки и хохот моей врагини, тоже упавшей на землю, но по ту сторону решетки и, верно, не так больно, как я. Посему я вскочил на ноги и, заметив мое рассеянное воинство вместе с его предводителем Ахиллом, которое тоже было отброшено поднявшейся решеткой, схватил героя и изо всех сил стукнул его об дерево. То, как он восстановился и бежал, вдвойне меня позабавило, так как к злорадству здесь присоединилось еще и восхищение прелестнейшим зрелищем; я уже готов был послать вслед за ним его греков, но вдруг со всех сторон послышалось журчанье вод, брызнувших из камней, из стен, из земли и с деревьев и нещадно хлеставших меня, куда бы я ни повернулся. Легкая моя одежда быстро намокла, к тому же она была разорвана, и я, не долго думая, скинул ее. Сначала я сбросил туфли, потом стал срывать с себя одну вещь за другой. В общем, мне было даже приятно в теплый день стоять под этим необычным душем. Нагой, я важно расхаживал меж освежающих струй, полагая, что успею вдосталь насладиться прохладой. Гнев мой остыл, и я ничего не хотел так, как примирения с моей маленькой противницей. Но ток воды внезапно остановился, и я, мокрый, стоял на отсыревшей земле. Появление старика, неожиданно выросшего передо мной, меня отнюдь не обрадовало. Мне хотелось если не убежать, то хотя бы прикрыться. Стыд, дрожь и невозможность прикрыть свою наготу превратили меня в весьма жалкую фигуру, старик же воспользовался этим мгновением, чтобы осыпать меня жестокими упреками.
— Не знаю, что мне мешает, — кричал он, — взять сейчас зеленый шнур, и если не стянуть его у вас на шее, то хоть заставить его прогуляться по вашей спине!
Меня возмутила эта угроза.
— Берегитесь таких слов и даже мыслей, — воскликнул я, — иначе вы пропали и ваши повелительницы тоже!
— Кто ты, — озлился он, — что дерзаешь так говорить?
— Любимец богов, — отвечал я, — который может сделать так, что эти девы найдут себе достойных супругов и будут вести счастливую жизнь, а может оставить их прозябать и стариться в этом заколдованном монастыре.
Старик, оробев, отступил на несколько шагов.
— Кто тебе это открыл? — изумленно спросил он.
— Три яблока, — отвечал я, — три драгоценных камня.
— Чего же ты требуешь себе в награду? — воскликнул он.
— Прежде всего малютку, которая ввергла меня в эту глупейшую историю.
Старик пал ниц передо мною, невзирая на то что земля была мокрая и вязкая. Затем он встал, нисколько не испачкавшись, дружелюбно взял меня за руку, повел в зал, где я недавно переодевался, там живо меня одел, и вот я вновь уже стоял завитой, в праздничном костюме, как раньше. Больше он ни слова не говорил, но, прежде чем позволить мне переступить порог, указал на стену по ту сторону дороги и, повернувшись, на воротца, через которые я вошел. Я отлично его понял: он хотел, чтобы я обратил внимание на приметы, по которым можно было бы вновь найти воротца, уже захлопнувшиеся за мной. Я постарался запомнить то, что видел перед собой. На высокую стену свисали ветки старых-престарых ореховых деревьев, частично закрывая зубцы, которыми она заканчивалась. Ветви спускались до каменной плиты, причудливый орнамент которой я бы, конечно, узнал, хотя и не мог прочесть того, что на ней было написано. Плита покоилась на выступе ниши, где искусно сделанный фонтан, переливая свои струи из чаши в чашу, заполнял водою большой бассейн или пруд, плоско растекавшийся по земле. Фонтан, надпись, ореховые деревья — все это вздымалось одно над другим. Мне очень хотелось зарисовать то, что я видел.
Нетрудно себе представить, как я провел этот вечер и несколько последующих дней и как часто я повторял про себя все эти истории, мне самому казавшиеся неправдоподобными. Едва только мне предоставилась возможность, я поспешил к Дурной стене, чтобы хоть освежить в памяти приметы и взглянуть на прекрасные воротца, но, к величайшему моему изумлению, там все переменилось. Ореховые деревья хоть и вздымались над стеною, но уже не стояли плотными рядами. Была там и вмурованная в стену плита, но много правее, без всякого орнамента и с вполне разборчивой надписью. Была и ниша с фонтаном, но левее, и фонтан не шел ни в какое сравнение с тем, который я видел тогда. Мне даже подумалось, что второе приключение — сон, так же как и первое, ибо воротец и след простыл. Утешает меня только то, что все три упомянутые меты не перестают перемещаться в пространстве, ибо при повторном посещении той местности мне бросилось в глаза, что деревья опять растут теснее, а плита и фонтан приблизились друг к другу. Наверно, когда все станет на прежние места, обнаружатся и воротца, и я уж сделаю все возможное, чтобы продлить приключение. Вот только будет ли мне дозволено рассказать вам о том, что произойдет дальше, или решительно запрещено, этого я еще не знаю.
* * *
Сказка эта, в правдивости которой мальчики страстно хотели убедиться, имела большой успех. Молчком и поодиночке они отправлялись к Дурной стене и обнаружили плиту, фонтан, орешник, но все еще в отдалении друг от друга, как они в конце концов признались, ибо в эти годы люди не склонны хранить тайны. Но тут-то и разгорелся спор. Один утверждал: ничто не сдвинулось с места и все расстояния остались неизменны. Другой был уверен, что плита, деревья и фонтан движутся, отдаляясь друг от друга. Третий соглашался с ним по первому пункту, но считал, что деревья, плита и фонтан сблизились. Четвертый видел и вовсе чудеса: по его словам, орешник рос посередине, а фонтан и плита поменялись местами, то есть то, что, по моим описаниям, было справа, переместилось налево. Касательно местонахождения воротец показания тоже расходились. Таким образом мне рано был преподай урок: даже о самом простом, без труда понятном предмете люди иной раз составляют себе противоречивейшие представления. Так как я упорно отказывался продолжать свою сказку, с меня частенько требовали повторения уже рассказанного. Я остерегался менять подробности, и благодаря неизменности рассказа в умах моих слушателей вымысел превратился в правду.
Вообще-то я не был склонен ко лжи и притворству и меньше всего заслуживал упрека в легкомыслии; напротив, внутренняя серьезность по отношению к себе и к окружающему миру сказывалась и на моей внешности, так что многие, кто дружелюбно, а кто и не без ехидства, подтрунивали над размеренной важностью моих повадок. Хоть у меня и не было недостатка в избранных и добрых друзьях, но мы всегда оставались в меньшинстве по сравнению с теми, что находили радость в грубых нападках на нас и бесцеремонно нас пробуждали от фантастических и самодовольных грез, в которые мы так любили погружаться, я — творя вымысел, а мои сотоварищи — участвуя в нем. Так мы, уже не впервые, убедились, что надо не размягчаться, предаваясь фантастическим развлечениям, а, напротив, закалять себя для того, чтобы либо сносить неизбежное зло, либо же вступать с ним в борьбу.
К упражнениям в стоицизме, который я, со всей серьезностью, возможной для мальчика, старался воспитать в себе, относилась и выработка невосприимчивости к физическим страданиям. Учителя часто обходились с нами весьма круто, награждая нас колотушками и подзатыльниками, к которым мы постепенно стали нечувствительны, тем более что нам было строжайше запрещено уклоняться от таковых или им противоборствовать. В основу многих детских игр или забав положено именно состязание в выносливости; иногда оно заключается в том, чтобы бить друг друга двумя пальцами или ладонью до полного онемения руки, при некоторых играх — в терпеливом принятии ударов или в том, чтобы не поддаться уже наполовину поверженному противнику, который отчаянно щиплется и куда ни попадя брыкает тебя ногами. Каждому из нас нередко приходилось подавлять боль, причиненную не в меру разрезвившимся товарищем по игре, и даже равнодушно сносить щекотку — излюбленное боевое средство в мальчишеских потасовках. Тем самым достигаешь преимущества, которое уже не так-то легко у тебя оттягать.
Но поскольку я из стойкости сделал своего рода профессию, меня стали преследовать еще настойчивее, а так как жестокое озорство не знает пределов, то я все же не раз утрачивал самообладанье. Расскажу хотя бы об одном случае. Однажды учитель не пришел на урок; мы все, конечно, были в сборе и вели себя вполне пристойно, но когда мои друзья и единомышленники, наскучив ожиданием, ушли и я остался с тремя мальчиками из враждебной мне партии, они решили помучить меня, опозорить и обратить в бегство. Выскочив на минуту из комнаты, мои враги вернулись с пучком розог, наспех надерганных из метлы. Я понял их намерения, но, полагая, что до конца урока осталось уже мало времени, тотчас же решил не защищаться и ждать звонка. Тогда они начали беспощадно хлестать меня по ногам. Я и бровью не повел, но уже скоро понял, что просчитался и что такая боль очень и очень удлиняет время. Вместе с долготерпением во мне росла и ярость; едва только зазвенел колокольчик, как я схватил одного из них, никак не ожидавшего нападения, за шиворот и швырнул наземь, да еще изо всех сил придавил ему коленкой спину. Другой, помладше и послабее, напал на меня сзади, я же зажал его голову под мышкой и сдавил так, что он едва не задохся. Но оставался еще один враг, отнюдь не из самых хилых, а у меня для защиты была только левая рука. Все же я умудрился подцепить его за платье и ловким движением — он уж слишком торопливо увертывался — сбил его с ног и прижал лицом к полу. Разумеется, они кусались, царапались и брыкались, что было сил. Но моей душой и телом руководило лишь одно чувство — месть. В своем довольно выгодном положении я несколько раз стукнул их лбами друг о дружку. Тут они стали орать что есть мочи, и на этот крик немедля сбежались домашние. Валявшиеся в комнате розги и мои ноги — я поспешил снять чулки — свидетельствовали за меня. Мне только пригрозили наказанием и отправили меня вон из дому, я же во всеуслышанье заявил, что при малейшем оскорблении выцарапаю глаза обидчику, кто бы он ни был, оборву уши, а не то, пожалуй, и задушу.
Из-за этой истории, о которой все вскоре позабыли и разве что иногда подшучивали над ней, как над обычной детской ссорой, наши совместные уроки стали реже, а потом и вовсе прекратились. Итак, я снова был возвращен в семью и нашел в своей сестре Корнелии, бывшей только на год моложе меня, подругу, чье общество день ото дня становилось мне милее.
Я не хочу, однако, покончить с этим предметом, не рассказав еще о некоторых моих неприятных столкновениях со сверстниками. Ибо весь поучительный смысл таких описаний сводится к одному: из них человек узнает, что происходит с другими людьми и чего он вправе ждать от жизни, а также уясняет себе, что все встречающееся ему на жизненном пути случается с ним, как со всяким человеком, а не как с удачником или неудачником. Пусть это знание бессильно предотвратить зло, но оно служит нам уже тем, что научает свыкаться с обстоятельствами, многое выносить и многое же преодолевать.
Здесь будет уместно еще одно замечание общего характера, а именно: в воспитание детей из состоятельных семейств, как правило, закрадывается некое противоречие. Родители и учителя постоянно поучают их вести себя сдержанно, скромно, более того — рассудительно, никому не причинять зла из заносчивости или озорства и в самом зачатке подавлять в себе недобрые чувства. Но в то время как юные создания силятся осуществить эти заветы, им приходится от других терпеть то самое, за что их бранят и что им строго-настрого запрещают. И вот бедняжки оказываются в тисках между естественными порывами и цивилизацией и, долгое время себя сдерживая, потом, в зависимости от характера, становятся либо отчаянными сумасбродами, либо коварными хитрецами.
Насилие можно одолеть лишь насилием; но доброе дитя, умеющее только любить и сострадать, ничего не может противопоставить издевкам и злой воле. И если я иной раз и умел расправиться с ватагой озорников, то где уж мне было обороняться от шпилек и злословия; ведь в таких случаях обороняющийся всегда оказывается побежденным. Приставанья, повергавшие меня в гнев, я прекращал при посредстве физической силы, но иной раз они пробуждали во мне своеобразные мысли, которые не могли остаться без последствий. Мои недоброжелатели попрекали меня даже тем, что я не роптал на преимущества, которые давал нашей семье видный пост моего деда. Шультгейс был первым среди равных, и в какой-то мере это обстоятельство распространялось и на его семью. И когда однажды, после Суда дудошников, я выказал некоторую гордость по поводу того, что мой дед сидел словно бы на троне посреди совета старшин, одной ступенью выше других, под самым портретом императора, один из мальчиков насмешливо заметил, что, вспомни я о своем деде с отцовской стороны, который держал постоялый двор «Вейденгоф», я, уж конечно, не мог бы притязать на троны и короны, а почувствовал бы себя павлином, увидавшим свои ноги. Я отвечал, что нисколько этого не стыжусь и что честь и слава нашего города в том именно и заключается, что у нас все бюргеры равны и каждый своим трудом может добиться уважения и почета. Мне только прискорбно, что этот добрый человек давно скончался, и я не раз сожалел, что не знал его, в особенности когда рассматривал его портрет или посещал его могилу и, читая надпись на памятнике его былой жизни, радовался, что ему я обязан своей. Другой мальчик, самый коварный из моих врагов, отвел первого в сторону и стал что-то шептать ему на ухо, причем они оба с насмешкой поглядывали на меня. Но во мне уже вскипала желчь, и я потребовал, чтобы они говорили вслух.
— Изволь, если хочешь знать, — начал первый. — Он сказал мне, что тебе пришлось бы долго странствовать по свету в поисках своего деда.
Я еще настойчивее стал требовать, чтобы они выражались яснее. Тогда они рассказали мне сказку, которую будто бы подслушали в разговоре родителей. Мой отец-де сын знатного человека, а тот добрый бюргер из Вейденгофа лишь согласился заступить перед людьми место его отца. У них достало бесстыдства в подтвержденье своих слов прибегнуть к такому аргументу: все наше состояние досталось нам от бабушки, все же прочие наши родственники, живущие во Фридберге и других городах, гроша за душой не имеют. Остальные доводы были не более убедительны: все они были вскормлены той же завистливой злобой. Я слушал спокойнее, чем они ожидали, заметив, что они готовы пуститься наутек при первой же моей попытке вцепиться им в волосы. Я равнодушно сказал, что и это меня ничуть не тревожит: жизнь так прекрасна, что, право же, безразлично, кому ты ею обязан. В конечном счете она — от бога, а перед ним все равны. Ничего не добившись, они от меня отстали, и мы продолжали играть вместе, а игра у детей, как известно, является испытанным средством примирения.
И все же эти злобные россказни привили мне нечто вроде душевной болезни, упорно развивавшейся в тиши. Меня отнюдь не огорчала мысль, что я внук знатного человека, даже если за этим и крылось какое-то беззаконие. Мой поиск на этом пути непрерывно продолжался, моя фантазия была взбудоражена, чувства обострены. Я начал мысленно проверять полученные сведения и сыскал кое-какие доводы, сообщавшие им видимость правдоподобия. О своем деде я мало что слышал; знал только, что его портрет, так же как и портрет бабушки, висел в одной из гостиных старого дома, а после перестройки оба портрета хранились наверху в чулане. Бабушка, в одних годах со своим мужем, была, видимо, очень красивой женщиной. И еще я вспомнил, что видел в ее комнате миниатюру с изображением видного мужчины в мундире, при звезде и орденах, позднее в сутолоке строительных работ исчезнувшую вместе с разными другими мелочами. Все это я обдумывал и сопоставлял в своем еще незрелом уме и, таким образом, уже в ранние годы развивал в себе тот поэтический талант, который, причудливо трактуя и сочетая многие важные обстоятельства человеческой жизни, привлекает к себе симпатии всего просвещенного человечества.
Но так как я ни с кем не мог поделиться своими домыслами и даже не дерзал задавать наводящие вопросы, то, желая ближе подойти к разгадке, конечно же, развил скрытую ото всех энергичную деятельность. Мне часто говорили, что сыновья непременно бывают похожи на своих отцов или дедов. Некоторые наши знакомые — и в первую очередь друг нашего дома, советник Шнейдер — состояли в деловых отношениях с государями соседних земель, расположенных по берегам Рейна и Майна, из коих многие, будь то владетельные князья или младшие отпрыски династий, иной раз, в знак благоволения, дарили поверенным свои портреты. Эти-то портреты, с детства мне знакомые, я рассматривал теперь с удвоенным вниманием, стараясь в них обнаружить черты, унаследованные моим отцом или мною. Но это мне удавалось слишком часто, чтобы вселить в меня хоть какую-то уверенность. То глаза одного, то нос другого указывали мне на фамильное сходство. Эти признаки сбивали меня с толку и уводили то в одну, то в другую сторону. И хоть я вскорости уверился, что брошенный мне упрек — чистейший вздор, эти портреты все же глубоко засели в моей памяти, и время от времени меня тянуло втихомолку вновь их разглядывать и исследовать. На этом я лишний раз убедился, что все, укрепляющее в человеке тайное сознание своей избранности, столь для него желанно, что он даже не спрашивает себя, служит ли это ему к чести или, напротив, порочит его.
Но вместо того, чтобы вплетать в свой рассказ серьезные, более того — самообличительные наблюдения, я предпочитаю отвести взор от того прекрасного времени: ибо кто в состоянии достойно выразить всю полноту детских впечатлений! Мы не можем смотреть на маленькие создания, которые нас окружают, без чувства радости, даже восхищения — обычно они обещают больше, чем могут осуществить потом; кажется, что природа, помимо прочих своих плутовских проделок, и здесь задалась целью поиздеваться над нами. Органы, которыми она снабжает ребенка для восприятия мира, находятся в полном соответствии с его состоянием, и он бесхитростно и безотчетно, но с достаточной ловкостью пользуется ими для своих ближайших и непосредственных целей. Ребенок, предоставленный самому себе или же находящийся в кругу своих сверстников, — словом, в обстоятельствах, соразмерных его силам, столь понятлив и разумен, что любо-дорого смотреть, и в то же время так мил, резв и весел, что словно бы и не нуждается в дальнейшем развитии. Если бы дети росли в соответствии с тем, что они обещают, то вырастали бы одни гении. Но рост не всегда равнозначен развитию; многоразличные органические системы, из которых состоит человек, возникают одна из другой, одна за другой следуют, взаимопревращаются и взаимовытесняются, более того — взаимно пожирают друг друга, так что по прошествии известного срока от многих сил и способностей и следа не остается. Сколько бы прирожденные задатки ни свидетельствовали об определенной их направленности, не так-то легко и величайшему, многоопытнейшему сердцеведу достоверно предсказать, во что они выльются и к чему приведут наделенного ими ребенка, но зато возможно задним числом обнаружить, что́ из ранних проявлений предвещало его будущее.
Вот почему я отнюдь не собираюсь уже в этих первых книгах покончить с историей моего детства; напротив, я намерен и впредь улавливать и прослеживать иные нити, неприметно проходившие через ранние мои годы. В этой связи я должен отметить, сколь большое, все возраставшее влияние оказывали на наш образ жизни и состояние умов военные события.
Мирный бюргер пребывает в довольно странных отношениях с мировыми событиями. Еще издали они будоражат и беспокоят его, и, даже если непосредственно его не затрагивают, он все же не может воздерживаться от суждения о них, не может по-своему в них не участвовать. Сообразуясь со своим характером или с чисто внешними обстоятельствами, он быстро принимает ту или иную сторону. Когда, по воле рока, надвигаются великие перемены, к разным внешним неурядицам прибавляется еще и внутреннее неудовольствие, отчего зло для него по большей части удваивается, становится острее и даже хорошее выглядит плохим. Он страдает от друзей и от врагов, причем от первых иной раз больше, чем от последних, и не знает, кого подарить своим благоволением и что предпринять, чтобы не остаться внакладе.
Тысяча семьсот пятьдесят седьмой год, прошедший для нас еще вполне мирно, был тем не менее годом больших душевных волнений, ибо редко когда выдавалось время, столь богатое событиями. Победы, подвиги, неудачи, новые победы сменяли друг друга, сплетались воедино, друг друга зачеркивали, но надо всем неизменно поднималась фигура Фридриха, его имя и его слава. Восторг его почитателей возрастал день ото дня и становился все более шумным, ненависть врагов еще более ожесточалась, и различие взглядов, поселившее раскол во многих семьях, способствовало тому, что бюргеры, и без того уже разобщенные, оказались еще более изолированными друг от друга. В городе, подобном Франкфурту, где три вероисповеданья делят население на три неравные части и где лишь немногие, даже из принадлежащих к господствующей церкви, допускаются к управлению городом, неизбежно должны быть люди, пусть зажиточные и просвещенные, но целиком ушедшие в себя и в силу своих занятий и пристрастий ведущие замкнутое и обособленное существование. О них мне придется говорить и сейчас и ниже, дабы читатель мог составить себе представление о франкфуртских бюргерах той поры.
Мой отец, возвратясь из долгих странствий, решил, в соответствии со своим образом мыслей, что ему следует употребить свои способности на благо городу, то есть занять какую-нибудь второстепенную должность и отправлять ее безвозмездно, но лишь при условии, если таковая будет ему предоставлена без баллотировки. В силу своего внутреннего склада и сообразно с понятием, которое он составил о самом себе, а также в сознании своей доброй воли, отец считал, что он вполне достоин такого отличия, хотя бы оно было незаконно и беспримерно. И потому, когда это его ходатайство было отклонено, он, огорченный и раздосадованный, поклялся никогда не вступать ни в какую должность и во избежание соблазна раздобыл себе звание имперского советника — почетный титул, который присваивался только шультгейсу и первым старшинам. Тем самым он уравнялся с правителями города, и начинать снизу ему теперь было уже негоже. Из тех же соображений он посватался к старшей дочери шультгейса, а значит, еще и с этой стороны закрыл себе доступ в совет. Словом, он стал удалившимся от дел человеком, одним из тех, что никогда не ищут общества друг друга. Люди такого толка разъединены между собою в той же мере, в какой они разъединены с общественной жизнью, тем паче что подобная обособленность с течением времени обостряет все странности характера. Странствуя по свету, отец, надо думать, повидал жизнь более изящную и вольную, чем та, к которой привыкли его сограждане. Он был не первым и не единственным, кому довелось это испытать.
Имя фон Уффенбахов широко известно. Один из них, старшина городского совета, в то время жил на виду и в большом достатке. Побывав в Италии, он сделался там любителем музыки. Обладатель приятного тенора, он привез с собой отличное собрание музыкальных пьес, и у него на дому зачастую устраивались концерты или исполнялись оратории. Он сам пел в этих концертах и всячески поощрял музыкантов, а это считалось неподобающим, и его гости и прочие франкфуртцы нередко над ним подсмеивались.
Далее мне вспоминается некий барон фон Геккель, богатый дворянин, женатый, но бездетный, который жил на Антониусгассе, в доме, обставленном с изящной роскошью. У него в изобилии имелись хорошие картины, гравюры, старинные вещи и прочее, что обычно стекается к коллекционерам и любителям. Время от времени барон давал обеды наиболее почтенным горожанам и к тому же занимался весьма своеобразии благотворительностью. Он призывал к себе бедняков и наделял их одеждой, но не иначе как в обмен на их лохмотья, недельное же содержание выдавал лишь при условии, чтобы они приходили за таковым в опрятном дареном наряде. Я смутно помню его как приятного и обходительного человека, но тем отчетливее запечатлелся у меня в памяти аукцион в его доме, на котором я присутствовал с первой до последней минуты и где, по указаниям отца и по собственному усмотрению, приобрел много вещей, которые еще и поныне хранятся в моих собраниях.
В свое время — я-то уже почти не знал его — всеобщее внимание как в литературном мире, так и среди франкфуртцев привлекал к себе Иоганн Михаэль фон Лоен. Он был родом из другого города, но, женившись на сестре моей бабушки Текстор, урожденной Линдгеймер, осел во Франкфурте. Вхожий в придворные и правительственные круги, он сумел возобновить свое утраченное дворянство, известность же заслужил тем, что бесстрашно вмешивался в дела церкви и государства. Фон Лоен написал дидактический роман «Граф де Ривера», содержание которого явствовало из подзаголовка «или Честный человек при дворе». Это произведение встретило хороший прием и принесло ему широкую известность, так как автор требовал в нем нравственного совершенства от придворных — среды, где доселе был в чести только расчетливый ум. Тем опаснее оказалась для него вторая его книга — «Единственно истинная религия», в которой он призывал всех к веротерпимости, в первую очередь — лютеран и кальвинистов. Из-за этой книги у него разгорелся спор с богословами. Особенно резко выступил против него доктор Беннер из Гисена. Фон Лоен ему ответил, спор сделался ожесточенным и принял личный характер. Воспоследовавшие отсюда неприятности заставили автора принять место президента в Лингене, предложенное ему Фридрихом Вторым, который считал его свободным от предрассудков, просвещенным человеком и поборником новшеств, уже успевших утвердиться во Франции. Прежние сограждане Лоена, с которыми он рассорился, утверждали, что он недоволен своим новым местопребыванием, да и не может быть доволен, ибо куда Лингену до Франкфурта. Мой отец тоже сомневался в благоденствии президента и уверял нас, что дядюшке не следовало связываться с королем: к такому-де человеку опасно приближаться, будь он хоть распровеликий. Всем известна позорная история с арестом во Франкфурте самого Вольтера по ходатайству прусского резидента Фрейтага, тогда как раньше он был осыпан милостями и считался наставником короля во французской поэзии. Чтобы предостеречь других от службы при дворе и близости к владетельным особам, о которых, кстати сказать, уроженцы Франкфурта вряд ли имели ясное представление, приводилось немало устрашающих примеров и соображений.
Что касается такого превосходного человека, как доктор Орт, то я назову его разве только по имени, ибо не ставлю себе целью воздвигать памятники всем достойным франкфуртцам, и здесь говорю о них, лишь поскольку их репутация или личность влияли на меня в детские годы. Доктор Орт был богатым человеком, но тоже никогда не принимал участия в управлении городом, хотя по своим знаниям и взглядам имел на то полное право. Любители немецкой и, в частности, франкфуртской старины были многим ему обязаны: он выпустил в свет примечания к так называемой «Франкфуртской реформации», труду, в котором были собраны статуты имперского города. Исторические главы этой книги я усердно изучал в юные годы.
Фон Оксенштейн, старший из трех братьев, наших соседей, о которых я уже говорил в начале книги, человек замкнутый и необщительный, при жизни не совершил ничего примечательного, но тем примечательнее оказалась его смерть, ибо он распорядился, чтобы его тело, рано поутру, без провожатых и пышной похоронной процессии отнесли на кладбище простые ремесленники и предали земле без какого бы то ни было церемониала. Так оно и было сделано, и в городе, привыкшем к пышным похоронным процессиям, это произвело сильнейшее впечатление. Все, кто спокон веков зарабатывал на похоронах, восстали против такого новшества. Тем не менее у почтенного патриция нашлись последователи во всех сословиях, и — несмотря на то что упрощенные похороны в насмешку называли «оксеновскими» — малоимущие семьи, конечно, стали их предпочитать, и пышные процессии постепенно вышли из обихода. Об этой подробности я упоминаю здесь, как о раннем симптоме того стремления к смирению и равенству, которое, идя как бы сверху вниз, на все лады стало проявляться во второй половине прошлого столетия, чтобы обернуться столь огромными и нежданными событиями.
Во Франкфурте имелось немало любителей старины. Они владели картинными галереями и собраниями гравюр, но прежде всего остального разыскивали и коллекционировали немецкие древности. Старейшие указы и мандаты имперского города, не попавшие в городской архив, как печатные, так и рукописные, заботливо подобранные и размещенные в хронологическом порядке, благоговейно хранились в частных собраниях в качестве сокровищ отечественных прав и обычаев. Там же, в особом разделе, были в изобилии сосредоточены и портреты франкфуртцев.
Этим коллекционерам, видимо, стремился подражать мой отец. Вообще в нем были представлены решительно все качества, приличествующие добропорядочному и почтенному бюргеру. Закончив постройку дома, он привел в порядок все свои собрания. Превосходный набор ландкарт, изданных Шенком или другими крупными географами того времени, вышеупомянутые указы и мандаты, а также портреты, шкаф, наполненный старинным оружием, шкаф с редкостными венецианскими стаканами, бокалами и кубками, естественно-историческая коллекция, разные предметы из слоновой кости, бронзы и сотни других вещей были отобраны и расставлены, я же, со своей стороны, при объявлении аукциона испрашивал у отца дозволения приумножить его коллекции.
Еще я должен сказать несколько слов об одном весьма примечательном семействе, о котором я с детства слышал много странного и совместно с отдельными его членами испытал немало удивительных происшествий; я имею в виду семейство Зенкенбергов. Глава этой семьи, о коем мне сказать, собственно, нечего, был человек состоятельный. У него было три сына, с юных лет снискавших себе репутацию чудаков. А чудачество не слишком одобряется в городе, живущем замкнутой жизнью, в которой не положено выделяться ни добрыми, ни злыми умыслами. Насмешливые прозвища и надолго остающиеся в памяти пересуды обычно являются плодом такого неудовольствия. Отец проживал на углу Заячьей улицы, которая получила свое название от герба на его доме с изображением то ли одного, то ли трех зайцев. Посему троих братьев не называли иначе как «тремя зайцами», и от этой клички они долго не могли отделаться. Как известно, в юности большие человеческие достоинства иногда проявляются в неподобающих и чудаческих поступках; это имело место и здесь. Старший брат впоследствии стал прославленным советником фон Зенкенберг, второй брат, избранный в городской совет, выказал себя весьма одаренным человеком, но свои незаурядные дарования обратил на крючкотворство и своим неблаговидным поведением причинил немало неприятностей если не родному городу, то, уж во всяком случае, своим коллегам. Третий брат, врач, в высшей степени правдивый и честный человек, имевший небольшую практику — и то только в патрицианских домах, до глубокой старости сохранял несколько чудаковатый внешний вид. Он всегда был очень изящно одет и на улице появлялся не иначе как в туфлях с пряжками, в чулках и завитом пудреном парике, со шляпой под мышкой. Он ходил быстрым шагом, но как-то странно покачиваясь и непрерывно перебегая с одной стороны улицы на другую: казалось, он чертит какой-то зигзаг ногами. Насмешники утверждали, что, виляя таким образом, он старается избегнуть встреч с душами умерших, которые непременно настигли бы его на прямом пути, а потому поневоле подражает людям, спасающимся от крокодила. Но все эти шпильки и подшучивания в конце концов сменились глубоким уважением, когда он отдал под медицинский институт свой обширный дом на Эшенгеймской улице, с садом, двором и надворными постройками, где, наряду с больницей, предназначенной лишь для граждан города Франкфурта, был разбит ботанический сад, построены анатомический театр, химическая лаборатория, да еще и квартира для директора — все на столь широкую ногу, что никакая академия не постыдилась бы этого учреждения.
Другой значительный человек, имевший на меня очень немалое влияние, и не столько своей личностью, сколько деятельностью во Франкфурте и соседних городах, а также своими писаниями, был Карл Фридрих фон Мозер, чье имя постоянно произносилось в наших краях еще и в связи с его деловыми начинаниями. По своей природе он тоже был глубоко нравственным человеком и к тому же много натерпелся от слабостей рода человеческого, что в конце концов и толкнуло его в объятия так называемых «благочестивцев». И если фон Лоен пекся о совестливости придворных, то Мозер хотел вдохнуть эту совестливость в жизнь чиновничества. Из-за множества мелких немецких дворов возникли целые сословия господ и слуг, из которых первые требовали безусловного повиновения, вторые же хотели действовать и служить лишь в согласии со своими убеждениями. Это обстоятельство порождало извечные конфликты, а также быстрые перемены и нежданные взрывы, ибо при малых государственных масштабах самоуправство сказывается скорее и вредоноснее, чем при больших. Многие владетельные дома погрязли в долгах, над ними были назначены имперские долговые комиссии; другие, кто быстрее, кто медленнее, шли по той же дорожке, а слуги либо извлекали из этих обстоятельств бессовестную выгоду, либо добросовестно старались сделаться неприятными, более того — ненавистными своим господам. Мозер хотел действовать как государственный муж и со своим наследственным талантом, развившимся до подлинного мастерства, добился весьма значительных результатов, но одновременно он хотел действовать как человек и бюргер, к тому же почти не поступаясь своим моральным достоинством. Его «Господин и слуга», его «Даниил в львином рву» и, наконец, его «Реликвии» превосходно рисуют обстоятельства, в которых он чувствовал себя как человек, если не вздернутый на дыбу, то накрепко зажатый в тиски. Все три произведения говорят об одном: нельзя мириться с таким положением вещей, но и выхода из него найти невозможно. Человек, так чувствующий и так мыслящий, конечно же, нередко бывал вынуждаем искать себе другую службу, которую благодаря своему опыту и связям, разумеется, всегда находил. Мне он вспоминается как приятный, подвижный и притом деликатный человек.
Уже тогда на нас сильнейшим образом воздействовало прозвучавшее вдали имя Клопштока. Поначалу мы удивлялись, как это столь замечательный человек носит столь чудно́е имя. Но вскоре мы к нему привыкли и уже не вдумывались в значение этих слогов. В библиотеке отца мне попадались лишь старые поэты, и прежде всего те, что мало-помалу входили в славу в его время. Все они писали рифмованными стихами, и отец почитал рифму непременным условием поэзии. Каниц, Гагедорн, Дроллингер, Геллерт, Крейц, Галлер в отличных кожаных переплетах рядком стояли на полке. Рядом помещался «Телемах» Нейкирха, «Освобожденный Иерусалим» Коппа и прочие переводные книги. Все эти томы я перечитал еще в детстве и многое затвердил наизусть, отчего меня частенько звали к гостям, считая, что я сумею развлечь их. Напротив, всеобщее восхищение «Мессиадой» Клопштока повергло отца в озлобленное уныние: такие стихи он не признавал стихами. Сам он поостерегся приобрести это произведение, но наш друг, советник Шнейдер, как-то принес его с собой и тайком сунул нам с матерью.
На этого делового и мало читавшего человека «Мессиада» сразу же по выходе в свет произвела сильнейшее впечатление. Благочестивые чувства, так естественно выраженные и в то же время красиво облагороженные, прелестный язык поэмы, даже если считать его лишь гармонической прозой, до того поразили обыкновенно сухого дельца, что первые десять песен «Мессиады», а только они и были тогда обнародованы, стали для него как бы священной книгой: каждый год, на страстной неделе, освободившись от всех хлопот, он в тиши их перечитывал, и этой живой воды ему хватало на весь предстоящий год. Поначалу он хотел поделиться своими восторгами со старым другом, но тут нежданно наткнулся на непреодолимую антипатию к поэме, столь замечательной по содержанию, из-за такого, как он считал, пустячного обстоятельства, как внешняя форма. Разговор на эту тему не раз возобновлялся, но (как того и следовало ожидать) только обострял их разногласия. Между старыми друзьями разыгрывались яростные сцены, и уступчивый Шнейдер счел за благо впредь уже не говорить о своей любимой поэме, чтобы заодно с другом юности не лишиться и хорошего воскресного обеда.
Вербовать прозелитов — естественнейшее желание любого человека, и как же был втайне удовлетворен наш друг, узнав, что остальные члены семьи готовы принять его святыню в свое сердце. Экземпляр «Мессиады», которым он пользовался лишь одну неделю в году, был предоставлен нам на все остальное время. Мать прятала книгу, но мы с сестрой ею завладевали и в свободные часы, забившись в какой-нибудь дальний угол, усердно заучивали полюбившиеся нам места, в первую очередь, конечно, наиболее страстные и чувствительные.
Сон Порции мы декламировали наперегонки, но дикий неистовый диалог между Сатаной и Адрамелехом, низвергнутыми в Красное море, поделили между собой. Роль первого, как более мужественная, досталась мне; другую, более жалобную, исполняла сестра. Взаимные проклятия, ужасные и все же столь благозвучные, так и рвались с наших уст, и мы пользовались любым случаем, чтобы приветствовать друг друга этими адскими оборотами речи.
Однажды, в субботний зимний вечер, — отец всегда приказывал брить себя уже при свечах, чтобы в воскресенье не спеша одеться и отправиться в церковь, — мы сидели на скамеечке за печкой и, покуда цирюльник намыливал щеки отцу, тихонько бормотали обычные наши проклятия. Но вот Адрамелеху пришло время сжать Сатану железными руками, сестра с силой схватила меня и продекламировала хоть и негромко, но с возрастающей страстью:
О, помоги! Умоляю! Молюсь тебе, если ты хочешь,
Злое чудовище, гнусный, отверженный, черный преступник!
О, помоги! Я страдаю от вечной и мстительной смерти!
Раньше тебя ненавидеть я мог горячо и свирепо,—
Ныне того не могу… Для меня это — худшее горе!
До этой минуты все шло сносно, но когда она страшным голосом выкрикнула:
О, как я сокрушен! —
добрый наш брадобрей испугался и опрокинул посудину с мыльной водой отцу на грудь. Суматоха поднялась невообразимая, на месте преступления было произведено строжайшее дознание, главным образом ввиду несчастья, которое могло бы произойти, если бы цирюльник уже приступил к бритью. Дабы отклонить подозрение в злом умысле, мы признались, что изображали жителей ада; так как беда, учиненная гекзаметрами Клопштока, была слишком очевидна, то их заново осудили и изгнали из нашего дома.
Так дети и народ сводят великое и возвышенное к игре и забаве — да и как иначе могли бы они это выдержать и вынести?
КНИГА ТРЕТЬЯ
Первый день Нового года в те времена проходил во Франкфурте весьма оживленно: все жители обменивались визитами и поздравлениями. Даже заядлые домоседы облачались в парадное платье, спеша отдать долг вежливости друзьям и покровителям. Для нас же, детей, наибольшей радостью был в этот день праздник, устраивавшийся у деда. С самого утра в дом уже являлись внуки послушать барабаны, гобои и кларнеты, трубы и рожки, которыми нас потчевали военный и городской оркестры, а также отдельные любители. Дети раздавали запечатанные и надписанные пакеты с новогодними подарками поздравителям, что помельче. Но время шло, и количество более почетных гостей все возрастало. Сначала приезжали близкие друзья и родственники, затем мелкие чиновники; члены совета тоже не упускали случая поздравить своего шультгейса, а вечером избранное общество ужинало в комнатах, запертых почти круглый год. Торты, бисквиты, марципаны, сладкое вино — все это было исполнено прелести для детей, а тут еще шультгейс и оба бургомистра, ежегодно получавшие из нескольких благотворительных заведений мешочек с серебряными монетками, по старшинству оделяли ими внуков и крестников. Короче говоря, этому празднику в малом было присуще все то, что красит большие, пышные пиршества.
Настал новый, 1759 год, для детей столь же желанный и радостный, как предыдущие, но для старших исполненный сомнений и недобрых предчувствий. К прохождению французских войск во Франкфурте уже привыкли, это случалось часто, но чаще всего в последние дни минувшего года. По старому обычаю имперских городов, сторож на главной башне начинал трубить при приближении иноземных войск. И вот в первый день Нового года он трубил непрестанно, а это значило, что крупные войсковые соединения движутся со всех сторон. И правда, в этот день французы большими отрядами проходили через город, и народ сбегался смотреть на них. Прежде это бывали лишь мелкие подразделения, теперь войска все прибывали и прибывали, и никто не мог, да и не хотел остановить это движение. Словом, 2 января одна из колонн, промаршировав через Саксенгаузен и перейдя мост, по Фаргассе подошла к полицейскому караулу, остановилась, разогнала небольшой полицейский отряд, несший службу, заняла караульное помещение, спустилась вниз по Цейле и после довольно нерешительного сопротивления главного караула принудила его сдаться. Мирные улицы тотчас же превратились в театр военных действий, загроможденный биваками и вновь прибывающими частями, покуда французы не были наконец размещены по квартирам.
Этот груз, нежданный и уже давно не виданный, тяжким бременем лег на плечи миролюбивых бюргеров, но ни для кого он не был столь нестерпим, как для моего отца, которому пришлось впустить в свой едва достроенный дом чужих людей, да еще военных, распахнув перед ними двери тщательно убранных и почти всегда запертых парадных покоев, — словом, выдать на произвол чужеземцев все то, что он привык точно регламентировать и содержать в строжайшем порядке. Верный своим прусским симпатиям, он должен был теперь у себя в доме выдерживать осаду французов, — трудно придумать более печальную участь для человека его образа мыслей. Если бы он, с его хорошим французским языком и умением держать себя достойно и любезно, мог легче отнестись ко всему происходящему, он бы избавил себя и нас от многих неприятных минут. Дело в том, что у нас квартировал королевский лейтенант, в обязанности которого входило улаживать споры между солдатами и бюргерами, долговые дела и прочие недоразумения чисто гражданского характера. То был граф Торан, родом из Граса в Провансе, недалеко от Антиба. Он производил внушительное впечатление: долговязый, сухопарый, с лицом, изрытым оспой, с черными огненными глазами, неизменно корректный и сдержанный. С самого начала его появление в нашем доме не сулило никаких неприятностей. Когда разговор зашел о комнатах: какие из них следует уступить постояльцам, а какие останутся для нашей семьи, и граф прослышал о собрании картин в одной из них, он, несмотря на ночное время, попросил дозволения взглянуть на них, хотя бы бегло и при свечах. Осмотром он остался более чем доволен, был весьма предупредителен с сопровождавшим его отцом, а услышав, что в большинстве своем эти художники еще живы и даже живут во Франкфурте или его окрестностях, заверил отца, что ничего так не желает, как познакомиться с ними и сделать им заказы.
Но и такое сближение на почве искусства не могло повлиять на убеждения моего отца, ни, тем паче, сломить его строптивость. Предоставив событиям идти своим чередом, сам он бездействовал и все больше замыкался в себе, ибо то необычное, что вокруг него творилось, было ему несносно и в большом и в малом.
Между тем граф Торан выказывал такт поистине образцовый. Он даже не позволял прибивать на стены свои ландкарты, чтобы не попортить новых обоев. Его люди были расторопны, тихи и добропорядочны, но поскольку весь день и даже часть ночи к нему являлись жалобщики, сменяя один другого, приводились и уводились арестованные, беспрепятственно допускались все офицеры и адъютанты и, кроме того, граф еще держал открытый стол, то в довольно большом доме, но все же построенном для одной семьи, с единственной лестницей, проходившей через все этажи, стояло гуденье и суета, как в пчелином улье, несмотря на сдержанное, чинное, строго регламентированное поведение его новых обитателей.
По счастью, посредником между раздражительным и с каждым днем все сильнее страдавшим от ипохондрии хозяином дома и, правда, доброжелательным, но суровым и по-военному точным гостем являлся дельный переводчик, красивый, дородный и веселый франкфуртский бюргер, который не только хорошо говорил по-французски, но умел приспособляться к любым обстоятельствам и обращать в шутку всякую мелкую неприятность. Этого человека моя мать попросила разъяснить графу трудность ее положения, при нынешнем душевном состоянии мужа, и он умнейшим образом представил все дело: новый, еще не до конца устроенный дом, врожденная замкнутость хозяина, его постоянная озабоченность воспитанием детей и тому подобное, так что граф, при несении службы гордившийся своей величайшей справедливостью, неподкупностью и высоким понятием о чести, решил быть безупречным и в качестве постояльца. Он и вправду вел себя безукоризненно на протяжении ряда лет и при различнейших обстоятельствах.
Моя мать знала немного по-итальянски, да и вообще этот язык был более или менее знаком всем членам нашей семьи; теперь она решила научиться еще и французскому. Ее учителем стал все тот же переводчик, у которого она среди всех бурь и невзгод крестила ребенка и который, теперь вдвойне к нам расположенный, пользовался каждой свободной минутой (он жил напротив нас) для занятий со своей кумой, и в первую очередь стал обучать ее фразам, необходимым для общения с графом, что и удалось ему наилучшим образом. Граф был польщен тем, что хозяйка дома в ее годы взяла на себя этот труд, а поскольку он, при всей своей сухости, был отнюдь не чужд галантности и светского остроумия, то его отношения с моей матерью сложились как нельзя лучше, и заключившие союз кум с кумою от него добивались всего, что им было угодно.
Если бы, как сказано, отца можно было смягчить и приободрить, новое положение в доме было бы для нас не таким уж тягостным. Граф, воплощенное бескорыстие, наотрез отказывался от даров, подносившихся ему по должности. Все, что хоть как-то походило на подкуп, гневно им отвергалось, более того — он налагал взыскание на дарителей, а его людям было строго настрого запрещено вводить хозяина даже в малейшие издержки. Но сам он нас, детей, всегда щедро оделял десертом. Здесь я хочу воспользоваться случаем и дать читателю представление о неискушенности тогдашних людей: так, моя мать очень огорчила нас с сестрою, выбросив мороженое, которое нам прислали французы со своего стола, — ей казалось невозможным, чтобы детский желудок мог переварить лед, хотя бы и насквозь просахаренный.
Помимо лакомств и, в частности, мороженого, к которому мы вскорости пристрастились, нас радовало также, что точное расписание уроков и строгая муштра были несколько поколеблены. Дурное настроение отца становилось все хуже, свыкнуться с неизбежным он не умел и не хотел. И как же он мучил себя, мать, кума, ратсгерров и всех своих друзей, стремясь избавиться от графа! Напрасно ему доказывали, что присутствие в доме такого человека при данных обстоятельствах — сущее благодеяние и что с отъездом графа начнется нескончаемая смена постояльцев, как офицеров, так и рядовых. Ни один из этих доводов его не убеждал. Настоящее представлялось ему нестерпимым, негодование мешало предвидеть худшее.
Все это парализовало его энергию, в другое время обращенную главным образом на нас. Он уже не требовал обстоятельного и точного выполнения уроков, которые задавал нам, мы же, по мере возможности, старались удовлетворить своз любопытство касательно военных и прочих общественных событий не только в доме, но и на улицах, благо двери у нас день и ночь стояли открытыми и охранявшие их часовые, конечно, не обращали внимания на беспокойную беготню детей взад и вперед.
Многочисленные споры, выносившиеся на суд королевского лейтенанта, приобретали особую остроту оттого, что он любил сопровождать свои решения остроумной и язвительной шуткой. Все его приговоры и постановления были в высшей степени справедливы, форма же, в которой они высказывались, — прихотливо пикантна. Похоже было, что он взял себе за образец герцога Осуна. Не проходило дня, чтобы наш кум и переводчик не веселил мать и нас с сестрою каким-нибудь анекдотическим рассказом. Этот неугомонный человек собрал целую коллекцию соломоновых решений, но я помню лишь общее от них впечатление, отдельные же случаи в моей памяти не сохранились.
Причудливый характер графа мы постепенно узнавали все лучше. Он и сам досконально себя изучил и, предчувствуя приближение часов, а то и дней тяжелого душевного состояния — хандры, ипохондрии или как там еще называются все эти злые демоны, запирался в своей комнате, не допуская к себе никого, кроме камердинера, и даже в самых безотлагательных случаях всем отказывал в аудиенции. Но едва только Злой дух его покидал, как он снова становился мягок, весел и деятелен. Из слов его камердинера Сен-Жана, худощавого, но проворного и добродушного человечка, можно было заключить, что в свое время граф, поддавшись душевному мраку, стал виновником большого несчастья, и с тех пор, принимая во внимание еще и свою должность, видную, так сказать всему миру, всеми силами остерегался повторения беды.
В первые же дни своего пребывания в нашем доме граф призвал к себе всех франкфуртских живописцев: Хирта, Шюца, Траутмана, Нотнагеля и Юнкера. Они показывали ему свои произведения, и граф приобрел те, которые продавались. В его распоряжение была отдана моя светлая хорошенькая комната в мансарде, которую он тотчас же превратил в картинную галерею и ателье, ибо в его намерения входило засадить за работу всех живописцев, но в первую очередь Зеекаца из Дармштадта, чья кисть пришлась ему по душе своей наивной чистотою. Посему он велел прислать из Граса, где у его старшего брата был прекрасный дом, точные размеры стен и комнат, затем обсудил с художниками, как разделить стены на поля, и соответственно с этим заказал картины. Написанные маслом, они не должны были развешиваться в рамах по стенам братнего дома; им предстояло служить своего рода шпалерами. Работа закипела. Зеекац взял на себя сельские сцены, и надо сказать, что старики и дети, которых он писал с натуры, удались ему на диво. Хуже обстояло дело с юношами, очень уж они были сухопары; женщины же его не имели успеха у зрителей по причине, прямо противоположной. Последнее объяснялось тем, что жена Зеекаца, низкорослая толстуха, увы, не позволяла ему писать с других моделей, так что ничего ласкающего глаз здесь получиться не могло. Вдобавок он был вынужден отказаться от соблюдения пропорций. Деревья выглядели правдоподобно, но листья на них были слишком мелкие. Зеекац был учеником Бринкмана, отлично работавшего в станковой живописи.
Пожалуй, лучше всех со своей задачей справился пейзажист Шюц. Прирейнские виды и солнечный тон, пронизывающий их весною, оказались ему вполне по плечу. Крупные полотна для него были не внове, их, как и все его работы, отличала тщательность и благородная сдержанность кисти. Картины, им созданные, были приятны и жизнерадостны.
Траутман старательно рембрандтизировал сюжеты из Нового завета, главным образом воскресение Христово, и зажег красивые пожары в нескольких деревнях и на мельницах. Для его вещей, как я заключил из планов дома, было выделено отдельное помещение. Хирт написал несколько буковых и дубовых лесов; его стада заслуживали всяческих похвал. Юнкеру, привыкшему подражать скрупулезнейшим нидерландцам, было труднее приспособиться к этому «шпалерному» стилю; тем не менее он согласился, за хорошее вознаграждение, расписать несколько стен цветами и фруктами.
Поскольку я с ранних лет знал этих людей и частенько наведывался в их мастерские, да и граф охотно терпел меня подле себя, вышло так, что я присутствовал при всех предварительных обсуждениях и заказах, а также при сдаче картин художниками и даже решался высказывать свое мнение, главным образом — при рассмотрении набросков и эскизов. Среди любителей живописи и в особенности на аукционах, которые я усердно посещал, я уж и раньше был известен своим уменьем сразу же определять сюжет картины, независимо от того, была ли она написана на библейскую, историческую или даже мифологическую тему, и если я не всегда угадывал смысл аллегорических изображений, то все же редко кто из присутствующих мог сделать это лучше меня. Иногда мне случалось побудить художника изобразить тот или иной предмет, и теперь я с охотой и любовью пользовался своими преимуществами. Помнится, я даже написал весьма обстоятельное сочинение, в котором были описаны двенадцать картин из жизни Иосифа: некоторые из них были выполнены живописцами.
Вслед за этими успехами, похвальными для мальчика моих лет, я должен упомянуть и о том, как был посрамлен все в том же кругу художников. Мне, конечно, знакомы были все картины, постепенно заполнившие стены предназначенной для них комнаты. Юное мое любопытство ничего не оставляло без внимания и исследования. Как-то раз, обнаружив за печью черный ящик, я не преминул поинтересоваться его содержимым и повернул ключик. Картина, лежавшая в нем, была не из тех, что выставляются для публичного обозрения, я заторопился снова закрыть его, но справился с этим недостаточно быстро. Вошел граф и застал меня на месте преступления.
— Кто вам позволил открыть эту шкатулку? — спросил он с гордой миной королевского лейтенанта. Я не нашелся, что ответить, и он тотчас же вынес мне приговор: — В течение восьми дней вы не переступите порога этой комнаты.
Я поклонился и вышел. Приказ лейтенанта я выполнил самым пунктуальным образом — к вящей досаде милейшего Зеекаца, как раз работавшего в злополучном помещении. Он любил видеть меня рядом, я же, из коварства, зашел в своем послушанье так далеко, что даже ставил на порог кофе, который обычно приносил ему. Зеекацу приходилось отрываться от работы, чтобы взять его, а он этого терпеть не мог и не на шутку на меня сердился.
Теперь, однако, пора объяснить подробно, как я в подобных случаях более или менее сносно управлялся с французским языком, хотя никогда его не учил. И здесь мне на помощь пришла врожденная одаренность, я легко усваивал звучанье и ритм языка, его движения, акцент, интонацию и прочие внешние особенности. Многие слова я знал по занятиям латынью, итальянский язык давал мне, пожалуй, еще больше знания, кое-чего я наслышался из разговоров слуг и солдат, часовых и посетителей, так что вскоре если и не мог принимать участия в разговоре, то все же научился задавать вопросы и отвечать на них. Но все это немного значило в сравнении с тем, что дал мне театр. От дедушки я получил даровой билет, которым, благодаря заступничеству матери, и пользовался ежедневно, несмотря на неудовольствие отца. Я сидел в креслах перед чуждой мне сценой и тем внимательнее следил за движениями, мимикой и интонацией актеров, что ровно ничего не понимал из того, что говорилось там, ка подмостках, и, следовательно, получал удовольствие только от жестов и звучания речи. Всего непонятнее для меня была комедия, ибо в ней говорили быстро и к тому же ее сюжеты были заимствованы из обыденной жизни, а я ровно ничего не смыслил в повседневном языке. Трагедии давались реже и благодаря размеренной поступи, четкой ритмике александрийского стиха и обобщенности выражений были мне все же куда понятнее. В библиотеке отца я вскоре нашел Расина и с азартом декламировал его пьесы на театральный манер, то есть так, как их воспринял мой слух и подчиненный ему орган речи, не понимая, собственно, языка во всех его связях. Более того, я затвердил целые куски и декламировал их, точь-в-точь как говорящий попугай. Для меня это не представляло труда, ибо еще раньше я заучивал наизусть отрывки из Библии, в большинстве своем непонятные ребенку, и привык читать их, подражая тону протестантских проповедников. В те времена большим фавором пользовались стихотворные французские комедии. Произведения Детуша, Мариво, Лашоссе играли часто, и мне до сих пор помнятся некоторые их характерные персонажи. Пьесы Мольера у меня в памяти сохранились хуже. Наибольшее впечатление на меня произвела «Гипермнестра» Лемьера, тогдашняя новинка, поставленная очень тщательно и несколько раз повторенная. Очень приятное впечатление вынес я и от «Devin du Village», «Rose et Colas» и «Annette et Lubin»[7]. Я и поныне живо помню движения разукрашенных лентами юношей и девушек. Прошло немного времени, и во мне шевельнулось желание побывать за кулисами театра, благо возможностей к тому представлялось хоть отбавляй. У меня, конечно, не хватало терпенья смотреть весь спектакль, и я немало времени проводил в коридорах, а при теплой погоде — и перед подъездом театра, играя со своими сверстниками; к нам вскоре присоединился красивый бойкий мальчик, имевший прямое отношение к театру, которого я даже видел, правда, мельком, в нескольких маленьких ролях. Объясняться со мной ему было легче, чем с другими, ибо я сумел пустить в ход все свои познания во французском, и он тем более ко мне льнул, что ни в театре, ни где-либо поблизости не было мальчика его лет и национальности. Мы расхаживали вместе не только по вечерам, но и днем, не отставал он от меня и во время спектаклей. Этот прелестный маленький хвастунишка болтал без умолку и так мило повествовал о своих приключениях, драках и прочих эскападах, что я слушал его как зачарованный и за месяц научился понимать и говорить по-французски лучше, чем это можно было предположить, так что все вокруг недоумевали, как это я вдруг, точно по наитию свыше, овладел чужим языком.
В первые же дни нашего знакомства он потащил меня за кулисы, вернее, в то фойе, где актеры дожидались своего выхода или переодевались. Помещение это было неуютное и неудобное, ибо театр пришлось втиснуть в концертный зал, где за сценой не было актерских уборных. В соседней комнате, довольно большой и прежде служившей для музыкальных репетиций, обычно вместе толклись актеры и актрисы, которые, судя по тому, что во время переодевания соблюдались далеко не все правила приличия, видимо, очень мало стеснялись как друг друга, так и нас, детей. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось, но, побывав там несколько раз и поосвоившись, чего-либо предосудительного я в этом уже не видел.
Прошло немного времени, и театр приобрел для меня особый, сугубо личный интерес. Юный Дерон (пусть так зовется мальчик, с которым я продолжал дружить), если не считать его склонности к похвальбе, был учтив и добронравен. Он познакомил меня со своей сестрой, очень милой девушкой, года на два старше нас, рослой, хорошо сложенной, со смуглым цветом лица, черноволосой и черноглазой, но всегда тихой и даже печальной. Я старался, чем мог, услужить ей, однако привлечь ее внимание мне не удавалось. Молодые девушки всегда задирают нос перед мальчишками и, уже заигрывая с юношами, перед мальчиком, несущим к их стопам свое первое чувство, корчат из себя старых тетушек. С младшим братом Дерона я совсем не знался.
Иной раз, когда их мать была на репетиции или в гостях, мы, собравшись у них дома, все вместе играли или беседовали. Я никогда не приходил туда с пустыми руками и приносил красавице цветы, фрукты или какие-нибудь безделки, которые она принимала вполне благосклонно и вежливо меня благодарила, но ни разу я не видел, чтобы ее печальный взор повеселел, и никогда не замечал, чтобы она хоть раз обратила на меня внимание. Наконец, как я полагал, тайна ее мне открылась. Мальчик, приподняв элегантный шелковый полог, украшавший кровать его матери, показал мне висевший в глубине алькова портрет красивого мужчины, выполненный пастелью, и с лукавой миной пояснил, что это, собственно, не папа, но все равно что папа. Он на все лады превозносил этого человека и, по обыкновению, хвастливо и подробно о нем рассказывал, из чего я заключил, что старшая дочь рождена от законного мужа, а мальчик и его брат от друга дома. Теперь мне была понятна грусть девушки, и она сделалась мне еще дороже.
Склонность к этой девушке помогала мне сносить хвастливые выходки ее брата, нередко утрачивавшего чувство меры. Мне приходилось выслушивать пространные рассказы о его подвигах, — например, о том, что он не раз уже дрался на дуэли без всякого желания причинить вред противнику, а единственно из чувства чести. И всегда-то ему удавалось обезоружить противника, после чего он его прощал; в фехтовании же он якобы достиг такого искусства, что однажды даже попал в затруднительное положение, забросив шпагу противника на высокое дерево, откуда ее достали лишь с превеликим трудом.
Посещение театра было мне очень облегчено даровым билетом. Полученный из рук шультгейса, он давал мне право сидеть где угодно, а следовательно, и в местах на просцениуме. Последний, по французскому обычаю, был очень глубок, и места по обеим его сторонам, огороженные невысоким барьером, шли возвышающимися рядами, причем передние были лишь слегка приподняты над уровнем сцены. Они считались особо почетными, и сидели на них обычно только офицеры, хотя близость сцены снимала если не всякую иллюзию, то, уж конечно, всякое удовольствие. Я еще успел своими глазами видеть результаты нелепейшего обычая, на который горько сетовал Вольтер. Когда при переполненном зале и главным образом во время прохождения войск через город высшие офицеры хотели во что бы то ни стало сидеть на просцениуме, а места уже были заняты, то перед ними ставили уже на самой сцене еще ряд или несколько рядов стульев и скамеек, так что героям и героиням приходилось открывать зрителю свои тайны на весьма стесненном пространстве, среди орденов и мундиров. При мне в такой обстановке исполнялась «Гипермнестра».
Между актами занавес не опускался. Здесь я хочу упомянуть еще об одном странном обыкновении, антихудожественность которого для меня, доброго немецкого мальчика, была непереносима. Театр почитался величайшей святыней, и любое нарушение порядка в нем подлежало немедленной каре, как преступление против ее величества публики. Итак, во время всех комедий по обе стороны задника стояли два гренадера, ничем не скрытые от зрителей, и были невольными свидетелями всех событий, происходивших в недрах семьи. Как я уже говорил выше, занавес между действиями не опускался; посему и смена караула происходила на наших глазах. С первыми звуками музыки из кулис выходили два новых гренадера и направлялись к старым, а те, сменившись, мерным шагом уходили со сцены. Такой порядок был разработан, казалось бы, нарочно для уничтожения того, что в театре зовется иллюзией, но это режиссерам нисколько не мешало в то же самое время держаться принципов и примера Дидро, требовавшего от театра естественнейшей естественности, и выдавать за цель театрального искусства достижение полной иллюзии. Кстати сказать, трагедия была освобождена от такого полицейского надзора и героям древности дано было право самим охранять себя. Упомянутые же гренадеры во время представления стояли поблизости за кулисами.
Мне остается еще сказать, что я смотрел в этом театре «Отца семейства» Дидро и «Философов» Палиссо. Из последней пьесы мне и сейчас еще помнится фигура философа, который ползает на четвереньках и грызет сырой кочан салата.
Но даже это театральное многообразие не всегда могло удержать нас, детей, в театре. В хорошую погоду мы играли у его подъезда или где-нибудь поблизости и дурачились изо всех сил, что никак не вязалось с нашим внешним видом, особенно в воскресные и праздничные дни, когда я и мальчики моего круга появлялись одетые точь-в-точь как в той сказке, где я описал себя: со шляпой под мышкой и при шпаге, на рукоятке которой красовался большой шелковый бант. Однажды, после долгой возни, замешавшийся в нашу игру Дерон стал уверять меня, что я его обидел и обязан дать ему сатисфакцию. Я, правда, не мог взять в толк, что произошло, но вызов принял и уже хотел обнажить шпагу, когда он объявил, что такие дела принято улаживать в местах, не столь многолюдных. Посему мы удалились за амбары и стали в соответствующую позицию. Поединок протекал несколько театрально, клинки звенели, сыпались удары, но в пылу боя острие его шпаги запуталось в банте на рукоятке моей. Бант был пронзен, и противник меня заверил, что сатисфакция им получена сполна; он даже обнял меня, кстати сказать, весьма театрально, и мы отправились в ближайшую кофейню, чтобы за стаканом оршада передохнуть от только что испытанных волнений и еще прочнее скрепить наш дружеский союз.
В этой связи мне хотелось бы рассказать еще об одном приключении, случившемся со мною в театре, правда, несколько позднее. Как-то раз я и один из моих приятелей, спокойно сидя в креслах, с удовольствием смотрели, как хорошенький мальчик, надо думать — наш ровесник, сын приезжего французского танцора, ловко и мило исполняет сольный танец. Как тогда полагалось танцору, он был одет в узкий камзольчик из красного шелка, переходивший в короткую, до колен, словно фартук у скороходов, юбочку на фижмах. Вместе со всей публикой мы аплодировали юному артисту, как вдруг мне на ум, сам не знаю почему, пришла глубокомысленная сентенция. Я сказал своему спутнику: как красиво одет этот мальчик и как уверенно он себя держит, а ночью, кто знает, может, спит в рваной рубашонке. Все уже поднялись с мест, но в толпе мы не могли пробраться вперед. Женщина, сидевшая в соседнем кресле и теперь снова очутившаяся рядом со мной, оказалась матерью юного актера; она слышала мое замечание и разобиделась. На беду, она довольно знала по-немецки, чтобы понять мои слова да еще меня выбранить. Кто я такой, взбеленилась она, чтобы сомневаться в добропорядочности и благосостоянии семейства этого молодого человека. Чем он, спрашивается, хуже меня! Напротив, его талант в будущем сулит ему счастье, о котором мне и мечтать не пристало. Выговаривала она мне в толпе зрителей, и близстоящие стали с удивлением на меня озираться: что-де я там такое набедокурил? Поскольку я не мог ни попросить у нее прощенья, ни отойти от нее, я смешался и, воспользовавшись паузой в ее словоизвержении, проговорил, ровно ничего при этом не думая: «К чему этот шум? Сколько ни ликуешь, а смерти не минуешь». Когда я это сказал, она точно обомлела. Потом пристально на меня взглянула и ушла при первой же возможности. Я больше о своих словах не думал и вспомнил о них лишь некоторое время спустя, узнав, что мальчик не только больше не выступает, но лежит тяжело больной. Остался ли он в живых, я не знаю.
Подобные предсказания через нечаянно вырвавшееся или оплошно вставленное слово были в чести еще у древних. Тем примечательнее, что те же формы веры и суеверия бытовали и бытуют во все времена и у всех народов.
Итак, с первого же дня вторжения французов в наш город ни дети, ни молодежь не испытывали недостатка в развлечениях. Нас занимали спектакли и балы, парады и дефилирующие войска. Последние мы видели все чаще, и солдатская жизнь представлялась нам беспечной и беспечальной.
Благодаря пребыванию королевского лейтенанта в нашем доме, мы мало-помалу перевидали всех выдающихся полководцев французской армии, даже самых знаменитых, чьи имена нам были хорошо известны задолго до их прибытия во Франкфурт. С лестниц и с площадок мы, как с галереи, глазели на проходящий генералитет. В первую очередь мне запомнился красивый и общительный принц Субиз, но всего ярче — маршал Брольо, человек еще молодой, невысокого роста, но отлично сложенный, живой, с насмешливым взглядом и быстрыми движениями.
Он не раз приходил к королевскому лейтенанту, видимо, по весьма важным делам. Не успели мы за первые три месяца постоя привыкнуть к новому положению вещей в нашем доме, как распространился неясный слух, что союзники перешли в наступление и герцог Фердинанд Брауншвейгский приближается, для того чтобы оттеснить французов от Майна. Больших надежд на последних никто не возлагал, ибо военными удачами они не могли похвастаться и после битвы при Росбахе скорее даже заслуживали презрения; зато на герцога Фердинанда все сторонники Пруссии смотрели как на спасителя, с нетерпением ожидая, что он освободит их от долгого гнета. Отец немного повеселел, мать, напротив, тревожилась. Она была достаточно умна, чтобы понимать: нынешнее малое зло может легко смениться большим, ибо уже сейчас было ясно, что французы не двинутся навстречу герцогу, а будут ждать нападения вблизи от города. Поражение французов, отступление, оборона города, предпринятая хотя бы для того, чтобы удержать мост, бомбардировка, грабежи — все это будоражило воображение и вселяло тревогу в представителей обеих партий. Моя мать, способная вынести все, что угодно, только не тревогу, сообщила графу через переводчика о своих опасениях. Ей ответили, как положено отвечать в таких случаях: пусть она сохраняет спокойствие, бояться тут нечего, но вести себя следует как можно тише, ни с кем не делясь своими опасениями.
Через город прошло множество войсковых соединений, которые, как нам стало известно, остановились под Бергеном. Приход и уход войск, беготня, скачущие по улицам всадники — вся эта суета непрерывно возрастала, и в доме у нас ни днем, ни ночью не было покоя. В это время я часто видел маршала Брольо, всегда оживленного, в неизменно ровном настроении, и впоследствии порадовался, найдя в истории похвальное упоминание о человеке, чей образ произвел на меня столь приятное и надолго запомнившееся впечатление.
Итак, после беспокойной недели наступила наконец страстная пятница 1759 года. Полнейшая тишина предвещала близкую бурю. Нам, детям, было запрещено выходить из дому. Отец не находил себе места и вышел на улицу. Битва уже началась. Я полез на чердак, откуда хоть и не видны были окрестности города, но зато явственно доносился гром пушек и стрекот массированного ружейного огня. Несколько часов спустя появились и первые признаки битвы — мимо нас к монастырю Пресвятой девы, наспех превращенному в госпиталь, медленно потянулись подводы, на которых, скрючившись, сидели или лежали искалеченные и раненые. Сердобольные бюргеры бросились подносить пиво, вино, хлеб и деньги тем, кто еще в состоянии был принять эти дары. А немного погодя, когда в обозе были обнаружены раненые и пленные немцы, состраданье уже не знало границ: каждый, казалось, только и жаждет отдать все, что у него есть, в помощь своим злополучным землякам.
Однако эти пленные свидетельствовали о неблагоприятном для союзников исходе битвы. Мой отец, в своей пристрастности убежденный, что победа останется за ними, отважился выйти навстречу тем, кого полагал победителями, не подумав, что раньше неизбежно должен будет наткнуться на отступающие войска побежденных. Прежде всего он отправился в свой сад у Фридбергских ворот, где, как оказалось, царили покой и тишина. Оттуда он смело двинулся на Борнгеймские луга, там ему уже встретились отставшие солдаты и обозные служители, развлекавшиеся пальбой по каменным пограничным столбам, так что рикошетные пули свистели над головой любопытного путника. Тут он наконец счел за благо повернуть назад и, порасспросив кое-кого, понял то, что мог бы уяснить себе по звукам выстрелов, а именно: для французов все обстоит благополучно и об их отступлении и помышлять не приходится. Вернулся он домой в мрачнейшем расположении духа, а увидев раненых и пленных своих соотечественников, окончательно потерял привычное самообладанье. Он тоже приказал передать вспомоществование проезжающим, но только немцам, что не всегда возможно было сделать, так как судьба смешала воедино друзей и врагов.
Мать и мы, дети, положившись на слова графа, провели день без особых волнений и были в наилучшем расположении духа, мать же была вдвойне утешена, так как сегодня утром, проколов иглою «Шкатулку с драгоценностями», свой обычный оракул, она получила ответ, успокоивший ее как насчет настоящего, так и будущего. Мы всем сердцем желали отцу той же бодрости духа, подольщались к нему, как могли, умоляли его поесть, так как он целый день провел без пищи, но он отверг наши ласки, равно как наше угощение, и заперся в своей комнате. Меж тем мы продолжали радоваться — все наконец решилось. Королевский лейтенант, который, вопреки своему обыкновению, весь этот день провел на коне, наконец воротился, а сейчас его присутствие в доме было нужнее, чем когда-либо. Мы бросились ему навстречу, целовали ему руки и бурно выражали свою радость. Ему это, видимо, пришлось по душе.
— Очень хорошо, — необычно ласковым топом сказал он, — я рад за вас, мои милые! — Он тотчас же велел принести нам сластей, сладкого вина и прочих лакомств, а сам, уже осаждаемый толпой посетителей, челобитчиков и военных, ушел к себе в комнату.
Поглощая графские яства, мы сожалели об отце, не принимавшем участия в нашем пиршестве, и приставали к матери, прося позвать его, но она, будучи умнее нас, отлично понимала, как неприятны были бы ему эти дары. Тем временем какой-никакой был подан ужин, и мать хотела было послать его отцу, но не решилась, зная, что он не терпит такого беспорядка даже в самых крайних случаях; поэтому, подальше убрав дареные сласти, мы сделали попытку уговорить его спуститься в столовую. Наконец, хотя и с неохотою, он согласился, мы же и не чаяли, какую беду накликали на него и на себя. Лестница проходила через прихожие всех этажей, и отец, спускаясь, должен был неминуемо пройти мимо графской комнаты. Прихожая перед нею была битком набита народом, и граф решил выйти к ожидающим, чтобы разом покончить с некоторыми делами; случилось это, на беду, в ту самую минуту, когда проходил отец. Граф пошел ему навстречу, весело его приветствовал и сказал:
— Вы можете поздравить себя и нас с благополучным исходом этого опасного дела.
— И не подумаю, — рассвирепев, отвечал отец. — Я хотел бы, чтоб вас прогнали ко всем чертям, даже если бы мне пришлось отправиться в ад вместе с вами.
Какое-то мгновение граф молчал, но затем в ярости воскликнул:
— Вы за это поплатитесь! Я не позволю вам безнаказанно оскорблять то, что справедливо, а заодно еще и меня.
Отец между тем спокойно спустился вниз, сел с нами за стол в настроении несколько более бодром, чем раньше, и начал есть. Мы этому радовались и только гадали, как это ему удалось отвести душу. Но вскоре мать вызвали из комнаты, а мы едва устояли перед соблазном разболтать отцу, какими лакомствами потчевал нас граф. Мать все не возвращалась. Наконец в комнату вошел толмач. По его знаку нас отослали спать, время было уже позднее, и мы охотно повиновались. Спокойно проспав ночь, мы лишь наутро узнали о страшных событиях, потрясших наш дом. Королевский лейтенант немедленно отдал приказ отвести отца на гауптвахту. Подначальные лейтенанта знали, что противоречить ему нельзя, но, с другой стороны, помедлив с выполнением приказа, они не раз заслуживали благодарность. Об этом им достаточно внушительно сумел напомнить наш кум — толмач, никогда не терявший присутствия духа. К тому же суета стояла такая, что промедление было бы мало заметно и вполне извинительно. Он вызвал мою мать и, можно сказать, сдал ей с рук на руки адъютанта для того, чтобы она умолила его немного помешкать с арестом отца. Сам он поспешил наверх к графу, который тотчас же удалился к себе, предпочитая на время приостановить неотложное дело, чем сорвать свой гнев на неповинном или вынести решение не в соответствии со своими понятиями о чести.
Речь, с которою он обратился к графу, и весь ход дальнейшей беседы толстый кум, немало гордившийся счастливым исходом дела, столько раз пересказывал нам, что я и теперь могу восстановить их по памяти.
Наш толмач отважился открыть дверь кабинета и войти, что было строжайше воспрещено.
— Что вам надо? — гневно вскричал граф. — Убирайтесь вон! Кроме Сен-Жана, сюда никто не имеет права входить.
— В таком случае вообразите на минуту, что я Сен-Жан, — отвечал толмач.
— Для этого потребуется пылкое воображение. Из вас можно выкроить двоих Сен-Жанов, а то и больше. Уходите!
— Господин граф, небо сулило вам великий дар, к нему я и взываю!
— Вы хотите польстить мне! Не надейтесь, что вам это удастся.
— Господин граф, вам даровано редкое свойство даже в минуты страсти и гнева выслушивать чужие мнения.
— Хватит уже, хватит! Я слишком много наслушался этих мнений. И знаю одно: нас здесь не любят и бюргеры косятся на нас.
— Не все!
— Но очень многие! Как? И это жители имперского города? В этом городе был выбран и коронован их император, а когда он подвергся беззаконному нападению и, дабы не потерять своих земель и не подпасть под власть узурпатора, нашел себе верных союзников, готовых жертвовать ради него не только деньгами, но и кровью, эти горожане не хотят взять на себя ничтожнейшее бремя во имя усмирения врага империи?
— Вам же давно известны их взгляды, и, как мудрый человек, вы относились к ним терпимо; к тому же эти люди составляют меньшинство. Уверяю вас, только немногие ослеплены блистательным образом врага, которого вы и сами чтите, как человека необыкновенного. Да, только немногие! И вы это знаете.
— Верно! Но я слишком долго это знал и терпел, иначе этот человек не посмел бы в решительную минуту бросить мне в лицо подобное оскорбление. Много их или мало, но они должны быть наказаны в лице своего не в меру смелого представителя. Пусть знают, на что они идут.
— Я прошу только об отсрочке, господин граф.
— При некоторых обстоятельствах быстрота действий необходима.
— О краткой отсрочке!
— Приятель, вы надеетесь толкнуть меня на ложный шаг — у вас ничего не выйдет.
— Я не только не хочу толкнуть вас на ложный шаг, я хочу вас удержать от такового. Ваше решение правильно: оно подобает французу и королевскому лейтенанту, но вспомните, что вы еще и граф Торан.
— Он здесь не имеет права голоса.
— А между тем следовало бы выслушать этого достойного человека.
— Ну и что бы он, по-вашему, сказал?
— Он бы сказал: господин королевский лейтенант, вы так долго с терпением относились ко всем этим темным, неблагожелательным, нелепым людям, если только они не слишком вам досаждали. Этот последний, конечно, бог знает что себе позволил, но поборите себя, господин королевский лейтенант, и все будут восхвалять и славить вас.
— Вы знаете, что иной раз я терплю дурачества, но не злоупотребляйте моим расположением. Неужто эти люди слепы? Если бы мы проиграли сражение, в тот же миг что сталось бы с ними? Мы бились бы у городских ворот, заперлись бы в городе, защищались бы, давали бы отпор, чтобы прикрыть свои войска, отступающие через мост. А противник, думаете, сидел бы сложа руки? Он метал бы гранаты и все, что имелось бы у него под рукой. Он сжег бы целые кварталы. А этот домовладелец, чего ему надо? Чтобы здесь, в его комнатах с этими распроклятыми китайскими шпалерами, которые я только и знал, что оберегать, — даже ландкарты не хотел приколачивать! — …чтобы здесь рвались снаряды! Им бы следовало целый день бога молить за нас на коленях!
— Так многие и поступали.
— Им бы следовало благословлять нас, воздавать почести генералам и офицерам, выносить еду и питье усталым солдатам! И вдруг яд этой пристрастной ненависти отравляет мне прекраснейшие, счастливейшие мгновения жизни, добытые в заботах и неустанных трудах!
— Да, это тупая пристрастность! Но, наказав этого человека, вы ее только приумножите. Его единомышленники ославят нас как тирана и варвара, его же будут чтить как мученика, пострадавшего за правое дело. Более того, те, кто по своим убеждениям являются сейчас его противниками, будут о нем сожалеть как о своем согражданине и, считая даже, что вы поступили по справедливости, осудят вас за жестокость.
— Я уже слишком долго слушал вас, пора вам уйти.
— Выслушайте еще последний довод! Вы же понимаете, большего позора, большего несчастья нельзя навлечь на этого человека и его семью. Конечно, хозяин этого дома не радовал вас дружелюбным отношением, но хозяйка шла навстречу всем вашим желаниям, а дети считали вас за своего доброго дядюшку. И теперь вы хотите одним ударом разрушить мир и счастье этой семьи. Я уверен, что бомба, угодившая в дом, не произвела бы в нем больших опустошений. Я так часто восхищался вашим самообладанием, господин граф, доставьте мне случай молиться на вас. Велика заслуга воина, который в доме врага чувствует себя гостем, а здесь врага нету, есть только заблуждающийся. Преодолейте свой гнев, и вас будут славить вечно.
— Это бы граничило с чудом, — улыбнулся граф.
— Напротив, иначе и быть не может, — возразил наш толмач. — Я не посоветовал его жене и детям пасть вам в ноги, зная, как вам противны подобные сцены. Но я хочу напомнить вам о его жене, о детях, заверить вас в их благодарности, в том, что они всю свою жизнь будут вспоминать о вас в день битвы при Бергене, рассказывать детям и внукам о вашем великодушии, более того — сумеют внушить и посторонним неизменную к вам симпатию, ибо такое великодушие не позабудется.
— Вам не удастся сыграть на моей слабой струнке, господин толмач. О посмертной славе я и не помышляю, она — не мой удел. Мое дело — на месте блюсти справедливость, но изменять своему долгу и не поступаться своею честью. Мы уже довольно потратили слов, идите! И пусть эти неблагодарные приносят вам благодарность за то, что я пощадил их.
Толмач, пораженный и растроганный неожиданно счастливым исходом, едва сдерживая слезы, бросился было целовать графу руки, но тот его остановил, серьезно и строго сказав:
— Вы же знаете, что я не терплю подобных излияний! — С этими словами он вышел в прихожую выслушать столпившихся там просителей и отдать неотложные распоряжения. Итак, с неприятной историей было покончено, и на следующий день мы отпраздновали остатками вчерашних графских сластей избавление от беды, приход которой, слава богу, проспали.
Вправду ли так хитроумно говорил наш толмач, или такой ему привиделась эта сцена, что иной раз случается после удачного завершения неприятного дела, я судить не берусь, замечу только, что, повторяя свой рассказ, он никогда не отклонялся от первого варианта. Как бы то ни было, но этот день он считал, может быть, самым хлопотным, но и самым славным днем своей жизни.
О том же, как граф избегал всех фальшивых церемонии, как неизменно отстранял от себя неподобающие ему титулы и как остроумен он бывал в минуты хорошего расположения духа, вам даст понять следующая небольшая забавная история.
Некий знатный господин, кстати сказать, из числа предавшихся уединению франкфуртских чудаков, счел необходимым пожаловаться на постой в своем доме. Он явился к графу, и толмач предложил ему свои услуги, которыми тот не пожелал воспользоваться. Он отвесил графу положенный поклон и начал: «Ваше превосходительство!» Граф, со своей стороны, не поскупился ни на низкий поклон, ни на «ваше превосходительство». Проситель, смешавшись от оказанного ему почета, решил, что у графа более высокий титул, он склонился еще ниже и проговорил:
— Монсеньер!
— Милостивый государь, — сказал граф, — не будемте продолжать, не то мы, пожалуй, дойдем до «ваше величество».
Проситель еще больше смутился и не мог вымолвить ни слова. Толмач, стоявший в сторонке и хорошо знавший графа, втайне злорадствовал и оставался безучастен. Но развеселившийся граф продолжал:
— Скажите, сударь, как вас звать?
— Шпангенберг, — отвечал тот.
— А меня звать Тораном, — сказал граф. — Итак, Шпангенберг, чего же вам угодно от Торана? Давайте-ка сядем и немедля разберемся в вашем деле.
Дело и впрямь было разрешено на месте, к большому удовольствию того, кто был здесь назван Шпангенбергом, а злорадный толмач в тот же вечер рассказал у нас дома эту историю не только во всех подробностях, но даже представив ее в лицах.
После всего этого смятения, всех тревог и тягот к нам вскоре вернулось прежнее спокойствие и даже легкомыслие, к которому изо дня в день тянутся люди, и в первую очередь молодежь, если жизнь хоть более или менее сносна. Моя страсть к французскому театру возрастала с каждым спектаклем. Я не пропускал ни одного, хотя, поздно возвращаясь домой, попадал уже к концу ужина и должен был довольствоваться остатками, да еще терпеть вечные попреки отца: театр, мол, бесполезная затея и никого еще до добра не доводил. В этих случаях я пускал в ход все доводы из арсенала любителей театра, подобно мне подвергавшихся жестоким нападкам. Порок в счастье и добродетель в беде ведь в конце концов уравновешиваются поэтической справедливостью. В качестве убедительнейших примеров наказанного порока я спешил сослаться на «Мисс Сару Сампсон» и «Лондонского купца», но иной раз чувствовал, что попадаю впросак, когда моим примерам противопоставлялись «Проделки Скапена» и тому подобные пьесы и меня попрекали удовольствием, каковое я, заодно с прочей публикой, извлекал из мошенничества лукавых слуг и сумасбродных поступков, благополучно сходивших с рук распущенной молодежи. Обе стороны не могли друг друга переубедить; и все же отец вскоре примирился с театром, заметив, что я делаю невероятно быстрые успехи во французском языке.
Люди так уж устроены, что каждый стремится воспроизвести все, что он видит, не считаясь, достанет ли у него способности справиться с такой задачей. Я наспех прошел курс французского театра: ведь многие пьесы давались уже по второму и третьему разу, и перед моим физическим и духовным взором проходило все — от высокой трагедии до легкомысленнейшего водевиля. И если ребенком я дерзал подражать Теренцию, то теперь, в годы отрочества, под впечатлением еще более живым и настойчивым, я попытался — худо ли, хорошо ли — освоить формы французского театра. В ту пору у нас ставилось несколько пьес полумифологического, полуаллегорического характера во вкусе Пирона; в них соприсутствовал и пародийный элемент, что особенно нравилось публике. Эти спектакли привлекали меня больше других: золотые крылышки Меркурия, грозный перун замаскированного Завеса, обходительная Даная или как там еще звалась красотка, взысканная любовью олимпийцев, если только она не была безымянной пастушкой или охотницей, до которой снизошли небожители. Так как подобные персонажи из Овидиевых «Метаморфоз» или из Помеева «Мифологического Пантеона» вечно роились в моей голове, у меня даже хватило фантазии и самому живо состряпать вещичку, о коей теперь могу сказать только, что действие происходило в сельской местности, отчего, впрочем, там не поубавилось ни царских дочек, ни царевичей, ни богов. Из последних Меркурий представлялся мне так живо, что я готов был поклясться, что видел его собственными глазами.
Список этой пьесы, собственноручно и с великим тщанием мною изготовленный, я принес своему другу Дерону, который принял его торжественно и с истинно меценатской миной, пробежал рукопись глазами, указал мне на несколько ошибок против языка, счел некоторые реплики слишком длинными и пообещал на досуге поближе познакомиться с моим произведением, чтобы составить себе о нем окончательное мнение. На мой робкий вопрос, может ли пьеса быть поставлена на сцене, Дерон меня заверил, что это отнюдь не исключено. В театре многое зависит от покровительства, а он всем сердцем готов оказать мне таковое; необходимо только все держать в секрете. Однажды и ему довелось удивить дирекцию пьесой собственного сочинения; она, несомненно, была бы поставлена, если бы не выяснилось прежде времени, что он ее автор. Я пообещал ему хранить молчание и в мечтах уже видел на углах всех улиц и площадей название своей пьесы, напечатанное огромными буквами.
Как ни легкомыслен был мой приятель, но случай разыграть из себя маэстро явился для него уж очень желанным. Он внимательно прочитал мою пьесу и затем, подсев ко мне на предмет кое-каких мелких изменений, в ходе нашей беседы так перекроил всю вещь, что от нее, можно сказать, камня на камне не осталось. Он вычеркивал, вписывал, убирал одно действующее лицо, вставлял другое, — словом, учинил над моим детищем такой суд и расправу, что у меня волосы встали дыбом. Лишь моя непонятная убежденность, что уж ему-то это дело известно до тонкости, удержала меня от возражений; недаром же он толковал мне о трех единствах Аристотеля, о строгих правилах французского театра, о правдоподобии, о гармонии стиха и обо всем прочем, что к сему относится. Так как же мне было не считать его не только знатоком, но доподлинным ценителем театра? Он поносил англичан и презирал немцев, — короче говоря, потчевал меня все той же драматургической тягомотиной, которой я довольно наслушался впоследствии.
Как мальчик из басни, я унес домой свое растерзанное детище и попытался восстановить его, но тщетно. Тем не менее поставить на нем крест я не хотел и, сделав некоторые поправки в рукописи, отдал ее переписать набело нашему писцу. Потом я преподнес отцу свое творение и с этого дня получил право хотя бы спокойно ужинать после спектакля.
Сия неудачная попытка заставила меня призадуматься, и я решил ознакомиться с первоисточниками теорий и законов, на которые все вокруг меня ссылались и которые тем не менее стали мне подозрительны после озорной выходки моего нахального учителя. Это потребовало от меня не столько труда, сколько усидчивости. Прежде всего остального я прочитал трактат Корнеля о трех пресловутых единствах и из него уяснил себе, что́, собственно, под ними подразумевалось; но вот кому и зачем они нужны, я так и не понял и уж тем более пришел в смятение, когда прочитал яростные нападки на «Сида», а также предисловия, в которых и Корнель и Расин обороняются от наскоков критиков и публики. Тут мне, по крайней мере, открылось, что ни один человек не знал, чего он хочет, ибо даже «Сид», так всех потрясший, по воле всемогущего кардинала был объявлен решительно неудачным произведением; узнал я также, что сам Расин, кумир моих французских современников, сделавшийся и моим кумиром (я лучше с ним ознакомился, когда старшина фон Оленшлагер побудил нас, детей, представить «Британника», в котором мне была поручена роль Нерона), не смог осилить критиков и ценителей искусств. Все это окончательно завело меня в тупик и, вдосталь намучившись от нескончаемых «за» и «против» пустопорожней теоретической болтовни прошлого века, я, что называется, вылил воду вместе с ребенком и решительно отбросил от себя весь этот старый хлам, уразумев, что даже авторы превосходнейших произведений, начиная вдаваться в теорию и пытаясь теоретически обосновать свои действия или же защититься от нападок, испросить прощения и пощады, отнюдь не всегда находили убедительные доводы. Посему я поспешил вернуться к живому, к существующему, стал еще ревностнее посещать театр, читать все больше и добросовестнее, так что вскорости проштудировал всего Расина и Мольера, как и большинство пьес Корнеля.
Королевский лейтенант продолжал жить в нашем доме. Обычного своего поведения, и в первую очередь по отношению к нам, он ни в чем не изменил. Мы стали, однако, замечать, а наш кум — толмач еще больше утвердил нас в этом, что лейтенант нес свою службу уже без прежнего бодрого рвения, хотя с не меньшей щепетильностью и неослабным усердием. Его душевный склад и повадки, характерные скорее для испанца, чем для француза, капризы, в той или иной мере неизменно влиявшие на его поступки, несгибаемость перед лицом обстоятельств, раздражение, в которое он впадал, случись кому-нибудь ненароком его задеть, — все это, вместе взятое, не могло время от времени не доводить его до столкновений с начальством. Вдобавок он дрался и был ранен на дуэли, причиной которой послужила ссора, начавшаяся в театре, и королевскому лейтенанту, конечно же, было поставлю в вину, что он, будучи блюстителем порядка, сам же прибег к недозволенным действиям. Все это, вероятно, и заставило его жить более замкнуто и, возможно, в иных случаях действовать менее энергично.
Тем временем многие из заказанных картин были закончены и доставлены в наш дом. Граф Торан проводил теперь свой досуг в уже помянутой верхней комнате за рассматриванием оных, приказывая прибивать полотна то поближе одно к другому, то пореже, а в иных случаях, за недостатком места, вешать одно на другое, затем снова снимать их со стены и скатывать в рулоны. Он все пристальнее вглядывался в работу художников, не мог нарадоваться отдельным удачам, но многое ему все же хотелось видеть изображенным по-другому.
Это послужило толчком к новой, достаточно странной операции. Поскольку один художник лучше писал людей, другой — средний план и фон, третий — деревья, а четвертый — цветы, то графу пришла в голову мысль, объединив их таланты, поощрить возникновение совершенных живописных творений. Начало было положено немедля тем, что в готовый ландшафт художнику-анималисту велено было вписать еще и красивые стада. Но так как для них не всегда хватало места, а художник не скупился на двух-трех лишних овец, то даже пространнейший ландшафт вдруг становился чересчур тесен. А тут еще портретисту предлагалось дополнительно вписать пастуха и нескольких путников, которые, в свою очередь, отнимали воздух друг у друга, так что оставалось только удивляться, как они всем скопом не задохнутся среди этих «необъятных далей». Никто не мог заранее сказать, что из той или иной картины получится, а законченная, она никого не удовлетворяла. Художники мало-помалу озлоблялись. Первоначально заказы были для них выгодны, доработки же шли им в ущерб, хотя граф и в этом случае был достаточно широк. Картина, по частям и вперемежку созданная различными художниками, сколько они не старались, не производила должного впечатления, и под конец каждый художник стал полагать, что его работа испорчена, более того — уничтожена работой коллеги. Еще немного, и среди живописцев возникли бы раздоры и непримиримая вражда. Все эти переделки, вернее, доделки, производились в студии, где я, как уже говорилось, все время торчал среди художников. Меня донельзя забавляло выбирать из множества набросков (главным образом с животных) отдельные или групповые зарисовки, по моему мнению пригодные для дали или для близи; случалось что художники, по собственному убеждению или из симпатии ко мне, соглашались на мои предложения.
Все участники этого предприятия пали духом, в особенности Зеекац, человек ипохондрический и угрюмый, впрочем, слывший среди приятелей душою общества благодаря находившим на него внезапным приступам неудержимого веселья, но во время работы не терпевший ни соглядатаев, ни стороннего вмешательства. И вот теперь, едва покончив с трудным уроком, который он выполнил с неизменным прилежанием и с горячей любовью, всегда теплившейся в его сердце, Зеекац должен был не раз и не два катить из Дармштадта во Франкфурт, чтобы либо вносить изменения в собственные картины, либо дополнять чужие, либо, еще того лучше, видеть, как при содействии собрата по искусству его излюбленные творения превращаются в безвкусную мешанину. Уныние Зеекаца неуклонно возрастало, возрастала и воля к сопротивлению, так что нам лишь с великим трудом удавалось уговаривать кума — за это время и он сделался нашим кумом — потакать прихотям графа. Помню, как сейчас: когда уже прибыли ящики, в которые предстояло упаковать картины для отправки по месту назначения, к тому же в таком порядке, чтобы обойщик мог сразу развесить их на стенах, вдруг потребовались еще какие-то мелкие доделки — вытребовать же Зеекаца во Франкфурт на сей раз оказалось невозможным. Ведь напоследок он сделал все, что было в его силах, изобразив на досках, предназначенных для двери, четыре стихии в аллегорических образах детей, которых он писал с натуры, причем положил немало труда не только на аллегории, но и на каждую деталь росписи. Работа сдана и уже оплачена, и он полагал, что выскочил наконец из этой истории, а тут изволь опять ехать во Франкфурт на предмет расширения с помощью нескольких мазков картин, взятых в недостаточно крупном масштабе. Другой, так утверждал он, может это сделать ничуть не хуже, он уже замыслил новую работу, — словом, он не приедет. Отправка на носу, а холстам еще надо сохнуть, так что откладывать дело не годилось; отчаявшийся граф носился с мыслью привезти художника под военным конвоем. Мы все только и ждали увоза картин и в конце концов нашли единственно возможный выход: послали за Зеекацем кума-толмача, которому удалось-таки привезти упрямца с женою и детьми. Граф встретил его весьма дружелюбно, всячески за ним ухаживал и щедро одарил при прощании.
Мир воцарился в нашем доме после отбытия картин. Комнату в мансарде убрали и вновь отдали мне, отец же, видя, как выносят ящики, не мог удержаться от замечания, что хорошо бы вслед за ними спровадить и самого графа. Как ни сходны были симпатии последнего с его собственными, как ни радовался отец тому, что человек, несравнимо более богатый, плодотворно осуществляет его идею попечения о ныне здравствующих художниках, как ни льстило ему, что именно его собрание побудило королевского лейтенанта поддержать многих славных живописцев, да еще в столь тяжелые времена, он все равно испытывал такое отвращение к чужаку, вторгшемуся в его дом, что осуждал любой его поступок. Похвально давать работу художникам, но негоже низводить их до маляров; надо удовлетворяться тем, что сделал художник в согласии со своими убеждениями и способностями, даже если это тебе не совсем по вкусу, а не вечно что-то изменять и подчищать в его творениях. Одним словом, несмотря на либеральные усилия графа, добрые отношения между ними не наладились. Отец посещал верхнюю комнату разве что в часы отсутствия графа, и мне вспоминается лишь один-единственный случай, когда Зеекац действительно превзошел самого себя, и желание посмотреть плоды его искусства погнало наверх всю нашу семью; отец и граф в один голос выразили свое одобрение картинам, но одобрить друг друга они были не в состоянии.
Итак, едва только ящики и коробка были вынесены из нашего дома, как снова заработала временно приостановленная машина по выдворению графа. Всевозможными представлениями отец взывал к справедливости, просьбами — к снисхождению и, наконец, добился-таки при содействии влиятельных посредников решения главных квартирьеров: графа перевести на другую квартиру, а наш дом, ввиду тягот, непрерывно — днем и ночью — возлагавшихся на него в течение ряда лет, впредь объявить свободным от постоя. Для того чтобы нагляднее сие обосновать, нам посоветовали тут же впустить жильцов в первый этаж, до сего времени занимавшийся графом, и таким образом сделать новый постой уже невозможным. Граф после разлуки со своими излюбленными картинами больше не питал интереса к нашему дому и вдобавок надеялся, что вскоре его отзовут и назначат на новое место. Посему он без возражений согласился переехать в другой благоустроенный дом и расстался с нами мирно и благожелательно. Вскоре он и вправду покинул наш город. Его постепенно назначали на все более высокие должности, но, как мы слышали, радости они ему не приносили. Зато он имел удовольствие видеть во дворце своего брата картины, на которые затратил столько энергии. Он даже несколько раз писал во Франкфурт и присылал размеры, прося многих из вышепоименованных художников еще что-то сделать и дополнить.
Наконец слухи о нем умолкли, и лишь спустя несколько лет кто-то сказал нам, что граф скончался в Вест-Индии, где был губернатором одной из французских колоний.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Сколько бы неудобств ни чинил нам постой французов, мы так к ним привыкли, что теперь места себе не находили, и нам, детям, дом казался пустым и вымершим. Но все равно остаться в тесном семейном кругу нам так и не довелось. С новыми жильцами все уже было договорено, везде мыли и скребли, вощили и натирали, белили и красили. К нам въехали добрые друзья моих родителей — директор канцелярии Мориц со своим семейством. Коренным франкфуртцем он не был, но слыл у нас толковым юристом и исполнительным чиновником, состоя поверенным нескольких мелких владетельных князей, графов и знатных дворян. Мне он вспоминается неизменно бодрым и обходительным, с головой ушедшим в свои дела. Его жена и дети, мягкие, тихие и благожелательные, не приумножили веселья в нашем доме, так как жили очень замкнуто, но с ними вернулись мир и тишина, давно уже у нас не виданные. Я снова жил в своей мансарде, и призраки многочисленных картин иной раз тревожили мое воображение, но я старался спугнуть их усердной работой и учением.
Теперь частенько наведывался к нам и советник посольства Мориц, брат директора канцелярии. Человек куда более светский, видной наружности, с приятными и непринужденными манерами, он, в свою очередь, был поверенным многих почтенных людей и нередко соприкасался с моим отцом в делах, связанных с объявлением неплатежеспособности и с созывом имперских комиссий. Оба они относились друг к другу с большим почтением и всегда дружно радели за кредиторов, к вящей своей досаде всякий раз убеждаясь, что большинство депутатов держат сторону должников. Большой любитель математики, советник посольства охотно делился своими знаниями, и так как с этой наукой он, при нынешнем своем образе жизни, не соприкасался, ему доставляло истинное удовольствие способствовать моим в ней успехам. Благодаря ему я теперь точнее разрабатывал свои архитектурные чертежи и извлекал больше пользы из уроков учителя рисования, с которым ежедневно занимался по часу.
Добрый этот старик был разве что наполовину артистом. Он заставлял нас проводить линии и потом соединять их, из чего должны были получаться глаза и носы, губы и уши, а в результате целые лица и головы. О том, чтобы они соответствовали природе или отвечали требованиям искусства, здесь и речи не было. Нас довольно долго мучили этим qui pro quo[8] человеческой фигуры, а когда нам были даны для копирования так называемые «Аффекты» Лебрена, считалось, что мы уже изрядно продвинулись вперед. Но и на этих карикатурах мы немногому научились. С них мы переметнулись на ландшафты, на искусное воссоздание листвы, что обычно преподается ученикам без определенной последовательности и методы. Далее мы стали налегать на точность воспроизведения и чистоту линий, не считаясь ни с достоинством оригинала, ни с манерой художника.
Это наше устремление наилучшим образом поддержал отец. Он отродясь не занимался рисованием, но теперь, когда его дети долгие часы посвящали этому искусству, не только не пожелал от них отстать, но, в свои почтенные лета, решил явить им пример того, как надо вести себя в ранней юности. Английским карандашом на голландской бумаге он скопировал несколько голов Пьяцетты с известных гравюр последнего ин-октаво. При этом он не довольствовался примерной чистотою контуров, но с поразительной тщательностью воспроизводил штриховку гравюры на меди; рука у него была верная, но на это уходила уйма времени, ибо борьба с жесткостью линии приводила к тому, что рисунки теряли устойчивость. И все же они, несомненно, были изящны и схожи с оригиналом. Упорная, неутомимая старательность отца зашла так далеко, что он, номер за номером, перерисовал все богатое собрание гравюр, меж тем как мы с сестрой выбирали только те головы, которые нам нравились.
Почти в то же самое время было осуществлено давно уже обсуждавшееся намерение — учить нас музыке. Первый толчок к этому, пожалуй, заслуживает беглого упоминания. Что мы будем учиться игре на фортепьяно, было решено, споры шли только о выборе учителя. Случайно я как-то заглянул к моему приятелю во время урока музыки и решил, что его учитель приятнейший человек. Для каждого пальца правой и левой руки у него были придуманы насмешливые прозвища, и он весело их выкликал по ходу дела. Черные и белые клавиши тоже имели образные наименования, и даже звуки были окрещены затейливыми именами. В такой веселой и пестрой компании, конечно же, все отлично взаимодействует. Аппликатура и такт сделались простыми и наглядными, — ведь известно, что если ученик весело настроен, успех ему обеспечен.
Не успел я вернуться домой, как бросился уговаривать родителей не откладывая в долгий ящик пригласить к нам этого несравненного учителя музыки. Они еще подумали, справились, где следовало, и ничего дурного о нем не услышали, как, впрочем, не услышали и особых похвал. Между тем я уже рассказал сестре обо всех забавных прозваниях; нам не терпелось приступить к занятиям, и мы сумели настоять на приглашении учителя, заранее нам полюбившегося.
Начали мы с чтения нот, а так как шуткам здесь не было места, то мы утешали себя надеждой, что скоро дело дойдет до фортепьяно, а значит, до пальцев, и тут-то и начнется веселье. Но ни туше, ни постановка руки, как видно, не давали повода для забавных сравнений. Такими же сухими, как ноты между пятью линейками и над ними, оставались белые и черные клавиши, а об «указке», «дылде» и «золотом пальчике» даже речь не заходила, и лицо нашего учителя не морщил смех при этих сухих уроках, как, впрочем, и раньше, когда он отпускал свои сухие шуточки. Сестра жестоко меня упрекала за обман и, верно, думала: все то, что я сулил ей, было плодом моего воображения. Я сам был озадачен и туго продвигался вперед, хотя учитель добросовестно выполнял свои обязанности. Я все еще ждал, что вот-вот услышу прежние шутки, и изо дня в день обнадеживал сестру. Но мы их так и не дождались, и я никогда бы не разгадал этой загадки, если бы меня не просветил случай.
Как-то раз один из моих приятелей вошел в комнату во время нашего урока, и вдруг разом забили все струи юмористического фонтана: «дылды», «указки», «хваталки и цапалки», как он называл пальцы, «крючки и закорючки» — так прозывались ноты f и g, «фишки и гишки» — понимай fis и gis, вновь вылезли на свет божий и корчили нам уморительнейшие рожицы. Мой друг хохотал до упаду и радовался, что вот, оказывается, на какой веселый манер можно многому научиться. Он клялся, что не оставит в покое своих родителей, покуда те не пригласят к нему этого отменного преподавателя.
Итак, в согласии с принципами новейшей педагогики, мне еще в раннем детстве открыли путь к двум искусствам, так сказать, наобум, без убеждения, что врожденный талант поможет мне овладеть ими в дальнейшем. Рисовать должен уметь каждый, твердил мой отец и на все лады превозносил императора Максимилиана, повелевшего рисовать всем своим подданным. К рисованию он побуждал меня настойчивее, чем к музыке, которую предпочтительно рекомендовал моей сестре, заставляя ее, помимо занятий с учителем, немалую часть дня проводить за фортепьяно.
Чем больше меня приохочивали к разного рода занятиям, тем с большей охотой я им предавался, употребляя на то даже часы досуга. С малолетства меня влекло исследовать природу вещей. Некоторые усматривают задатки жестокости в том, что дети, вдосталь наигравшись каким-нибудь предметом, повертев его так и эдак, спешат его сломать, разъять и распотрошить. Меж тем это скорее следовало бы рассматривать как любознательность, как стремление постичь, из чего их игрушка состоит, какова она изнутри. Я помню, что ребенком разрывал цветы или ощипывал птиц, чтобы посмотреть, как прилажены лепестки к чашечке или перья к крылу. Право, такой образ действия не надо ставить в вину детям, ведь естествоиспытатель тоже познает природу, скорее деля и расчленяя ее, чем объединяя и взаимосвязывая, то есть скорее путем умерщвления, нежели воскрешения.
Заряженный магнит, изящно обшитый пурпурным сукном, тоже в один прекрасный день стал жертвой моей исследовательской страсти. Ибо скрытая в нем притягательная сила, сказывавшаяся не только на железной палочке — обязательной принадлежности такого прибора, но обладавшая к тому же способностью таинственным и непостижимым путем усиливаться и с каждым днем удерживать все больший груз, повергла меня в такое изумление, что я долгое время только и делал, что созерцал магнит в действии. Потом я подумал, что кое-что мне уяснится, если я сдеру с него внешнюю оболочку. Так я и поступил, но не стал от того умнее: обнажившаяся арматура ничему меня не научила. Тогда я снял и ее: в руках у меня остался лишь самый магнит, и я принялся производить опыты со швейными иголками и металлической стружкой, но и тут мой ребяческий ум не извлек ничего, сколько я ни старался. Вновь собрать этот прибор я не сумел, и части его потерялись, а заодно пропал и самый феномен.
Не лучше мне удалась и сборка электрической машины. Один наш друг, чья юность совпала с временем, когда электричество завладело всеми умами, неоднократно рассказывал нам, как он мальчиком мечтал иметь такую машину и, уяснив себе ее основные принципы, в конце концов с помощью старой прялки и нескольких аптечных склянок, сумел добиться довольно значительного эффекта. Так как он часто и охотно об этом рассказывал, попутно просвещая нас касательно электричества вообще, то нам с сестрой подобная затея представилась вполне осуществимой, и мы долго промучились со старой прялкой и склянками, так и не добившись каких-либо результатов. Тем не менее вера наша осталась непоколебленной, и мы очень обрадовались, увидев во время ярмарки среди всевозможных фокусов, диковин еще и электрическую машину, показывающую свои кунштюки, к тому времени уже не менее распространенные, чем магнетические опыты.
Недоверие к общественным учебным заведениям возрастало день ото дня. Все искали домашних учителей, но поскольку для некоторых семейств такой расход был непосилен, детей объединяли в группы по нескольку человек. Однако дети часто не ладили между собой; молодой учитель не имел достаточного авторитета, и после повторных раздоров и взаимных обид с ним приходилось расставаться. Не удивительно поэтому, что люди стали подумывать о других способах обучения, менее дорогостоящих и более надежных.
На мысль об открытии пансионов у нас напали благодаря многими осознанной необходимости со слуха обучать детей живой французской речи. Мой отец воспитал одного молодого человека, который был у него слугой, камердинером, секретарем, — словом, на все руки. Этот молодой человек, некий Пфейль, не только хорошо говорил по-французски, но и основательно знал этот язык. Когда Пфейль женился, его покровители стали прикидывать, как бы устроить его жизнь, и кому-то пришло в голову, что неплохо было бы открыть пансион, который позднее превратится в небольшое учебное Заведение, где дети будут обучаться необходимым начальным предметам, а позднее греческому и латыни. Разветвленные торговые связи нашего города давали основания предполагать, что юных французов и англичан будут отдавать туда для совершенствования в немецком языке и прочих предметах. Пфейль, бывший тогда во цвете лет, человек на редкость энергичный и деятельный, очень толково повел это дело; работоспособность его не знала границ, и когда ученикам понадобился учитель музыки, он сам, доселе никогда не притрагивавшийся к клавиатуре, стал учиться игре на фортепьяно с таким рвением, что вскоре играл достаточно бегло и отчетливо. Он, как видно, усвоил убеждение моего отца, что лучше всего ободряет молодежь и побуждает ее к труду пример человека, который объявляет себя учеником в годы, когда новые навыки даются уже нелегко, и — ценою упорных и неустанных усилий — стремится занять первое место в соревновании с соискателями более юными и тем самым более поощренными природой.
Из любви к игре на фортепьяно естественно вытекала забота о приобретении таковых, и Пфейль, в надежде отобрать для себя наилучшие, обратился к фирме Фридерици в Гере, чьи инструменты стяжали себе широкую известность. Он брал их на комиссию и радовался, что в его квартире стоит не один, а несколько роялей и что на каждом из них он может играть и упражняться.
Благодаря живому, энергичному характеру этого человека и в нашем доме отныне стала чаще звучать музыка. Мой отец по-прежнему пребывал с ним в наилучших отношениях, хотя кое в чем между ними и существовали разногласия. Теперь и для нас был приобретен большой рояль Фридерици. Я к нему почти не притрагивался, оставаясь верен своему клавесину, но тем больше мучений он причинял моей сестре, так как она, чтобы должным образом почтить новый инструмент, каждый день тратила на музыкальные упражнения еще больше времени, чем обычно, причем возле нее поочередно находились либо отец в роли надсмотрщика, либо Пфейль, как пример, достойный подражания, и преданный друг дома.
Еще больше неприятностей нам с сестрой доставляло другое любительское пристрастие отца. Я имею в виду шелководство, о выгодах которого, буде оно поставлено на широкую ногу, он составил себе весьма преувеличенное представление. Кое-какие знакомства в Ганау, где с величайшим тщанием разводили шелковичных червей, побудили и его зачаться этим делом. Оттуда своевременно были присланы личинки, и как только тутовые деревья покрылись листвой, мы стали заботливо готовиться к приему появлявшихся на свет еле видных созданий. В одной из комнат мансарды были поставлены дощатые столы и устроены полки, дабы предоставить им больше места и удобств. Они росли быстро и уже после первой линьки становились до того прожорливы, что мы не успевали набирать им листьев для прокорма; мало того, их приходилось кормить круглые сутки, ибо в пору, когда с ними совершается великое и удивительное превращение, они не должны терпеть недостатка в пище. В хорошую погоду эти хлопоты еще можно было рассматривать как развлечение, но когда наступали холода, которые с трудом переносят тутовые деревья, все это превращалось в сущее бедствие. Но еще хуже нам приходилось, если в холодные дни выпадали дожди. Эти твари не выносят сырости, и мы должны были обтирать и сушить влажные листья, но иной раз нам не удавалось достаточно хорошо это проделать, и по этой, а может быть, и по какой-нибудь иной причине в злополучном стаде развились повальные болезни, тысячами уносившие наших питомцев. Вокруг стоял тлетворный запах разложения, мертвых и больных надо было отделять от здоровых, чтобы сохранить хоть малую часть, и за этим нелегким и к тому же препротивным занятием мы с сестрой провели много горьких часов.
В тот год, когда мы лучшее весеннее и летнее время потратили на уход за шелковичными червями, нам пришлось помогать отцу еще в одном деле, пусть менее сложном, но не менее хлопотливом. Виды Рима, которые долгие годы висели на стенах старого дома, вверху и внизу прикрепленные к черным планочкам, в конце концов пожелтели от света, пыли и дыма да еще вдобавок были изрядно засижены мухами. Подобная нечистота, разумеется, была нетерпима в новом доме, но главное, что отец, давно уже живший вдали от изображенных на них местностей, теперь особенно дорожил этими гравюрами. Известно, что поначалу такие изображения призваны освежать и вновь оживлять недавно полученные впечатления, и все же удовлетворить нас они не могут и остаются лишь жалким суррогатом. Но когда начинают угасать воспоминания о прообразах, отображения неприметно заступают их место и становятся нам не менее дороги, чем сами прообразы, и то, чем мы раньше пренебрегали, постепенно приобретает нашу любовь и уважение. Так происходит со всеми отображениями, особливо с портретами. И если трудно испытать удовлетворение от портрета того, кто находится рядом с тобой, то как же дорог нам любой силуэт далекого или покойного друга.
Итак, раскаиваясь в небрежении своими гравюрами, отец решил по мере возможности восстановить их, чего, как известно, можно достигнуть лишь путем отбелки. И вот эта операция, весьма сомнительная, когда речь идет о листах крупного формата, была предпринята нами при условиях достаточно неблагоприятных. Большие доски с укрепленными на них и сбрызнутыми водой гравюрами мы вынесли на солнце и поставили за окнами мансарды в желобах для стока воды; прислоненные к крыше, они были открыты всякого рода напастям. Теперь приходилось следить за тем, чтобы бумага не просыхала, а всегда оставалась влажной. Попечение об этом отец возложил на нас с сестрой, однако скука, нетерпенье, необходимость все время пребывать в напряженном внимании, ни на минуту не отвлекаясь, превратили для нас желанный досуг в сущее мученье. И все же предприятие увенчалось успехом, и переплетчик, наклеивавший каждый лист на толстый кусок картона, сделал все от него зависящее, чтобы подровнять края, разорванные из-за нашей нерадивости. Листы были сброшюрованы в большой том и на сей раз спасены.
Но, видно, нам с сестрой в ту пору было суждено познать многообразие и жизни и трудов: надо же было случиться, чтобы в нашем доме вдруг объявился учитель английского языка, который выразил готовность в течение месяца обучить всякого мало-мальски способного ученика настолько, чтобы дальше он мог заниматься английским уже самостоятельно. Цену он запросил умеренную, число учеников на уроке было ему безразлично. Отец, ни минуты не колеблясь, дал свое согласие на этот опыт и первый урок у расторопного педагога взял вместе с нами обоими. Занятия пошли своим чередом, мы тщательно готовились к ним и в течение месяца даже пренебрегали другими. С учителем мы распрощались, взаимно Удовлетворенные. Он еще оставался во Франкфурте, так как от учеников у него отбоя не было, и время от времени заходил нас проведать, чтобы по мере надобности помогать нам, видимо благодарный за то, что мы одними из первых оказали ему доверие, и гордый нашими успехами, которые он ставил в пример новым ученикам.
Теперь отца стала точить новая забота: как сделать, чтобы английский не выпал из круга наших занятий другими языками? Должен признаться, что мне уже порядком надоело заимствовать для классных сочинений темы то из одной, то из другой грамматики или хрестоматии, то из одного, то из другого автора, которые сразу же после урока утрачивали для меня дальнейший интерес. И вот мне пришло на ум разом покончить с этой канителью; я придумал роман, в котором действовали шестеро или семеро братьев и сестер, рассеянных по свету и в письмах сообщавших друг другу о своей жизни и новых впечатлениях. Старший брат на хорошем немецком языке рассказывает о разных перипетиях своих странствий и о том, что встретилось ему на пути. Сестра, чисто по-женски, в коротких фразах и с бессчетными многоточиями — в этом стиле был впоследствии написан «Зигварт» — отвечает каждому, по мере сил вводя его в круг своих домашних и сердечных дел. Один из братьев изучает богословие и образцово пишет по-латыни, иной раз заканчивая письмо еще и греческим постскриптумом. Уделом третьего, служащего по торговой части в Гамбурге, становится английская корреспонденция, а следующего за ним, живущего в Марселе, — соответственно, французская. Для итальянского был изобретен музыкант, впервые отправившийся в дальнее турне; наконец, младший, нахальный желторотый птенец, для которого у меня в запасе уже не было иностранного языка, изъяснялся в письмах на некоем немецко-еврейском диалекте, приводя в отчаяние адресатов своими ужасными каракулями и потешая родителей этой странной затеей.
Столь своеобразную форму надо было оправдать подходящим содержанием: я изучил географию мест, где обитали мои детища, и сдобрил сухие описания разными житейскими подробностями, которые обрисовывали их душевный склад и род занятий. Таким образом, мои ученические тетради сделались многим объемистее, отец был доволен, а я смог уяснить себе, чего мне недостает по части знаний и речевой сноровки.
Пустившись по такому пути, как правило, обнаруживаешь, что он нескончаем и безграничен, так было и со мной: пытаясь освоить причудливое немецко-еврейское наречие и научиться писать на нем так же свободно, как я уже научился на нем читать, я вскоре заметил, что мне недостает знания древнееврейского, без которого невозможно найти правильный подход к современному, пусть испорченному и искаженному, еврейскому языку, но все же восходящему к своему древнему прообразу. Посему я тотчас же объявил отцу, что мне нужно изучать древнееврейский, и стал настойчиво домогаться его согласия, так как заодно преследовал и другую, более высокую цель. Повсюду я слышал разговоры, что для понимания Ветхого, а также Нового завета необходимо знание не только новейших, но и древних языков. Новый завет я уже читал свободно, ибо по воскресеньям, чтобы и в этот день не оставаться праздным, должен был повторять так называемые Евангелия и Послания, читавшиеся в церкви, переводить их с греческого и частично комментировать. Так же хотел я впредь поступать и с Ветхим заветом, своеобычность которого особенно меня привлекала.
Отец, не любивший ничего делать наполовину, решил просить ректора франкфуртской гимназии ежедневно давать мне уроки, покуда я не усвою наиболее существенное в этом столь простом языке. Он надеялся, что на него мне потребуется если и не такой короткий срок, как на английский, то, скажем, вдвое больший.
Ректор Альбрехт был одним из оригинальнейших людей на свете: низкорослый, не толстый, но широкий в кости, весь какой-то бесформенный, он, хотя и не был горбуном, но в парике и мантии походил на Эзопа. На старческом его лице — ректору было уже за семьдесят — постоянно блуждала саркастическая усмешка, в больших же красноватых, но всегда блестящих глазах светился ум. Жил он при гимназии, помещавшейся в старом монастыре Босоногих братьев. Еще совсем ребенком я иногда сопровождал к нему родителей, и тамошние длинные переходы, часовни, превращенные в приемные комнаты, великое множество лестниц и закоулков наполняли меня радостным страхом. Не будучи назойливым, он всякий раз учинял мне экзамен, причем неизменно меня хвалил и ободрял. Однажды после публичных переходных экзаменов, раздавая серебряные praemia virtutis et diligentiae[9], он заметил меня, стоявшего в качестве стороннего наблюдателя возле кафедры. Видно, я так тоскливо поглядывал на мешочек с медалями в его руках, что он кивком подозвал меня, спустился на одну ступеньку и вручил мне серебряный кружок. Как же я ему обрадовался, хотя многие и сочли, что такой дар мальчику, не имеющему отношения к гимназии, — явное нарушение установленного порядка. Впрочем, славного старца это не тревожило, он и вообще-то любил разыгрывать из себя чудака. Как учитель он пользовался доброй славой и отлично знал свое дело, хотя преклонный возраст уже не позволял ему рачительно выполнять его. Но, пожалуй, еще больше, нежели подкошенное здоровье, ему мешали в этом внешние обстоятельства: как нам было уже давно известно, он не ладил ни с консисторией, ни с попечителями и учителями, ни, наконец, с отцами церкви. Имея склонность к сатире и острый взгляд, подмечающий все людские ошибки и недостатки, он не желал держать себя в узде, и школьные программы, равно как и публичные свои речи, следуя Лукиану, чуть ли не единственному писателю, которого он читал и почитал, обильно уснащал весьма острыми приправами.
К счастью для тех, кем он был недоволен, он никогда ничего не говорил в упор и метил в порицаемые им недостатки разве что цитатами, намеками, классическими примерами да изречениями из Библии. Выступления его были неприятны (речи он всегда читал по записке), невнятны и к тому же нередко прерывались кашлем, но чаще глухим, как из бочки, смехом, которым он возвещал и сопровождал особо язвительные места. Этот странный человек на поверку оказался кротким и сговорчивым. Ежедневно в шесть часов вечера я отправлялся к нему и неизменно испытывал тайную радость, когда дверь с колокольчиком закрывалась за мной и мне предстояло идти по длинному и темному монастырскому коридору. Мы сидели в библиотеке за обитым клеенкою столом моего учителя; рядом с ним неизменно лежал зачитанный томик Лукиана.
Несмотря на его благожелательность, занятия наши начались с некоторого неудовольствия, ибо он не удержался от язвительных замечаний касательно моего интереса к древнееврейскому языку. Я умолчал о своих личных намерениях и упомянул только о стремлении лучше понять библейские тексты. Он усмехнулся и заметил, что хватит с меня, если я хоть читать-то выучусь. В душе я рассердился и, когда мы подошли к буквам, сосредоточил на них все свое внимание. Передо мной был алфавит, чем-то сходный с греческим; начертания его знаков легко запоминались, наименования были частично мне знакомы. Я очень быстро его усвоил и запомнил, полагая, что мы вот-вот перейдем к чтению. Читать приходилось справа налево, мне это было давно известно. Но тут на меня надвинулось целое полчище мелких буквочек и значков, точек и черточек, которые, собственно, должны были изображать гласные, что меня удивило до чрезвычайности, так как в полном алфавите часть гласных, конечно, имелась, прочие же, видимо, были скрыты под другими наименованиями. Слышал я также, что еврейская нация, покуда длился ее расцвет, довольствовалась теми первоначальными знаками и никакими другими для чтения и письма не пользовалась. Я бы с превеликим удовольствием пошел по этой издревле проторенной и, как мне думалось, более приемлемой дороге, но мой старик не без строгости заявил, что надо руководствоваться грамматикой в том виде, в каком она сложилась и утвердилась. Вдобавок чтение без всех этих точек и черточек — дело очень нелегкое и доступное лишь ученым или людям с многолетним опытом за плечами. Итак, мне пришлось смириться и взяться за изучение этих мелких значков; но тут я только пуще запутался в противоречиях. Вдруг некоторые из первых крупных букв, оставаясь на том же месте, утрачивали свое значение во имя того, чтобы маленькие их потомки не стояли здесь понапрасну. То они подавали знак к легчайшему придыханию, к более или менее твердому гортанному звуку, а то вдруг являлись либо подтверждением, либо отрицанием. Но под конец, когда тебе казалось, что все уже усвоено, некоторые крупные, равно как и мелкие персонажи, вдруг получали отставку, и выходило, что глазу все равно оставалось очень много работы, а губам — очень мало.
Теперь, когда я должен был на незнакомом тарабарском наречии, запинаясь, прочитывать то, что давно было мне знакомо по содержанию, причем меня предостерегали, что носового гортанного произношения мне все равно не добиться, я поневоле отвлекся от существа дела и по-ребячески забавлялся диковинными именами толпящихся передо мною знаков. Среди них были императоры, короли и герцоги, которые, доминируя то здесь, то там в качестве акцентов, немало меня потешали. Впрочем, и эти пустые забавы вскоре потеряли свою прелесть. Но тем крепче держало меня то, что при чтении, переводе, повторении и затверживании наизусть передо мной с небывалой живостью выступало содержание книги, а только оно и было мне интересно, и только о нем я с жадностью расспрашивал славного старца. Мне уже давно бросилось в глаза, что легенда зачастую противоречит действительному и возможному, и я не раз ставил в тупик своих учителей вопросами относительно солнца, остановившегося в Гаване, и луны, в долине Аналонской, не говоря уж о других несообразностях. Все это ожило во мне теперь, когда я, желая овладеть древнееврейским, занялся исключительно Ветхим заветом и изучал его уже не в Лютеровом переводе, а в дословной параллельной версии Себастиана Шмида, которую поспешил раздобыть для меня отец. Но с этого времени в наших занятиях, увы, образовались пробелы по части упражнений в языке. Чтению, пересказу, грамматике, письму и произношению едва-едва отводилось полчаса: я с места в карьер начинал доискиваться сути и, хотя мы еще только разбирали первую книгу Моисея, забегал вперед и расспрашивал о том, что интересовало меня в дальнейших книгах. Поначалу славный старик пытался удержать меня от подобных отступлений, но потом они, видимо, стали занимать его самого. По своему обыкновению, он кашлял и хохотал, остерегаясь сообщить мне что-нибудь такое, что могло бы его скомпрометировать, но это ничуть не умаляло моей настойчивости. А поскольку мне было важнее делиться своими сомнениями, нежели разрешать их, то я набирался все большей храбрости, он же своим поведением только поощрял меня в моем рвении. В конце концов мне уже ничего не удавалось из него выуживать, он только смеялся, тряся животом, и восклицал: «Ай да чудила! Ну и смешной же ты мальчонка!»
Меж тем моя ребяческая живость и желание вдоль и поперек узнать Библию показались ему довольно серьезными и даже достойными известной поддержки. Посему, выждав немного времени, он порекомендовал мне подробный английский комментарий к Библии, имевшийся в его библиотеке, в котором умно и понятно объяснялись наиболее темные и сомнительные места. Перевод этого труда благодаря усилиям немецких богословов имел даже известные преимущества перед оригиналом. Здесь были приведены различные мнения и под конец еще делалась попытка до известной степени примирить достоинства Библии и основы религии с человеческим разумом. Теперь, когда после урока я приставал к нему со своими вопросами и сомнениями, он всякий раз указывал мне на книжную полку; я лез за очередным томом и читал, а он перелистывал своего Лукиана; когда же я пускался в критические рассуждения, его обычный смех был единственным ответом на мои остроумные догадки. В долгие летние дни он позволял мне читать допоздна, иной раз оставляя меня одного, но прошло немало времени, прежде чем он разрешил мне брать книги с собою на дом.
Сколько бы человек ни бросался то в одну, то в другую сторону, что бы ни предпринимал, все равно он вернется на путь, предначертанный ему природой. Так в данном случае было и со мной. Мои старания изучить язык и постигнуть смысл Священного писания свелись к тому, что в моей фантазии еще живее возникла прекрасная и достославная страна, ее окружение, соседи, а также народы и события, на тысячи лет вперед прославившие сей клочок земли.
Малому этому пространству было суждено увидеть первоначало и развитие рода человеческого. Оттуда дошли до нас первые и единственные вести о древнейших временах; тамошний ландшафт, неприхотливый, простой и в то же время разнообразный, который стал ареной самых удивительных странствий и переселений, живо предстает нашей фантазии. Здесь, мел; четырех рек, поименованных в Священном писании, юному человечеству был дан во владение уголок, прелестнейший из всей впоследствии заселенной земли; здесь ему было суждено развить свои первые способности, здесь же стало его уделом во всех коленах платить за жажду познания своим покоем. Рай был потерян навеки, люди размножались и делались все хуже. Элохим, не привыкшие к греховности рода человеческого, вышли из терпения и уничтожили его. Лишь немногие спаслись от всемирного потопа, но едва сошла великая вода, как глазам благодарных счастливцев вновь открылись родимые земли. Две реки из четырех, Евфрат и Тигр, еще текли по своим руслам. Имя первой сохранилось, имя второй, видимо, было определено ее течением. После столь неимоверной катастрофы явных следов рая, конечно, нельзя было обнаружить. Обновленный род человеческий вторично изошел отсюда. Люди стали думать о том, как им пропитаться и к чему приложить руки; обычно они окружали себя стадами прирученных животных и вместе с ними расходились в разные стороны.
Такой образ жизни, равно как и приумножение племен, вскоре заставил народы разделиться. Трудно было им навеки покинуть родню и друзей, и они порешили построить высокую башню, которая указывала бы им путь назад из дальних далей. Но эта попытка потерпела неудачу, равно как и благое их устремление. Не суждено им было быть счастливыми и мудрыми, многочисленными и согласными. Элохим смущали их, постройка остановилась, племена рассеялись. Мир был заселен, но разрознен.
И все же наш взор, наше сердечное участие по-прежнему прикованы к этим краям. И снова выходит оттуда родоначальник, но уже более счастливый, ибо ему удается передать ярко выраженный характер потомству и тем самым навеки создать из него великую нацию, единую, несмотря на все перемены мест и превратности счастья.
От берегов Евфрата, не без божественного указания, Авраам начинает свое странствие на запад. Пустыня ему не препятствует; он подходит к Иордану, переправляется на другой берег и оседает в прекрасных полуденных землях Палестины. Страна эта давно уже была заселена и обжита. Горы, невысокие, но каменистые и бесплодные, здесь перемежались обильно орошенными, пригодными для земледелия долинами. Города и отдельные селения были рассеяны по равнине, по склонам обширного дола, откуда воды устремлялись в Иордан. Таким вот обжитым и возделанным был этот край; но мир был еще достаточно велик, люди же еще не были так ненасытны, предусмотрительны и деятельны, чтобы тотчас же присваивать себе окрестные земли. Между тогдашними их владениями простирались обширные пространства, где могли привольно пастись пришлые стада. На этих-то землях и живет Авраам и при нем брат его Лот. Но долго оставаться на месте им нельзя. Так уж заведено, что в этой стране население то прибывает, то вновь убывает и плоды ее почвы никогда не отвечают потребностям жителей; нежданно-негаданно может возникнуть голод, и тогда пришелец страдает наравне с туземцем, чей стол оскудел из-за случайного нахлебничества. Оба брата-халдея уходят в Египет — тем самым впервые обозначаются подмостки, на которых в течение долгих тысячелетий будут разыгрываться величайшие мировые события. От Тигра до Евфрата, от Евфрата до Нила лежит перед нами заселенная земля, и на ее просторах кочует со своими стадами и скарбом возлюбленный богами и всем нам давно уже близкий человек, в короткий срок несметно приумноживший свое достояние. Братья возвращаются назад, но — умудренные опытом перенесенных бедствий — все же решают разлучиться. Правда, оба остаются в полуденном Ханаане, но Авраам оседает в Хевроне у дубравы Мамре, тогда как Лот отправляется в Сиддимскую долину, где — достанет ли у нас на то воображения! — воды Иордана текут по подземному руслу, на месте же Мертвого моря простирается суша, которая может и должна явиться нам как бы вторым раем, тем паче что исконные и пришлые ее обитатели прослыли изнеженными блудодеями, а это предполагает, что они вели жизнь изобильную и привольную. Лот живет среди них, но обособленно.
Для нас Хеврон и дубрава Мамре — то приснопамятное место, где господь обетовал Аврааму всю землю, какую взор его может охватить, глянув на четыре стороны света. От этих тихих краев, этих пастушеских племен, которым было дано общаться с небожителями, оказывать им гостеприимство, иной раз с глазу на глаз беседовать с ними, мы должны обратить свой взор на восток и поразмыслить над устройством близлежащих земель, в общем-то схожим с устройством земли Ханаанской.
Семьи держатся вместе, объединяются, и местность, ими присвоенная, или та, на которую они еще только зарятся, определяет образ жизни различных племен. В горах, низвергающих свои воды в Тигр, живут воинственные народы — предтечи позднейших завоевателей и властителей мира; их дотоле невиданный, победоносный поход — пролог всех грядущих славных ратных подвигов. Кедорлаомер, царь Еламский, держит в подчинении своих союзников. Он царствует долго и еще за двадцать лет до прибытия Авраама в землю Ханаанскую обкладывает данью все народы вплоть до берегов Иордана. Когда же они откололись, союзники собрались в поход — покарать их. Нежданно мы встречаемся с ними на том пути, которым, видимо, и Авраам шел в пределы Ханаана. Народы с левого берега Иордана и со всего его низовья вновь укрощены и подчинены власти царя Еламского. Кедорлаомер ведет свои войска на юг, где обитают народы пустыни, затем внезапно сворачивает на север, разбивает амалекитян, а вслед за ними и аморитян, доходит до Ханаана, нападает на царей Сиддимской долины, побеждает, рассеивает их рати и движется с большой добычей вверх по Иордану, чтобы закончить свой поход в Ливане.
Среди пленных, уведенных вместе со всем их добром, находится и Лот, разделивший судьбу страны, в которой он был гостем. Праотец Авраам прослышал об этом, и вот мы уже видим его преобразившимся в героя и воина. Он собирает своих рабов, делит их на отряды, нападает на громоздкий обоз с добычей, сеет смятение среди победителей, не ждавших нападения с тыла, и уводит своего брата со всем его имуществом, прихватив немалую часть имущества, отнятого у побежденных царей. Краткий поход приобщает Авраама к властителям этой земли. Жители ее видят в нем своего спасителя, защитника и бескорыстного владыку. С благодарностью выходят ему навстречу цари долины, а Мелхиседек, царь и жрец, его благословляет.
И господь вновь предрекает Аврааму бесчисленное потомство, и смысл обета еще расширяется. Все земли от вод Евфрата до реки египетской обещаны Аврааму, но кровных наследников у него по-прежнему нет. Ему уже минуло восемьдесят, а все нет сына у Авраама. Сара не верит богам так слепо, она теряет терпенье и, по восточному обычаю, хочет обрести потомство через служанку. Но едва Агарь возлегла с хозяином, едва забрезжила надежда на сына, как в доме начался раздор. Госпожа притесняет былую свою любимицу, и Агарь бежит от ее гнева, дабы в другой орде дождаться лучшей участи, но вскоре возвращается, по указанию свыше, и родит Измаила.
Аврааму теперь девяносто девять лет, а небо по-прежнему предрекает ему бессчетное потомство, так что оба супруга уже смеются над этими пророчествами. И все же Сара наконец понесла и родила сына, его же нарекли Исааком.
История зиждется преимущественно на естественном размножении рода человеческого. Знакомясь с великими мировыми событиями, нередко приходится вникать и в семейные тайны; браки праотцев дают нам немало поводов для разных размышлений. Временами кажется, будто божества, правящие людскими судьбами, пожелали сотворить навечные прообразы всевозможных супружеских отношений. Когда Авраам, столь долгие годы живший в бездетном супружестве с прекрасной женщиной, расположения которой добивались многие, на сотом году жизни оказывается мужем двух жен и отцом двух сыновей, мир в его доме нарушен. Две жены, два сына от разных матерей не могут ужиться вместе. И уйти должны те, что в меньшей мере стоят под защитой закона, обычая и людского мнения. Авраам поступается своим чувством к Агари и Измаилу. Он отпускает их, и вновь Агарь, но уже по принуждению, идет тою же дорогой, которою раньше уходила в добровольное изгнание, — теперь, как ей поначалу кажется, навстречу гибели, своей и ребенка. Но ангел господень, прежде повелевший ей возвратиться, и на сей раз ее спасает, дабы сын ее Измаил стал родоначальником великого народа и тем самым сбылось бы самое невероятное из пророчеств.
Престарелые родители и единственный поздно рожденный сын! Казалось бы, чего тут ждать, как не домашнего мира и земного счастья? Нет! Небожители готовят Аврааму тягчайшее испытание. Но прежде чем говорить о нем, необходимо привести еще кое-какие соображения.
Если суждено было возникнуть естественной всеобщей религии, а из нее развиться особой религии откровений, то наиболее благоприятной почвой для этого была страна, доселе занимавшая наше воображение, а также ее обитатели, их душевный склад и образ жизни; мы, во всяком случае, полагаем, что нигде в мире не сыскались бы более тому поспешествовавшие условия. Уже естественная религия, если допустить, что она первая зародилась в душе человеческой, предполагает немалую тонкость чувств и особое умонастроение, ибо уповает на провидение, которое правит всем миропорядком. Особая религия, религия, явленная богами через откровение тому или иному народу, тем более неизбежно ведет за собою веру в божественный промысел, в покровительство верховного существа избранным людям, семьям, племенам и народам. Но такая религия едва ли может просто возникнуть в человеческой душе. Ей нужны традиция и предание, восходящие к древнейшим временам.
А потому хорошо, что израильтянское предание рисует уже первых людей, вверивших себя провидению, героями веры, покорными всем велениям верховного существа, от которого они почитают себя всецело зависящими и, впредь не позволяя себе ни в чем усомниться, терпеливо ожидающими запоздалого исполнения его пророчеств.
Если всякая религия, явленная через откровение, зиждется на вере, что боги взыскуют своей милостью одного больше, чем другого, то само понятие это возникло из обособленности состояний. Первые люди ощущали себя единым племенем, но разность занятий разобщила их. Охотник был изо всех самый свободный: в нем созревал будущий воин и властитель. Те, что возделывали поля, накрепко связались с землей; они воздвигали на ней жилье и амбары, где хранили урожай; возомнить о себе им было нетрудно, ибо на прочном и надежном зиждилось их положение. Пастуха манил другой прельстительный жребий: владеть безграничными просторами. Стада плодились и множились день ото дня, и земли, питавшие их, ширились во все стороны. Люди этих трех состояний исстари взирали друг на друга со злобой и презрением, и если пастух был мерзок селянину, то и он, в свою очередь, чурался оседлого земледельца. Охотники уходят в горы, мы теряем их из виду, но они еще вернутся на равнины грозными завоевателями!
Праотцы были пастухами. Кочевье по океану пустынь и пастбищ сообщало широту и свободу их взглядам, небесный свод с ночными светилами, под которым они жили, — возвышенность их чувствам. Больше, чем ловкие, храбрые охотники, больше, чем жившие в надежных домах степенные земледельцы, они нуждались в непоколебимой вере, что бог где-то рядом, что он посещает их, им сострадает, ведет их и спасает от бедствий.
Но — еще одно предварение, прежде чем мы вновь обратимся к исторической последовательности событий. Какой бы человечной, светлой и прекрасной ни казалась нам религия праотцев, ей все же присущи черты дикости и жестокости, от которых человек может освободиться, но может в них и погрязнуть.
Что ненависть утихает при виде крови поверженного врага — вполне естественно; возможно себе представить и то, что принесение в жертву животных служило скреплению союза — последнее вытекает из предыдущего; не следует удивляться, что в те отдаленные времена в богах видели покровителей враждующих сторон, прямых споспешников или противников, а потому полагали, что их можно привлечь, умилостивить, задобрить закланием животных. Но если мы зримо представим себе, как совершались эти жертвоприношения, нас поразит странный, омерзительный обычай, видимо, взявший свое начало в войне: всех приносимых в жертву животных, сколько бы их ни было, разрубали на две половины и клали по левую и по правую сторону, а в образовавшемся проходе стояли люди, возжелавшие заключить союз с божеством.
И еще одна страшная черта грозным знаменьем проходит через тот прекрасный мир, — видимо, опять военный обычай, перенесенный в мирную жизнь: все однажды обетованное богам должно умереть. Жителям города, стойко защищающего себя, грозят таким обетом; город берут штурмом или осадой, никого не щадят, всех мужчин умерщвляют. Порою та же участь постигает женщин, детей и даже домашних животных. Из суеверия ли, в излишней ли спешке, прямо или косвенно, но страшный обет произнесен, и даже те, кого хотелось бы пощадить, близкие, собственные дети, должны пасть искупительной жертвой кровавого безумия.
Авраам, человек кроткого, поистине праотеческого нрава, не мог, конечно, быть насадителем столь варварского угождения богам; но боги, верно, желая испытать нас, порою выказывают те самые свойства, которые любит приписывать им человек, и повелевают ужасное: в залог нового союза с богами Авраам должен принести в жертву своего сына, не только заколоть и сжечь его, но, по обычаю, разрубить пополам труп Исаака и, стоя меж его дымящихся внутренностей, ждать нового обетования от благосклонных богов. Слепо повинуясь велению, Авраам уже готовится свершить страшный обряд, но с богов довольно и его доброй воли. Искус Авраама тем самым кончается, ибо больших испытаний быть уже не может. Но умирает Сара, и это дает повод для примерного вступления Авраама во владение землей Ханаанской. Ему нужна гробница, и он впервые ищет собственности на этой земле. Похоже, что он уже раньше приглядел для себя двойную пещеру у дубравы Мамре. Авраам покупает ее вместе с прилегающей пашней, и то, что при покупке он блюдет все правовые формы, доказывает, как важно ему это владение. Важнее, быть может, чем он даже предполагал, ибо ему, его сыновьям и внукам суждено было там покоиться, и этим позднее обосновывались притязания его потомства на всю страну, их постоянное стремление всем скопом в нее возвращаться.
Отныне мы наблюдаем разнообразнейшие семейные события. Авраам все еще живет в строгой обособленности от местного населения, и если Измаил, сын египтянки, женится тоже на дочери этой страны, Исаак обязан сочетаться браком с единокровной и равной ему по рожденью.
Авраам шлет своего раба в Месопотамию, к родне, которую он там оставил. Умный Елеазар является к ним неузнанным и, чтобы выбрать и привезти домой достойную невесту, испытывает услужливость девушек у колодца. Он просит испить воды, и Ревекка не только подает ему воду, но и поит его верблюдов. Он одаривает ее, просит ее руки для сына своего господина и получает согласие. Так он приводит ее в дом Авраамов, и она обручается Исааку. Исаак и Ревекка тоже долго ждали потомства. Лишь после нескольких лет испытания боги благословили Ревекку, и раздор, некогда возникший в двойном браке Авраама при двух матерях, теперь возникает при одной. Два мальчика противоположной стати борются еще под сердцем матери. Они появляются на свет. Старший силен и подвижен, младший умен и хрупок. Один становится любимцем отца, другой — матери. Спор за первородство, начавшийся с самого рождения детей, не утихает. Исав спокойно и равнодушно взирает на первородство, сужденное ему роком. Иаков не может простить брату, что тот опередил его. Он пользуется любым случаем, чтобы приобрести вожделенное преимущество, выторговывает у брата право первородства и похищает у него отцовское благословение. Но тут Исав наконец приходит в ярость и угрожает брату смертию, Иаков бежит в страну предков попытать свое счастье.
Итак, в столь благородной семье родится человек, дерзнувший беззаконно обрести преимущества, в которых ему отказали природа и обычай. Уже не раз говорилось о том, что Священное писание отнюдь не стремится представить праотцов и других изысканных богами людей в качестве образцов добродетели. Они люди с несхожими характерами, с разными недостатками и пороками, но одно свойство объединяет их — нерушимая вера в то, что бог предпочтительно печется о них вкупе с их присными.
Общая естественная религия, собственно, не нуждается в вере, ибо в каждом заложено убеждение, что великое, творящее, все направляющее существо как бы кроется в самой природе, дабы нам легче было постичь его. И даже если человек временами теряет его из виду, так сказать, упускает путеводную нить своей жизни, то он везде и всегда может вновь подобрать ее. Совсем по-другому обстоит дело с особой религией, возвестившей нам, что верховное существо особливо печется об отдельном человеке, об избранном племени, земле и народе. Такая религия зиждется лишь на непоколебимой вере и, лишившись своей основы, обречена гибели. Любое сомнение для нее смертоносно. Можно вернуться к убеждению, но нельзя вернуться к вере. Отсюда нескончаемые испытания, медлительность в исполнении многажды повторенных пророчеств, проливающая свет на способность наших предков веровать.
С такою верой пускается в свое странствие Иаков, и если коварство и обман не снискали ему нашего расположения, то он все же заслужил его своей постоянной и неизменной любовью к Рахили, которую он сватал столь же поспешно, как Елеазар высватал Ревекку для его отца. На нем впервые должно сбыться пророчество о неизмеримо огромном народе. Множество сыновей окружили его, и немало горя испытал он из-за них и их матерей.
Семь лет служит он за свою любимую, не дрогнув, не потеряв терпения. Тесть Иакова, не уступающий ему в коварстве, как и он убежденный, что для достижения цели годится любое средство, его обманывает, тем самым воздавши ему за вину перед братом: в объятиях Иакова оказывается супруга, которую он не любит. Правда, чтобы смягчить его гнев, Лаван вскоре отдает ему еще и любимую, но при условии второго семилетия службы. И так из одного огорчения вырастает другое. Нелюбимая жена плодовита, у любимой же дети не родятся. Подобно Саре, она хочет стать матерью через рабыню, но Лия и этой радости не желает подарить ей. Она приводит мужу свою прислужницу, и славный праотец становится несчастнейшим из людей: четыре жены, дети от трех, но ни одного от любимой. Наконец и Рахили даровано счастье. На свет появляется Иосиф, запоздалое дитя страстной любви. Четырнадцать лет службы Иакова миновали, но Лаван не хочет лишиться первого и преданнейшего слуги. Они заключают новый договор и делят между собою стада. Лаван оставляет себе весь скот белой масти, то есть бо́льшую часть поголовья. Пегие овцы, якобы отброс Лавановых стад, достаются Иакову. Но он и здесь умеет соблюсти свою выгоду, и если за убогую похлебку он приобрел первородство, а переодевшись в чужое платье — отцовское благословенье, то и сейчас, искусно пользуясь законами естества, он умудряется присвоить себе бо́льшую и лучшую часть скота, а значит, и в этом смысле становится достойнейшим родоначальником народа израильского и примером для своих потомков. Лаван и его присные замечают если не самую проделку, то ее плоды. Происходит ссора, Иаков бежит с семейством, прихватив все свое достояние, и благодаря врожденной хитрости и счастливому случаю уходит от преследующего его Лавана. Он ждет от Рахили еще одного сына, но она умирает родами. Злополучное дитя, Вениамин, переживает мать, но отца ждет еще бо́льшее горе из-за мнимой утраты сына Иосифа.
Возможно, кто-нибудь и задастся вопросом, с какой стати я еще раз обстоятельно излагаю эти общеизвестные истории, часто уже пересказывавшиеся и толковавшиеся. На это можно только ответить, что по-иному я не сумел бы объяснить, как при моей рассеянной жизни и беспорядочном учении мне все же удалось сосредоточить свой ум и свои чувства на чем-то одном и в этом обрести успокоение, к тому же я не мог бы иначе воссоздать мир и тишь, меня окружавшие, вопреки буйным и удивительным событиям во внешнем мире. Когда неутомимое воображение, а о нем и свидетельствует мой пересказ, меня толкало то в одну, то в другую сторону, когда эта смесь басен и истории, мифологии и религии грозила окончательно сбить меня с толку, я тем охотнее спасался бегством в восточные страны, погружаясь в книги Моисея, чтобы там, среди кочевья пастушеских племен, пребывать одновременно и в одиночестве, и в большой, разношерстной компании.
Эти картины семейной жизни, прежде чем дать им затеряться в истории еврейского народа, хотелось бы, в заключение, обогатить еще одним образом, больше других тешившим надежды и фантазию юношества: образом Иосифа, рожденного в страстной супружеской любви. Спокойным и ясным предстает он перед нами и сам предсказывает себе грядущее возвышение над своей семьей. Ввергнутый братьями в беду, он и в рабстве сохраняет стойкость и праведность, не поддается опаснейшим искушениям, спасается благодаря пророческому дару и по заслугам удостаивается высоких почестей. Сначала он оказывает благодетельную помощь великому царству, потом — своим семейным. Спокойствием и величием души он выдался в своего прадеда Авраама, кротостью и уменьем хранить верность — в деда Исаака. Деловитости же, перешедшей к нему от отца, он находит более достойное применение; речь здесь идет уже не о стадах, приумножаемых для себя или тестя, а о целых народах, которых он со всем их имуществом сумел привести под власть царя. Необыкновенно обаятелен этот бесхитростный рассказ, только уж очень короток, так что поневоле возникает желание разработать его поподробнее.
Такая разработка характеров и событий, в Библии намеченных лишь в самых общих чертах, была немцам уже не в новинку. Персонажи Ветхого и Нового заветов благодаря Клопштоку приобрели тонкий, прочувствованный характер, волновавший душу мальчика и многих его современников. О трудах Бодмера на ту же тему он знал лишь понаслышке, иначе: не знал ничего. Зато «Даниил в львином рву» Мозера сильнейшим образом воздействовал на его юную душу. В этом произведении благомыслящий администратор и придворный, претерпев разные беды, достигает высокого и почетного положения, но неподкупная праведность, из-за которой его едва не сгубили враги, теперь, как и прежде, служит ему щитом и оружием. Мне уже давно хотелось обработать историю Иосифа, но я все не справлялся с формой; прежде всего потому, что не подыскал стихотворного размера, который отвечал бы такому замыслу. Наконец я остановил свой выбор на прозе и ретиво взялся за работу. Я стремился наметить характеры и тщательно выписать их, ввести в сюжетную канву всевозможные столкновения, новые эпизоды и, таким образом, превратить простую и старую историю в новое произведение. По младости лет мне было невдомек, что углубить и расширить содержание можно, только набравшись наблюдений, житейского опыта. Словом, я до малейшей подробности восстановил в памяти все события и рассказал их себе по порядку.
Очень облегчало мне эту работу одно обстоятельство, впрочем, грозившее сделать мое произведение слишком громоздким, а мое авторство не в меру обильным. В нашем доме, в качестве подопечного моего отца, жил молодой человек, одаренный разнообразными способностями, но явно тронувшийся в уме от умственного перенапряжения и высокомерия. Он мирно уживался со всеми нами, был тих, постоянно углублен в себя и, если его не трогали, услужлив и всем доволен. В свое время старательно ведя учебные записи, он выработал себе изящный и разборчивый почерк. Ничего он так не любил, как писать, и радовался, когда получал что-нибудь для переписки, но еще больше, когда кто-нибудь выражал желание диктовать ему. В последнем случае ему казалось, будто вернулись его счастливые академические годы. Для моего отца, который быстро писать не умел, да и почерком обладал неровным и мелким, этот молодой человек был истинной находкой. Занимаясь своими или чужими делами, отец обычно по нескольку часов в день диктовал ему различные бумаги. Я тоже решил, что ничего не может быть удобнее, как чужой рукой запечатлевать все, что бегло проносилось у меня в голове, и моя способность к вымыслу и подражанию возрастала по мере того, как мне облегчалось воссоздание и восприятие задуманного.
Никогда еще я не отваживался на такое большое сочинение, как эта библейская эпическая поэма в прозе. Время тогда было довольно спокойное, и ничто не отзывало мое воображение из Египта и Палестины. Итак, моя рукопись разбухала день ото дня, все, что я кусками самому себе рассказывал, теперь стояло на бумаге, и лишь немногие листы нуждались во вторичной переписке.
Когда я закончил свою поэму, а, к вящему моему удивлению, я ее все-таки закончил, я вспомнил, что у меня имеются разные стихотворения прошлых лет, которые и сейчас еще казались мне вполне сносными. Переписанные в одном формате с «Иосифом», они могли бы составить изрядный томик ин-кварто под общим названием «Разные стихотворения», — мне очень понравилась эта идея, возникшая в подражание прославленным поэтам. Я без особого труда изготовил множество так называемых анакреонтических стихотворений — благодаря простоте размера и легкости содержания, — но в сборник их не поместил, так как они были без рифм, а я в первую очередь хотел сделать приятное отцу. Зато тем более уместными мне показались духовные оды, которые я сочинял по образцу «Страшного суда» Элиаса Шлегеля. Одна из них, написанная в честь сошествия Христа в ад, пользовалась незаурядным успехом у моих родителей и друзей, более того — еще в продолжение нескольких лет нравилась мне самому. Я прилежно изучал также тексты для воскресной церковной музыки, которые всегда можно было раздобыть в печатном виде. Они, конечно, были очень слабы, и я имел право предполагать, что мои изделия, написанные в традиционном роде, вполне могли быть положены на музыку и исполняться в поучение прихожанам. Свои духовные оды, равно как и другие, им подобные, произведения, я собственноручно переписал еще год назад, избавившись таким образом от докучных прописей учителя чистописания. Теперь я все выправил и привел в порядок, а на то, чтобы упросить нашего писца-любителя переписать их набело, особых усилий не требовалось. Засим я поспешил к переплетчику и вскоре уже мог вручить отцу аккуратно сброшюрованный томик. Он с особым удовольствием похвалил меня и заодно выразил надежду ежегодно получать от меня по такой же книжке, ибо не сомневался, что все это сделано мною, так сказать, в часы досуга.
Мою тягу к изучению богословия, вернее, Библии, увеличивало еще одно привходящее обстоятельство. В ту пору как раз скончался председатель духовной коллегии Иоганн Филипп Фрезениус, кроткий человек с красивым и добрым лицом, которого не только его прихожане, но и все жители нашего города почитали за примерного пастора и отличного проповедника. Недолюбливали его только отпавшие от церкви «благочестивцы» за неоднократные его выступления против гернгутеров. В противовес им, все остальные франкфуртцы прославляли его чуть ли не как святого за обращение в истинную веру смертельно раненного атеиста-генерала. Преемник Фрезениуса — Плитт, рослый, красивый и величественный человек, обладавший даром не столько возвышать души слушателей, сколько поучать их (он был раньше профессором в Марбурге), сразу объявил, что будет читать свои проповеди как некий религиозный курс, соблюдая определенную методическую последовательность. Поскольку мне приходилось бывать в церкви, я давно уже подметил обязательное членение проповедей и мог с важным видом воспроизвести чуть ли не любую из них. А так как в общине шло немало разговоров о новом настоятеле, причем одни высказывались за, другие против него, большинство же не возлагало особых надежд на обещанные им дидактические проповеди, то я решил тщательно записать одну из них; эта задача облегчалась тем, что я и раньше делал подобные попытки, выискав себе на этот случай удобный и укромный уголок в нашей церкви. Я был очень внимателен и расторопен; едва он успел произнести «аминь», как я уже выскочил из церкви и дома часа два кряду торопливо диктовал то, что успел записать и что сохранил в памяти. Таким образом, мне удалось вручить отцу эту проповедь еще до обеда. Отец пришел в восторг, который вынужден был разделить с ним один из наших друзей, пришедший к обеду. Последний, правда, и без того был весьма благосклонен ко мне, ибо я так затвердил его «Мессиаду», что нередко, заходя к нему за восковыми слепками для моей коллекции гербов, читал ему наизусть большие куски поэмы, отчего старик бывал растроган до слез.
В следующее воскресенье, я с не меньшим пылом продолжил работу, и, так как меня увлек самый процесс, я вовсе не думал о том, что́ я пишу и что́ из этого выйдет. Первые три месяца я усердствовал довольно равномерно, но под конец в своем высокомерии счел, что Библия все равно до конца не уясняется мне, взгляд мой на догмат не становится шире, а тщеславное удовлетворение от этой работы покупается слишком дорогой ценой, и, следовательно, тратить на нее столько сил едва ли разумно. Проповеди, поначалу весьма объемистые, в моих записях заметно отощали, и я бы совсем забросил эти упражнения, если бы отец, ярый сторонник завершенности, уговорами и посулами не заставил меня продержаться до самой троицы, хотя напоследок я уже записывал на маленьких листках разве что евангельский текст, пропозицию и подразделенья.
Во всем, что касалось завершения, отец проявлял недюжинное упорство. Однажды начатое должно было быть завершено, даже если по ходу дела несомненно выяснялось, что это — бессмысленное, скучное, раздражающее, а главное, бесполезное занятие. Завершение, казалось, было для него единственной целью, упорство — единственной добродетелью. Когда в долгие зимние вечера мы начинали читать в семейном кругу какую-нибудь книгу, то были обязаны дочитать ее до конца, даже если она всех нас повергала в уныние, и отец первый же начинал зевать. Мне помнится одна зима, когда нам было вменено в обязанность одолеть «Историю пап» Боуэра. Тоску мы испытывали смертную, ибо в описании всех этих церковных дел не было ничего, что могло бы заинтересовать детей или молодежь. Впрочем, несмотря на мое невнимание и неохоту, что-то от этого чтения в моей памяти все же удержалось и впоследствии не раз пригождалось мне.
Несмотря на все эти посторонние занятия и работу, сменявшие друг друга так быстро, что трудно было опомниться и сообразить, насколько они нужны и полезны, мой отец не терял из виду главной цели. Он силился направить мою память, мою способность схватывать и комбинировать в юридическое русло и даже снабдил меня для этой цели своего рода катехизисом — маленькой книжицей Гоппе, воспроизводящей по форме и содержанию «Институции». Быстро заучив наизусть вопросы и ответы, я мог одинаково успешно выполнять роль экзаменатора и экзаменуемого, а так как в те времена на уроках закона божия одна из главных задач состояла в том, чтобы научиться быстро открывать Библию в указанном месте, то отец требовал от меня того же в отношении «Corpus juris», в котором я, кстати сказать, быстро понаторел. Он хотел пойти дальше и дал мне маленького Струве, но тут дело застопорилось. Форма, в которой была написана эта книга, не позволяла начинающему самому в ней разобраться, а лекторская манера отца была слишком скована, чтобы увлечь меня.
Не только военная атмосфера, в которой мы пребывали вот уже несколько лет, но и сама жизнь, а также чтение повестей и романов с полной очевидностью убеждали нас, что в ряде случаев законы безмолвствуют и не приходят на помощь отдельному человеку, предоставляя ему на свой страх и риск выпутываться из беды. Мы уже подросли и, по старому обычаю, должны были, наряду с другими предметами, обучаться фехтованию и верховой езде, чтобы при случае суметь за себя постоять и в седле не походить на робкого неофита. Что касается первого пункта, то предстоящие уроки только радовали нас, ведь мы уже давно обзавелись рапирами из ореховых прутьев и сплели себе аккуратные ивовые корзиночки для защиты рук. Теперь нам уже полагались настоящие стальные клинки, орудуя коими мы поднимали отчаянный стук.
У нас во Франкфурте было два учителя фехтования: пожилой солидный немец, строго и рачительно занимавшийся своим делом, и француз, стремившийся снискать известность искусным натиском и ретировкой, а также легкими и быстрыми ударами, каковые он неизменно сопровождал разными вскриками и возгласами. Мнения о том, чья метода лучше, разделились. Маленькая компания, с которой мне предстояло заниматься, была препоручена французу, и мы вскоре привыкли наступать и ретироваться, делать выпады и отступы, издавая положенные возгласы. Многие из наших знакомых предпочли, однако, немецкого фехтовальщика, а следовательно, занимались по прямо противоположной методе. Эти различные навыки в столь важных упражнениях, уверенность каждого в отдельности, что его учитель лучше, породили настоящий раскол между молодыми людьми приблизительно одного возраста, так что еще немного — и уроки фехтования вызвали бы форменное побоище. Мы ведь спорили не только на словах, но и на рапирах, и, чтобы положить конец этой распре, было устроено примерное сражение между обоими маэстро, исход которого, право же, не стоит подробно описывать. Немец, стоя в своей позиции как стена, не помышлял ни о чем, кроме своей выгоды, и умелыми ударами по рукоятке рапиры несколько раз обезоружил противника. Тот, однако, заявил, что это еще ничего не доказывает, и продолжал бой, утомляя своей подвижностью запыхавшегося немца. Он нанес немцу несколько сокрушительных ударов, которые в настоящем бою спровадили бы на тот свет его самого.
В общем, это единоборство ничего не решило и ничего не исправило, только что некоторые, и я в том числе, предпочли земляка французу. Но я уже слишком многое перенял у прежнего учителя, и новому понадобился долгий срок, чтобы отучить меня от старых навыков. К тому же он не слишком долюбливал нас, ренегатов, неизменно ставя нам в пример исконных своих учеников.
С верховой ездой дело обстояло еще хуже. Случайно вышло, что на манеж меня послали осенью, то есть в сырое и холодное время года. Педантическое отношение к этому прекрасному искусству было мне в высшей степени противно. Во главу угла ставилась крепкая посадка в седле, но никто не мог нам разъяснить, в чем тут фокус, ибо без стремян мы скользили взад и вперед по крупу лошади. Похоже было, что все обучение сводится к вымогательству денег и распеканию учеников. Забудешь ли надеть или снять подгубник, уронишь ли хлыст или шляпу, за любое упущение и любую неудачу с нас взимались деньги и нас же еще осыпали градом насмешек. Все это, вместе взятое, повергало меня в дурнейшее настроение, тем паче что и самый манеж был мне невыносимо противен. Скверное огромное помещение, пропитанное то сыростью, то пылью, холод, гнилостный запах претили мне, вдобавок наш шталмейстер давал лучших лошадей своим любимчикам, сумевшим его прельстить роскошными завтраками и прочими дарами, возможно, впрочем, что и своею ловкостью; мне же доставались манежные клячи. К тому же ему нравилось заставлять меня подолгу дожидаться; в общем он всячески надо мной издевался, так что за делом, которое могло бы быть самым веселым на свете, я провел пренеприятные часы. Более того, воспоминания об этом тяжелом времени до такой степени живы во мне, что я, став впоследствии страстным и смелым наездником, днями, даже неделями не слезавшим с коня, всегда тщательно избегал крытых манежей, стараясь оставаться в них не более нескольких минут. Впрочем, нам нередко случалось усваивать основы какого-нибудь законченного искусства не только с трудом, но и с истинным мучением. Когда в позднейшие времена люди поняли наконец, сколь это тягостно и вредно, возникла новая воспитательная максима, согласно которой все науки должны преподноситься юношеству как нечто веселое, приятное и легко усваиваемое, а это, в свою очередь, возымело отрицательные последствия.
С приближением весны у нас все опять успокоилось, и если прежде я старался поподробнее ознакомиться с общим видом города, с его церковными, мирскими, общественными и частными зданиями, находя наибольшее удовольствие в старине, тогда у нас еще преобладавшей, то теперь, начитавшись Лерснеровой хроники, а также других книг и рукописей из так называемого «франкфуртского отдела» отцовской библиотеки, я стремился воскресить для себя людей былых времен, в чем я и преуспел, благодаря пристальному рассмотрению особенностей времени, изучению нравов и выдающихся характеров.
Среди остатков старины мое внимание с детства привлекал череп государственного преступника, водруженный на Мостовой башне. Судя по пустым копьям, этот череп, видимо, один уцелел из трех или четырех с 1616 года, вопреки всем превратностям времени и погоды. Когда бы я ни возвращался из Саксенгаузена во Франкфурт, перед моими глазами были Мостовая башня и череп, насаженный на копье. Еще мальчиком я любил слушать историю о повстанцах, Фетмильхе и его сподвижниках, которые подняли мятеж против правителей города, разграбили еврейский квартал, учинили кровопролитное побоище, но затем были пойманы и приговорены к смертной казни чрезвычайным имперским судом. Позднее мне хотелось установить, что это были за люди и как протекали упомянутые события. И вот я вычитал из книги того стародавнего времени, иллюстрированной гравюрами на дереве, что хотя мятежники и были осуждены на смерть, но и некоторые члены городского совета получили отставку, ибо в управлении городом и впрямь творилось много дурного и беззаконного; я от души скорбел об этих несчастных людях, сознавая, что они были принесены в жертву лучшему будущему. И правда, с той поры был установлен новый порядок, согласно которому наряду со стародворянским родом Лимпургов и с членами дома Фрауенштейнов в управлении городом отныне участвовали также юристы, купцы и ремесленники, и городской совет пополнялся путем сложной баллотировки по венецианскому образцу и был ограничен в своих действиях бюргерскими коллегиями: долженствующий охранять право, он был лишен возможности нарушать таковое.
К числу таинственных явлений, угнетавших мальчика, а позднее и юношу, в первую очередь относился еврейский квартал, обычно называемый Еврейским закоулком, так как он состоял едва ли не из одной улицы, втиснутой, как в клетку, в малое пространство меж городской стеной и оврагом. Теснота, грязь, давка, акцент неблагозвучного языка — все это вместе производило тягостное впечатление, когда нам мимоходом случалось заглянуть в него через ворота. Долгое время я не отваживался один зайти туда, а однажды зайдя, не спешил вновь туда наведаться после того, как мне удалось спастись от назойливых торгашей, обступивших меня с предложениями что-нибудь купить или продать. При этом в юном воображении проносились старые сказки о жестокости евреев к христианским детям, отвратительные картины каковой были запечатлены на страницах Готфридовой хроники. И хотя в новейшее время мнение о евреях изменилось к лучшему, но картину, клеймившую их стыдом и позором, все еще можно было разглядеть на стене Мостовой башни, и она тем более оскорбляла достоинство этого народа, что была заказана в свое время не каким-нибудь частным лицом, а общественным учреждением.
И все же евреи оставались предпочтенным народом божиим и, невзирая ни на что, жили среди нас олицетворенным напоминанием о древнейших временах. Вдобавок они были люди энергичные, обходительные, а самое упорство, с каким они придерживались своих обычаев, невольно вызывало уважение. Девушки их были хороши собой и охотно терпели, когда христианский юноша, встретившись с ними в субботу на Рыбацком поле, оказывал им знаки внимания. Поэтому-то меня и разбирало любопытство поближе узнать их обряды. Я не мог успокоиться, покуда не побывал несколько раз в еврейской школе, не увидел собственными глазами их свадьбы и обряд обрезания, не составил себе представления о празднике кущей. Повсюду меня встречали приветливо, радушно потчевали и просили приходить еще, так как привели меня к ним и отрекомендовали весьма уважаемые лица.
Итак, меня, юного жителя большого города, бросало от одного предмета к другому, а среди царившего вокруг бюргерского спокойствия и безопасности не было недостатка и в страшных событиях. То близкий или далекий пожар нарушал наш домашний мир, то вдруг раскрытие крупного преступления, следствие по нему и наказание преступника на целые месяцы повергали в тревогу весь город. Нам доводилось быть свидетелями всевозможных экзекуций, и мне помнится даже, что однажды я присутствовал при сожжении книги. То были попавшие во Франкфурт экземпляры одного фривольного французского романа, никак не затрагивавшего государственных устоев, но направленного против религии и нравов. Право же, трудно представить себе что-нибудь страшнее расправы над неодушевленным предметом. Кипы книг лопались в огне, их ворошили каминными щипцами и продвигали в пламя. Потом обгорелые листы стали взлетать в воздух, и толпа жадно ловила их. Мы тоже приложили все усилия, чтобы раздобыть себе экземпляр этой книжки, но и кроме нас многие умудрились доставить себе то же запретное удовольствие. Словом, если бы автор искал популярности, то лучше он и сам бы не мог придумать.
Но мне случилось бродить по городу и с более мирными целями. Отец рано приучил меня исполнять различные мелкие его поручения. Например, поторапливать ремесленников, выполнявших его заказы, каковые они обычно задерживали сверх всякой меры, так как он требовал точной, аккуратней шей работы, а под конец, рассчитываясь за все сразу, старался заплатить подешевле. Таким образом, я побывал чуть ли не во всех мастерских, а поскольку у меня был врожденный дар вникать в различнейшие житейские обстоятельства, живо воспринимать особенности существования других людей и без труда в них вживаться, то, благодаря отцовским поручениям, я провел немало приятных часов, присматриваясь к рабочим приемам каждого ремесленника, к его радостям и горестям, к темным и светлым сторонам его жизни, зависящим от характера и условий его труда. Так я сблизился с этим деятельным классом, который являлся связующим звеном между классами высшим и низшим. Ибо если на одной стороне стоят те, что занимаются производством простых и примитивных вещей, а на другой те, что хотят пользоваться уже сделанным, то ремесленник благодаря своему разуму и трудовым рукам становится как бы посредником между ними, помогая тем и другим получать друг от друга желаемое. Семейная жизнь представителей многообразных ремесел, ее форма и окраска, определявшаяся занятиями хозяина дома и тоже сделавшаяся для меня предметом наблюдения, развила и укрепила во мне ощущение равенства если не всех людей, то всех человеческих состояний, причем главный интерес для меня представляло само их существование, все же остальное было более или менее безразличным и случайным.
Мой отец не легко решался на расход ради мгновенного удовольствия — так, например, я не помню, чтобы во время увеселительных поездок мы заходили подкрепиться в какую-нибудь ресторацию, — но не скупился на приобретение вещей ценных и в то же время красивых. Никто не жаждал мира более, чем он, хотя последнее время война нисколько не была ему в тягость. Исходя из этих соображений, он обещал подарить моей матери золотую табакерку, усыпанную бриллиантами, как только будет провозглашен мир. В надежде на счастливое событие разные люди уже не первый год трудились над этим подарком. Сама табакерка, довольно большая по размеру, была изготовлена в Ганау, так как отец состоял в добрых отношениях не только с тамошними шелководами, но и с золотых дел мастерами. Сначала было сделано множество рисунков: на крышке красовалась корзина цветов, а над нею — парящий голубь с оливковой ветвью в клюве. Для бриллиантов, которые предстояло разместить на голубе, на цветах и на замке табакерки, было оставлено необходимое место. Окончательную отделку отец поручил ювелиру Лаутензаку, он же должен был раздобыть и камни. Искусный и расторопный человек, Лаутензак, как, впрочем, и все одаренные художники, работал не столько по заранее намеченному плану, сколько по произволу, то есть над тем, что доставляло ему удовольствие. Бриллианты были уже размещены на черном воске в том самом порядке, в каком должны были быть размещены на крышке, и выглядели очень эффектно, но в нем они засели надолго, казалось, их никто и не собирался оправлять в золото. Поначалу мой отец относился к этому спокойно, однако, когда надежды на мир стали оживляться и вокруг уже пошли разговоры об условиях мирного договора, главным же образом о возведении эрцгерцога Иосифа в сан римского короля, им овладело нетерпение, и мне приходилось раза по два на неделе, а потом и каждый день бегать к медлительному мастеру. Мое упорное приставание и уговоры двигали работу вперед, но уж очень помалу, ибо в силу самого характера заказа ее можно было продолжать, а потом снова откладывать, и мастер находил все новые предлоги для проволочек.
Но основной причиной такого поведения Лаутензака была другая работа, предпринятая им на свой страх и риск. Всем было известно, что император Франц страстно любил драгоценные камни, и прежде всего цветные. Лаутензак истратил весьма солидную сумму (как выяснилось впоследствии, превысившую его состояние) на приобретение этих камней и начал составлять из них цветочный букет, стремясь к тому, чтобы выгоднее проявились форма и цвет каждого камня, а все произведение в целом не посрамило бы императорской сокровищницы. Не умея сосредоточиться на чем-нибудь одном, он работал над букетом уже несколько лет, и теперь, когда ввиду скорого заключения мира ожидалось прибытие императора во Франкфурт на коронование сына, заторопился с окончанием отделки и составления своего букета. Он ловко использовал мою любовь к созданиям рук человеческих, чтобы отвлечь меня от моей основной миссии — его поторапливать; старался преподать мне знание драгоценных камней, обращал мое внимание на их свойства и ценность, так что под конец я, можно сказать, наизусть знал этот букет и мог бы не хуже самого Лаутензака с наивыгоднейшей стороны показать его клиенту. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами, и хотя я потом видел ювелирные изделия более ценные, более изящных мне уже встречать не приходилось. К тому же у нашего ювелира было хорошее собрание бронз и других предметов искусства, о которых он любил распространяться, посему я проводил у него время отнюдь не бесполезно. Наконец, когда уже был назначен день созыва конгресса в Губертусбурге, он из симпатии ко мне закончил все, что еще оставалось сделать, и голубь, вьющийся над корзиной цветов, был вручен моей матери в день заключения мира.
С подобными поручениями отец посылал меня и к художникам, писавшим картины по его заказу. Он вбил себе в голову, — впрочем, такого же мнения придерживались очень многие, — что картина, написанная на дереве, имеет значительные преимущества перед картиной, написанной на холсте. Поэтому он всегда был озабочен приобретением хороших дубовых досок разных форм и размеров, зная, что художники в этих делах легкомысленно полагаются на столяров. Отец раздобыл старые, добротные доски и отдавал их столяру проклеить и обстругать, после чего они на долгие годы отправлялись в одну из верхних комнат для просушки. Одна из таких драгоценных досок была доверена живописцу Юнкеру, который должен был в своей изящной манере изобразить на ней красивую вазу с полевыми цветами, написанными с натуры. Дело было весной, и я не упускал случая каждую неделю приносить ему прелестнейшие цветы из попавшихся мне под руку. Он тотчас же присоединял их к прежним и так, мало-помалу, путем усидчивой и усердной работы, составил из разрозненных элементов единое целое. Но вот однажды я случайно поймал мышь и тоже притащил ее в его мастерскую. Хорошенькая зверюшка понравилась художнику, и он весьма правдоподобно изобразил ее обгрызающей колос у подножия вазы. После этого я приносил ему еще разных невинных тварей вроде бабочек и жуков, так что в конце концов у него составилась целая картина, весьма ценная в смысле выполнения и точного подражания природе.
Посему я был очень удивлен, когда этот славный человек, уже незадолго до сдачи работы, вдруг пустился в обстоятельные объяснения, почему он ею недоволен: она-де хороша в деталях, но в целом плохо скомпонована, потому что писалась постепенно, и к тому же он с самого начала допустил ошибку, не набросав, хотя бы в общих чертах, плана распределения цвета, света и тени, сообразуясь с которым надо было сочетать цветы в букете. Он подробнейшим образом разобрал со мною всю картину, возникавшую в течение полугода на моих глазах и в отдельных частях нравившуюся мне, и, к величайшему моему сожалению, сумел меня переубедить. Неудачей он объявил и пресловутую мышь, хотя бы потому, что у многих людей мышь вызывает отвращение и нечего совать ее в картину, предназначенную тешить глаз. И вот, как это часто случается с теми, кто воображает, будто излечился от предрассудка и стал много умнее, чем прежде, я преисполнился презрения к картине и всецело поддержал художника, когда он велел изготовить новую доску того же размера и, в согласии с собственным вкусом, написал на ней вазу более совершенной формы и более продуманно составленный букет, с несравненным изяществом разместив вокруг умело подобранные и премилые живые существа. На этой доске он работал с не меньшим тщанием, но, конечно, многое списывал со старой либо восстанавливал по памяти, развившейся у него за годы усердных трудов. Наконец обе картины были готовы, и мы от души порадовались последней, действительно более искусной и эффектной. Отец, к своему удивлению, получил две картины вместо одной, выбор, разумеется, был предоставлен ему. Он воздал должное нашему мнению, выслушал все резоны, похвально отозвался о трудолюбии художника, но, в течение нескольких дней внимательно приглядываясь к обеим картинам, остановился на первой, не вдаваясь ни в какие объяснения. Раздосадованный художник забрал вторую, написанную с наилучшими намерениями, и не удержался, чтобы не сказать мне с глазу на глаз, что на выбор отца, несомненно, повлияла добротность дубовой доски под первой картиной.
Вновь заговорив о живописи, я не могу не вспомнить о некоем на широкую ногу поставленном заведении, в котором я тоже провел немало времени, так как оно, и прежде всего его шеф, было для меня чрезвычайно привлекательно. Я говорю о большой фабрике клеенок, основанной Нотнагелем, умелым живописцем, который, однако, по характеру своего дарования и образу мыслей больше тяготел к фабричному производству, нежели к искусству. На обширном пространстве, занятом садами и строениями, вырабатывалась клеенка всех видов, начиная от самой простой — дерюги, на которую лопаточкой наносился воск или смолка и предназначенной для обозных повозок и тому подобных надобностей, — вплоть до обоев, печатавшихся по трафаретам, и, наконец, обоев изящных и тонких, пестревших фантастическими и натуральными цветами в китайском вкусе, фигурами и ландшафтами, которые наносила на них кисть искусных и опытных рабочих. Я наслаивался этим бесконечным разнообразием, и работы, здесь производившиеся множеством людей, — от самых примитивных до таких, которые уже достигли определенной художественной зрелости, очень меня занимали. Я свел знакомство со всеми, старыми и молодыми, трудившимися во многих примыкающих друг к другу помещениях, и даже иной раз помогал им. Товары эти шли нарасхват. Все, кто в ту пору строил или меблировал дом, заботились о прочности, а клеенчатым обоям положительно не было износу. Нотнагелю с этим производством хлопот было не обобраться, и в его конторе вечно толклись факторы и приказчики. Свободное время он отдавал своей художественной коллекции, состоявшей преимущественно из гравюр на меди, которые он, при случае, не прочь был продать, так же как и имевшиеся у него картины. Сам он тоже любил гравировать: пристрастился к офортам и этого занятия уже не оставлял до глубокой старости.
Так как он жил у Эшенгеймских ворот, то, навестивши его, я обычно шел на земельные участки моего отца, находившиеся за этими воротами. На одном из них был устроен питомник плодовых деревьев, луговая же его часть отдавалась под покос: отец очень заботился о новых посадках и о сохранности всего хозяйства, хотя земля и сдавалась им в аренду. Но еще больше попечений требовал содержавшийся в образцовом порядке виноградник за Фридбергскими воротами, где меж рядами виноградных лоз была, тоже рядами, посажена спаржа, нуждавшаяся в тщательнейшем уходе. В теплое время года отец почти каждый день отправлялся за город, а так как нам всегда разрешалось его сопровождать, то мы равно радовались первым плодам весны и последним дарам осени. Мы учились садовым работам, и поскольку они повторялись ежегодно, то в конце концов стали очень недурно с ними справляться. Из сборов летних и осенних плодов самым желанным и веселым был, конечно, сбор винограда. Виноград, как известно, придает веселый и буйный характер местностям, где он произрастает, ибо там все, от мала до велика, пьют вино, а дни сбора, заключающие лето и одновременно распахивающие двери зиме, и вовсе дышат безудержным весельем. Радость и ликование полнят всю округу. Днем из всех углов доносятся выстрелы и клики, по ночам то там, то сям взлетают в небо ракеты и римские свечи, возвещая, что никто еще и не думает спать и все хотят продлить празднество. Последующие заботы — выжимка винограда и период брожения сока в погребах — радовали нас бодрыми хлопотами, так что наступления зимы мы почти не замечали.
Наибольшую радость эти угодья доставляли нам весною 1763 года, тем паче что 15 февраля стало праздничным днем благодаря заключению Губертусбургского мира, под знаком счастливых последствий которого прошла большая часть моей жизни. Но прежде чем перейти к дальнейшему, я считаю своим долгом упомянуть о некоторых людях, оказавших на меня немалое влияние в мои юные годы.
Фон Оленшлагер, член дома Фрауенштейнов, городской старшина и зять упомянутого выше доктора Орта, был красивый, приятный человек сангвинического нрава. В парадном бургомистерском облачении он мог бы сойти за видного французского прелата. По окончании университета, с головой уйдя в придворные и государственные дела, он предпринял ряд путешествий по разным странам. Меня он очень отличал и частенько беседовал со мною на интересовавшие его темы. Я был подле него, когда он писал свое «Толкование Золотой буллы», и он сумел четко и ясно объяснить мне значение и ценность этого документа. Мое воображение тотчас же перенеслось в те тревожные и неистовые времена еще и потому, что я, стремясь воплотить в настоящем то, что он мне рассказывал из истории, не мог пересилить себя и не только подробно описывал тогдашние характеры и обстоятельства, но даже мимически изображал их. Ему это доставляло удовольствие, и он на все лады поощрял меня к повторению.
С детства я усвоил странную привычку заучивать наизусть начала книг или отдельных частей сочинения — сперва это было Моисеево Пятикнижие, затем «Энеида» и «Метаморфозы». Так же я поступил и с Золотой буллой и часто смешил своего покровителя, ни с того ни с сего, но вполне серьезно восклицая: «Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus facti suntsocii furum»[10]. Умный мой собеседник каждый раз покачивал головой и задумчиво говорил: «Что же это были за времена, если император на великом имперском собрании мог бросить такие слова в лицо своим князьям?»
Фон Оленшлагер был весьма учтив в обращении. Народу в его доме бывало немного, но он высоко ценил остроумную беседу и время от времени заставлял нас, молодых людей, разыгрывать какой-нибудь спектакль; в те времена существовало мнение, что это самое полезное занятие для молодежи. Мы ставили «Канута» Шлегеля, причем я исполнял роль короля, сестра — Эстриты, а младший сын хозяина дома — Ульфо. Затем мы отважились сыграть «Британника», ибо должны были не только развивать свои актерские способности, но и привыкать к сценической речи. Мне досталась роль Нерона, сестре — Агриппины, а юному Оленшлагеру — Британника. Хвалили нас больше, чем мы того заслуживали, мы же воображали, что нас недохваливают. Итак, я любил эту семью и был обязан ей многими удовольствиями и быстрейшим ходом моего развития.
Фон Рейнек, отпрыск стародворянского рода, чернявый, сухопарый человек, был и умен и честен, но не в меру упрям и никогда не улыбался. Его постигло большое горе: один из друзей, бывавших в их доме, увез его единственную дочь. Он возбудил против своего зятя судебное преследование, а так как суды с их нескончаемыми формальностями не могли с достаточной скоростью и суровостью утолить его жажду мести, то повздорил и с ними; с тех пор так и пошло — свара за сварой, тяжба за тяжбой. Он уединился в своем доме, стоявшем в большом саду, выбрав себе для жилья большую, но унылую комнату в первом этаже, к которой уже годами не прикасалась кисть маляра, да и швабра горничной — разве что изредка. Меня он терпел охотно и желал, чтобы я подружился с его младшим сыном. Когда ему случалось принимать у себя старых друзей, умевших с ним ладить, своих управляющих и поверенных, он не забывал позвать и меня. Стол у него был отличный, а вино и того лучше. Беда только в том, что гостям досаждала печь, из многочисленных щелей которой валом валил дым. Один из старейших его друзей как-то раз отважился спросить: неужто он в состоянии всю зиму терпеть такое неудобство? На что последовал ответ, достойный Тимона или Геаутонтиморуменоса: «Видит бог, это не худшее из тех зол, что меня терзают». Лишь по прошествии многих лет он дал себя уговорить и свиделся с дочерью и внуком, но зятя так и не пустил к себе на глаза.
На этого достойного, несчастного человека мое присутствие влияло благотворно. Он любил со мной говорить, просвещал меня по части политических и государственных дел и, всякий раз оживляясь, забывал о своем горе. Поэтому немногие старые друзья, еще хранившие ему верность, частенько прибегали к моей помощи, когда надо было смягчить его или уговорить принять участие в каком-нибудь развлечении. И правда, он стал изредка ездить с нами за город и вновь любовался местностью, на которую не глядел уже в течение многих лет. Вспоминая былых здешних землевладельцев, он рассказывал нам об их характерах и нравах, и хотя судил неумеренно строго, иной раз бывал при этом весел и остроумен. Мы хотели устроить так, чтобы он снова встречался с людьми, но ничего доброго из нашей затеи не вышло.
Ровесником фон Рейнека или даже чуть его постарше был некий господин фон Малапарт, богатый человек, владелец солеварен и прекрасного дома на Конном рынке. Он тоже жил очень уединенно, лето же проводил в своем саду за Бокенгеймскими воротами, где заботливо выращивал великолепные гвоздики.
Любителем гвоздик был и фон Рейнек. И вот, когда наступила пора цветения, мы взялись устроить им свидание. Наши долгие хлопоты наконец увенчались успехом, и Рейнек решил в воскресенье вместе с нами ехать за город. Старики приветствовали друг друга весьма лаконично, вернее — ограничились лишь краткой пантомимой, и все мы вместе торжественным шагом направились к клумбам. Цветенье в том году было удивительное; своеобразие форм и цвета гвоздик, а также преимущества одного редкого сорта перед другим наконец-то заставили обоих обменяться двумя-тремя дружелюбными словами. Мы все этому очень обрадовались — тем паче что заприметили на столе в одной из беседок драгоценный рейнвейн в граненых бутылках, превосходные фрукты и прочие яства. Увы, нам не пришлось их отведать. На нашу беду, фон Рейнеку вдруг бросилась в глаза прелестная, но уже слегка поникшая гвоздика. Он наклонился, провел двумя пальцами снизу вверх по стеблю и осторожно приподнял головку цветка, чтобы получше его рассмотреть. Но и это нежное прикосновение рассердило хозяина: Малапарт вежливо, хотя и не без резкости, даже как-то высокомерно напомнил гостю о правиле: oculis, non manibus[11]. Фон Рейнек, уже выпустивший из рук гвоздику, тут же вспылил и, по своему обыкновению, сказал довольно холодно, что знаток и любитель, конечно же, вправе слегка дотронуться до цветка, если ему хочется получше его рассмотреть; сказав это, он повторил свой жест и снова приподнял гвоздику двумя пальцами. Друзья той и другой стороны — Малапарта тоже сопровождал старый приятель — растерялись и «пустили зайца» (так мы выражались, имея в виду попытку замять неловкость, дав разговору другое направление). Но ничего из этого не вышло: наши старики словно онемели, и мы дрожали при одной мысли, что фон Рейнек снова повторит свой жест, — тут уж нам всем пришлось бы худо. Как ни старались друзья свести на нет происшедшее, мир не восстанавливался. Тогда мы стали собираться домой, и это было самое умное, хотя яства в беседке остались нетронутыми.
Надворный советник Гюсген не был уроженцем Франкфурта и принадлежал к реформистам, а потому не мог стать чиновником или адвокатом. Впрочем, будучи превосходным юристом и пользуясь всеобщим доверием, он спокойно занимался адвокатской практикой по доверенностям — не только во Франкфурте, но и в имперском суде. Ему было уже под шестьдесят, когда я стал брать вместе с его сыном уроки чистописания и начал бывать у них в доме. Он был крупен и высок, но не долговяз, широк в кости, но не толст. На его лицо, обезображенное оспой и к тому же одноглазое, невозможно было смотреть без содрогания. На лысой его голове всегда красовалась белоснежная шапочка колокольчиком, вверху перехваченная лентой. Шлафроки господина Гюсгена, коломянковые или домастовые, блистали безукоризненной чистотой. Квартира его в бельэтаже на Аллее представляла собою анфиладу светлых и веселых комнат; чистота во всем, что его окружало, отлично вязалась с этой веселостью. Порядок, в котором он содержал свои бумаги, книги и ландкарты, производил отраднейшее впечатление. Его сын, Генрих Себастиан, который впоследствии приобрел известность своими сочинениями по искусству, в юности мало что обещал. Добродушный, но рохля, не грубиян, но и не то чтобы учтивый, он вдобавок не слишком любил учиться и старательно избегал отца, зная, что у матери он выманит все, что захочет. Я же, напротив, все больше сближался со стариком, по мере того как лучше его узнавал. Поскольку он вел только крупные юридические дела, у него оставалось довольно много времени для прочих занятий и развлечений. Еще не успев как следует привыкнуть к его обществу и его поучениям, я понял, что он находится в оппозиции к богу и к людям. Одной из любимейших его книг был трактат Агриппы «De vanitate stientiarum»[12]. Он настойчиво рекомендовал мне прочесть его, чем на время привел мой юный ум в немалое смятение. В силу юношеской жизнерадостности я был склонен к оптимизму и неплохо уживался с богом или богами, ибо за прожитые годы пришел к убеждению, что зло имеет свой противовес, что от несчастий люди оправляются и от опасностей можно спастись, не обязательно сломав себе шею. На все, что творили люди, я смотрел сквозь пальцы и нередко считал похвальным то, с чем мой старый друг никак не мог примириться. Однажды, когда он стал расписывать мне жизнь с ее карикатурной стороны, я понял, что у него припасен еще один крупный козырь. Он и правда, как всегда в подобных случаях, зажмурив левый, слепой глаз, пристально вперился в меня правым, помедлил и произнес своим гнусавым голосом: «Я и в господе боге подсмотрел недостатки».
Мой тимонический ментор был к тому же и математиком, хотя его практическая натура больше влекла его к механике. Сам он чуждался ремесленной работы, но по его указаниям были сработаны часы, удивительные по тому времени, которые, кроме часов и дней, показывали еще и движение Луны и Солнца. Никогда не посещавший богослужения, советник по воскресеньям собственноручно заводил их ровно в десять часов утра. Гостей я никогда у него не видывал и за десять лет, может быть, всего два раза был свидетелем тому, как он, приодевшись, выходил из дому.
Беседы со всеми тремя упомянутыми лицами были по-своему примечательны и оказывали на меня заметное влияние. Но и я, со своей стороны, был к ним внимателен — не меньше, если не больше, чем собственные их дети. Каждый из них относился ко мне как к родному сыну и тщился заново создать меня по собственному образу и подобию. Оленшлагер хотел сделать из меня придворного, Рейнек — чиновника и дипломата, и оба, в особенности последний, чернили в моих глазах поэзию и беллетристику. Гюсгену же хотелось видеть меня Тимоном, каким был он сам, и в то же время дельным ученым юристом, ибо это ремесло, так уверял он, необходимо каждому, чтобы неизменно отстаивать себя и свое от происков человеческого сброда, приходить на помощь угнетенным и быть во всеоружии для расправы с мошенниками, что, впрочем, как добавлял он, не всегда возможно и разумно.
Этих трех многоопытных мужей я держался, чтобы внимать их советам, следовать их указаниям; напротив, ровесники и юноши, лишь ненамного опередившие меня годами, подстрекали меня к соревнованию. В этой связи хочется прежде всего назвать братьев Шлоссеров и Гризбаха. Так как позднее у нас завязались отношения более тесные, длившиеся много лет кряду, я скажу здесь только, что в ту пору их ставили нам в пример, как молодых людей, изрядно знающих языки и еще многое из того, что необходимо для успешной академической карьеры; все ждали от них необычайных свершений на поприще служения государству или церкви.
Я тоже хотел сделать нечто из ряда вон выходящее, но что именно, мне было еще неясно. А так как человеку свойственно думать скорее об ожидающей его награде, чем о том, как ее заслужить, то мне, признаюсь, вожделенное счастье представлялось в виде лаврового венка, которым венчают прославленного поэта.
КНИГА ПЯТАЯ
На каждую птицу есть своя приманка; каждого человека можно на свой лад увлечь и завлечь в тенета. Моя натура, воспитание, окружающая среда, привычки держали меня в отдалении ото всего грубого, и хотя я часто приходил в соприкосновение с низшими классами общества, в первую очередь с ремесленниками, но теснее с ними никогда не сближался. Во мне было довольно смелости, чтобы отважиться на что-нибудь необычное, более того — опасное; временами я даже к этому стремился, но мне недоставало рычага, за который я мог бы ухватиться.
И все же нежданно-негаданно я оказался запутанным и историю, которая грозила мне немалыми бедами и на некоторое время повергла меня в смятение и горе. Дружеские отношения с мальчиком (выше я называл его Пиладом) продолжались у нас и в юношеском возрасте. Правда, теперь мы встречались реже, потому что наши родители недолюбливали друг друга, но стоило нам свидеться, как вновь радостно вспыхивала старая дружба. Как-то раз мы столкнулись в Аллеях между внутренними и внешними Санкт-Галленскими воротами, где любили гулять жители нашего города. Мы едва успели поздороваться, как он уже сказал:
— А у меня с твоими стихами все та же история. Я прочитал нескольким добрым приятелям те, что ты мне дал намедни, и никто не верит, что они твои.
— Ну эта беда не велика, — отвечал я. — Я буду писать и впредь, нам обоим на утеху, а другие пусть говорят и думают, что им заблагорассудится.
— Вон как раз идет такой Фома Неверный! — воскликнул мой друг.
— Ну и бог с ним, — сказал я, — насильно верить не заставишь.
— Ну нет, — рассердился он, — так просто я не успокоюсь.
После короткого и безразличного разговора мой не в меру ретивый благожелатель не без вызова заметил:
— Вот мой друг, сочинитель тех прелестных стихов, в авторстве которого вы усомнились.
— Надеюсь, — отвечал тот, — он нам это в вину не поставит. Ведь мы оказали ему честь, полагая, что юноша его лет еще не может так искусно владеть стихом.
Я отвечал какой-то пустой фразой, но Пилад продолжал:
— Что ж, убедитесь сами. Дайте ему тему, и он тут же на месте воплотит ее в стихи.
Я принял вызов; молодой человек спросил, не возьмусь ли я написать в стихах любовное послание, в котором скромная молодая девушка стыдливо признается юноше в любви.
— Ничего не может быть легче, — отвечал я, — были бы письменные принадлежности.
Он достал свой карманный календарь со множеством белых листов, и я уселся на скамейку, приготовившись писать. Они стали прогуливаться взад и вперед, не выпуская меня из виду. Я тотчас же живо себе представил, как бы приятно мне было, если бы хорошенькая девушка, питая ко мне нежные чувства, пожелала выразить их в прозе или в стихах. Посему я без промедленья начал непринужденно объясняться в любви размером, представлявшим нечто среднее между «ломаным стихом» и мадригалом, и быстро справился со своей задачей. Когда я прочитал обоим новоиспеченный стишок, скептик был вне себя от удивления, а мой друг — от восторга. Я не мог не отдать это стихотворение тому, в чьем календаре его писал, да мне и хотелось, чтобы у него в руках осталось доказательство моих способностей. На прощание он не преминул еще раз высказать мне свое восхищение и симпатию и добавил, что самым горячим его желанием было бы почаще видеться с нами. В конце концов мы сговорились в ближайшее время вместе отправиться за город.
Задуманный пикник вскоре состоялся, причем к нам присоединилось еще несколько молодых людей того же пошиба. Все они принадлежали к средним, пожалуй, даже к низшим классам, были очень неглупы и, пройдя школьный курс, обладали кой-какими знаниями и даже приличными манерами. В большом богатом городе можно выискать много способов заработать себе на жизнь. Эти молодые люди перебивались тем, что переписывали бумаги для адвокатов или давали уроки детям небогатых родителей, причем сообщали им больше знаний, чем начальная школа. С подростками, готовившимися к конфирмации, они репетировали закон божий, выполняли разные поручения маклеров или купцов, а вечерами, особенно по воскресным или праздничным дням, устраивали пирушки, весьма скромные, конечно.
В пути они на все лады расхваливали мое любовное послание и признались, что нашли для него довольно забавное применение, а именно: переписав его измененным почерком и внеся кое-какие детали личного характера, подсунули его некоему самонадеянному юнцу, не сомневавшемуся, что в него по уши влюбилась одна девица, за которой он ненароком приволокнулся, и теперь ищет повода поближе с ним познакомиться. Они доверительно шепнули мне, что молодой человек мечтает, в свою очередь, ответить ей стихами, но так как все они в этом смысле совершенно беспомощны, то и обращаются ко мне с горячей просьбой — сочинить желаемый ответ.
Мистификация была и осталась любимым развлечением досужих людей, более или менее гораздых на выдумку. Беззлобная злость и самодовольное злорадство — наслаждение для тех, кто и собою не занят, и недостаточно одарен, чтобы благотворно воздействовать на других. До этой забавы охочи люди всех возрастов. В детстве мы частенько надували друг друга, ведь многие игры только и держатся на таких мистификациях и розыгрышах. Мне показалось, что и на сей раз шутка не пойдет дальше обычного, и я согласился. Они сообщили мне кое-какие подробности, о которых надо было упомянуть в письме, и оно было готово раньше, чем мы вернулись домой.
Спустя некоторое время мой друг стал настойчиво просить меня примять участие в вечеринке, затеянной этой компанией. Угощать на сей раз будет тот самый влюбленный; ему хочется как следует отблагодарить приятеля, зарекомендовавшего себя столь отличным поэтическим секретарем.
Собрались мы поздно, ужин был скудный, вино — сносное, а все разговоры сводились к подшучиванию над влюбленным юношей, и вправду недалеким, который, несколько раз перечитав письмо, готов был поверить, что и впрямь написал его.
По своему врожденному добродушию я не мог сочувствовать этой злой забаве, к тому же мне претило постоянное возвращение к одной и той же теме. Словом, я провел бы прескверный вечер, если бы меня не порадовало одно неожиданное обстоятельство. К нашему приходу стол был уже заботливо накрыт, вино подано, и притом в достаточном количестве. Мы сели и остались одни, так как прислуга нам была не нужна. Но когда вина все-таки недостало, кто-то кликнул служанку; вместо нее в комнату вошла девушка необыкновенной, в этой обстановке даже немыслимой, красоты.
— Что вам надобно? — спросила она, приветливо пожелав нам доброго вечера. — Служанка больна и уже легла в постель. Может быть, я могу быть вам полезна?
— У нас все вино вышло, — сказал один из сидевших за столом. — Хорошо бы, ты принесла нам бутылочку-другую.
— Сделай одолжение, Гретхен, — вмешался другой, — здесь ведь рукой подать.
— Что ж, охотно, — отвечала она, взяла со стола две порожние бутылки и торопливо вышла.
Со спины она, пожалуй, выглядела еще грациознее. Чепчик премило сидел на маленькой головке, очаровательно соединенной с плечами стройною шейкой. Все в этой девушке было изысканно прелестно, и я мог сейчас спокойнее ею любоваться, так как мое внимание не было всецело приковано к ее кротким, простодушным глазам и обольстительным губкам. Я упрекнул своих сотрапезников за то, что они куда-то посылают малютку одну в такой поздний час. Они посмеялись надо мной, но я уже успокоился: она возвратилась незамедлительно — трактирщик, как оказалось, жил в доме насупротив.
— Ну, за это садись-ка с нами, — сказал один из гостей.
Она так и сделала, но, к сожалению, села далеко от меня. Выпив стаканчик за наше здоровье, она поднялась, посоветовав нам на прощанье не засиживаться и не шуметь, так как мать уже легла. Это была не ее мать, а мать наших хозяев.
С той минуты ее очаровательный образ день и ночь стоял перед моими глазами. Это была первая встреча с девушкой, надолго врезавшаяся мне в память; а так как я не мог найти, да и не искал предлога посетить ее дом, то стал ради нее ходить в церковь и вскоре высмотрел, где она обычно сидит. Отныне я мог вдосталь любоваться ею во время долгого протестантского богослужения. При выходе из церкви я не решался с нею заговорить, а о том, чтобы проводить ее, даже мечтать не смел и был наверху блаженства, если она хотя бы меня замечала и слегка наклоняла головку в ответ на мое приветствие. Но вскоре мне дано было счастье приблизиться к ней. Влюбленного юношу, чьим поэтическим секретарем я заделался, убедили, что письмо, написанное от его имени, вручено прелестнице и что скоро придет ответ, которого он ждал, сгорая от нетерпения. Ответ опять-таки должен был писать я, и озорная компания через Пилада настоятельно просила меня пустить в ход все мое остроумие и умение, чтобы письмо девицы получилось как можно более изящным и совершенным.
В надежде вновь увидать свою красавицу я тотчас же взялся за перо и мысленно представил себе, что́ могло бы меня порадовать, прочитай я это в письме Гретхен ко мне. Я, видимо, написал все до такой степени соответственно ее духу, характеру и манере, что мне стало мерещиться, будто оно и вправду было так, и я приходил в восторг при одной мысли, что эти слова могли быть адресованы мне. Так я мистифицировал сам себя, думая, что строю козни другому, и отсюда для меня проистекло немало радости, но немало и горя. Когда мне во второй раз напомнили о моем обещании, у меня уже все было готово, я отвечал, что приду, и поспешил явиться в назначенный час. Дома оказался только один из молодых людей; Гретхен сидела у окна за прялкой, мать то входила в комнату, то опять уходила. Юноша попросил меня прочитать ему письмо; я повиновался и стал читать. Чтение меня даже растрогало, но тем не менее из-за листа бумаги я все время поглядывал на прелестную девушку, и оттого, что она казалась мне взволнованной, ибо легкий румянец проступал на ее лице, я старался как можно живее выразить то, что хотел бы от нее услышать. Ее кузен, часто прерывавший меня похвалами, под конец потребовал кое-каких переделок. Они касались нескольких мест, которые и вправду были скорее характерны для положения Гретхен, чем той барышни из хорошего дома и богатой семьи, известной и уважаемой в городе. Еще раз внушительно заметив мне, каковы должны быть поправки, он принес письменные принадлежности и куда-то отлучился. Я по-прежнему сидел на скамье за большим столом и писал новые варианты на покрывавшей чуть ли не весь стол большой аспидной доске грифелем, который я взял с окна, где он всегда лежал наготове, так как эта доска нередко служила для хозяйственных подсчетов, не говоря уже о том, что на ней, уходя, писали друг другу записки домочадцы или гости, не заставшие дома хозяина.
Я уже довольно долго писал и снова стирал, когда меня разобрало нетерпение и я воскликнул:
— Ничего не получается!
— Тем лучше, — степенно отвечала девушка. — Я хочу, чтобы у вас ничего не получилось. Вам, право же, не следует впутываться в эту историю.
Она встала из-за прялки, подошла к столу и принялась дружелюбно и рассудительно журить меня.
— Все это похоже на невинную шутку; это шутка — верно, но отнюдь не невинная. На моей памяти было уже немало случаев, когда наши юнцы наживали себе большие неприятности из-за подобных проделок.
— Но что же мне теперь делать? — отвечал я. — Письмо уже написано, и они ждут только, чтобы я внес в него некоторые изменения.
— Верьте мне, — сказала она, — и ничего не меняйте. Возьмите письмо, спрячьте его, уходите и попытайтесь уладить дело через вашего друга. Я тоже сумею замолвить за вас словечко. Видите ли, я девушка бедная и завишу от родственников, которые, хоть ничего дурного и не делают, но иной раз, ради своей потехи или из выгоды, пускаются на отчаянные дела, и все-таки я отказалась от их требования — переписать первое письмо. Тогда они его переписали сами измененным почерком; так же поступят они и сейчас, если им ничего другого не останется. Но вы — молодой человек из хорошего дома, состоятельный, независимый; так зачем же вы позволяете пользоваться вами как орудием в деле, из которого для вас ничего доброго не получится, а неприятности могут выйти большие?
Я был счастлив, что девушка обратилась ко мне с этой речью, ибо до сих пор она при мне разве что вставляла в разговор два-три слова. Мое чувство к ней возросло неимоверно. Я уже не владел собой, когда отвечал:
— Я не столь уж независим, как вы полагаете, а состояние мне ни к чему, если у меня нет самого дорогого, что я мог бы себе пожелать!
Она взяла в руки черновик моей поэтической эпистолы и с милыми, очаровательными интонациями вполголоса прочитала его.
— Прелестно! — воскликнула она, задержавшись на некоем псевдонаивном обороте. — Жаль только, что эти слова не выражают подлинного чувства.
— О, как было бы это желательно! — воскликнул я. — И как счастлив был бы человек, получивший подобное заверение в любви от бесконечно любимой девушки.
— Для этого нужно очень многое, — возразила она. — Но ведь чего только не случается.
— Ну, вот, к примеру, — подхватил я, — если кто-то, кто вам знаком, кто вас ценит, чтит, обожает, положил бы перед вами такой листок и от всего сердца обратился бы к вам с просьбой, настойчивой, дружеской, что бы вы сделали? — Я пододвинул к ней письмо, которое она уже пододвинула было ко мне. Гретхен улыбнулась, на мгновенье задумалась, потом взяла перо и подписалась. Не помня себя от восторга, я вскочил и попытался обнять ее.
— Не целуйте меня, — проговорила она, — это так пошло; но любите, если вам любится.
Я схватил листок и сунул его в карман.
— Теперь никому его не видать, — сказал я, — с этой историей покончено! Вы спасли меня.
— В таком случае завершите мой подвиг, — воскликнула Гретхен, — уходите поскорее, не то они придут, и вы окажетесь в горестном и трудном положении.
Я был не в силах от нее оторваться, но она так мило меня упрашивала, держа мою правую руку в своей и ласково ее сжимая. Слезы, казалось, вот-вот брызнут у меня из глаз. Мне померещилось, что и ее глаза увлажнились, я прижался лицом к ее рукам и выбежал вон. В жизни моей не бывал я объят подобным смятением!
В первом любовном влечении неиспорченных юных существ всегда главенствует духовное начало. Видно, природе угодно, чтобы один пол воспринимал другой как чувственное воплощение всего доброго и прекрасного. Так и мне в этой девушке, и в моем чувстве к ней открылся новый мир красоты и совершенства. Я сотни раз перечитывал свою поэтическую эпистолу, любовался подписью, целовал ее, прижимал к сердцу и без конца радовался милому признанию Гретхен. Но чем больше я ликовал, тем больнее томила меня невозможность посетить ее, снова ее увидеть, говорить с нею: я страшился попреков и назойливых просьб ее двоюродных братьев. Доброго моего Пилада, который сумел бы все это уладить, мне разыскать не удавалось. А потому я в ближайшее воскресенье отправился в Нидеррад, где обычно бывала эта компания, и действительно встретил их там. Как же я удивился, когда они, нисколько не досадуя и не сердясь на меня, с радостными лицами пошли мне навстречу, а младший так даже проявил необыкновенное дружелюбие; он взял меня за руку и сказал:
— Вы здорово нас одурачили, и мы сперва очень разозлились. Но то, что вы сбежали, похитив стихотворное послание, навело нас на мысль, которая иначе вряд ли пришла бы нам на ум. В знак примирения вы сегодня нас угостите, заодно узнаете, что мы задумали, и, конечно, порадуетесь вместе с нами.
Его слова меня смутили; при мне было достаточно денег, чтобы расплатиться за себя и, скажем, за одного приятеля, но угощать целую кампанию, да еще не всегда умевшую держать себя в должных границах, мне было не по карману. Его предложение тем более удивило меня, что до сих пор они строго держались правила — каждый платит за себя. Все посмеялись над моим замешательством, а младший продолжал:
— Пойдемте-ка посидим в беседке, и там вы узнаете дальнейшее.
Мы уселись, и он сказал:
— Когда вы скрылись вместе с любовным посланием, мы еще раз обсудили все дело и пришли к выводу, что, так сказать, понапрасну растрачиваем ваш талант назло другим и с опасностью для себя, — словом, из пустого злорадства, тогда как могли бы воспользоваться им для нашей общей выгоды. Вот смотрите, у меня есть заказ на свадебную оду, а также на эпитафию. Последняя должна быть изготовлена немедленно, с первой можно повременить с недельку. Выполните заказ — вам это ничего не стоит, и вы сможете два раза угостить нас, а мы на долгий срок останемся вашими должниками.
Такое предложение мне очень понравилось. Ведь стихотворения «на случай» появлялись у нас едва ли не каждую неделю, а оды, которыми отмечались богатые свадьбы, — целыми дюжинами. Я с самого детства относился к ним не без зависти, полагая, что мог бы писать их не только не хуже, но, пожалуй, и лучше. И вот мне впервые представлялась возможность показать себя, более того — увидеть свои творения напечатанными. Я не стал долго раздумывать и тотчас же согласился. Они поспешно ознакомили меня с характерами и семейными обстоятельствами заказчиков. Я сел в сторонку, сделал общий набросок и даже сочинил несколько строф. Но так как меня вскоре потянуло обратно, туда, где вино уже лилось рекой, стихи застряли на месте: закончить их в этот вечер мне так и не удалось.
— Не беда, до завтрашнего вечера дело терпит, — заверили они меня, — а гонорара, который мы получим за эпитафию, вполне хватит, чтобы еще разок повеселиться. Приходите к нам вечером, надо ведь воздать должное и Гретхен. Собственно, она-то и подала нам эту мысль.
Несказанная радость охватила меня. По дороге домой я сочинял недостающие строфы и прежде, чем лечь спать, записал все стихотворение, а утром переписал его набело. День показался мне невыносимо длинным; едва стемнело, как я уже был в маленькой тесной квартирке подле прелестнейшей девушки.
Молодые люди, с которыми я таким образом все больше сближался, были не то чтобы подлы, но очень уж заурядны. Их усердие заслуживало всяческих похвал, и я не без удовольствия слушал, как они толкуют о всевозможных путях и средствах хоть немножко подзаработать. Но больше всего они любили судачить о некоторых ныне здравствующих богачах, начавших свою карьеру с пустыми руками. Одни, сумев втереться в доверие к своим патронам, в конце концов становились их зятьями, другие умудрялись так расширить и усовершенствовать свою жалкую торговлишку серными нитками и тому подобной дребеденью, что стали богатыми купцами и негоциантами. Мои новые приятели утверждали, что для расторопных молодых людей всего выгодней и доходнее быть маклерами и сподручными, а также бегать по различным поручениям неповоротливых богачей. Каждый из нас охотно слушал такие речи, воображая, что и он малый не промах и сумеет не только пробиться в жизни, но и достичь небывалого счастья. Никто, однако, не вел этот разговор с такой серьезностью, как Пилад, в конце концов признавшийся, что он всем сердцем любит одну девушку и даже помолвлен с нею. Недостаточные средства родителей не позволяют ему поступить в университет, но, обладая хорошим почерком и основательно изучив счетоводство и новые языки, он надеется в скором будущем основать свой семейный очаг. Приятели похвалили его за благие намерения, не одобряя, впрочем, этой преждевременной помолвки, но тут же заметили, что, будучи бравым и честным человеком, он недостаточно Энергичен и предприимчив, чтобы добиться большого успеха. Когда же Пилад, защищаясь от нападок, принялся подробнейшим образом объяснять, что и как он намерен сделать, другие тоже вошли в азарт и стали наперебой говорить о том, на что они способны, чем сейчас заняты, что предпринимают, какой путь уже пройден ими и какой им еще предстоит пройти. Наконец настал и мой черед. Я тоже должен был рассказать, как я живу и какие у меня виды на будущее. Покуда я собирался с мыслями, Пилад заметил:
— Дабы нам не остаться вовсе в дураках, пусть он не принимает в расчет внешних преимуществ своего положения, а лучше сочинит сказку о том, с чего бы он начал, будь он, как мы, всецело предоставлен самому себе.
Гретхен, до этой минуты не отрывавшаяся от прялки, поднялась и села, как обычно, на нижний конец стола. Мы уже успели опорожнить несколько бутылок, и я, не без юмора, принялся излагать свою гипотетическую биографию.
— Прежде всего, — сказал я, — разрешите просить вас сохранить для меня ту клиентуру, которую вы начали доставлять мне. Ежели вы будете вручать мне доход со стихотворений «на случай» и мы не будем весь его тратить на пиры, то я, разумеется, кое-чего добьюсь. Но тогда уж не пеняйте на меня, если я суну нос и в ваше ремесло.
Затем я сказал, какие из их занятий привлекли бы мое внимание и какие я счел бы для себя приемлемыми. Поскольку каждый уже успел оценить свой труд в звонкой монете, я попросил их содействовать и моему благосостоянию. Гретхен внимательно прислушивалась к нашим речам в позе, которая чудо как шла к ней, независимо от того, говорила она или только слушала: скрестив руки на груди, она локтями опиралась в самый краешек стола. Так она умела сидеть подолгу, лишь изредка покачивая головой по тому или иному поводу. Иной раз она вставляла словечко в общий разговор, как бы желая помочь нам, когда мы запутывались в своем прожектерстве, но потом, снова умолкнув, сидела не шевелясь. Я не сводил с нее глаз и, разумеется, все свои предположения строил в расчете на ее внимание, чувство же мое к ней придавало всему, что я говорил, оттенок правдоподобия, осуществимости, так что я сам вдруг начинал верить в свои слова и вправду ощущал себя таким одиноким и беспомощным, каким был в сказке; при этом надежда обладать ею все же делала меня счастливым. Пилад закончил свою исповедь свадебным пиром, а мы задались вопросом, должно ли и нам в наших планах заходить так далеко.
— Разумеется, должно, — произнес я. — В конце концов ведь каждому из нас понадобится жена, чтобы хранить то, что мы столь мудреным путем сколотили, и способствовать нашему наслаждению приобретенным. — Я обрисовал супругу, о которой грезил, и, конечно же, не диво, что она оказалась точным сколком с Гретхен.
Эпитафию мы проели, когда уже чувствовалось благотворное приближение свадебной оды. Я оборол в себе страх и тревогу и благодаря обширным знакомствам в городе сумел скрыть от домашних, где я пропадал по вечерам. Видеть милую девушку, быть подле нее вскоре сделалось для меня насущной потребностью. Но и остальные очень ко мне привыкли, и мы сходились почти ежевечерне, как будто иначе и быть не могло. Между тем Пилад тоже стал приводить в этот дом свою красотку, и молодая парочка делила с нами наши вечерние развлечения. Считая себя женихом и невестой, они нежничали не таясь. Отношение Гретхен ко мне сводилось к уменью держать меня на почтительном расстоянии. Не терпя прикосновений, она никому не подавала руки, и мне тоже, но, случалось, подсаживалась ко мне, чаще всего, когда я писал или читал вслух, и доверчиво клала руку мне на плечо, заглядывая в книгу или в исписанный лист бумаги. Если же подобную вольность позволял себе я, она убегала и не скоро возвращалась назад. Но упомянутую позу все же принимала довольно часто, — может быть, потому, что все ее жесты и движения были однообразны, хотя всегда благовоспитанны, изящны и исполнены очарования. Впрочем, ни с кем она не обходилась доверительнее, чем со мной.
К числу самых невинных и в то же время занимательных прогулок, которые я предпринимал в обществе разных молодых людей, были поездки в Гехст. Мы усаживались в рыночный баркас, приглядывались к разношерстным пассажирам, битком набившим его, заводили разговор с одним или другим, в зависимости от настроения, то добродушно-шутливый, то колкий и насмешливый. В Гехсте, куда в это же самое время прибывал баркас из Майнца, мы сходили на берег. В одном из постоялых дворов хорошо кормили, и пассажиры почище садились за общий стол, чтобы потом продолжать свой путь, ибо оба суденышка вскоре уходили обратно. Пообедав, мы возвращались вверх по течению во Франкфурт, совершив, таким образом, в многолюдном обществе самую дешевую прогулку, которую только можно вообразить. Однажды я пустился в это путешествие вместе с родичами Гретхен. В Гехсте к нам подсел молодой человек немного постарше нас. Они его знали раньше, я же с ним познакомился только сейчас. В нем было что-то очень милое, хотя сколько-нибудь значительным его нельзя было назвать. Приехав из Майнца, он вместе с нами возвратился во Франкфурт и по пути болтал со мной о внутренних делах города, должностях, различных учреждениях, — словом, о вещах, в которых, видимо, был достаточно осведомлен. При прощании он выразил надежду, что я составил себе о нем неплохое мнение и что при случае ему можно будет обратиться ко мне за рекомендацией. Я не понял, что он хочет этим сказать, но два-три дня спустя родичи Гретхен мне все разъяснили. Хорошо о нем отозвавшись, они попросили меня замолвить за него словечко деду, так как сейчас оказалось вакантным скромное место в городском управлении, которое их знакомец хотел бы занять. Поначалу я отказывался, говорил, что сроду не вмешивался в подобные дела, но они так долго меня упрашивали, что я под конец сдался. Кстати сказать, я уже и раньше замечал, что к назначению на должность у нас, к сожалению, нередко относились как в благотворительной акции, и предстательство бабушки или одной из теток нередко оказывало свое действие. Я был уже достаточно взрослым, чтобы приписывать и себе право влиять на такие дела. Посему, в угоду друзьям, сулившим мне вечную признательность за эту услугу, я превозмог свою робость перед дедом и согласился передать врученное мне прошение.
В воскресенье после обеда, когда дед ввиду приближения осени хлопотал в своем саду, а я старался по мере сил помочь ему, я набрался храбрости и высказал ему свою просьбу, присовокупив к ней заготовленное прошение. Он пробежал его глазами и поинтересовался, знаю ли я этого молодого человека. Я рассказал в общих чертах все, что мог, и он этим удовольствовался.
— Ежели у него есть известные заслуги и хорошие рекомендации, то не столько ради него, сколько ради тебя я окажу ему покровительство. — Больше он ни слова не добавил, и я долгое время ничего не слыхал об этом деле.
С некоторых пор я стал замечать, что Гретхен перестала прясть и занималась шитьем, к тому же очень тонкой работы. Это меня тем более удивило, что дни уже быстро шли на убыль и приближалась зима. Впрочем, долго я об этом не раздумывал и только огорчался, что вот уже несколько раз не заставал ее дома по утрам, но, не умея быть назойливым, не мог разузнать, куда она уходит. Вскоре, однако, настал день, когда мне суждено было раскрыть эту тайну. Моя сестра, готовившаяся к балу, попросила меня сходить в модную лавку за так называемыми «итальянскими цветами». Эти изящные, миниатюрные искусственные цветы изготовлялись в монастырях. Особенно красиво и натурально выглядели мирты, а также карликовые розы. Я исполнил просьбу сестры и отправился в лавку, где уже не раз бывал вместе с нею. Не успел я войти и поздороваться с хозяйкой, как в глаза мне бросилась молодая девушка, сидевшая у окна, лицо ее под кружевным чепчиком показалось мне прехорошеньким, а фигура, скрытая шелковой мантильей, очень стройной. Я сразу решил, что это подручная хозяйки, так как она прикрепляла к шляпке ленту и перья. Лавочница поставила передо мной длинную коробку с разнообразнейшими цветами. Рассматривая их, я покосился на девушку у окна и, к вящему своему изумлению, обнаружил в ней разительное сходство с Гретхен, чтобы тут же убедиться, что это Гретхен и есть. Последнее мое сомнение исчезло, когда она глазами приказала мне не выдавать, что мы знакомы. Перерыв все цветы и так ничего и не взяв, я не хуже разборчивой покупательницы поверг в отчаяние хозяйку. Но остановить на чем-нибудь свой выбор я и вправду был не в состоянии, ибо пребывал в крайнем замешательстве; вдобавок моя медлительность позволяла мне подольше пробыть вблизи прелестницы, новое обличье которой, конечно, злило меня, хотя в нем она и казалась мне обольстительнее, чем когда-либо. Лавочница в конце концов вышла из терпенья и сунула мне в руки целую картонку с цветами, чтобы я снес ее сестре и предоставил ей самой выбрать букет себе по вкусу. Итак, меня, можно сказать, выпроводили из лавки, ибо вперед она послала девочку с картонкой.
Едва я переступил порог нашего дома, как меня велел позвать отец, сообщивший мне новость: теперь-де наверняка известно, что эрцгерцог Иосиф будет избран и коронован римским королем. Отец считал, что к столь значительному событию необходимо заранее подготовиться, а не просто пялить глаза, когда оно будет свершаться. Посему он решил вместе со мною подробно просмотреть отчеты о двух предыдущих конклавах и коронациях, а также ознакомиться с обязательствами, принятыми на себя двумя последними избранниками, чтобы установить, какие новые условия будут прибавлены к прежним. Итак, мы раскрыли старые отчеты и весь день до глубокой ночи провели за тщательным их изучением. Но сколько я ни углублялся в важнейшие установления Священной Римской империи, перед моими глазами нет-нет да и всплывал образ хорошенькой девушки, то в скромном домашнем платьице, то в новом наряде. Этим вечером мне так и не удалось ее увидеть, и я всю ночь провел в тревожной бессоннице. Наутро мы продолжили наши вчерашние труды, и я лишь под вечер изыскал возможность посетить мою красотку, на сей раз одетую в привычное домашнее платье. Завидев меня, она улыбнулась, но я при посторонних, конечно же, не дерзнул хотя бы намекнуть на нашу странную встречу. Когда все мирно расселись по своим местам, Гретхен сказала:
— Нехорошо таить от нашего друга то, что мы решили в последние дни. — И она тут же мне сообщила, что наш давешний разговор о том, как добиться чего-нибудь в жизни, имел продолжение, и кто-то сказал, что и девушка может найти применение своим способностям и трудолюбию. На это один из двоюродных братьев заметил, что Гретхен могла бы попытать счастья у модистки, — той как раз требуется помощница. С хозяйкой модной лавки удалось договориться: Гретхен будет ежедневно к ней приходить и за это получать приличное вознаграждение, но ей придется, из уважения к предприятию, сидеть в лавке принаряженной, с тем, однако, чтобы снимать перед уходом этот наряд, нисколько не отвечающий ее скромным обстоятельствам и образу жизни. У меня отлегло от сердца, хотя мне и не слишком понравилось, что хорошенькая девушка сидит в людном месте, куда захаживают щеголихи и щеголи. Но я ничем не выдал своей тревоги, стараясь молча побороть ревнивые опасения. Впрочем, младший из братьев не дал мне времени на долгую борьбу с собою. Он предложил написать новое стихотворение «на случай» и, ознакомив меня с житейскими обстоятельствами заказчиков, потребовал, чтобы я незамедлительно взялся за дело. Он уже не первый раз выспрашивал меня о том, как следует браться за выполнение таких поэтических заданий. А так как я охотно откликался на подобные расспросы, то он с легкостью добивался от меня подробнейших разъяснений касательно риторических ходов в такого рода стихотворениях, получая общее представление об интересующем его жанре, подкрепленное рядом примеров, которые я почерпал из своей собственной практики, а также из произведений других поэтов. У парня была светлая голова, но начисто отсутствовала поэтическая жилка. На сей раз, однако, он входил в такие подробности, так вникал во все детали стихотворства, что я невольно воскликнул:
— Похоже, что вы сами хотите заняться этим делом и отбить у меня мою клиентуру!
— Не буду отпираться, — ответил он, улыбаясь. — Но это вам не в урон. Вы ведь скоро поступите в университет, а до тех пор уж разрешите мне кое-чему у вас поучиться.
— Что ж, охотно, — согласился я и тут же ему предложил набросать план, выбрать размер сообразно характеру предмета и сделать все остальное. Он ретиво приступил к деду, но ничего у него не получалось. В конце концов мне пришлось столько переписывать и переделывать, что уж проще было бы все написать самому. Тем не менее эти учебные упражнения, мое менторство и совместная работа нас всех позабавили. Гретхен принимала участие в наших занятиях и, случалось, находила удачный оборот, — словом, все мы были довольны, пожалуй, даже счастливы. Днем она работала в модной лавке, вечерами мы обычно собирались вместе, и наше приятное времяпрепровождение не нарушалось даже тем прискорбным обстоятельством, что охотников до стихотворений «на случай» больше почти не находилось. Огорчило нас лишь то, что однажды такое стихотворение было возвращено нам в сопровождении сердитого письма — заказчику оно не понравилось. Впрочем, мы быстро утешились, решив, что это лучшая из наших работ, а заказчик ровно ничего в ней не смыслит. Парень, жаждавший хоть чему-то научиться, стал изобретать воображаемые заказы, выполнение которых нас по-прежнему развлекало, но не приносило никаких доходов, отчего наши пирушки сделались значительно скромнее.
Меж тем все ближе надвигалось великое государственное событие — избранно и коронация римского короля. Намеченное на октябрь 1763 года собрание курфюрстов в Аугсбурге было перенесено во Франкфурт, и в конце этого и в начале следующего года у нас шли приготовления к предстоящей высокоторжественной акции. Начало празднествам положила никогда не виданная нами процессия. Один из канцелярских чинов, верхом на коне, в сопровождении четырех конников-трубачей, а также пеших стражников, отчетливо оглашал на всех углах города пространный эдикт, уведомлявший граждан о близящемся торжестве и призывавший их к достойному и приличествующему случаю поведению. В городском совете происходили оживленные дебаты, и в скором времени уже прибыл имперский квартирмейстер, посланный наследственным маршалом, чтобы, согласно старому обычаю, подыскать и отметить квартиры для послов, посланников и их свиты. Наш дом числился за курпфальцским посольством. Мы снова ждали постоя, на сей раз более приятного. Средний этаж, который некогда занимал граф Торан, был предназначен для курпфальцского вельможи, а верхний — для барона фон Кенигсталя, полномочного представителя Нюрнберга, так что мы оказались еще более стеснены, чем при французах. Для меня все это было только желанным предлогом большую часть дня проводить на улице, ибо я не хотел ничего упустить из происходящего.
После того как мы с интересом осмотрели преображенные и по-новому обставленные помещения ратуши, после того как один за другим прибыли посланники и затем, 6 февраля, состоялся их первый совместный и весьма торжественный въезд, нам еще довелось поглазеть на прибытие императорских комиссаров в Рёмер, совершавшееся с превеликой помпой. Достойная личность князя фон Лихтенштейна произвела на всех благоприятнейшее впечатление, хотя старожилы и утверждали, что роскошные ливреи его свиты однажды уже были в употреблении при другой оказии и что эти торжества все равно вряд ли сравнятся с блистательной коронацией Карла Седьмого. Но мы, молодые люди, были довольны и тем, что видели сейчас своими глазами: нас все приводило в изумление, все казалось прекрасным.
Собрание избирательного конвента было наконец-то назначено на 3 марта. Новые церемониальные обряды привели в волнение весь город, и из-за обмена визитами посланников мы целые дни проводили на ногах. К тому же нам было велено не просто глазеть, а хорошенько все примечать, для того чтобы дома отдать полный отчет в происходящем, по возможности даже в письменном виде; последнее придумали отец и господин фон Кенигсталь, чтобы и мы не бездельничали, и они были в курсе всех событий. Мне эта затея и вправду пошла на пользу — в своем дневнике я живо запечатлел всю внешнюю сторону церемониала избрания и коронации.
Из депутатов, лучше других мне запомнившихся, упомяну прежде всего первого посланника курфюрста Майнцского, впоследствии ставшего курфюрстом, барона фон Эрталь. Не отличаясь эффектной внешностью, он все же выглядел очень внушительно в своей мантии, богато отороченной кружевами. Второй посланник, барон фон Грошлаг, внешне несколько мешковатый, но в высшей степени благовоспитанный светский человек, производил отрадное впечатление своими прекрасными манерами. Затем богемский посол князь Эстергази, роста чуть ниже среднего, но отлично сложенный, всегда оживленный и все же благородно-изысканный, без тени высокомерия и холодной чопорности. Мне он особенно нравился, так как во многом напоминал маршала Брольо. Но все внешние и духовные качества этих достойных мужей заметно меркли в глазах предвзятых франкфуртцев, питавших особое пристрастие к бранденбургскому послу, барону фон Плото. Выделявшийся скромностью — в собственной одежде, в ливреях своих слуг, в отделке экипажей, — он стяжал себе славу дипломата-героя еще со времени Семилетней войны. Когда в Регенсбурге нотариус Априль в присутствии нескольких свидетелей попытался вручить ему грамоту об опале, постигшей его короля, он, воскликнув: «Как? Грамоту об опале?» — то ли спустил, то ли велел спустить его с лестницы. Мы крепко верили в первое — и потому, что нам так больше нравилось, и потому, что мы считали этого низкорослого крепыша с черными огненными глазами вполне способным на подобный поступок. Все взоры устремлялись на него, когда он выходил из экипажа; в толпе пробегал радостный шепоток, казалось, она вот-вот разразится громкими «виват!» и «браво!». Так были взысканы милостью толпы, состоявшей уже не только из франкфуртцев, но и жителей многих других немецких земель, король и преданные ему душой и телом слуги.
С одной стороны, я тешился всем происходящим: ведь так или иначе, но то, что здесь совершалось, таило в себе глубокий смысл и, хорошо ли, плохо ли, свидетельствовало о сохранившихся в какой-то мере внутренних связях; в символических церемониях и обрядах, казалось, на краткий срок воскресает былая Германская империя, почти уже погребенная под грудой пергаментов, булл и ученых трактатов. Но, с другой стороны, придя домой и садясь за составление отчетов о нескончаемых переговорах, я не мог избавиться от тягостного сознания, что здесь, блюдя равновесие, противостоят друг другу разнородные враждующие силы, согласные лишь в одном — в общем стремлении ограничить нового правителя еще больше, чем его предшественников, и готовые употребить все свое влияние только на то, чтобы закрепить и приумножить свои привилегии и отстоять свою независимость. На сей раз они еще больше сосредоточились на этих усилиях, так как начинали побаиваться своенравия Иосифа Второго, подозревая его в далеко идущих замыслах.
У моего деда и других членов городского совета, в домах которых мне случалось бывать, тоже было по горло хлопот с устройством для знатных гостей приемов с подношениями. Вдобавок магистрат в целом и отдельные его члены были вынуждены непрестанно обороняться, протестовать, оказывать сопротивление, ибо в такой суматохе каждый стремился что-то с него сорвать или что-то навязать ему, а все, к кому он взывал о помощи, от него отворачивались. Словом, я как бы воочию видел славных представителей городского совета из Лерснеровой хроники, что в подобных же случаях несли бремя своих обязанностей со столь же удивительным долготерпением и редкостной выдержкой.
Немало досадных недоразумений возникало еще и оттого, что город постепенно наполнялся нужным и ненужным пришлым людом. Городское управление тщетно напоминало гостиницам и постоялым дворам о предписаниях Золотой буллы, конечно, давно уже устаревших. Не только представители других земель и их спутники, но и многие сановные и несановные лица, приехавшие во Франкфурт по своим ли делам или из любопытства, находили себе покровителей, и таким образом вопрос: кому город должен предоставить квартиру, а кто должен сам ее снимать, сразу никогда не решался. Суматоха росла, и даже те, кто, собственно, ничего не должен был предпринимать и ни за что не был в ответе, изнемогали от тревог и волнений.
Как ни молоды мы были, но наше зрение и фантазия далеко не всегда удовлетворялись происходящим. Испанские плащи, большие шляпы с перьями на головах посланников и прочий реквизит как будто и сообщали городу сугубо старинный вид, но, с другой стороны, многое было так ново и современно, что получалась пестрая, неприглядная, иногда даже безвкуснейшая мешанина. Поэтому мы не на шутку обрадовались, услыхав, что начались последние приготовления к встрече императора и будущего короля и что работа коллегии курфюрстов, в основу которой была положена процедура последнего избрания, заметно оживилась, и день выборов наконец-то назначен на 27 марта. Теперь была на очереди доставка государственных регалий из Нюрнберга и Ахена, и уже ожидалось прибытие курфюрста Майнцского, хотя пререкания с его посольством касательно размещения свиты все еще продолжались.
Усердно занимаясь дома своими отчетами, я походя знакомился с целым рядом пожеланий, которые следовало бы учесть при составлении новых предвыборных обязательств. Каждое сословие добивалось, чтобы сей документ закрепил за ним былые права и приумножил его значение. Но многие из этих пожеланий и требований были попросту положены под сукно, подателей же неудовлетворенных прошений поспешили учтивейше заверить, что непринятие таковых не равносильно окончательному отказу и может быть исправлено в будущем. Меж тем множество кляузных дел не давало покоя имперской маршальской части. Число приезжих непрестанно возрастало, расквартировать их не было уже никакой возможности; вдобавок все еще не была достигнута договоренность относительно границ участков, отведенных различным курфюрстам. Магистрат стремился избавить горожан от тягот, нести которые они не были обязаны, отчего ежечасно, днем и ночью, возникали споры, недоразумения, неприятности и размолвки.
Но вот курфюрст Майнцский прибыл наконец 21 марта. Его встретили пушечными залпами, нередко оглушавшими нас и в последующие дни. Этот акт, в ряду прочих церемоний, имел немаловажное значение: все, кого мы до сих пор видели, как бы высоко они ни стояли, были только подчиненными лицами, теперь же впервые, сопутствуемый подобавшей ему большою свитой, держал свой въезд независимый властитель, первый человек после императора. Я мог бы многое рассказать о пышности этой церемонии, если б не намеревался ниже еще раз вернуться к ней, и притом по поводу, о котором читателю не так-то легко догадаться.
Надо же было случиться, что в тот же день, проездом из Берлина к себе на родину, во Франкфурте побывал и знаменитый Лафатер, тем самым став очевидцем происходивших у нас празднеств. Хотя внешние проявления мирской жизни не представляли для него ни малейшего интереса, но торжественный въезд курфюрста, обставленный с такою пышностью, прочно запечатлелся в его живом воображении. Как бы то ни было, но много лет спустя этот превосходный, хотя очень своеобычный человек прочитал мне пересказ одной сцены, кажется, из откровений апостола Иоанна, и я тут же заметил, что он описал пришествие антихриста, образ за образом, шаг за шагом, черту за чертой — в точном соответствии со въездом во Франкфурт курфюрста Майнцского, не упустив даже султанов на его буланых лошадях. Об этом еще придется поговорить поподробнее, когда я коснусь эпохи той диковинного вида поэзии, с помощью которой надеялись приблизить мифы Старого и Нового заветов к нашим представлениям и чувствам, полностью перенеся таковые на почву современности и обрядив библейских героев в обычные для нас костюмы, будь то костюмы светских кавалеров или простолюдинов. Такая обработка религиозных мифов вскоре завоевала известную популярность, но об этом я расскажу в дальнейшем, сейчас же только замечу, что никто не довел этой карикатурной тенденции до столь явной крайности, как Лафатер и его ближайшие единомышленники: один из них до того модернизировал въезд трех царственных волхвов в город Вифлеем, что было нетрудно догадаться, кого именно из князей и вельмож, посещавших Лафатера, имел в виду незадачливый автор.
Но оторвемся на время от курфюрста Эммериха-Иосифа; пусть себе пребывает в Компостеле, так сказать, инкогнито, мы же вновь обратимся к Гретхен, которую я заметил на улице в компании Пилада и его красотки, как только толпа немного схлынула (с недавних пор эти трое были неразлучны). Едва мы сошлись и обменялись приветствиями, как тут же порешили все вместе провести этот вечер. В условленный час я встретился с прочими участниками наших сборищ. У каждого нашлось, что рассказать, заметить, вспомнить: того поразило одно, другого — другое.
— Ваши речи, — прервала рассказчиков Гретхен, — меня сбивают с толку пуще всех событий последних дней. Мне никак не связать всего, что я видела. Как было бы хорошо, если бы кто-нибудь объяснил мне, что к чему.
Я заметил, что мне ничего не стоит оказать ей эту услугу, пусть только скажет, что́ всего более ее интересует. Она так и сделала. Я принялся объяснять ей то да се, но тут же понял, что лучше все рассказать по порядку. То, как протекали эти торжества и церемонии, я сравнил довольно метко с театром, где занавес может быть произвольно опущен в любое время, хотя актеры еще продолжают играть; затем занавес опять поднимают, и зритель на некоторое время вновь становится участником событий. Так как я бывал очень многоречив, когда никто тому не препятствовал, то и пересказал им все от начала и по сегодняшний день, а для большей наглядности еще схватил грифель и стал иллюстрировать свою речь набросками на аспидной доске. Слушатели лишь изредка прерывали меня вопросами или небольшими поправками, и я благополучно закончил свою лекцию, тем более что меня подбодряло неусыпное внимание Гретхен. Под конец она премило меня поблагодарила, сказав, что завидует всем, кто разбирается в таких вещах и знает, как и почему все совершается в мире. Ей бы очень хотелось быть мальчиком, добавила она и дружелюбно заметила, что обязана мне многими ценными сведениями.
— Будь я мальчиком, — повторила она, — мы бы с вами вместе учились в университете и чего-чего бы только не узнали.
Разговор продолжался в том же тоне, и Гретхен заявила, что непременно будет учиться французскому языку, так как в модной лавке ей без него не обойтись. Я спросил, почему она больше там не бывает. Дело в том, что мне в последнее время не всегда удавалось по вечерам отлучаться из дому и я, надеясь хотя бы днем увидеть ее на мгновение, нередко прохаживался мимо ее лавки. Она отвечала, что в это беспокойное время не хочет сидеть там. Когда в городе вновь водворится прежняя тишь и гладь, она думает туда вернуться.
Потом речь зашла о предстоящем дне избрания. Я и тут сумел отличиться, подкрепляя свой пространный рассказ о том, как все это будет совершаться, рисунками на аспидной доске: ведь помещение конклава со всеми его алтарями, тронами, креслами и скамейками я знал как свои пять пальцев. Мы расстались не поздно и в наилучшем расположении духа.
Ничто так не сближает молодую чету, гармонически созданную друг для друга природой, как любознательность девушки и готовность юноши поделиться с нею своими знаниями. Отсюда возникает глубокая и радостная связь: она видит в нем творца своего духовного мира, он же в ней — созданье, обязанное своим совершенством не природе, не случаю и не одному лишь чувственному влечению, а их обоюдной воле. Такое взаимное воздействие двух душ полно неизъяснимой сладостности, и никого уже не удивляет со времен старого и нового Абеляра, что такие встречи двух существ порождают величайшую страсть, которая приносит столько же счастья, сколько и горя.
Уже на следующий день в городе царило неимоверное оживление, так как происходил обмен визитами, обставлявшийся с особой пышностью. Меня, однако, как франкфуртского гражданина, особенно интересовало и всего сильнее заставляло работать мою мысль принесение присяги городским советом, военными и бюргерами, и притом не через представителей, а каждым самолично, сиречь целой толпой. Сначала в большом зале Рёмера присягал магистрат и штабные офицеры, затем, на большой площади Рёмерберг, все бюргерство, квартал за кварталом, по рангам, чинам и званиям, и, наконец, воинские части. Здесь можно было окинуть одним взглядом все население города, собравшееся для почетной цели — возвестить главе империи и его присным безопасность и нерушимое спокойствие при предстоящем торжественнейшем акте. Собственной персоной прибыли курфюрсты Трирский и Кельнский. В канун высокого дня все чужеземцы были удалены из города, ворота закрыты, евреи заперты в своем квартале. Франкфуртские граждане имели право гордиться: только они сподобились чести быть свидетелями великого торжественного акта.
До сих пор все протекало по-современному: высокие и высочайшие особы передвигались в экипажах, но теперь мы видим их, по обычаю старины, верхом на конях. Стечение народа и толкотня принимают невиданные размеры. Я так долго шнырял по Рёмеру, что знал его не хуже, чем мышь свой амбар, и пробился-таки к главному входу, перед которым курфюрсты и послы, подъехавшие в роскошных каретах, как раз пересаживались на увешанных всевозможными украшениями, статных, отлично выезженных коней под богато расшитыми чепраками. Курфюрст Эммерих-Иосиф, красивый, дородный мужчина, превосходно выглядел на коне. Двух других я почти не помню или помню только то, что их пурпурные, подбитые горностаем мантии, какие мы раньше видели разве что на картинах, производили весьма романтическое впечатление. Послы отсутствующих светских курфюрстов в златотканых, расшитых золотом и украшенных золотыми кружевами испанских костюмах были тоже бесподобны; и до чего же великолепно развевались на их старинных широкополых шляпах огромные перья! Единственное, что резало мне глаз, это короткие, вполне современные штаны, белые шелковые чулки и туфли по последней моде. Насколько же больше подходили бы к этому платью золоченые полусапожки, сандалии или что-нибудь в этом роде.
Посол фон Плото и здесь выделялся среди прочих своей манерой держаться. Веселый и оживленный, он, по-видимому, не слишком-то благоговел перед этим церемониалом. Когда шедший впереди него пожилой господин не сумел сразу вскочить в седло, чем несколько задержал его у главного входа, фон Плото громко рассмеялся и тут же мигом вскочил на подведенного ему коня, заставив зрителей снова признать его достойным представителем Фридриха Второго.
Но тут опять для нас все скрылось за опустившимся занавесом. Мне, правда, удалось протиснуться и в собор, но там я не столько насмотрелся, сколько намучился. Избиратели удалились в алтарь якобы для последнего совещания, но и тут пространные церемонии подменили собою обстоятельные размышления. После долгого ожидания, давки и шарахания из стороны в сторону народ наконец услышал имя Иосифа Второго, провозглашенного римским королем.
Приток чужеземцев в город возрастал час от часу. Все расхаживали и разъезжали в парадном платье, так что под конец мы уже обращали внимание разве что на сплошь золотые наряды. Император и король прибыли в Гейзенштам, замок графов Шёнборн, где им был оказан торжественный и радушный прием. Город же отмечал великое событие благодарственными молебнами всех вероисповеданий, литургией и проповедями, а мирские власти заглушали благоговейное «Te deum»[13] непрестанной пушечной пальбою.
Если рассматривать все эти празднества как единое, глубоко продуманное художественное произведение, ему немногое можно было бы поставить в упрек. Все было отлично подготовлено. Начавшиеся относительно скромно публичные церемонии с каждым днем становились все более пышными и многолюдными. Все важнее выглядели знатные особы, все великолепнее нескончаемый их поезд и свита, так что у самых спокойных, подготовленных зрителей разбегались глаза.
Въезд курфюрста Майнцского, от подробного описания которого я тогда воздержался, был столь внушителен и великолепен, что даже трезвым наблюдателям представлялся каким-то пришествием вселенского царя. Я тоже был положительно ослеплен этим зрелищем. Но наивысшего напряжения наше ожидание достигло при вести, что император и будущий король приближаются к городу. В некотором удалении от Саксенгаузена был разбит шатер, в котором собрался весь магистрат, чтобы поднести ключи от города и воздать почести главе империи. Подальше, на прекрасной просторной равнине, стоял другой, еще более пышный шатер; там курфюрсты, послы и посланники дожидались августейших путников, свитские же расположились вдоль всей дороги, чтобы позднее, когда подойдет их черед, примкнуть к процессии и двинуться вместе с ней и направлении города. Император подъехал и, выйдя из кареты, вошел в шатер; курфюрсты и посланники, приняв его с благоговейной почтительностью, вскоре ретировались, чтобы, согласно заведенному порядку, проложить путь верховному владыке.
Мы остались в городе, полагая, что всем этим великолепием лучше насладимся в его стенах, чем в открытом поле; некоторое время мы забавлялись разглядыванием наших сограждан, выстроившихся шпалерами вдоль улиц, а также прибывающей толпой, непристойностями и шутками, отпускавшимися вокруг, покуда звон колоколов и гром пушек не возвестили нам, что император приближается. И как же тешило сердца франкфуртцев то, что в присутствии стольких суверенов наш славный имперский город был как бы и сам неким сувереном! Шествие открывал франкфуртский шталмейстер, за ним шли верховые кони в попонах, на которых красовался герб Франкфурта — белый орел на красном поле, далее — служивый люд и мелкие чиновники, барабанщики и трубачи, депутаты и пешие слуги городского совета в ливреях города. За ними — три отряда гражданской кавалерии, с детства знакомые нам по торжественным встречам, проводам и прочим публичным действам. Мы гордились этой честью сознавая, что на каждого из нас падает хотя бы стотысячная доля суверенитета, явившегося нам сейчас во всем своем великолепии. Свиты имперского наследственного маршала и шестерых послов светских курфюрстов шагом ехали за своими повелителями. В каждой из них насчитывалось не менее двадцати человек и двух придворных карет, а в некоторых и побольше. Свиты духовных курфюрстов были еще многочисленнее, слугам и придворным чинам, казалось, конца не будет; за курфюрстами Кельнским и Трирским тянулось двадцать карет, за курфюрстом Майнцским едва ли не вдвое больше. Слуги, пешие и конные, в богатейших платьях, духовные и светские господа в экипажах, тоже разодетые в пух и прах — при всех орденах и регалиях. Свита императорского величества, как и следовало ожидать, превосходила пышностью всех и вся. Берейторы, кони, ведомые под уздцы, — их сбруи, чепраки и попоны привлекали все взоры; шестнадцать парадных карет шестернею, принадлежавших императорским камергерам, тайным советникам, обер-камергеру, обер-гофмейстеру, обер-шталмейстеру, блистательно замыкали ту часть шествия, которая, несмотря на свое великолепие, являлась лишь его передовым отрядом.
Но вот ряды стали все более уплотняться по мере того, как возрастала знатность и блеск участников процессии. В сопровождении личных слуг, в большинстве своем пеших, но также и конных, проехали послы-избиратели и курфюрсты собственной персоной, каждый в роскошной придворной карете. Сразу же после проезда курфюрста Майнцского десять императорских скороходов, сорок один придворный лакей и восемь гайдуков возвестили о приближении августейших особ. Великолепнейшая карета, с задней стенкой из цельного зеркального стекла, украшенная резьбой, росписью, позолотой и лакировкой, внутри обитая златотканым алым бархатом, позволяла рассмотреть давно ожидаемых императора и короля во всем их величии. Императорский поезд двигался кружным путем, отчасти чтобы иметь возможность развернуться во всю длину, отчасти же чтобы дать бо́льшему количеству народа поглядеть на монархов. Из Саксенгаузена поезд по мосту проследовал на Фаргассе, оттуда спустился по Цейле и повернул во внутренний город, проехав через ворота святой Катарины, некогда и впрямь бывшие воротами, но позднее, по мере расширения города, ставшие открытым проездом. По счастью, франкфуртцы сообразили, что внешнее великолепие вот уже много лет как разрастается и ввысь и вширь. Произведя тщательный обмер, у нас пришли к выводу, что в эти ворота, через которые уже не раз въезжали и выезжали князья и императоры, нынешней императорской карете не проехать, не ободравши резьбы и прочих украшений. Хорошенько пораскинув мозгами, отцы города решили во избежание неудобного объезда поднять мостовую и устроить слегка покатый съезд. С этой же целью у всех лавок и лавчонок, расположенных на пути императорского поезда, были сорваны навесы, дабы они, упаси боже, не зацепили кареты и не нанесли вреда орлу или гениям.
Как мы ни таращили глаза на высоких особ, по мере того как к нам приближался сей драгоценный сосуд с не менее драгоценным содержимым, наши взоры сами собой приковывались к великолепным коням в сбруях с густым позументом. Но более всего нас поразили внушительные фигуры кучера и форейтора, восседавших верхом на конях. В своих долгополых кафтанах из черного и желтого бархата, в шляпах с пышными султанами, по обычаю императорского двора, они словно бы явились из другой страны, вернее — из другого мира. Но в это время процессия стала уже такой тесной, что глаз больше не воспринимал частностей. Швейцарские гвардейцы по обеим сторонам кареты, наследственный маршал с высоко поднятым саксонским мечом в правой руке, фельдмаршалы верхами, возглавлявшие императорскую гвардию, что шла непосредственно за каретой императора, целая толпа пажей и, наконец, лейб-гвардия в черных бархатных кафтанах, по швам обшитых золотыми галунами, надетых на красные полукафтаны, и в светлых камзолах, тоже богато расшитых золотом. От непрерывного глазения, показывания, объяснений головы у нас шли кругом, так что мы уже почти не обратили внимания на не менее роскошно одетую лейб-гвардию курфюрстов. Возможно, мы даже отошли бы от окон, если бы не любопытствовали взглянуть на наш магистрат, в пятнадцати пароконных экипажах замыкавший нескончаемый поезд, и прежде всего на писца городского совета, ехавшего в последней карете с ключами от города на красной бархатной подушке. Весьма почетным нам представлялось и то, что городская гренадерская рота прикрывала шествие. Словом, как немцы и франкфуртцы мы были довольны и даже счастливы в этот торжественный день.
Мы устроились в доме, мимо которого вновь должна была пройти вся процессия по выходе из собора. Богослужение, музыка, торжественные церемонии, зачитывание документов и напутственные речи в соборе, на клиросе и в конклаве — все это заняло столько времени, что до присяги избирательного капитула мы отлично успели перекусить и осушить несколько бутылок вина за здравие монархов — старого и молодого. Разговор, как часто бывает в пору больших общественных событий, зашел о прежних временах, кои большинство наших пожилых сотрапезников, конечно же, предпочитало нынешним, хотя бы потому, что люди тогда были сердечнее и принимали более страстное участие в совершающемся событии. При коронации Франца Первого все не было так точно заранее подготовлено и предусмотрено, как сейчас: мир еще не был заключен, Франция, а также курфюршества Бранденбургское и Пфальцское противились избранию; войска будущего императора стояли под Гейдельбергом, где находилась главная квартира, и жители Пфальца едва не захватили государственные регалии, когда их везли из Ахена. Правда, в результате переговоров эту историю до известной степени замяли. Мария-Терезия, хоть она и находилась в ожидании, прибыла, чтобы лично присутствовать на долго откладывавшейся коронации своего супруга. В Ашаффенбурге она пересела на яхту для следования во Франкфурт. Франц, выехавший из Гейдельберга навстречу супруге, опоздал и явился в Ашаффенбург, когда она уже отбыла. Неузнанный, он садится в какой-то челн и спешит за нею, догоняет ее судно, и любящая пара радуется столь необычному воссоединению. Слух о нем распространяется немедленно, и весь мир с участием следит за нежной четой, щедро благославленной потомством, неразлучной с самого дня свадьбы и как-то раз даже просидевшей в карантине на венецианской границе во время совместного путешествия из Вены во Флоренцию. Марию-Терезию восторженно встречают в городе; она останавливается и гостинице «Римский император», тогда как для ее супруга приготовлен шатер на Борнгеймском поле. Там его ждет из духовных курфюрстов только курфюрст Майнцский и депутаты светских курфюрстов — Саксонского, Богемского и Ганноверского. Начинается церемония въезда, и если ей кое в чем недостает продуманности и великолепия, то это с лихвой возмещается присутствием прекрасной женщины. Стоя на балконе удобно расположенного дома, она хлопает в ладоши и криками «виват!» приветствует своего супруга; народ восторженно вторит ей. Поскольку великие мира сего тоже люди, бюргер воображает их себе подобными и старается их полюбить. Это дается ему без труда, коль скоро он может представить себе высоких особ любящими супругами, заботливыми родителями, добрыми родственниками и верными друзьями. В ту коронацию монархам желали всех благ и пророчили счастье; и вот сегодня эти пророчества сбывались: все сердца тянулись к их первенцу, потому что он был молод, хорош собою и исполнен высоких душевных качеств, вселявших радостные надежды.
Мы с головою ушли в прошлое и будущее, когда внезапно вошедшие друзья возвратили нас к настоящему. Они были из тех, что умеют ценить новости и всегда спешат первыми возвестить их. Вот и теперь мы услышали рассказ об одной прекрасной человеческой черте высоких особ, только что проследовавших мимо нас в столь пышном окружении. Оказывается, было договорено, что по дороге, в лесу, между Гейзенштаммом и большим шатром, император и король встретятся с ландграфом Дармштадтским. Этот старец, одной ногой уже стоявший в могиле, желал еще раз увидеть государя, служению которому некогда посвятил свою жизнь. Оба, вероятно, хотели вспомнить тот день, когда ландграф отвез в Гейдельберг декрет курфюрстов, провозглашавший Франца императором. К благодарности за драгоценные дары, полученные от нового государя, он тогда присовокупил заверение в своей нелицеприятной преданности. Высокие особы стояли в ельнике; ландграф, едва державшийся на ногах, прислонился к стволу. Оба были растроганы. Этот лесок впоследствии сделался своего рода заповедным местом, и мы, молодежь, иной раз его посещали.
Проведя несколько часов в воспоминаниях о былом и в обсуждении нового, мы вновь увидели торжественную процессию, тянувшуюся мимо нас, правда уже не столь многолюдную, что дало нам возможность лучше разглядеть и запомнить отдельные лица.
С этой минуты город находился в непрестанном движении, так как все, кому надлежало или хотелось представиться августейшим особам и засвидетельствовать им свое почтение, шли и ехали туда и обратно, и мы могли в подробностях разглядеть каждого из господ, причастных к свите высоких гостей, собравшихся в нашем городе.
Наконец прибыли имперские регалии. Но, видно, чтобы и в этом случае не было недостатка в традиционных распрях, регалии до поздней ночи застряли в открытом поле из-за нерешенного вопроса об охране таковых и территориальной тяжбы между курфюршеством Майнцским и нашим городом. Город пошел на уступки: майнцскому конвою было разрешено сопровождать регалии вплоть до шлагбаума, но не далее.
В эти дни мне так и не пришлось опомниться. Дома я писал и переписывал свои отчеты, а видеть хотелось, да и следовало, решительно все. В такой суматохе прошел март, вторая половина которого была отмечена для нас пышными празднествами. Я обещал Гретхен составить подробный и точный отчет о недавних торжествах и предстоящем дне коронации, который был уже не за горами. Меня предпочтительно занимало, как я буду ей рассказывать, а не что ей, собственно, расскажу; все, что мне попадалось на глаза или на кончик моего канцелярского пера, я немедля перерабатывал для этой ближайшей и единственной цели. Наконец настал вечер, когда я в довольно поздний час явился к ней, радуясь еще по пути тому, что мой нынешний отчет будет значительно лучше импровизированного. Но, как известно, неожиданность порой приносит больше радости, чем подготовленный и хорошо продуманный эффект. И на этот раз я застал здесь все то же общество, но еще и несколько человек, мне незнакомых. Все они вскоре уселись за карточный стол. К аспидной доске прошли со мною только Гретхен и младший из братьев. Славная девочка, она премило заметила, что ей, уроженке других мест, было очень приятно пользоваться во время торжеств теми же правами, какими пользовались жительницы Франкфурта, и таким образом не упустить ничего из этого единственного в своем роде зрелища. Она выразила мне также горячую благодарность за то, что я о ней позаботился и заблаговременно уведомил ее через Пилада, что ей повсюду обеспечен доступ, благодаря раздобытым мною билетам, моим дружеским связям и протекциям.
Наибольшее удовольствие ей доставил рассказ об имперских сокровищах. Я пообещал, что мы, если удастся, вместе пойдем смотреть их. Гретхен сделала два-три шутливых замечания, узнав, что молодому королю уже примеряли коронационные одежды и корону. Я знал, откуда она будет смотреть на торжество коронации, и вкратце рассказал ей, на что следует обратить особое внимание и что всего лучше будет видно с ее места.
За этими разговорами мы позабыли о времени. Между тем было уже за полночь, когда я собрался уходить и, как на грех, обнаружил, что не взял с собою ключа от дома. Войти в дом, не перебудив всех, было невозможно. Я сказал Гретхен о своем затруднении.
— Что ж, — отвечала она, — ничего плохого тут нет, по крайней мере, компания не расстроится и мы всю ночь просидим вместе. — Как оказалось, та же мысль уже пришла на ум и ее родичам, так как они не знали, где устроить на ночь своих приехавших издалека гостей. Решено было, что мы остаемся. Гретхен ушла было варить кофе, но, заметив, что свечи догорают, вернулась с большой медной лампой, заправленной плававшим в масле фитилем.
Кофе подбодрило нас на часок-другой, но постепенно все стали клевать носом, разговор иссяк, мать заснула в кресле, незнакомцы, устав с дороги, прикорнули где попало. Пилад со своей красоткой забились в угол. Она дремала, положив голову ему на плечо; он тоже недолго бодрствовал. Младший из братьев, сидевший напротив нас за столом с аспидной доской, спал, уткнувшись носом в скрещенные на столе руки. Я сидел у окна, а Гретхен рядом со мной. Мы тихонько переговаривались. Наконец, и ее сморил сон; она склонила головку мне на плечо и уснула. Итак, я один бодроствовал в этом странном положении, покуда добрый братец смерти не смилостивился и надо мной. Я проснулся, когда было уже совсем светло. Гретхен стояла перед зеркалом и оправляла свой чепчик; со мной она обошлась ласковее, чем когда-либо, и, прощаясь, сердечно пожала мне руку. Я прокрался к дому окольным путем, ибо со стороны Малого Оленьего Оврага отец, к неудовольствию нашего соседа, велел проделать в брандмауере маленькое оконце. Мы никогда не возвращались с этой стороны, если не хотели, чтобы он нас заметил. Всегдашняя моя заступница, мать, объяснила мое отсутствие за утренним чаем ранней прогулкой, и посему никаких неприятностей из-за этой невинной ночи для меня не воспоследовало.
Вообще-то весь разнообразный мир, меня обступивший, я воспринимал, так сказать, чересчур просто. Я не знал других интересов, кроме наблюдений за внешней стороной событий, других занятий, кроме возложенных на меня отцом и господином фон Кенигсталем, каковые, правда, помогали мне глубже проникнуть во внутреннюю суть происходящего. Не было у меня и других привязанностей, кроме Гретхен, или каких-либо других желаний, кроме желания все хорошенько разглядеть и потом пересказать и объяснить ей увиденное. Иной раз, когда мимо меня проходила процессия, я уже бормотал себе под нос мое будущее описание, стремясь не упустить ни единой подробности, лишь бы заслужить похвалу моей красавицы — одобрения других были для меня не более как довеском.
Правда, меня представляли многим высоким и знатным особам, но, во-первых, в те дни никто не имел времени подумать о другом, и, во-вторых, взрослые не всегда умеют подойти к молодому человеку и толком в нем разобраться. Впрочем, и я не очень умел показать себя с выгодной стороны и потому заслуживал скорее их благосклонность, нежели одобрение. То, чем я занимался, я усваивал до конца, но никогда я не задавался вопросом, представляет ли все это интерес и для других. Я бывал то не в меру оживлен, то уж очень тих, и в зависимости от того, привлекали меня мои собеседники или отталкивали, а потому меня считали пусть подающим надежды, но все-таки чудаком.
Наконец настал день коронации — 3 апреля 1764 года. Погода благоприятствовала празднеству, и весь народ пришел в движение. Мне вместе с нашими родственниками и несколькими друзьями было предоставлено место в самом Рёмере, на одном из верхних ярусов, оттуда все было отлично видно. Мы спозаранку отправились туда и сверху, так сказать, с птичьего полета, смотрели на приготовления, вчера еще виденные нами вблизи. Внизу под нами был устроен фонтан с двумя огромными чанами, справа и слева; большой двуглавый орел, водруженный на постамент, изливал из одного клюва красное, из другого — белое вино. Подальше была насыпана целая куча овса, напротив стояла сколоченная из досок хижина, в которой вот уже несколько дней на гигантском вертеле, укрепленном над раскаленными угольями, жарили истекавшего жиром быка. Все входы в Рёмер, а также выходы на прилегающие улицы были загорожены с двух сторон и охранялись стражниками. Большая площадь постепенно наполнялась народом, толкотня и движение в толпе все росли, так как люди бросались то в одну, то в другую сторону, где происходило или ожидалось нечто новое и интересное.
При всем этом над площадью стояла относительная тишина, и когда ударил набат, народ, казалось, застыл в изумлении и трепете. Взгляды тех, кто мог сверху обозревать площадь, прежде всего приковал к себе двигавшийся по направлению к Рёмеру поезд с имперскими регалиями, которые везли представители Ахена и Нюрнберга. Священные эти предметы возлежали на переднем месте в карете, депутаты же — на почтительном расстоянии от них — занимали заднее сиденье. Вот три курфюрста уже проследовали в собор. После вручения регалий курфюрсту Майнцскому корона и меч немедленно отвозятся на императорскую квартиру. Обряды и всевозможные церемонии продолжают занимать главных действующих лиц, равно как и всех присутствующих в церкви, о чем нам, посвященным, заранее известно.
На наших глазах послы проехали в Рёмер, откуда вышли унтер-офицеры с балдахином, который и понесли на императорскую квартиру. Тотчас же вскочил на коня наследственный маршал, граф фон Паппенгейм, красивый стройный мужчина, которому к лицу был испанский наряд — богато расшитый камзол, золотая мантия, высокая шляпа с перьями на длинных, развевающихся волосах. Он трогает коня, и за ним под трезвон всех колоколов к императорской квартире направляется кавалькада посланников, еще более пышная, чем в день избрания. Хочется, конечно, побывать и там, но нельзя же разорваться на части. Вместо этого мы начинаем рассказывать друг другу о том, что там, предположительно, происходит. Вот император уже облачается в кесарские бармы — новый наряд, по точному образцу облачения Каролингов. Наследственные чины, приняв имперские регалии, садятся на коней. То же самое делают император в своем облачении и римский король в испанском платье; покуда все это совершается, головная часть растянувшейся процессии уже поравнялась с нами.
Глаз так утомлен толпою богато одетых прислужников, чиновников разных ведомств и горделиво выступающих дворян, что когда послы-избиратели, наследственные чины и, наконец, под пышным балдахином, несомым двенадцатью старшинами и членами городского совета, император в романтическом одеянии и ошую, чуть поодаль, его сын в испанском костюме словно бы вплыли в поле нашего зрения на медленно ступающих конях, мы уже с трудом воспринимаем это зрелище. Как бы хорошо чудодейственным заклинанием хоть на миг остановить прекрасное явление, но царственный поезд неудержимо уходит вдаль, а освободившееся пространство немедленно заливают волны народа.
Почему-то опять начинается толчея и давка: со стороны рынка открывают новый проход к Рёмеру и устанавливают помост, по которому двинется процессия по выходе из собора.
О том, что происходило в соборе, о нескончаемых церемониях, предварявших и сопровождавших миропомазанье, коронацию и посвящение в рыцари, мы впоследствии с удовольствием выслушивали рассказы тех, кто пожертвовал многими другими зрелищами, чтобы там присутствовать.
Мы же тем временем, не сходя с места, ели свой скромный завтрак, ибо в этот торжественнейший из дней должны были довольствоваться холодными кушаниями. Зато все прихватили с собой самое старое вино из семейных погребов и, по крайней мере, хоть в этом отношении по-старинному отпраздновали старинное празднество.
Между тем всеобщее внимание на площади стал привлекать помост, покрытый красным, желтым и белым сукном. Теперь нам предстояло увидеть императора, ранее виденного в карете и затем верхом на коне, идущим пешком. И странное дело, последнее радовало нас пуще всего: такое его появление перед народом казалось нам самым естественным и достойным.
Пожилые люди, бывшие на коронации Франца Первого, рассказывали, будто красавица из красавиц Мария-Терезия смотрела на это торжество с балкона дома Фрауенштейнов, что рядом с Рёмером. Когда ее супруг в столь необычном наряде вышел из собора, представ перед нею как бы призраком Карла Первого, и шутя поднял обе руки, показывая ей державу, скипетр и свои странные перчатки, она разразилась долгим смехом, обрадовавшим и растрогавшим всех зрителей: ведь народ сподобился увидеть простые, сердечные отношения супружеской четы, первейшей в христианском мире. Когда же императрица стала махать платком, приветствуя своего супруга, и громко крикнула «виват!», восторгу и ликованию народа, казалось, не будет предела — радостные клики долго не смолкали над площадью.
Но вот колокольный звон и передовые длинного шествия, неторопливо вступившие на пестрый помост, возвестили нам, что все уже свершилось. Внимание зрителей напряглось более, чем когда-либо. Мы же тем лучше могли сейчас разглядеть процессию, которая направлялась прямо на нас. Как и всю заполненную народом площадь, мы видели ее отчетливо, словно бы на плане. Только что в конце уж слишком тесно сгрудилось великолепие, ибо посланники, наследственные чины, император и король под балдахином, трое духовных курфюрстов, примкнувших к поезду, одетые в черное бургомистры и советники, тканое золото балдахина — все слилось воедино и, в своей роскошной гармонии, как бы управлялось единой волей, чтобы под звон колоколов предстать перед нами некоей осиянной святыней.
Политически-религиозным торжествам присуща большая прелесть. Мы воочию видим земное величие в окружении символов своего могущества склонившимся перед величием небесным. Тем самым оно как бы являет нам единство того и другого. Ведь и отдельный человек познает и доказывает свою родственность божеству, лишь покорствуя ему и поклоняясь.
Ликующие крики, донесшиеся со стороны рынка, подхватила толпа на большой площади. Неистовое «виват!» грянуло из тысяч и тысяч глоток и стольких же, надо думать, сердец. Ведь этот великий праздник в глазах народа был залогом длительного мира, каковой и вправду на долгие годы установился в Германии.
Еще за несколько дней было во всеуслышание объявлено, что ни помост, ни орел над фонтаном не будут, как прежде, отданы на произвол толпы: никто не должен к ним прикасаться. Сделано это было, чтобы предотвратить несчастные случаи, неизбежные при подобных неистовствах. Но ничего не принести в жертву разрушительным инстинктам черни все же не сочли возможным, а посему несколько специально отряженных людей, идя вслед за процессией, снимали сукно с помоста, скатывали его и высоко подбрасывали в воздух. Это привело хоть и не к беде, но к весьма комическому происшествию: дело в том, что сукно развернулось в воздухе и, упав, накрыло немалое число людей. Те, кому удалось схватить его за концы, тянули его к себе и сбивали с ног оказавшихся посередке, последние запутывались еще хуже и, стремясь выбраться, прорывали или прорезали сукно, так что большинство уносило с собой лишь лоскутки, освященные стопами монархов.
Я недолго смотрел на эту дикую потеху и поспешил по разным лесенкам и переходам спуститься со своей вышки вниз на большую лестницу Рёмера, по которой должна была подняться вся знатная и великолепная толпа, до сих пор виденная нами лишь издали. Большой давки не было, ибо все входы в ратушу хорошо охранялись, и я благополучно пробрался наверх к железным перилам. Теперь главные действующие лица, поднимаясь по лестнице, проходили мимо меня, свита же шла по нижним сводчатым переходам; лестница имела три поворота, так что я мог со всех сторон рассмотреть проходящих, под конец даже на совсем близком расстоянии.
Но вот поднялись по лестнице и оба монарха. Отец и сын одеты одинаково, словно Менехмы. Парадное одеяние императора из пурпурного шелка, усыпанное жемчугом и драгоценными камнями, а также корона, скипетр и держава слепят глаза. Все новое, но исполненное с большим вкусом и точно воспроизводящее старинное императорское одеяние. Движения императора свободны и непринужденны, на прямодушном важном лице доброе выражение отца и величественное — императора. Молодой король, напротив, едва тащится в своих тяжких бармах, усыпанных драгоценностями Карла Великого: он кажется ряженым и, время от времени посматривая на отца, не может удержаться от улыбки. Корона, которую пришлось подбить толстой подкладкой, словно крыша с навесом, возвышается на его голове. Далматика и стола, как ни хорошо они скроены и прилажены, тоже не имеют достойного вида. Скипетр и держава были восхитительны, но нельзя отрицать, что их хотелось бы видеть в руках человека более мощного, которому лучше пристали бы бармы и королевская мантия.
Едва врата большого зала закрылись за августейшими особами, как я ринулся на свое прежнее место и не без труда спровадил какого-то малого, уже успевшего на него усесться.
Сейчас была самая пора занять место перед окном, ибо удивительнейшее из того, что предстояло увидеть, должно было вот-вот свершиться. Весь народ повернулся к Рёмеру, и новые крики «виват!» известили нас о том, что император и король в своих торжественных облачениях показались народу в балконном окне большого зала. Но не они одни давали сейчас представление, перед их глазами тоже разыгрывался редкостный спектакль. Начался он с того, что красивый и стройный наследственный маршал вскочил на коня; меча при нем больше не было, в правой руке он держал серебряную мерку, в левой — жестяной совок. Он направил коня меж загородок к куче овса, сунул в нее совок, насыпал мерку с верхом, сровнял овес рукою и величаво повернул назад. Считалось, что императорская конюшня теперь обеспечена овсом. Засим в тот же угол направился на своем коне наследственный камергер и вернулся с серебряным рукомойником, кувшином и полотенцем. Но еще занятнее показался зрителям наследственный стольник, явившийся за куском жареного быка. Держа серебряное блюдо в руке, он проехал к дощатой кухне и, накрыв его крышкой, проложил себе дорогу обратно в Рёмер. Затем настал черед наследственного виночерпия, подскакавшего к фонтану, чтобы набрать вина. Императорский стол теперь был снабжен, и все глаза устремились на наследственного казначея, который должен был разбрасывать монеты. Он тоже сел на статного коня, к седлу которого вместо кобур для пистолетов были приторочены два роскошных кошеля с вышитыми на них гербами Пфальца. Едва тронув коня, он запустил руки в эти сумы и стал щедро сыпать направо и налево золотые и серебряные монеты, взблескивавшие в воздухе веселым металлическим дождем. Тысячи рук мгновенно метнулись вверх, ловя императорские дары, а стоило монетам упасть, как толпа бросалась на землю и начиналась свалка. Поскольку все это повторялось по мере того, как казначей ехал дальше, зрители немало повеселились. Наивысшей точки суматоха и свалка достигли, когда он бросил на землю и самые кошели, ибо кому же не хотелось завладеть наивысшим призом? Монархи удалились с балкона. Сейчас вновь должна была быть принесена жертва толпе, при таких оказиях предпочитавшей добывать дары силой, чем принимать их со спокойной благодарностью. В старые, суровые и грубые времена существовал обычай тут же на месте отдавать народу овес, после того как наследственный маршал взял свою долю; фонтан и кухню, после того как взяли, что им положено, наследственный виночерпий и стольник. И хотя на сей раз во всем старались соблюсти порядок и меру, старинные злостные шутки все же имели место. Стоило, например, одному взвалить себе на спину мешок овса, как другой прорезал в нем дырку, и тому подобное. А из-за жареного быка, как встарь, разыгралось целое побоище. Взять его можно было только целиком. Два цеха — мясников и кабатчиков, согласно традиции, несли караул возле него, так что только кому-нибудь из них и могло достаться гигантское жаркое. Мясники числили за собой преимущественное право на быка, ибо неразрубленным приволокли его на кухню, кабатчики же основывали свои притязания на том, что кухня была построена вблизи их цехового помещения, а также на том, что в прошлую коронацию победа осталась за ними, в память о чем из зарешеченного окна дома цеховых собраний и по сю пору торчали рога добытого с бою быка. Оба цеха были достаточно многолюдны, а люди в том и в другом достаточно дюжи. За кем на этот раз осталась победа, я запамятовал.
Но поскольку подобные празднества обычно заканчиваются каким-то опасным и страшным происшествием, мы и теперь пережили поистине жуткие минуты, когда народ стал разносить в щепы дощатую кухню. На крыше ее вдруг оказалось множество людей, неизвестно как туда взобравшихся; они срывали доски и швыряли их вниз. Издали казалось, что они вот-вот обрушатся на головы непрерывно умножавшейся толпы. Крыша была сорвана в мгновение ока, несколько человек раскачивалось на стропилах и балках, силясь вырвать их из пазов; многие продолжали суетиться наверху, в то время как опоры были снизу уже подпилены, остов здания качался то в одну, то в другую сторону, грозя вот-вот рухнуть. Те, что почувствительнее, спешили отвернуться, народ, замирая, ждал беды. Никто, однако, не изувечился, и, несмотря на азарт и применение грубой силы, все сошло благополучно.
Заранее было известно, что император и король проследуют из кабинета, в который они ушли с балкона, в большой зал Рёмера, где и будут обедать. Уже накануне мы дивились приготовлениям к трапезе, и моей заветной мечтой было сегодня хоть одним глазком заглянуть туда. Посему я по своей уже проторенной дорожке пробрался на большую лестницу, ведущую прямо к дверям зала. Здесь мне и вправду удалось поглядеть на знатных вельмож, призванных сегодня служить за столом главе империи. Мимо меня, великолепно одетые, прошли сорок четыре графа, пронося кушанья из кухни, и контраст их общественного положения со службой, которую они сейчас несли, не мог не смутить чувства мальчика. Особой толчеи здесь не замечалось, но из-за небольших размеров помещения все же было тесновато. У дверей зала стояли стражники, но услужающие непрестанно входили и выходили. Я подошел к одному пфальцскому прислужнику и спросил, не сможет ли он провести меня в зал. Не долго думая, он сунул мне в руки один из серебряных сосудов, благо я был прилично одет, и вот я оказался в святая святых. Пфальцский буфет был сооружен слева у самой двери, и, сделав несколько шагов, я уже стоял на его ступеньке по ту сторону загородки.
На противоположном конце зала возле окон на возвышении восседали под балдахинами император и король в парадных одеждах. Корона и скипетр лежали на золотых подушках чуть поодаль, за спинками тронов. Трое духовных курфюрстов уже заняли места возле буфетов своих курфюршеств, на отдельных подиумах: курфюрст Майнцский — напротив их величеств, Трирский — одесную от них и Кельнский — ошую. Вся эта верхняя часть зала выглядела так величественно и прекрасно, что сама собою напрашивалась мысль: духовенство стремится по мере возможности долго быть заодно с государем. И напротив, роскошно убранные, но почти безлюдные столы и буфеты светских курфюрстов напоминали о распре, в течение столетий назревавшей между ними и главой империи. Их послы уже удалились для трапезы в соседний малый зал, и потому значительная часть большого зала производила призрачное впечатление: столы ломились от яств, словно бы предназначенных для невидимых гостей. Большой незанятый стол посредине выглядел еще печальнее: грустно стояли на нем пустые приборы, а все, кто имел право сидеть за ними, не желая поступиться и в этот торжественный день хотя бы долей своего почетного положения, отсутствовали, хотя и находились в стенах города.
Усиленно предаваться размышлениям мне не позволял ни мой возраст, ни буйный натиск происходящего. Я старался ничего не упустить из поля зрения и, когда был подан десерт и послы, как положено, возвратились в зал, выбежал, чтобы по соседству подкрепиться у добрых друзей после полдневного поста и приготовиться к вечерним иллюминациям.
Я надумал премило провести этот блистательный вечер и условился с Гретхен, Пиладом и его милой где-нибудь встретиться с наступлением темноты. Город уже сиял огнями, когда я наконец на них наткнулся. Я взял Гретхен под руку, и мы пошли от квартала к кварталу, чувствуя себя очень счастливыми. Поначалу ее родичи сопровождали нас, но потом затерялись в толпе. Дома некоторых посланников были так иллюминированы (особенно отличилось курфюршество Пфальцское), что на улице пред ними было светло, как днем. Желая остаться неузнанным, я основательно изменил свой костюм, и Гретхен решила, что это новое обличье мне к лицу. Мы с восторгом смотрели на удивительные фигуры и огненные феерические здания, которыми один посол старался перещеголять другого. Однако всех превзошел граф Эстергази. Вся наша маленькая компания пришла в восторг от его изобретательности и вкуса, но только мы собрались предаться рассмотрению отдельных подробностей, как откуда ни возьмись появились родичи и стали наперебой рассказывать нам о том, как великолепно иллюминирован дом бранденбургского посланника. Не убоявшись длинного пути от Конного рынка до Заальгофа, мы немедленно туда отправились и уже на месте убедились, что нас самым злостным образом разыграли.
Заальгоф со стороны Майна кажется стройным и солидным зданием, но задний его фасад, обращенный к городу, очень стар, бесформен и невзрачен. Маленькие окна разной величины и разной формы, проломленные не в один ряд и разделенные неравными расстояниями, несимметрично расположенные ворота и двери, нижний этаж, почти целиком отданный под мелочные лавчонки, — все это, вместе взятое, создает достаточно неприглядную картину, на которую обыкновенно никто и не смотрит. И вот теперь каждое окно, каждая дверь, каждое отверстие архитектурно случайного, бесформенного и бессвязного здания было окружено плошками, что, разумеется, могло бы красиво выглядеть на гармонически построенном доме, но здесь самым немыслимым образом заливало огнями уродливейший и нелепейший фасад. Над этим, пожалуй, можно было бы посмеяться, как над шуткой паяца, правда, довольно сомнительной, ибо каждому в ней виделось нечто преднамеренное. Все ведь и раньше подсмеивались над внешними повадками вообще-то уважаемого и любимого народом фон Плото, который, точь-в-точь как его король, иронически относился ко всем пышным церемониям. Одним словом, мы предпочли возвратиться в волшебное царство Зетергази.
Высокий сановник, дабы достойно почтить этот день, пренебрег своим неблагоприятно расположенным домом и предпочел разукрасить липовую аллею на Конном рынке разноцветным порталом, а в глубине еще более роскошной галереей. Все очертания были обведены сиявшими плошками. Меж деревьев высились световые пирамиды и шары на прозрачных пьедесталах; от дерева к дереву тянулись гирлянды покачивавшихся висячих фонариков. Там и здесь народу раздавали хлеб и колбасы, да и вина было вдоволь.
Здесь мы с превеликим удовольствием прогуливались вчетвером, и, идя бок о бок с Гретхен, я воображал себя в полях Элизиума, где с деревьев свисают хрустальные сосуды, которые по твоему желанию наполняются любым вином, и падают плоды, превращающиеся в любое кушание. Под конец мы и вправду проголодались и, предводительствуемые Пиладом, разыскали весьма недурной трактир. Других гостей там не было, так как все толклись на улицах, и мы просидели в трактирном зале чуть не целую ночь, взволнованные и счастливые своей любовью, дружбой и взаимной симпатией. Когда я довел Гретхен до дверей ее дома, она поцеловала меня в лоб. В первый и последний раз мне была оказана эта милость, ибо больше мне не суждено было с нею встретиться.
На следующее утро я еще лежал в постели, как вдруг вошла моя мать, растерянная и перепуганная. Она не умела скрывать свои тревоги.
— Вставай, — сказала она, — и будь готов к неприятностям. Стало известно, что ты спознался с дурной компанией и замешан в одно прескверное и весьма опасное дело. Отец вне себя, мы насилу его уговорили разобраться в этой истории с помощью третьего лица. Оставайся пока в своей комнате и жди, что будет. К тебе придет советник Шнейдер — по поручению не только отца, но и властей. К следствию уже приступили, и дело может принять самый дурной оборот.
Я сразу понял, что делу придали большее значение, чем оно того заслуживало, но волновался при одной мысли, что доищутся до истинного положения вещей.
Наконец старый «мессианский» друг вошел ко мне; в его глазах стояли слезы. Он тронул меня за плечо и сказал:
— Мне душевно жаль, что я пришел к вам по такому поводу. Никогда не думал, что вы собьетесь с правого пути. Вот что делает дурная компания и дурной пример; молодого, неопытного человека это может довести до преступления.
— Я никакого преступления за собой не знаю, — отвечал я, — и не считаю, что вращался в дурной компании.
— Сейчас речь идет уже не об оправданиях, — перебил он меня, — а о следствии и чистосердечном признании с вашей стороны.
— Что вы желаете знать? — спросил я.
Он сел, вынул лист бумаги и начал меня допрашивать.
— Не вы ли рекомендовали своему деду господина NN в качестве кандидата на некую должность?
— Да, — отвечал я.
— Где вы познакомились с ним?
— На прогулке.
— Позвольте узнать, в каком обществе?
Я запнулся, ни в коем случае не желая выдавать своих друзей.
— Молчанием делу не поможешь, — продолжал Шнейдер, — ибо все уже достаточно известно.
— Что, собственно, известно? — поинтересовался я.
— Что этот человек был вам представлен такими же проходимцами, как он, а именно… — И он назвал имена трех человек, которых я знать не знал, о чем и поспешил ему заявить.
— Вы говорите, что не знаете этих людей, а между тем вы часто встречались с ними!
— Ничего подобного, — возразил я, — кроме первого, названного вами, я никого не знаю, да и с ним ни в одном доме не встречался.
— Часто ли вы бывали на N-ской улице?..
— Никогда, — отрезал я, что не вполне соответствовало истине. Однажды я проводил Пилада к его возлюбленной, которая жила на этой улице, но вошли мы через черный ход, а потом сидели в беседке. Потому я и позволил себе сказать, что не бывал там.
Добрый старик задал мне еще ряд вопросов, на которые я был вправе ответить отрицательно: обо всем, что он хотел узнать, я и впрямь ничего не знал. Наконец его, видно, разобрала досада, и он сказал:
— Вы недостаточно вознаграждаете меня за мое доверие и добрую волю; я пришел, чтобы спасти вас. Не станете же вы отрицать, что писали письма для этих людей или их сообщников, что-то даже сочиняли и таким образом способствовали их мошенническим проделкам. Я пришел, чтобы вас спасти, ибо речь идет ни больше и ни меньше как о подделке подписей, подложных завещаниях, фальшивых долговых обязательствах и тому подобном. И пришел не только в качестве друга дома, но от имени и по приказанию властей, которые, во внимание к вашему семейству и вашей молодости, намерены пощадить вас и еще нескольких юношей, подобно вам завлеченных в сети этими мошенниками.
Я отметил про себя, что среди поименованных им людей не было как раз тех, с кем я встречался. Обстоятельства дела хоть и соприкасались, но в точности не совпадали, и я еще надеялся выгородить своих юных друзей. Между тем славный старик все настойчивее меня выспрашивал. Я не мог отрицать, что частенько возвращался домой поздно ночью, что сумел раздобыть себе ключи от дома, что меня не раз видели в увеселительных заведениях с лицами подозрительного вида и низшего сословия. Словом, все оказалось известно, кроме имен, а потому, набравшись храбрости, я стойко хранил молчание.
— Не дайте мне уйти от вас ни с чем, — сказал мой верный и старый друг, — дело это не терпит отлагательств; после меня все равно придет другой и уже не позволит вам вилять. Так не усугубляйте же своим упорством и без того скверную историю!
Тут я живо представил себе добродушных двоюродных братцев, но прежде всего, конечно, Гретхен. Я уже видел, как ее арестовывают, подвергают допросу, видел ее наказанной и опозоренной, и вдруг меня как молния пронзила мысль, что ее пресловутые братцы, хоть они вели себя со мной вполне порядочно, все же могли впутаться в нехорошие дела, но всяком случае — старший, никогда мне не нравившийся: он всегда приходил домой поздно и все, что он рассказывал, носило какой-то сомнительный характер. Но я по-прежнему медлил с признанием.
— Ничего дурного я за собой не знаю, — сказал я наконец, — и с этой стороны мне тревожиться не о чем, но, разумеется, не исключено, что люди, с которыми я водился, повинны в дерзких и противозаконных поступках. Пусть их найдут, уличат и накажут, я пока что ни в чем себя упрекнуть не могу и не хочу огульно возводить вину на тех, что всегда со мною хорошо и дружелюбно обходились.
Он не дал мне договорить и взволнованно воскликнул:
— Да, их найдут! Эти негодяи собирались попеременно в трех домах. — (Он назвал улицы и указал дома, среди них, увы, был и тот, в который я так часто захаживал.) — Первый притон уже обнаружен, — продолжал он, — а сейчас добираются и до двух остальных. Через несколько часов все будет ясно. Прошу вас, избавьте себя чистосердечным признанием от судебного разбирательства, очной ставки и как там еще зовутся все эти гнусные процедуры.
Так: дом уже найден и назван. Дальнейшее молчание мне показалось теперь излишним; вдобавок я считал наши встречи настолько невинными, что надеялся своими показаниями принести пользу не столько себе, сколько им.
— Присядьте, пожалуйста, — воскликнул я, возвращая старика от двери, — я все расскажу вам и сниму тяжесть со своего и вашего сердца; прошу вас лишь об одном: с этой минуты не сомневаться в моей правдивости.
И я стал рассказывать нашему другу, как все это было, поначалу спокойно и сдержанно, но по мере того, как в моей памяти вставали люди, события, обстоятельства, по мере того, как я словно тащил в уголовный суд любую невинную радость, любую нашу забаву, мне становилось все тяжелее; я разрыдался и впал в необузданное отчаяние. Старик, надеясь, что тайна вот-вот ему откроется — ибо он принял мои страдания за симптом того, что, в борьбе с собою, я сейчас-то и сделаю страшное признание, — старался, как мог, меня успокоить, лишь бы поскорее добраться до истины. Успокоился я лишь отчасти, то есть настолько, чтобы кое-как досказать свою историю. Но он, хоть и остался доволен невинным характером наших встреч, до конца мне все же не верил; продолжая меня выспрашивать, он снова довел меня до ярости и отчаяния. В конце концов я ему заявил, что мне нечего больше сказать, что я ничего не страшусь, ибо уверен в своей безвинности, происхожу из хорошей семьи и заслужил себе доброе имя. Но ведь возможно, что и мои знакомцы столь же безвинны, только что их не считают таковыми и никто им не покровительствует. «Если к ним не отнесутся так же снисходительно, как ко мне, — воскликнул я, — не посмотрят сквозь пальцы на совершенные ими глупости и не простят их; если с ними обойдутся жестоко и хоть пальцем их тронут, я наложу на себя руки, и в этом никто мне не помешает». Старый друг все силился меня успокоить, но я ему уже не верил и после его ухода остался в ужаснейшем состоянии. Теперь я упрекал себя в излишней откровенности и в том, что пролил свет на ряд обстоятельств. Я предвидел, как превратно будут истолкованы наши ребяческие поступки, юношеские симпатии и доверительные беседы, и опасался, что невольно запутал в это дело добряка Пилада и буду причиной его страданий. Все эти мысли, теснясь в моей голове, обостряли и бередили мою боль; вне себя от горя, я бросился на пол и оросил его горячими слезами.
Не знаю, как долго я пролежал в этой позе, когда вошла моя сестра. Она ужаснулась моему виду и приложила все усилия, чтобы меня поднять и успокоить. Она сказала, что чиновник из магистрата внизу у отца дожидался возвращения нашего друга, что они некоторое время просидели запершись и потом вышли с довольными лицами, продолжая разговор и даже посмеиваясь. Ей показалось, что она расслышала слова: «Ну что ж, отлично! Все это дело гроша ломаного не стоит».
— Конечно, не стоит, — вскочил я как ужаленный, — для меня, для нас: я ничего преступного не сделал, а если бы и сделал, уж меня бы сумели как-нибудь выгородить. Но они-то, они! Кто им поможет?
Сестра утешала меня довольно вескими доводами: раз уж захотят спасти людей привилегированных, то будут смотреть сквозь пальцы и на проступки других. Но я ее почти не слышал. И как только она ушла, снова предался отчаянию: в моем воображении былые картины любви и страсти сменялись картинами ужасного настоящего, возможных бедствий… Я рассказывал себе небылицу за небылицей, видел вокруг одни только несчастья, обрушивая все мыслимые горести на Гретхен и на себя.
Добрый наш друг велел мне оставаться в своей комнате и ни с кем, кроме домашних, не пускаться в обсуждение случившегося. Я не спорил, мне и вправду лучше было быть одному. Мать и сестра время от времени заходили ко мне и всячески старались меня приободрить. Уже на второй день они явились с вестью, что отец, лучше ознакомившись с делом, готов полностью меня амнистировать. Я принял это с благодарностью, но на предложение вместе с ним отправиться смотреть имперские регалии, выставленные на всеобщее обозрение, ответил решительным отказом, заявив, что знать ничего не хочу о Римской империи и вообще ни о чем на свете, покуда не услышу, как окончилось для моих друзей это злосчастное дело, мне уже ничем не грозившее. На это они ничего не сумели ответить и оставили меня в покое. Тщетно пытались мои родные вытащить меня из дому в ближайшие дни и подвигнуть на участие в общественных торжествах. Ни гала-церемонии, ни те, которыми отмечались многочисленные сословные повышения, ни даже открытый обед императора и короля — ничто меня не трогало! Пусть курфюрст Пфальцский хоть собственной персоной будет служить за столом императора и короля, пусть государи наносят визиты курфюрстам, созывают последнее заседание курфюрстов, дабы покончить с еще нерешенными вопросами, пусть курфюрсты повторно скрепляют взаимный договор меж собою — ничто не могло меня вывести из скорбного уединения. Сколько ни трезвонили колокола в день, когда император проследовал на благодарственный молебен в церковь капуцинов и отбыл наконец в сопровождении курфюрстов из Франкфурта, я так и не ступил за порог своей комнаты. Последняя канонада, как ни была она оглушительна, не заставила меня даже вздрогнуть, а когда рассеялся пороховой дым и замерли отголоски пушечного грома, вся торжественность и все великолепие разом выветрились из моего сердца.
Единственной моей утехой было без конца пережевывать свое горе и тысячекратно умножать его в воображении. Вся моя способность к вымыслу, моя поэзия и риторика сосредоточились на этой болезненной точке и, благодаря своей жизненной силе, грозили моей плоти и душе неизлечимой болезнью. В этом печальном состоянии я ни к чему не стремился и ничего не желал. Лишь порою меня охватывало страстное желание знать, что́ происходит с моими бедными друзьями и любимой Гретхен, что́ выяснилось на следствии, признаны ли они соучастниками преступления или объявлены невиновными. Все эти вопросы разрастались в моем воображении до неимоверных размеров, но ответ на них был неизменен — они невинны и очень несчастны. Порою я жаждал выйти из неизвестности и писал резкие, угрожающие письма нашему старому другу, заклиная его не таить от меня ход злополучного дела, но тотчас же рвал их — из страха обрести печальную уверенность и тем самым лишиться обманчивого утешения, которое то укреплялось во мне, то снова меня оставляло, ввергая в бездну отчаяния.
Дни и ночи я проводил в нестерпимой тревоге, в ярости и в изнеможении, так что почувствовал себя даже счастливым, когда меня окончательно свалила физическая болезнь, настолько сильная, что моим родителям пришлось послать за врачом и серьезно подумать, как и чем меня успокоить. Стремясь меня утешить, они клятвенно заверяли, что ко всем, так или иначе замешанным в этом деле, власти относятся с возможной снисходительностью, что ближайшие мои друзья признаны почти невиновными и отпущены после небольшого внушения. Гретхен же по доброй воле уехала из нашего города к себе на родину. С последним сообщением они долго медлили, а я принял его без всякой радости, ибо этот будто бы добровольный отъезд тотчас же представился мне позорным изгнанием. Мое физическое и душевное состояние от такой вести ничуть не улучшилось; напротив, болезнь обострилась, и у меня теперь вдосталь хватало времени мысленно плести причудливый роман и терзать себя неизбежностью его трагической развязки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости.
КНИГА ШЕСТАЯ
Итак, я сам то способствовал, то препятствовал своему выздоровлению. И ко всем прочим моим горестным чувствам присоединилось еще и тайное раздражение: я давно уже заметил, что за мной исподтишка наблюдают, что, вручая мне запечатанные письма, настороженно смотрят, какое действие они на меня оказали, спрятал ли я их или оставил лежать на столе, и тому подобное. Посему во мне зародилось подозрение, что Пилад, кто-нибудь из родичей Гретхен или даже она сама пытались подать мне весть о себе или получить таковую от меня. Теперь я был уже не только убит горем, но еще и озлоблен, снова терялся в догадках и выдумывал самые диковинные сплетения обстоятельств.
Немного спустя ко мне приставили еще и особого соглядатая. По счастью, это был человек, которого я любил и почитал; он служил гувернером в доме наших друзей, но бывший его воспитанник уже поступил в университет. Он частенько навещал меня в моем печальном затворе, и в конце концов родители решили, что, пожалуй, будет лучше всего отвести ему комнату рядом с моей, чтобы он мог развлекать меня, успокаивать и кстати уж — я это сразу понял — не спускать с меня глаз. Так как я всей душой был к нему привержен, да и раньше поверял ему многое — только не свои чувства к Гретхен, — то я решил быть с ним вполне откровенным, тем паче что мне всегда было невыносимо находиться в натянутых отношениях с человеком, живущим со мною под одним кровом. Не долго думая, я все поведал ему и отвел душу рассказом о малейших подробностях моего былого счастья; он же, будучи умным человеком, понял, что лучше сообщить мне, ничего не скрывая, об исходе всей этой истории, чтобы я себе уяснил все происшедшее. Далее он принялся горячо и проникновенно убеждать меня в необходимости взять себя в руки, поставить крест на прошлом и начать новую жизнь. Прежде всего он открыл мне, кто были те молодые люди, которые поначалу пустились в рискованные мистификации, затем стали своими дурачествами нарушать полицейские установления и дошли, наконец, до хитроумно-веселых вымогательств и прочих противозаконных проделок. Таким образом и впрямь возникло нечто вроде тайного общества, к которому примкнули люди без совести и чести, запятнавшие себя подделкой бумаг, фальсификацией подписей и подготовлявшие еще большие уголовно наказуемые преступления. Родичи Гретхен, о которых я со страстным нетерпением спросил его, оказались невиновными, и если и были знакомы с упомянутыми людьми, то никак не являлись их сообщниками. Мой случайный знакомый, которого я рекомендовал деду, — что, кстати сказать, и навело на мой след, — был в этом деле одним из коноводов; он, как выяснилось, и должности-то добивался главным образом для того, чтобы затевать и покрывать разные мошенничества. Узнав все это, я уже не мог больше сдерживаться и спросил, что же сталось с Гретхен, признавшись заодно в своем глубоком чувстве к этой девушке. В ответ мой друг покачал головой и улыбнулся.
— Успокойтесь, — сказал он, — она с честью вышла из испытания и как нельзя лучше себя зарекомендовала. Ничего, кроме хорошего, о ней сказать нельзя. Даже господа следователи отнеслись к ней весьма благосклонно и не смогли отказать ей в разрешении уехать из города, чего она сама добивалась. То, что эта девушка показала о вас, мой милый, тоже делает ей честь; я сам читал в деле показания, скрепленные ее подписью.
— Подписью? — вскричал я. — Эта подпись сделала меня беспредельно счастливым и столь же несчастным. Что же она показала? Под чем подписалась?
Он помедлил с ответом, но по веселому выражению его лица я понял, что мне не придется услышать ничего дурного.
— Если хотите знать, — наконец проговорил он, — то когда речь зашла о вас и ваших встречах с нею, она откровенно сказала: «Не буду отрицать, что я часто и охотно его видела, но всегда смотрела на него как на ребенка и питала к нему сестринские чувства. Иной раз я давала ему добрые советы и не только не толкала его на двусмысленные проделки, но, напротив, удерживала от неосторожных поступков, которые могли бы вовлечь его в неприятности».
Устами моего друга Гретхен все еще продолжала говорить докторальным тоном гувернантки, но я его уже не слушал. То, что она перед лицом судейских чиновников назвала меня ребенком, ужасно меня уязвило, и я, казалось, разом исцелился от страсти к ней; более того, я стал заверять моего друга, что теперь со всем этим покончено. И правда, я больше не говорил о ней, не произносил даже ее имени и только не мог отвыкнуть от дурной привычки думать о ней, мысленно рисовать себе ее облик, движения, все ее повадки, теперь, конечно, представлявшиеся мне в ином свете. Мысль, что девушка, всего на какие-нибудь два-три года меня постарше, отнеслась ко мне как к ребенку, тогда как я уже считал себя бывалым парнем, была мне нестерпима. Холодная сдержанность ее обращения, прежде так меня распалявшая, сделалась мне противна, фамильярности, которые она иной раз себе позволяла, запрещая мне отвечать ей тем же, — ненавистными. Но все это бы еще с полбеды, не подпишись она под моим любовным посланием, что было форменным свидетельством ее благосклонности и теперь давало мне право смотреть на нее как на заядлую, себялюбивую кокетку. Даже то, что она, принарядившись, сидела в модной лавке, представлялось мне сейчас не столь уж невинным, — словом, я так долго носился с этими досадными мыслями и подозрениями, что мало-помалу начисто отнял у нее все свойства, достойные любви. Разум повелевал мне забыть ее. Но ее образ!.. Ее образ уличал меня во лжи всякий раз, как вставал передо мной, что, надо признаться, случалось еще довольно часто.
Тем не менее эта стрела с ее зазубринами была вырвана из моего сердца, и теперь спрашивалось только: как и чем поощрить внутренние целительные силы юности? Я действительно сумел взять себя в руки, слезы и приступы отчаяния прекратились; более того, я уже смотрел на все это как на ребячество! Словом, шаг к выздоровлению был сделан. Раньше я частенько ночи напролет смаковал свои муки, причем слезы и всхлипывания доводили меня до такого состояния, что я едва мог проглотить кусок, еда и питье причиняли мне боль, отчего начинала болеть и грудь. Озлобление, которое я все еще испытывал после того неожиданного открытия, заставило меня решительно покончить с размягченностью. Теперь мне казалось нелепостью жертвовать сном, покоем и здоровьем ради девушки, которой было угодно смотреть на меня как на грудного младенца и воображать себя какой-то мамкой при мне.
Вскоре я понял, что эти растравляющие рану мысли можно прогнать лишь энергичной деятельностью. Но за что взяться? Правда, мне многое надо было наверстать, чтобы всесторонне приготовиться к предстоящему поступлению в университет, но ничто не внушало мне приязни, все валилось из рук. Многое казалось уже знакомым и тривиальным; для более основательных занятий недоставало сил и внешнего повода; наверное, поэтому любительское пристрастие моего доброго соседа подвигло меня на изучение предмета, доселе мне чуждого, но отныне на долгое время ставшего для меня обширным поприщем для размышлений и погони за новыми знаниями. Дело в том, что мой друг начал посвящать меня в тайны философии. Он был студентом у Дариса в Йене и, как человек светлого ума, отлично разобрался во взаимосвязях его науки, которую и старался теперь преподать мне. Но, увы, все эти понятия не связывались должным образом в моем мозгу. Я задавал вопросы, на которые он обещал ответить позднее, предъявлял требования, которые он сулил удовлетворить в дальнейшем. Основное же наше разногласие сводилось к тому, что я утверждал: обособившаяся философия никому не нужна, ибо вся она содержится в религии и в поэзии. Он рьяно восставал против этого и тщился мне доказать, что она, напротив, как бы служит фундаментом для той и для другой. Я упорно стоял на своем и во время наших споров буквально на каждом шагу находил аргументы в поддержку своей тезы. Поскольку поэзии присуща вера в невозможное, а религии — в той же мере — вера в неисповедимое, мне представлялось, что философы, пытающиеся в своей области обосновать и объяснить и то и другое, оказываются в весьма невыгодном положении; ведь известно из истории философии, что каждый философ искал иных исходных основ, чем его предшественник, скептик же в заключение все объявлял необоснованным и негодным.
Тем не менее как раз история философии, к занятиям которой был вынужден обратиться мой друг и учитель, так как я ровно ничего не извлекал из его догматического курса, больше всего меня и занимала, при той, однако, оговорке, что одно учение, одна доктрина мне представлялись ничуть не хуже другого учения, другой доктрины, поскольку, конечно, я был в состоянии вникать в таковые. Древние школы и древние философы больше всего меня прельщали именно тем, что поэзия, религия и философия у них сливались воедино, и я тем решительнее отстаивал свою исходную тезу, полагая, что книга Иова, Песнь Песней и речения Соломона ее подтверждают не в меньшей мере, чем орфические и Гесиодовы песнопения. Мой друг в основу своих лекций положил маленького Бруккера; но чем дальше мы по нему продвигались, тем меньше я понимал, зачем он нужен. Я никак не мог взять в толк, чего собственно, хотели первые греческие философы. Сократ представлялся мне превосходным и мудрым человеком, жизнь и смерть которого вполне могли идти в сравнение с жизнью и смертью Христа. Ученики же его мне очень напоминали апостолов, ибо и среди них после смерти учителя начался раскол и каждый почитал за истину лишь свой ограниченный круг представлений. Ни острота мысли Аристотеля, ни глубина Платона отклика во мне не находили. Зато к стоикам я еще раньше питал известную симпатию и теперь поторопился приобрести томик Эпиктета, которого изучал с особым усердием. Мой друг неодобрительно отнесся к такой моей односторонности, хотя и не сумел меня от нее отвлечь, так как, несмотря на свои многообразные знания, не умел правильно осветить главное. Ему следовало бы просто сказать мне, что в жизни необходимо действовать, радости же и страдания приходят сами собой. На самом деле, юности надо давать идти своей дорогой: она недолго будет придерживаться ложных максим, жизнь оторвет или отвлечет ее от них.
Меж тем пришла весна, мы часто вдвоем отправлялись за город и посещали разные веселые уголки, которых так много в окрестностях Франкфурта. Но здесь-то я и чувствовал себя не в своей тарелке; мне повсюду мерещились призраки родичей Гретхен, и я боялся, что вот-вот откуда-нибудь вынырнет один из них. Меня тяготили даже безразличные взгляды встречных. Я, видимо, утратил безотчетную радость бродить неузнанным в людской толпе, не страшась никаких наблюдателей и критиканов. Ипохондрическая мнительность терзала меня, я подозревал, что привлекаю всеобщее внимание; мне казалось, будто все взоры устремлены на меня для того, чтобы меня запомнить, испытать и осудить.
Поэтому я уводил моего друга в леса и, избегая однообразно одинаковых елей, отыскивал прелестные лиственные рощи, пусть не столь уж огромные, но все же достаточно обширные, чтобы в них укрыться бедному, израненному сердцу. В глубине леса я обнаружил суровый пейзаж, где старые дубы и буки образовывали великолепный тенистый шатер. Слегка покатая поляна, на которой они стояли, подчеркивала крепость древних стволов. Вокруг непроходимо теснились кусты, а над ними вздымались поросшие мхом, благородно-величественные скалы, с которых стремительно сбегал водообильный ручей.
Не успел я, чуть ли не силою, привести туда своего друга, предпочитавшего проводить время среди людей на берегу реки, как он шутливо заметил что я немец до мозга костей. И тут же стал обстоятельно пересказывать Тацита, утверждавшего, что наши предки вполне довольствовались чувствами, которые вызывала в них красота таких уединенных мест с ее дивным безыскусственным зодчеством. Я не дал ему договорить, воскликнув: «О, почему этот чудесный уголок не расположен в самой чаще леса, почему нам нельзя обнести его оградой, освятить, изъять его и нас изо всего остального мира? Нет и не может быть более прекрасного богопочитания, чем то, что не нуждается в зримом образе и возникает в пашем сердце из взаимной беседы с природой!» Тогдашние свои чувства я помню как сейчас, но что я тогда говорил, мне теперь повторить не удастся. Знаю только, что на такие смутные, возвышенные чувства, идущие вглубь и вширь, способны лишь очень молодые люди и непросвещенные народы, и еще, что эти чувства, пробужденные в нас внешними впечатлениями, либо бесформенны, либо принимают почти неуловимые формы и одаряют нас величием, которое нам не по плечу.
Такая настроенность души в неравной степени знакома всем людям, и каждый на свой лад старается удовлетворить эту благородную потребность. Но подобно тому, как сумрак и ночь, когда все образы стерты и сливаются воедино, возбуждают чувство возвышенного, а день, все расчленяя, вспугивает его, так уничтожает его растущее просвещение, если только это чувство возвышенного, по счастью, не найдет себе убежища в прекрасном и всецело с ним не сольется, отчего возвышенное и прекрасное станут в равной мере бессмертны и неистребимы.
Мой просвещенный наставник укорачивал и без того краткие мгновения такого счастья; я же возвращаясь в привычно скудный и тощий мир, не только не мог вновь пробудить в себе столь высокое чувство, но даже с трудом удерживал воспоминание о нем. Видно, сердце мое было слишком избаловано, чтобы так быстро успокоиться: оно любило — и предмет его любви был у него отнят; оно жило — и жизнь для него была отравлена. Друг, ничуть не скрывающий своего намерения перевоспитать тебя, не возбуждает добрых чувств, тогда как женщина, которая, балуя и нежа, преобразует твою душу, представляется тебе небесным созданием, дарящим радость и достойным обожания. Образ, воплотивший для меня отныне идею красоты, скрылся вдалеке: она часто являлась мне в тени моих дубов, но удержать ее я не мог, и во мне росла потребность в широком мире найти другую, ей подобную.
Неприметно я приучил, вернее, принудил своего друга и надзирателя оставлять меня одного, ибо даже в священном моем лесу возвышенно-смутные чувства меня не удовлетворяли. Органом познания мира для меня прежде всего был глаз. С детских лет я жил среди художников и, подобно им, привык рассматривать любой предмет в его соотнесенности с искусством. Теперь, когда я был предоставлен одиночеству и самому себе, этот дар, отчасти врожденный, отчасти же благоприобретенный, выступил на свет божий. Куда бы я ни смотрел, мне везде виделась картина, все, что бросалось мне в глаза, все что радовало меня, мне хотелось удержать, и я начал, неловко и неумело, рисовать с натуры. Чтобы преуспеть в этом деле, мне недоставало решительно всего, тем не менее я, не имея понятия ни об одном техническом средстве, упорно воспроизводил прекраснейшее из того, что открывалось моим глазам. Это приучило меня, конечно, более проницательно вглядываться в вещи, но воспринимал я их слишком общо, в соответствии с впечатлением, которое они на меня производили, и если природа не предназначила мне быть дескриптивным поэтом, то она в равной мере отказала мне также и в способностях кропотливого рисовальщика. Не зная, однако, иного способа самовыражения, я с тем более грустным упорством усердствовал над своими работами, чем меньше они мне удавались.
Не буду отрицать, что здесь соприсутствовала еще и маленькая хитрость: я заметил, что если объектом моих мучительных усилий становился полузатененный старый ствол, к могучим искривленным корням которого прильнул ярко освещенный папоротник, весь в мерцающих изумрудных бликах, мой друг, по опыту знавший, что мне понадобится добрый час на эту работу, как правило, брал книгу и отправлялся искать себе другой приятный уголок. Тогда ничто уже не мешало Мне предаваться своей любительской страсти, тем более рьяной, что в своих рисунках я привык видеть — и за это-то и любил их — не то, что было на них изображено, а то, что мне думалось и представлялось в часы работы над ними. Так, самые простые травы и полевые цветы могут служить нам приятнейшим дневником, ибо все, что воскрешает в памяти счастливые минуты, имеет для нас большое значение; мне и теперь было бы тяжело истребить как ненужный хлам то, что осталось от различных эпох моей жизни, потому что эти памятки переносят меня в далекие времена, о которых я вспоминаю с удовольствием, хотя и сдобренным печалью.
Но если мои рисунки представляли какой-то интерес сами по себе, то этим я обязан участию и вниманию отца. Узнав от моего наставника, что я постепенно прихожу в себя и со страстью предаюсь рисованию с натуры, он очень обрадовался, отчасти потому, что высоко ценил рисование и живопись, отчасти же потому, что его кум Зеекац частенько сожалел, что я не прочу себя в художники. Но, увы, здесь снова столкнулись различные характеры отца и сына. Дело в том, что я никогда не пользовался для своих рисунков добротной, белой и совершенно чистой бумагой; мне больше были по душе листы посеревшие, старые, уже исписанные с одной стороны. Моя неопытность словно бы страшилась пробного камня чистого, белого фона. Ко всему еще ни один мой рисунок не был завершен, да и как бы я мог создать целое, если хоть и видел его глазами, но не умел в него проникнуть или воспроизвести какую-нибудь деталь, пусть хорошо мне знакомую, не обладая для этого ни должным терпением, ни необходимой сноровкой! В этом случае тоже нельзя было не восхититься педагогикой моего отца. Он благожелательно расспрашивал меня о моих попытках и тщательно обводил каждый набросок, желая этим принудить меня к законченной точности рисунка. Аккуратно обрезая неровные листы, он тем самым положил начало собранию, по которому было бы возможно судить об успехах сына. Поэтому его ничуть не огорчало, что мой буйный и непостоянный нрав гнал меня вон из города и заставлял блуждать по окрестностям; напротив, он радовался этому, коль скоро я приносил домой тетрадь, дававшую ему повод упражнять свое терпение и хоть чем-нибудь питать свои надежды.
Никто уже не опасался, что я вернусь к своей прежней любви или к прежней компании, и я мало-помалу стал пользоваться полной свободой. По случайному поводу и со случайными спутниками мне довелось совершить странствие по горам, которые в детстве казались мне столь далекими и суровыми. Так мы побывали в Гомбурге и Кронберге, поднялись и на Фельдберг, откуда открывалась манившая вдаль перспектива. Не обошли и Кенигштейна; Висбаден и Швальбах с окрестностями потребовали от нас нескольких дней. Были мы также на Рейне и любовались с большой высоты его близкими и далекими излучинами. Майнц поразил нас, но пленить юные души, стремившиеся к вольным далям, ему уже не удалось. Вдосталь налюбовавшись живописным расположением Бибриха, мы, веселые и довольные, пустились в обратный путь.
Все это путешествие, от которого отец ожидал целого множества рисунков, оказалось почти бесплодным, ибо какая нужна хватка, какой талант и умение для того, чтобы воссоздавать на полотне безмерно широкий ландшафт! Поэтому меня вновь потянуло в область частного, где я и вправду добыл кое-какие трофеи. И не удивительно: любой полуразрушенный замок, любая стена — напоминание о былых и давних временах — казались мне объектом, достойным не только внимания, но и самого тщательного воспроизведения. Я зарисовал даже замок Друзенштейн на валу в Майнце, не без некоторой опасности и неудобств, которых не избежать тому, кто хочет унести домой зримое воспоминание о путешествии. К сожалению, я снова захватил с собой прескверную бумагу и к тому же некстати соединил на одном листе по нескольку зарисовок. Тем не менее отец в своем менторском рвении и тут не дал сбить себя с толку. Он разрезал листы, подобрал в известном соответствии и велел переплести, другие обвел линиями и тем самым и вправду заставил меня по краям пририсовать очертания гор, а передний план заполнить травами и камнями.
Если его добросовестные усилия и не могли даровать мне больший талант, то все же эта его любовь к порядку, неприметно на меня влиявшая, впоследствии сказывалась неоднократно в самых различных формах.
Из таких увеселительных, а иногда и преследующих художественные цели экскурсий, которые можно совершить за короткое время и повторять, сколько душе угодно, меня тем не менее всегда тянул домой магнит, издавна на меня воздействовавший, — моя сестра. Будучи лишь на один год моложе меня, она сделалась спутницей всей моей сознательной жизни, и мы были страстно привязаны друг к другу. К этому естественному чувству присоединилось еще и взаимное тяготение, обусловленное нашими домашними обстоятельствами: отец, любящий и благожелательный, но суровый, имея от природы нежное сердце, внешне с невероятной последовательностью соблюдал железную строгость, с помощью которой надеялся достигнуть своей цели — дать наилучшее воспитание детям, а также упрочить и упорядочить жизнь в своем респектабельном доме. Ему противостояла мать, сама еще почти ребенок, чье сознание росло вместе с ростом двух старших ее детей. Мы все трое здраво смотрели на мир, были полны жизни и жажды безотлагательных радостей. Разногласия в пашей семье возрастали с течением времени. Отец непрерывно и непоколебимо преследовал свои цели; мать и дети не умели поступиться своими чувствами, требованиями и желаниями.
В этих условиях брат и сестра, естественно льнули друг к другу и к матери, чтобы урвать хоть кусочек тех радостей, право на которые за ними не признавалось. Но так как часы затворничества и труда были очень долги по сравнению с краткими мгновениями отдыха и веселья — особенно для сестры, которой не позволялось покидать дом на длительное время, как покидал его я, — то ее потребность быть со мной еще обострялась тоскою, которую она всякий раз испытывала, провожая меня вдаль.
И если в первые годы игры и учение, рост и развитие брата и сестры шли в ногу настолько, что их можно было принять за близнецов, то и в пору развития физических и моральных сил между ними сохранились все та же близость и взаимное доверие. Все интересы юных лет, все изумление юности перед лицом пробуждающихся чувственных порывов, которые облекаются в духовные формы, и духовных потребностей, обряжающихся в чувственные образы, все наблюдения над этим, скорее затемняющие наш разум, чем просвещающие его — подобно тому как туман, что вот-вот поднимется из долины, ее омрачает, а не просветляет, — а также многие вытекающие отсюда ошибки и заблуждения мы с сестрою претерпевали и переносили вместе, тем менее способные вникнуть в эти удивительные состояния, что священная стыдливость близкого родства могучей преградой становилась между нами всякий раз, когда мы вдвоем пытались их себе уяснить.
Мне трудно говорить в общих чертах о том, что я уже много лет назад хотел и пытался изобразить в романе, но так и не сумел этого сделать. Слишком рано потеряв сестру, это любимое и непостижимое создание, я всей душою стремился вновь представить себе, чем она была для меня; так у меня возникла мысль о художественном произведении, в котором можно было бы воплотить ее неповторимый образ. Но такой замысел можно было облечь разве что в пространные формы Ричардсоновых романов. Лишь тончайшие детали, лишь нескончаемые подробности, отмеченные единым характером живого целого, возникавшие из удивительной глубины, позволяют догадываться о бездонности этой глубины, способны дать представление о примечательной личности моей сестры: ведь и подпочвенный источник можно себе представить, лишь поскольку он бьет из земли. Увы, от этого прекрасного, благого намерения, как, впрочем, и от многих других, меня отвлекла мирская суета, и теперь я могу вызвать тень сего блаженного духа как бы с помощью магического зеркала разве лишь на краткий миг.
Во всех повадках этой высокой, изящно и красиво сложенной девушки сквозило прирожденное достоинство, сочетавшееся с обаятельной мягкостью. Черты ее лица, не отмеченные ни красотой, ни значительностью, свидетельствовали о том, что она была и не могла не быть в разладе сама с собой. Глаза ее, пусть не прекраснейшие из тех, что я видел, но самые глубокие и, казалось, бесконечно много в себя вобравшие, так и светились, когда выражали приверженность или любовь, однако в их выражении не было кротости, идущей от сердца и сообщающей взгляду какую-то молящую тоску: их ни с чем не сравнимый свет шел от души, полной и богатой, которая, казалось, стремится только отдавать, не нуждаясь в ответном даре.
Ее лицо очень портила, временами делала просто некрасивым тогдашняя мода, не только требовавшая открытого лба, но и всячески старавшаяся его увеличить взаправду или только иллюзорно, преднамеренно или как бы случайно. Поскольку у нее был женственный, крутой лоб, а также черные брови и выпуклые глаза, из этого сочетания возникал контраст, всех отталкивавший при первом знакомстве с нею или, во всяком случае, никого не привлекавший. Она рано это почувствовала и все болезненнее к этому относилась, по мере того как входила в лета, когда люди обоих полов испытывают невинную радость в том, чтобы нравиться друг другу.
Человека никогда не отвращает его собственный облик, самый уродливый, равно как и самый красивый имеет право к себе благоволить, а так как благоволение красит, то каждый, смотрясь в зеркало, поневоле испытывает некоторое удовольствие. Но моя сестра обладала умом настолько трезвым, что не могла быть ни слепой, ни чрезмерно наивной. Она понимала, — может быть, даже слишком ясно, — что внешне Значительно уступает своим подругам, и не утешала себя при этом мыслью, что бесконечно превосходит их внутренними достоинствами.
Если женщину может что-нибудь вознаградить за ее некрасивость, сестру могли бы стократ утешить уважение и любовь, питаемые к ней всеми ее подругами; будь они младше или старше ее годами, все они были охвачены тем же чувством. Вокруг сестры собиралось весьма приятное общество, в каковое проникли и многие молодые люди: ведь почти каждая из девушек ее круга обзавелась поклонником или другом, только она оставалась в одиночестве. И то сказать, если ее наружность не имела в себе ничего привлекательного, то и внутренняя ее сущность, сквозь нее просвечивавшая, скорее отстраняла, нежели притягивала, ибо перед лицом высоких душевных достоинств другого человек невольно уходит в себя. Сестра не скрывала от меня, что она живо это чувствует, и тем сильнее ко мне привязывалась. Случай наш был достаточно своеобычен. С нами, сестрой и братом, произошло то же, что происходит с тем, кому ты поверяешь тайну своей любви. Всей душой тебе сострадая, он сам как бы заражается ею, более того — становится соперником и под конец пытается отвлечь любовь на себя. После моего разрыва с Гретхен сестра тем проникновеннее меня утешала, что втайне испытывала удовлетворение, отделавшись от соперницы, да, по правде сказать, и я, в ответ на ее заверения, что я единственный, кто по-настоящему любит ее, знает и чтит, испытывал нечто вроде тихого злорадства. Когда же, время от времени, сердце у меня вновь начинало болеть из-за утраты Гретхен и я внезапно разражался рыданиями, клял свою судьбу и неистовствовал, моя скорбь заставляла ее нетерпеливо сожалеть о том, что она никогда не знала подобных юношеских увлечений, что этого ей испытать не удалось, что жизнь обошла ее своими ранними дарами и, увы, ничего уже не наверстать. Мы оба чувствовали себя бесконечно несчастными, тем более что в нашем исключительном случае дружба в любовную связь перейти не могла.
По счастью, взбалмошный бог любви, тот самый, что без надобности учиняет столько бед, на сей раз вмешался в сумятицу наших чувств поистине благодетельно: он-то и вывел нас из неловкости наших отношений. Я часто встречался с одним молодым англичанином, учившимся в пансионе Пфейля. Он превосходно разбирался в особенностях своего языка, беседы с ним служили для меня упражнением, из них я многое узнал о его стране и народе. Он давно уже бывал в нашем доме, и я никогда не замечал, чтобы он питал какие-нибудь чувства к моей сестре. Но оказалось, что я был неприметлив: его чувства разрослись и, превратившись в страсть, однажды вырвались наружу. Сестра хорошо его знала и ценила по заслугам. Она часто присутствовала при наших английских собеседованиях; мы с ней старались усвоить по движению его губ причуды английского выговора и под конец приучились повторять за ним не только интонацию и произношение, свойственные английскому языку, но и личные особенности его речи, так что впоследствии все трое странным образом говорили в унисон, вернее — как бы едиными устами. Его старания тем же способом научиться немецкому не увенчались должным успехом, и мне помнится, что вся эта скромная любовная интрижка протекала, как письменно, так и устно, на английском языке. Оба они на первый взгляд хорошо подходили друг к другу. Он был высок, как и она, хорошо сложен, даже еще стройнее; черты у него были мелкие, но само лицо можно было бы назвать красивым, не будь оно так изрыто оспой. Манеры его, ровные и невозмутимые, могли иной раз показаться сухими и холодными, хотя его сердце было исполнено доброты и любви, душа — благородства, привязанность его была сдержанна, прочна и спокойна. Эта положительная пара, лишь недавно друг друга нашедшая, резко выделялась своей серьезностью среди других, давно уже знакомых парочек, менее озабоченных будущим, бездумнее радующихся нынешним своим отношениям, каковые обычно служат только веселым прологом будущих, более серьезных союзов и лишь в редких случаях оказывают влияние на последующую жизнь.
Веселая молодая компания вдосталь использовала весеннее время и прекрасные окрестности Франкфурта, но больше всех других удовольствий нам полюбились прогулки по реке. Впрочем, на воде ли, на суше ли — всюду действовало взаимное притяжение: парочки спешили обособиться, а на долю некоторых мужчин, не числившихся в кавалерах, к каковым принадлежал и я, либо вообще не оставалось девицы, либо такая, на которую не хотелось тратить веселые часы. Один мой приятель и товарищ по несчастью, не нашедший себе спутницы главным образом потому, что при сильно развитом чувстве юмора ему не хватало мягкости, а при большом уме — того участливого внимания, без которого немыслимы подобные отношения, пообещал, после многих капризных и остроумных сетований на свою судьбу, сделать в следующий раз всей компании предложение, которое безусловно выручит нашего брата одиночку. Он и вправду выполнил свое обещание. Когда мы после прекрасной речной поездки и приятнейшей прогулки по берегу устроили привал на траве под сенью холмов и, присев — кто на замшелые камни, кто на толстые корни, — весело и жадно поедали свой неприхотливый завтрак, он, с шутливой важностью повелев нам рассесться полукругом, встал перед нами и начал весьма патетическую речь:
— Глубокоуважаемые друзья и подруги, парные и непарные! Уже из этого обращения явствует, сколь важен для вас проповедник, взывающий к совести общества. Одна часть моих достопочтенных друзей разделилась на пары и, надо думать, чувствует себя превосходно, другая же состоит из одиночек и чувствует себя прескверно, что я могу засвидетельствовать на основании собственного опыта; и хотя число парочек превышает число одиноких страдальцев, я все же предлагаю первым подумать, не является ли их общественным долгом позаботиться обо всех остальных. Для чего, спрашивается, мы собираемся такой большой компанией, как не для участливого отношения друг к другу? Но откуда же ему взяться, если в нашем кругу столь многие ищут обособления? Мне и в голову не приходит возражать против таких отношений или осуждать их, но — всему свое время. Время! Прекрасное, великое слово, о котором, разумеется, не вспоминает тот, кому обеспечено хорошее его препровождение.
Далее он все оживленнее и веселее стал противопоставлять нежным чувствам общественные добродетели.
— Первые, — сказал он, — всегда при нас, каждый может стать в них мастером и без учения, что касается последних, то мы должны их искать и завоевывать, и, как бы мы в этом ни преуспели, до конца познать их нам все равно не удастся.
Тут он перешел к частностям. Многие, справедливо считая себя задетыми, невольно переглядывались, но привилегией нашего друга было то, что никто на него не обижался, а посему он продолжал:
— Но обнаруживать недостатки мало, я даже считаю, что мы не вправе этого делать, одновременно не предлагая противоядия. Итак, дорогие друзья, я не собираюсь, подобно проповеднику на страстной неделе, призывать вас к искуплению грехов и покаянию, напротив, желаю всем милым парочкам счастья на долгие времена и, чтобы действенно им в этом помочь, предлагаю на те часы, которые мы проводим вместе, отменить прелестные уединения. О том, как это сделать, я уже позаботился, если, конечно, вы выразите на то свое согласие. Вот кошель, в нем лежат записки с именами всех господ мужского пола. Вас же, прекрасные дамы, прошу вытянуть билеты и на восемь дней принять к себе в услужение того, кого судит вам жребий. Это правило действует только в нашем кругу, как только он распадется, оно объявляется недействительным, и пусть тогда ваше сердце само решает, кому провожать вас домой.
Большинство развеселилось от его речи, вернее — от того, как он ее произнес, и уже готово было одобрить эту выдумку, однако нашлись и такие парочки, что сидели не шевелясь с невозмутимым видом, как бы не принимая этого на свой счет, поэтому он воскликнул с наигранной горячностью:
— Честное слово, меня удивляет, что никто из вас не вскочил и, несмотря на то что другие еще мешкают, не поспешил высказаться в пользу моего предложения, оценив все его преимущества и тем самым избавив меня от необходимости воздавать хвалу себе самому. Я, прости господи, старший среди вас! Смотрите, я уже облысел, а виною тому непрестанные размышления, — при этих словах он снял шляпу, — но я почту за честь выставить напоказ свою плешь, если соображения, которые иссушили мне кожу и отняли у меня прекраснейшее из украшений, хоть немного пойдут на пользу мне и другим. Мы молоды, друзья, и это прекрасно; мы постареем — это досадно; мы не находим друг в друге ничего дурного — это хорошо и сообразно времени года. Но вскоре, друзья мои, настанет пора, когда мы заметим в себе много дурного и нам придется подумать, как это дурное исправить. Тогда и другие начнут хулить нас, а мы не будем понимать — за что. Нам надо быть к этому готовыми и начать готовиться уже сейчас.
Всю свою речь, в особенности же последние слова, он произнес тоном капуцина и со всеми жестами, подобающими последнему. Будучи католиком, он, конечно, имел довольно случаев изучить ораторское искусство святых отцов. Затем, казалось, еще не переведя дыхания, принялся вытирать платком свою преждевременно полысевшую голову, и вправду делавшую его похожим на монаха. Этим он привел нашу легкомысленно настроенную компанию в такой восторг, что все только и желали слушать его дальше. Однако, вместо того чтобы продолжать, он взял кошель и обратился к ближайшей даме, воскликнув:
— Попытка не пытка, а дело само за себя постоит. Ежели за восемь дней вам это прискучит, мы поставим крест на своей затее, и пусть все остается по-старому.
Отчасти добровольно, отчасти же по принуждению, дамы стали тащить свернутые бумажки, и нетрудно было заметить, что в это простейшее занятие замешались самые различные страсти. По счастию, вышло так, что резвые парочки разделились, а степенные остались вместе; моя сестра тоже осталась при своем англичанине, за что они оба от души возблагодарили бога любви и счастья. Новые случайные пары были тотчас же соединены антистесом, мы выпили за их здоровье и тем более пожелали им счастья, что век их был недолог. Наверно, это были самые веселые минуты, за долгое время выпавшие нам на долю. На молодых людей, оставшихся без дам, была наложена епитимья — всю эту неделю печься о своем уме, душе и теле, как выразился наш оратор, но в первую очередь о душе, ибо ум и тело уж сумеют сами о себе позаботиться.
Главари нашей компании, пожелавшие тотчас же отличиться, живо изобрели новые премилые игры, в сторонке приготовили ужин, на каковой мы и не рассчитывали, а на обратном пути иллюминировали яхту, что при свете полной луны, собственно, было излишне. В оправдание себе они заявили, что новое общественное устройство требует, чтобы земные огни затмили нежные взоры ночного светила. В минуту, когда мы сходили на берег, наш Солон воскликнул: «Ite, missa est!»[14] Каждый свел с судна свою даму, доставшуюся ему по жребию, но только затем, чтобы передать настоящему ее кавалеру в обмен на свою прежнюю.
При следующей встрече недельный статут был продлен на все лето, и снова брошен жребий. Не подлежало сомнению, что эта затея внесла много нового и неожиданного в жизнь нашей компании; каждый отныне старался проявлять все бывшее у него за душой остроумие и приятность, а также необыкновенную предупредительность в ухаживании за красавицей, сужденной ему на краткий срок, рассчитывая, что уж на неделю-то у него хватит запаса обходительности.
Но едва все это устроилось, как нашего проповедника вместо благодарности стали упрекать за то, что он не закончил начатой проповеди и самую выигрышную ее часть, то есть заключение, от нас утаил. На это он заметил, что всякий разговор ценен только уговором, и тому, кто не надеется уговорить слушателей, лучше и вовсе не говорить, ибо убеждать — дело трудное. Но так как его все равно не оставляли в покое, он решил продолжать свою капуцинаду, кривляясь еще больше, чем всегда, может быть, именно потому, что намеревался говорить на самые серьезные темы. Он пересыпал свою речь цитатами из Библии, вовсе неуместными, сравнениями, отнюдь не меткими, намеками, которые ничего не проясняли, надо думать, сводя все к мысли, что тот, кто не умеет таить свои пристрастия, склонности, желания, намерения, планы, не только ничего не добьется в жизни, но еще будет везде и всюду натыкаться на преграды и служить всеобщим посмешищем; но самое главное, подчеркнул он, чтобы тот, кто хочет быть счастлив в любви, умел крепко-накрепко хранить свои тайны.
Эта мысль красной нитью проходила в его речи, хотя прямо он ни разу ее не выразил. Чтобы составить себе представление об этом оригинальном человеке, надо принять во внимание, что свои разнообразные природные способности и прежде всего свой острый ум он развил в иезуитских школах, приобретя, таким образом, недюжинное знание света и людей, впрочем, только — с дурной стороны. В пору, о которой идет речь, ему было года двадцать два, и он очень хотел сделать меня прозелитом своего человеконенавистничества, но это было гиблое дело: я все еще стремился быть добрым и видеть доброе и других. Тем не менее он обратил мое внимание на многие явления жизни.
Чтобы веселая компания была полноценной, в ней должен присутствовать актер — человек, с радостью подставляющий себя стрелам острот, которыми его осыпают компаньоны, стараясь прервать внезапно наступившую паузу в веселье. Если он не просто чучело сарацина, на котором рыцари пробуют свои копья перед турниром, а, напротив, сам умеет скоморошничать, дразнить, задирать, слегка ранить, немедленно отступать, словно бы сдавшись на милость победителя, и тут же снова возобновлять свои наскоки, то лучшего и сыскать нельзя. Такой актер был среди нас в лице нашего друга Горна, самое имя которого служило поводом для всевозможных шуток, — к тому же за маленький рост его часто звали Горностайчиком. Он и вправду был самым низкорослым в нашей компании. В его смуглом лице, с чертами несколько грубоватыми, но приятными: вздернутый нос, слегка припухлые губы, маленькие блестящие глазки — было что-то комическое. Его маленький приплюснутый череп густо порос черными курчавыми волосами, а борода, которую он усердно отращивал, чтобы постоянно смешить общество своей комической маской, раньше времени сделалась пегой. Вообще-то он был славный малый и живчик, хотя утверждал, что у него кривые ноги, с чем приходилось соглашаться, так как он этого хотел, но что служило неисчерпаемым источником шуток. Поскольку девушки его домогались как отличного танцора, он считал одной из женских причуд желание видеть на лужайке кривые ноги. Веселость его была неистощима, и ни одна наша забава не обходилась без него. Мы с ним сошлись тем теснее, что должны были вместе поступать в университет, и он вполне заслужил ту любовь и то уважение, с которым я его вспоминаю, ибо долгие годы дарил меня бесконечной любовью, верностью и долготерпением.
Легкость, с какою я слагал рифмованные строки и находил поэтическую сторону в самых будничных предметах, соблазнила и его упражняться в этом роде. Наши совместные недальние прогулки, пикники и связанные с ними всевозможные приключения немедленно запечатлевались нами в стихотворной форме, и, таким образом, из описания одного события постоянно возникало новое. Но так как подобные шутки в молодой компании обычно сводятся к насмешничанью, а мой друг Горн в своих буффонадах не всегда держался должных границ, то иной раз происходили неприятные казусы, которые, впрочем, довольно легко и быстро улаживались.
Он пробовал свои силы в модном тогда жанре комикогероической поэмы. «Похищение локона» Попа вызывало множество подражаний; Цахариэ перенес этот род поэзии на немецкую почву, где он стал пользоваться большим успехом, так как обычно в этих поэмах изображался увалень, над которым всячески измываются духи, даря свое благоволение другому, более удачливому юноше.
Не удивительно — хотя всякий раз тому удивляешься, знакомясь с литературой, и прежде всего с немецкой, — что целая нация не может отделаться от пристрастия к однажды возникшему сюжету и жаждет видеть его повторенным на все лады, все в той же, давно сложившейся жанровой форме, так что под конец оригинал оказывается погребенным под непомерно разросшейся кучей подражаний.
Героическая поэма моего друга могла служить тому наглядным примером. Некий увалень отправляется в долгую поездку на санях с дамой, которая его терпеть не может; как назло, с ним приключаются все беды, какие только могут произойти при подобных обстоятельствах; настояв же наконец на своем так называемом «санном праве», он даже вываливается из саней, конечно, потому, что духи подставили ему подножку. Тут красотка хватает вожжи и мчится домой одна, где ее встречает друг, пользующийся ее благосклонностью, и торжествует победу над самоуверенным своим соперником. Вообще-то было очень мило придумано, как четыре различных духа один за другим строят ему козни, покуда гномы и вовсе не выбрасывают его из саней. Стихотворение это, в основе которого лежало подлинное происшествие, было написано александрийским стихом и до невозможности забавляло нашу маленькую компанию; мы были убеждены, что оно отлично может соперничать с «Вальпургиевой ночью» Лёвена и «Забиякой» Цахариэ.
Поскольку эти наши совместные развлечения имели место только по вечерам и на подготовку к ним уходило не более нескольких часов, у меня хватало времени для чтения или, как я тогда выражался, для разнообразных штудий. В угоду отцу я усердно изучал маленького Гоппе, мог с ходу ответить на любой из вопросов в конце или в начале книги и таким образом превосходно усвоил «Институции». Однако нетерпеливая жажда знаний влекла меня все дальше: я с головой ушел в историю древних литератур, потом в энциклопедизм, бегло ознакомившись с Геснеровым «Исагогом» и «Полигистором» Моргофа, и так составил себе некоторое представление о том, сколь много примечательного с давних времен встречалось в философских учениях и в жизни. Такое постоянное торопливое рвение скорее сбивало меня с толку, чем обогащало знаниями, но я угодил в лабиринт еще более страшный, когда углубился в Бэйля, случайно попавшегося мне под руку в библиотеке отца.
Однако убеждение в необходимости изучать древние языки все время росло и крепло во мне; из литературного хаоса мне уяснилось, что они сохранили в себе все образцы словесных искусств и все достойнейшее, что когда-либо знавали люди. Отныне библейские изыскания и еврейский язык отступили в тень, так же как и занятия греческим, в котором мои познания не шли дальше Нового завета. Тем усерднее я взялся за латынь, ибо ее образцовые произведения нам ближе и вдобавок этот язык, наряду с великолепнейшими оригинальными творениями, знакомит нас также и с творениями всех времен и народов в переводах и трудах великих ученых. Я много и вполне бегло читал по-латыни, полагая, что все понимаю, ибо буквальный смысл прочитанного от меня никогда не ускользал. Я даже оскорбился, узнав о высокомерном заявлении Гроциуса, что он-де читает Теренция по-другому, чем читают его мальчишки. О, счастливая ограниченность юности — да и вообще человека, которая позволяет нам в любой миг своего существования считать себя совершенными и спрашивать не об истинном или ложном, не о наивысшем и глубочайшем, а лишь о том, что доступно нашему разуму.
Итак, я учил латынь не иначе, чем немецкий, французский, английский, — чисто практически, без правил и без системы. Того, кто знаком с тогдашним состоянием школьного обучения, не удивит, что я перескочил через грамматику и риторику; мне-то казалось, что все идет, как надо: я запоминал слова, их расстановку и перестановку на слух и по смыслу и запросто писал или болтал на этом языке.
Приближался день святого Михаила, срок, когда я должен был отправиться в университет, и душу мою равно волновали и новая жизнь, и предстоящее учение. Антипатия к родному городу все явственнее проступала во мне. Удаление Гретхен вырвало сердцевину из растения, еще не достигшего зрелости; надобно было время, чтобы ему пустить боковые побеги и новым ростом преодолеть нанесенный ущерб. Мои уличные странствия прекратились; как и все другие, я отмерял шагами лишь необходимые дороги. Никогда я не заходил в квартал, где жила Гретхен, избегал даже приближаться к нему; и как старые мои башни и стены мало-помалу опротивели мне, так больше не удовлетворял меня и политический строй города: все, что доселе внушало мне почтение, теперь предстало передо мной как бы в кривом зеркале. Как внук шультгейса я не был в неведении относительно тайных изъянов такого рода республик, тем паче что дети обычно пускаются в самые рьяные расследования, едва что-нибудь, прежде безусловно почитаемое, покажется им хоть немного подозрительным. Тщетные усилия добропорядочных людей в борьбе с теми, кого сманивают на свою сторону или даже подкупают партии, были мне давно известны, а я безмерно ненавидел любую несправедливость, ибо все дети ригористы в вопросах морали. Мой отец, соприкасавшийся с городскими делами лишь как частное лицо, не раз весьма резко отзывался об уродливых явлениях в жизни нашего города. И разве я не знал, что после стольких трудов, усилий, путешествий, при всей своей разносторонней образованности, он в конце концов вынужден был вести одинокую жизнь в четырех стенах своего дома, жизнь, какой я никогда бы себе не пожелал? Все это страшным бременем ложилось на мою душу, и сбросить его я мог лишь в мечтах о жизненном пути, диаметрально противоположном тому, который был мне предписан. Мысленно я уже отбросил занятия юриспруденцией и посвятил себя языкам, древности, истории и всему, что из этого вытекало.
Правда, величайшую радость мне неизменно доставляло поэтическое воплощение того, что я подмечал в себе, в других и в природе. Давалось мне это все легче и легче: тут действовал инстинкт, и никакая критика не приводила меня в замешательство; я, хоть и относился к своим творениям с некоторым недоверием, считал их разве что несовершенными, но отнюдь не никудышными. Пусть мне указывали на иные их недостатки, в глубине души я все же был убежден, что со временем они сделаются лучше и уж когда-нибудь мое имя с честью будет называться рядом с именами Гагедорна, Геллерта и других почтенных мужей. Но такое предназначение казалось мне пустым и меня не удовлетворяло; я хотел всецело предаться научным занятиям и, полагая, что глубокое понимание древнего мира будет способствовать совершенствованию моих собственных творений, намеревался подготовиться к академической деятельности, которая мне казалась наилучшим поприщем для юноши, стремящегося не только стать образованным человеком, но и содействовать образованию других.
Строя эти планы, я, конечно, имел в виду Геттинген. Все свои упования я возлагал на таких людей, как Гейне, Михаэлис и многие другие; заветнейшим моим желанием было сидеть в их аудиториях и внимать их словам. Но отец был непреклонен. Сколько ни старались повлиять на него некоторые из наших друзей, державшиеся моих убеждений, он стоял на том, что мне надо отправляться в Лейпциг. Тогда я, из соображений самозащиты, решил избрать образ жизни и Занятия, противные его воле и убеждениям. Упорство отца, который, сам того не сознавая, ополчался на все мои планы и замыслы, только пуще укрепляло меня в моей решимости, и я безо всякого пиетета слушал его разглагольствования касательно будущих моих занятий и того, как мне должно вести себя в академическом окружении и в свете.
Поскольку все мои надежды на Геттинген рушились, я обратил свой взор на Лейпциг. Эрнести представлялся мне ярким светочем, но и Морус вполне заслуживал доверия. В тиши я изобрел целый контркурс или, вернее, построил воздушный замок на довольно солидном фундаменте; мне даже представлялось романтически-почетным самому установить свой жизненный путь: фантастическим я этого не считал, хотя бы уже потому, что и Гризбах так поступил и все его за это восхваляли. Затаенная радость узника, который сорвал с себя оковы и уже вот-вот перепилит решетку, не могла даже сравниться с той радостью которую испытывал я, видя, как уходят дни и приближается октябрь. Неприветливое время года, плохие дороги, о которых мне прожужжали уши, меня не страшили, мысль, что зимою мне предстоит на чужбине начать новую жизнь, нисколько не огорчала; мрачными мне представлялись только нынешние мои обстоятельства, а незнакомый мир — безмятежно светлым. Так слагались мои мечты, которым я отдавался всецело, уже предвкушая сужденные мне в чужедальней стороне радости.
Как ни заботливо скрывал я ото всех свои планы и предположения, от сестры утаить я их не мог; поначалу ее испугали мои намерения, но потом она успокоилась, когда я пообещал взять ее к себе, как только я завоюю блестящее положение и благосостояние.
И вот настал столь страстно ожидаемый день святого Михаила, когда я совместно с книгопродавцем Флейшером и его супругой, урожденной Триллер (она решила посетить своего отца в Виттенберге), покинул наконец почтенный город, родивший и взрастивший меня, с таким равнодушием, словно никогда и не собирался в него возвращаться.
Так расстаются в поворотный час дети с родителями, слуги с господами, клиенты с милостивцами, и эта попытка встать на собственные ноги, обрести самостоятельность, жить для себя и по-своему, независимо от того, удастся она или нет, всегда согласна с волею природы.
Мы выехали через ворота Всех Святителей и вскоре оставили за собою Ганау. Дальше пошли места, прельщавшие меня своей новизною, хотя они и не слишком радовали глаз в эту пору года. Продолжительный дождь размыл дороги, и вообще-то находившиеся отнюдь не в нынешнем своем хорошем состоянии; посему наше путешествие не было ни приятным, ни счастливым. Тем не менее сырой погоде я был обязан зрелищем природного феномена, надо думать, редчайшего, ибо больше я никогда ничего подобного не видел, да и от других не слышал, чтобы им случилось такое встретить. В ночное время между Ганау и Гельнгаузеном нам предстояло въехать на пригорок, но мы решили, несмотря на темноту, лучше пройти пешком этот кусок дороги, чем подвергать себя опасной трудности подъема. Внезапно по правую руку мне открылся провал, и в нем нечто вроде таинственно освещенного амфитеатра. Бесчисленные огоньки, лестницей, один над другим, мерцали в воронкообразном углублении, ярчайшим своим светом ослепляя глаза. Но еще больше будоражило зрение то, что они не оставались на месте, а прыгали туда и сюда, вниз — вверх, вверх — вниз и в разные стороны. Большинство, впрочем, продолжало светить спокойно. Меня насилу оторвали от этого зрелища, которое я хотел понаблюдать. Почтальон на все наши расспросы отвечал, что ничего не слышал о чудесном явлении, но вблизи-де находится старая каменоломня, средний карьер которой заполнился водой. Был ли то пандемониум блуждающих огней или сонм светящихся существ — я решать не берусь.
В Тюрингии дороги стали еще хуже, и, на беду, когда спустилась ночь, карета наша застряла под Ауерштедтом. Место это было безлюдное, и мы делали все возможное, чтобы вытащить ее. Я усердствовал что было сил и, видимо, растянул грудные связки, так как позднее ощутил боль в груди, которая то исчезала, то возвращалась и лишь через много лет окончательно меня отпустила.
Однако в эту же самую ночь, словно предназначенную для смены судеб, после нежданно счастливого события мне было суждено испытать еще и глупейшую неприятность. В Ауерштедте нам встретилась супружеская чета, поздно прибывшая из-за тех же дорожных неурядиц; муж, видный, осанистый мужчина в цвете лет, и красавица жена. Они любезно пригласили нас отужинать вместе с ними, и я был положительно счастлив, когда эта очаровательная дама обращалась ко мне с приветливым словом. Но когда меня послали узнать, скоро ли будет подан суп, которого все нетерпеливо ждали, то с непривычки к бессонным ночам и дорожным передрягам мною вдруг овладела такая непреодолимая сонливость, что я, в точном смысле слова, спал на ходу; воротившись в комнату со шляпой на голове, я не заметил, что все уже творят застольную молитву, и, в свою очередь, с серьезной миною встал за стулом, не подозревая даже, что самым комическим образом нарушаю их молитвенное настроение. Мадам Флейшер, особа весьма неглупая, находчивая и притом острая на язык, попросила незнакомцев, еще прежде, чем все сели за стол, не удивляться тому, что они видят: ее юный дорожный спутник, мол, предрасположен к учению квакеров, которые, воздавая почести богу и королю, непременно покрывают голову. Красавица не могла не рассмеяться, отчего сделалась еще красивее, я же отдал бы все на свете, чтобы не быть причиной веселости, которая удивительно шла к ней. Не успел я снять шляпу, как эти истинно светские господа прекратили шутки и попотчевали нас превосходным вином из своего дорожного погребца, так что мою сонливость, недовольство собой и неприятные воспоминания обо всех бедах как рукой сияло.
В Лейпциг я приехал во время ярмарки, что очень меня обрадовало: здесь передо мною была все та же знакомая с детства торговая сутолока, те же товары и торговцы, только что на других местах и в другом порядке. Я с большим интересом прошелся из конца в конец рыночной площади и по лавкам, но больше всего меня поразили удивительными своими нарядами жители восточных краев, поляки, русские и в первую очередь греки, на чьи достойные фигуры в простых и величавых одеждах я не мог вдосталь насмотреться.
Но эта суета скоро отошла, и у меня открылись глаза на самый город с его прекрасными, высокими, схожими между собой зданиями. Мне он очень нравился, да и вообще нельзя отрицать, что в Лейпциге, особенно когда наступает затишье воскресных и праздничных дней, есть что-то весьма импозантное, — но и ночью, при лунном свете, полутемные или полуосвещенные его улицы нередко соблазняли меня на ночные прогулки.
Надо, однако, сказать, что после того, к чему я привык, это новое окружение никак меня не удовлетворяло. Лейпциг не воскрешает перед нашим взором старые времена; в его памятниках олицетворена новая, недавно прошедшая эпоха оживленной торговли, зажиточности и богатства. Но зато уж совсем в моем вкусе были грандиозные на вид здания с фасадом, выходившим на две улицы, которые, чуть не до небес замкнув собою дворы, походили на могучие крепости, едва ли не на целые города. В одном из этих необыкновенных сооружений, в Фейеркугеле, между старым и новым Неймарктом, поселился и я. Книготорговец Флейшер во время ярмарки занимал здесь две премилые комнаты с окнами во двор, проходной и потому достаточно оживленный; я же по сходной цене нанял их на все остальное время. Моим соседом оказался богослов, весьма сведущий в своем деле, благомыслящий, но бедный и вдобавок страдавший какою-то глазной болезнью, что заставляло его постоянно тревожиться о своем будущем. Эту болезнь он нажил постоянным чтением вплоть до глубоких сумерек, а иной раз, чтобы не тратить дорогостоящего масла, и при лунном свете. Старуха хозяйка пеклась о нем, да и ко мне относилась с неизменным дружелюбием, заботясь о нас обоих.
Теперь я поспешил со своим рекомендательным письмом к надворному советнику Бёме — он был учеником и преемником Маскова и читал историю и государственное право. Маленький, коренастый, живой человечек, он весьма любезно принял меня и представил своей супруге. Оба они, так же как и все те, кому я еще нанес визиты, очень меня обнадежили касательно моего будущего здесь, но я ни разу не обмолвился о том, что было у меня на уме, хотя только и выжидал удобной минуты, чтобы, забросив юриспруденцию, отдаться изучению древности. Я предусмотрительно дождался, покуда уедут Флейшеры, дабы дома раньше времени не прознали о моих намерениях. Но затем, не желая откладывать дела в долгий ящик, отправился к надворному советнику Бёме для доверительного разговора и последовательно и откровенно изложил ему свой план. Но речь моя была встречена в штыки. Как историк и профессор государственного права он ненавидел все, что отдавало искусством. Да еще, на беду, пребывал в натянутых отношениях с теми, кто им занимался, а Геллерта, о котором я имел неосторожность отозваться с сугубым почтением, просто терпеть не мог. Уступить этим людям пылкого слушателя, самому же его лишиться, да еще при таких обстоятельствах, — нет, на это он не пожелал пойти. Посему он тут же на месте прочитал мне страстную проповедь и заявил, что без дозволения моих родителей не допустит меня до такого шага, даже если бы и одобрил его, чего, конечно, случиться не может. Далее он учинил разнос филологии и лингвистике и уж тем паче поэтическим упражнениям, страсть к каковым сумел усмотреть в моих словах. В заключение он заметил, что если я стремлюсь изучать древних авторов, то лучше всего это сделать, занимаясь юриспруденцией. Он привел мне в пример таких изысканных юристов, как Эверхард Отто и Гейнекциус, посулил мне золотые горы от изучения римских древностей и истории нрава — словом, с непреложной ясностью доказал, что если впоследствии, по зрелом размышлении и с дозволения родителей, я все-таки решу осуществить свое намерение, то это не будет значить, что я потерял время понапрасну. Затем он любезно попросил меня еще раз все обдумать и сообщить ему свое решение, ввиду скорого начала лекций не подлежавшее отлагательству.
С его стороны было очень любезно не принуждать меня к немедленному выбору. Надо сказать, что при моей юношеской податливости его аргументы и вескость, с которой он их приводил, оказали свое действие, и я уже видел трудности и сомнительные стороны замысла, казавшегося мне столь легко выполнимым. Вскоре после этого разговора меня пригласила к себе фрау Бёме. Я застал ее одну. Уже немолодая, очень болезненная, она была бесконечно кротка и тиха, являя собой прямую противоположность мужу с его шумным благодушием. Она напомнила мне разговор, недавно состоявшийся между мной и ее мужем, и еще раз представила мне все дело так дружески, любовно и разумно, с таким широким взглядом на вещи, что я не мог в конце концов не сдаться, хотя и с некоторыми оговорками, принятыми во внимание противной стороной.
Далее муж ее составил программу моих занятий: мне предстояло слушать философию, историю права, «Институции» и еще многое другое. Я согласился, но выговорил себе право посещать также и курс истории литературы, читавшийся Геллертом по Штокгаузену, и практические занятия, которые он проводил.
Геллерт был на редкость любим и уважаем молодежью. Я уже успел его посетить и был им ласково принят. Невысокого роста, изящный, но не сухопарый, с кроткими, скорее грустными глазами, с прекрасным лбом, ястребиным, но не слишком крупным носом, красиво очерченным ртом и приятным овалом лица, он сразу располагал к себе. Попасть к нему оказалось нелегко. Два его фамулуса, словно жрецы, охраняли святилище, доступ в которое был открыт не для всякого и не во всякое время; впрочем, такая осмотрительность была вполне оправданна, ибо на то, чтобы принять и удовлетворить всех желавших поговорить с ним по душам, ему потребовался бы целый день, с утра и до вечера.
Лекции я поначалу посещал прилежно и аккуратно, но философия мне по-прежнему не давалась. В логике меня удивляло, что те мыслительные операции, которые я запросто производил с детства, мне отныне надлежало разрывать на части, членить и как бы разрушать, чтобы усвоить правильное употребление оных. О субстанции, о мире и о боге я знал, как мне казалось, не меньше, чем мой учитель, который в своих лекциях далеко не всегда сводил концы с концами. Но все шло еще сравнительно гладко до масленицы, когда на Томасплане, неподалеку от дома профессора Винклера, как раз в часы лекций стали продавать прямо со сковороды вкуснейшие горячие пышки, из-за чего мы обычно опаздывали и в наших записях явно обозначились проплешины, а к весне, вместе с таянием снега, стаяли и записи на последних страницах тетрадей.
С юридическими занятиями дело тоже обстояло не лучше: я уже знал ровно столько, сколько нам считал нужным сообщить профессор. Сперва я все ретиво записывал, но постепенно мое усердие пошло на убыль, мне наскучило наносить на бумагу то, что я уже многократно повторял с отцом и в форме вопросов и ответов навсегда удержал в своей памяти. Вред, который наносят молодежи в школе, излишне забегая вперед в разных науках, усугубляется еще тем, что в ущерб упражнениям в языках и усвоению необходимых знаний время и внимание учеников отвлекается на разнородные факты, и это скорее их забавляет, чем способствует истинному образованию, коль скоро факты преподносятся без должной связности и недостаточно методично.
Здесь хотелось бы вскользь упомянуть еще об одном обстоятельстве, пагубно отзывавшемся на студентах. Профессоры, как и другие должностные лица, не могут, конечно, принадлежать к одному поколению, но если молодые ученые, тем более умные и талантливые, так сказать, «учат учась» и стремятся идти впереди века, то это значит зачастую, что они пополняют свое образование за счет учеников, которым преподают не то, что нужно последним, а что необходимо самим преподавателям для разработки их научных замыслов. И напротив, многие профессоры старшего поколения уже давно топчутся на месте: обычно они сообщают своим слушателям воззрения большой давности, в значительной своей части уже признанные несостоятельными и отвергнутые эпохой. Отсюда возникает печальный конфликт, заставляющий юные Умы шарахаться от одной точки зрения к прямой ее противоположности, конфликт, который могут до известной степени сглаживать разве что профессоры среднего возраста, уже достаточно опытные и сведущие, но еще не утратившие деятельного стремления к усвоению нового и к самостоятельному мышлению.
При таких обстоятельствах я приобретал больше знаний, чем успевал приводить в систему, отчего во мне непрерывно возрастало недовольство; да и в житейской сфере я не был избавлен от разных мелких огорчений, впрочем почти неизбежных, когда попадаешь в другую среду и вынужден приспособляться к чуждому укладу жизни. Женщины сразу же осудили меня за мой гардероб, да я и впрямь прибыл в Лейпциг в довольно странной экипировке.
Мой отец пуще всего ненавидел, когда что-нибудь делалось зазря, когда попусту тратилось время или ему не находилось должного применения, и довел под конец свою страсть по части экономии времени и усилий до того, что наибольшим своим удовольствием почитал одним ударом убивать двух зайцев. Посему он никогда не держал в своем доме слугу, который не приносил бы еще какой-нибудь дополнительной пользы. Спокон веку он писал собственноручно, позднее же возымел возможность диктовать молодому человеку, о котором я выше уже упомянул; он также считал весьма выгодным брать в слуги портных, с тем чтобы они в часы, свободные от домашней работы, не только шили себе ливреи, но и обшивали бы отца и детей, а также занимались всякими починками. Отец сам закупал на ярмарках у иногородних купцов первосортные сукна и другие материи и бережно хранил их; помнится, он всегда посещал господ фон Левенихов из Ахена и, еще когда я был ребенком, знакомил меня с разными выдающимися негоциантами.
Итак, добротного сукна разных сортов, саржи, геттингенских материй и всевозможных подкладок у нас имелось в достатке; казалось, мы могли выглядеть вполне прилично, но все дело портил крой: ежели домашний портной достаточно знал свое ремесло, чтобы сшить и отделать платье, скроенное мастером, то у нас ему приходилось кроить самому, что далеко не всегда приводило к желательным результатам. К этом; следует еще добавить, что отец, содержавший свой гардероб в образцовом порядке и чистоте, в продолжение долгих лет больше хранил его, чем носил; таким образом он пристрастился к несколько устарелому покрою и отделкам, отчего наши наряды выглядели еще более странно.
Точно так же был изготовлен гардероб, с которым я отправился в университетский город; он был достаточно полон и солиден, в нем имелись даже кафтаны с галунами. Привыкнув к такого рода платью, я считал себя вполне одетым, но вскоре мои приятельницы меня убедили, сперва легким поддразниванием, а затем и разумными представлениями, что вид у меня такой, словно я с луны свалился. Сколь ни досадно мне это было, я сначала не знал, как помочь горю. Но когда однажды на подмостках театра в таком же костюме предстал передо мной господин фон Мазурен, излюбленный в то время тип провинциального дворянина, и зрители до упаду хохотали не столько над его нелепым поведением, сколько над нелепостью его платья, я набрался храбрости и обменял весь свой гардероб на новомодный, приличествующий здешним местам, отчего он, конечно, изрядно приуменьшился.
После того как я покончил с этим испытанием, мне суждено было выдержать еще другое, куда более неприятное, ибо тут уже ничего нельзя было выбросить или обменять.
Дело в том, что я родился и вырос в местах, где говорят на верхненемецком диалекте, и хотя отец пекся об относительной чистоте нашей речи и с раннего детства указывал нам на иные недостатки, присущие местному диалекту, приучая нас говорить более литературно, в меня все же очень прочно въелись многие диалектизмы, хотя бы уже потому, что они мне нравились своей простодушной ладностью, и я продолжал с удовольствием пользоваться ими, за что всякий раз выслушивал замечания от моих новых сограждан. Немцы, изъясняющиеся на верхненемецком диалекте, и уж тем более уроженцы рейнских и майнских берегов (ведь большие реки, как и приморские края, всегда веселят и будоражат человека) любят пересыпать свою речь иносказаниями и намеками, благодушными поговорками и меткими пословицами. Такая речь хоть порой и кажется грубоватой, но всегда бьет прямо в цель и, что греха таить, нередко уснащается словечками, непригодными для изнеженного уха.
Каждая провинция любит свой диалект: он является животворным источником для ее души. Известно, с каким упорством мейсенское наречие одно время вытесняло и даже вытеснило все прочие. Долгие годы мы страдали от его педантического засилья, покуда другие провинции не набрались отваги восстановить свои стародавние права. Что должен вытерпеть молодой и горячий человек от такого непрестанного менторства, легко вообразит себе тот, кому уяснится, что заодно с выговором, который, на худой конец, можно еще изменить, он должен поступиться и своим образом мыслей, своей фантазией, своими чувствами и врожденным характером. И подумать только, что это несносное требование предъявлялось мне образованными господами и дамами, с чьими убеждениями я никак не мог согласиться, ибо чувствовал их неправоту, хоть точно и не знал, в чем она заключается. Мне были запрещены парафразы из Библии, равно как пользование простодушными оборотами старинных хроник. Мне вменялось в обязанность позабыть, что я читал Гейлера фон Кайзерсберга, и отказаться от поговорок, которые не ходят вокруг да около, а сразу берут быка за рога; я должен был поступиться всем, что усвоил с юношеским пылом и жаром. Я чувствовал себя внутренне парализованным и отныне не знал, в каких выражениях говорить о простейших вещах. К тому же я слышал, что надо говорить, как пишешь, и писать, как говоришь, мне же изустная речь и литературный язык всегда представлялись явлениями друг от друга весьма отличными и способными постоять за свои, далеко неоднородные, права. На мейсенском диалекте мне приходилось слышать многое, что на бумаге выглядело бы весьма непрезентабельно.
Уже по тому, какое большое влияние силились оказать на молодого студента образованные господа и дамы, ученые и прочие лица, вращавшиеся в избранном обществе, каждый поймет, что мы находимся в Лейпциге. Любому немецкому университету присущ свой особый колорит; поскольку в нашем отечестве не может укорениться единая форма образования и просвещения, каждая немецкая земля упорно держится за свое и доводит до крайности свои характерные отличия. Все это относится и к университетам. В Йене и Галле грубость нравов достигла высшей точки; там была в чести лишь физическая сила, умение владеть рапирой да неистовые драки; разгул и кутежи были той почвой, на которой только и могли возникнуть и процвести эти дикие нравы. Отношение студентов к жителям названных университетских городов, при всех прочих различиях, сходствовало в одном: дикарь-чужеземец не питал ни малейшего уважения к горожанам, на себя же смотрел как на существо, коему дано право позволять себе любую вольность, любую дерзость. Напротив, в Лейпциге студент должен был усвоить галантное обхождение, ежели он хотел поддерживать общение с богатыми, добропорядочными и чинными жителями этого города.
Однако в галантности, когда она не сочетается с широтою взглядов и с широким образом жизни, есть что-то ограниченное, окаменелое и, если угодно, даже нелепое; поэтому дикие охотники с берегов Заале взирали с презрением на кротких пастушков с берегов Плейсе. «Забияка» Цахариэ навсегда останется ценнейшим свидетельством той эпохи; да и все его сатирические поэмы сослужат верную службу тому, кто пожелает составить себе представление о тогдашней жизни и нравах, пусть еще робких, но любезных нашему сердцу своей ребяческой невинностью.
Обычаи и нравы, порожденные определенным общественным укладом, чрезвычайно живучи, и в мое время еще очень многое в Лейпциге напоминало веселые пародии Цахариэ на героический эпос. Из моих однокашников только один почитал себя достаточно богатым и независимым, чтобы эпатировать местных жителей. Он пил на брудершафт со всеми извозчиками, усаживал их, как господ, к себе в коляску, а сам влезал на козлы; до смерти любил вываливать их, не отказываясь щедро расплачиваться за разбитые дрожки и расшибленные носы, в остальном же никого не обижал, а только над всеми насмешничал. Однажды, в погожий день, когда на улицах было полно народу, он и его приятель увели двух ослов у мельника и, одетые по-городскому, в чулках и туфлях, с самым серьезным видом прогарцевали по улицам Лейпцига на глазах у чинной публики, гулявшей на Крепостном валу. Когда люди благомыслящие стали ему за это выговаривать, он, нимало не смутясь, ответствовал, что хотел только нагляднее себе представить, как выглядел господь наш Иисус Христос, въезжая на ослице во град Иерусалим. Впрочем, подражателей он себе не нашел, да и друзей у него было немного.
Дело в том, что более или менее зажиточные и благовоспитанные студенты имели все основания почтительно относиться к торговому сословию и тем более соблюдать внешнюю учтивость, что купечество являло собой образец французских просвещенных нравов. Профессоры, имея собственное состояние и солидные доходы, не так уж зависели от своих студентов, а местные жители, получившие образование в княжеских лицеях и гимназиях, не отваживались пренебрегать установившейся традицией, боясь повредить своей карьере. Близость Дрездена, внимание, с которым оттуда следили за лейпцигской жизнью, истинное благочестие университетского начальства не могли не оказывать нравственного, даже религиозного влияния на студенчество.
Поначалу такой образ жизни не был мне неприятен; рекомендательные письма открыли мне доступ в хорошие дома, да и в близких к ним кругах меня тоже встречали приветливо. Но вскоре, почувствовав, что это общество многое во мне порицает, что, нарядившись в угодное им платье, я как бы взял на себя обязательство вторить им и во всем остальном, в то же время вполне сознавая, что университет ничуть не оправдывает моих ожиданий и слишком мало дает мне в смысле знаний и развития, я как-то обленился, стал пренебрегать визитами и прочими светскими обязанностями и охотнее всего вовсе бы порвал со светской жизнью, если б меня не удерживало боязливое уважение к профессору Бёме и доверчивая привязанность к его супруге. Профессор, к сожалению, не обладал счастливой способностью общаться с молодыми людьми и в нужный момент поддерживать их своим участием. Беседы с ним мне никакой пользы не приносили; напротив, его супруга искренне мною интересовалась. Болезненность не позволяла ей выходить из дому, но она тем охотнее приглашала меня к себе и умела тактично и неприметно преподать мне то, что называется светским обхождением, которого мне, несмотря на хорошее воспитание, недоставало во многом. Вечера с нею коротала ее единственная подруга, дама куда более властная и наставительная. Я ее не терпел и частенько, ей назло, выкидывал разные штуки, от которых, казалось бы, меня уже отучила мадам Бёме. Но обе они были со мной достаточно терпеливы: учили меня играть в пикет, ломбер и прочие игры, по тогдашним понятиям необходимые в обществе.
Но больше всего мадам Бёме повлияла на развитие моего вкуса, правда негативным образом, в чем она сходствовала с большинством тогдашних критиков. Водянистая поэзия Готшеда, точно библейский потоп, затопила в ту пору весь немецкий мир и уже подступала к вершинам самых высоких гор. Много потребовалось времени на то, чтобы схлынули эти воды и просохла бы земля, а так как обезьянничающие поэтов в любую эпоху находится превеликое множество, то подражательные, пустопорожние, водянистые стихи изливались тогда в таком количестве, что теперь мы этого себе и представить не можем. Объявлять плохое плохим — вот что составляло всю соль и даже триумф тогдашней критики. Таким образом, любой мало-мальски думающий человек, знакомый поверхностно с древней и чуть поосновательнее с новейшей литературой, считал, что он снабжен мерилом на все случаи жизни. Мадам Бёме, как женщина образованная, не выносила всего незначительного, слабого и пошлого; к тому же она была женой человека, жившего в открытой вражде с поэзией и не принимавшего даже того, с чем она кое-как мирилась. Некоторое время она терпеливо слушала, когда я читал ей стихи или прозу именитых и широко известных писателей; я тогда, как и теперь, помнил наизусть почти все, что мне хоть сколько-нибудь нравилось, но надолго ее кротости не хватило. Первое, что она ниспровергла с ужасающей жестокостью, была комедия Вейсе «Поэты по моде», которая имела большой успех, ставилась уже неоднократно, меня же прямо-таки восхищала. Вдумавшись хорошенько в эту пьесу, я не мог не признать резонности ее замечаний. Несколько раз я отваживался читать ей и кое-что из своих стихов, разумеется, анонимно, но с ними она обошлась не лучше, чем со всеми прочими. Итак, за кратчайший срок беспощадная рука скосила прекрасные цветущие луга немецкого Парнаса, по которым я так любил бродить, и я же сам был приговорен еще и ворошить это сено, глумливо провозглашая мертвым то, что совсем недавно доставляло мне столь живую радость.
Поучения мадам Бёме поддержал, сам того не зная, профессор Морус, человек необыкновенно мягкий и благожелательный, с которым я свел знакомство за обедом у надворного советника Людвига. Он принимал меня весьма дружелюбно всякий раз, когда я решался его навестить. Расспрашивая его о древней литературе, я не скрывал своего пристрастия и к иным новейшим авторам. Он отзывался о них спокойнее, чем мадам Бёме, но — увы! — это значило, что тем основательнее их распекал, и я, сперва с величайшей досадой, потом с изумлением, не мог в конце концов не признать его правоты.
Ко всему этому присоединились еще и иеремиады Геллерта, с помощью которых он силился отвратить нас от поэзии на своем семинаре. Он требовал от нас прозаических сочинений, каковые и рассматривал в первую очередь, стихи же почитал лишь неизбежным довеском. Но что было всего печальнее, так это то, что моя проза отнюдь не заслуживала его одобрения: я по-прежнему любил, чтобы в ее основе лежал небольшой роман, преимущественно в письмах. Мотивы моих прозаических опытов были излишне страстны, стиль выходил за рамки трезвой прозы, а содержание и вправду едва ли свидетельствовало о глубоком знании человеческой души. Все это никак не отвечало вкусам моего учителя, хоть он и просматривал мои работы наравне с другими, исправлял их красными чернилами и кое-где украшал моралистическими сентенциями. Многие из этих листков я долго хранил среди прочих реликвий, но с течением времени они, к сожалению, куда-то запропастились.
Если бы люди многоопытные и пожилые поступали как истинные педагоги, то им не следовало лишать молодого человека того, что доставляет ему радость, хотя бы даже и сомнительную, если им нечего предложить ему взамен. Все негодовали на мои пристрастия и склонности, но то, что им противопоставлялось, было либо столь далеко от меня, что я не мог различить его достоинств, либо, напротив, так близко, что нельзя было разобрать, чем это лучше того, что подвергалось их осуждению. Я был окончательно сбит с толку и возлагал все мои надежды на лекции Эрнести о Цицероновом «Ораторе»; и вправду, слушая их, я кое в чем, пожалуй, разобрался. Но то, что было для меня самым главным, и здесь осталось без ответа. Я жаждал мерила для суждений, но мало-помалу убеждался, что ни у кого этого мерила нет; ни один человек не был согласен с другим, даже ссылаясь на одни и те же примеры. Какому суждению можно было довериться, если даже Виланд подвергался нападкам за свои произведения, очаровавшие и захватившие тогдашнюю молодежь.
И надо же было случиться, что среди такого разлада, такой растерзанности моей души и разума я начал столоваться у надворного советника Людвига. Он был медик и ботаник, и мои сотрапезники, за вычетом Моруса, сплошь состояли из начинающих или почти уже закончивших свое образование врачей. В эти часы я так много наслушался разговоров о медицине или естественной истории, что мое воображение пошло по совсем другому руслу. С величайшим уважением произносились здесь имена Галлера, Линнея, Бюффона, и если иногда и возникал спор из-за ошибок, в которые они будто бы впадали, то в конце концов всех приводило к согласию общепризнанное величие их заслуг. Важные и занимательные темы этих бесед все время держали меня в напряжении. Постепенно я освоился с многими понятиями и широко разветвленной терминологией, присущей этим наукам, каковую схватывал тем скорее, что боялся в то время написать хотя бы одну стихотворную строчку, если даже она сама просилась на бумагу, или же прочитать стихотворение, зная, что, пусть оно мне сейчас и понравится, я завтра же должен буду признать его никуда не годным, наравне со многим другим.
Эта неустойчивость вкуса и суждений с каждым днем все больше меня тревожила, так что под конец я положительно впал в отчаяние. Я взял с собою в Лейпциг кое-что из моих ранних юношеских опытов, надеясь, во-первых, что они послужат мне к чести, и, во-вторых, что по ним я смогу в дальнейшем определять свои успехи; но я находился в том плачевном состоянии, в какое неминуемо впадает человек, когда от него требуют полной перестройки его образа мыслей и отказа от всего, что он доселе любил и почитал. Спустя некоторое время, после долгой борьбы с собою, я проникся таким презрением ко всем своим начатым и законченным творениям, что в один прекрасный день сжег в кухонной плите стихи и прозу, все свои планы, наметки и наброски, до смерти перепугав нашу старую хозяйку дымом и чадом, который от них поднялся.
КНИГА СЕДЬМАЯ
О состоянии немецкой литературы того времени писалось столь много и столь подробно, что каждый, кто ею хоть сколько-нибудь интересуется, может получить о ней достаточно полное представление, тем более что суждения об этой литературной эпохе друг другу мало в чем противоречат; я в этой связи хочу лишь высказаться — фрагментарно и выборочно — не столько даже о существе тогдашней литературы, сколько о моем взаимоотношении с нею. Поэтому прежде всего несколько слов о том, что особенно волнует публику, — о двух заклятых врагах спокойной жизни и всякого простодушно упоенного собою живого поэтического творчества: о сатире и о критике.
В мирное время каждый хочет жить, как ему заблагорассудится, — бюргер занимается своим ремеслом, своими делами и расчетами, а также веселыми развлечениями в часы досуга; писатель хочет сочинять, печатать свои труды и получать за них если уж не вознаграждение, то хотя бы одобрение, ибо верит, что сотворил нечто доброе и полезное. Но покой бюргера нарушает сатирик, покой автора — критик, в результате чего мирно настроенное общество приходит в состояние тягостной взбудораженности.
Сверстная мне литературная эпоха развилась из предшествующей путем противоречия. Германия, столь долгое время наводнявшаяся чужими народами, населенная разнородными племенами, была вынуждена в своем научном и дипломатическом обиходе изъясняться на чужих языках, а посему не имела возможности совершенствовать свой собственный. Вместе с новыми понятиями в наш язык вторглось бесчисленное множество нужных и ненужных иностранных слов; даже говоря о давно знакомых предметах, мы все чаще прибегали к иностранным словам и оборотам. Немец, за два столетия одичавший от столь плачевного вавилонского столпотворения, пошел на выучку к французам, чтобы усвоить их светскость, и к римлянам — чтобы перенять у них умение достойно выражать свои мысли. Все это сказалось и на нашей родной речи: постоянное обращение к чужеземным идиомам и частичное их онемечивание делало смехотворным наш разговорный и деловой стиль. К тому же немецкий язык слишком щедро вобрал в себя цветистость южных наречий и заодно уже механически перенес благородную чинность патрициев в провинциальный мирок немецких ученых, так что в конце концов немцы нигде не чувствовали себя дома и всего менее — у себя на родине.
Но поскольку и в эту эпоху нежданно возникали замечательные произведения, значит, живо было еще немецкое свободомыслие и жизнерадостность. Эти свойства, сочетаясь с нашей прямодушной основательностью, побуждали нас писать просто и непринужденно, избегая чужеземных вокабул, на общепонятном языке. Беда в том, что эти похвальные усилия распахнули врата широко распространенной отечественной пошлости, словно прорвалась плотина и в образовавшуюся пробоину хлынули великие воды. В то же время несгибаемый педантизм продолжал властвовать на всех четырех факультетах и лишь гораздо позднее стал сдавать крепость за крепостью, факультет за факультетом.
Итак, у людей светлого ума и свободных воззрений имелись теперь два объекта, чтобы против них восставать, на них упражнять свое остроумие, а поскольку дело было не бог весть какой важности, то и всячески над ними издеваться. Объектом издевок стал, во-первых, язык, изуродованный чужеземными словами, словообразованиями и оборотами, во-вторых, слабые произведения тех авторов, которые только и думали, как уберечься от упомянутых ошибок, не замечал, что, борясь с одним злом, они призывают на помощь другое.
Лисков, отважный молодой человек, первым осмелился атаковать одного малоодаренного, неумного писателя. В ответ тот новел себя так нелепо, что это дало Лискову повод подвергнуть его еще более жестокому разносу. Молодой критик вошел во вкус; его разящая насмешка была направлена против определенных явлений и определенных лиц, которых он презирал и стремился сделать презренными, преследуя их со страстной ненавистью. Но его жизненный путь был недолог; он умер рано, и память об этом беспокойном, горячем юноше почти изгладилась. Многого написать он не успел, но это не помешало его соотечественникам усматривать в его писаниях недюжинный талант и характер; впрочем, немцы всегда с особым благоговением чтут многообещавшие дарования, безвременно покинувшие этот мир. Как бы то ни было, но все вокруг указывали нам на Лискова, отзываясь о нем как о замечательном сатирике, чуть ли не превосходящем даже столь любезного читателям Рабенера. Но многому научиться у него нам не удавалось: смысл его сатирических произведений сводился, собственно, лишь к тому, что глупость надлежит почитать глупостью, а эта истина казалась нам вполне самоочевидной.
Рабенер получил отличное образование и был человеком веселого нрава, воспитанным, чуждым ненавистнических страстей; преуспел же он в жанре так называемой «общей» сатиры, ни в кого лично не метящей. Его осуждение пороков и глупостей исходит от чистых воззрений спокойного и здравого ума и от твердых нравственных представлений о том, каким должно быть человеческое общество. Он вышучивает людские ошибки и недостатки весело и беззлобно и, — как бы в предупреждение возможных упреков в недостаточной смелости, присущей его писаниям, — твердо отстаивает свое убеждение, согласно которому исправление дураков путем их осмеяния отнюдь не является безнадежным предприятием.
Личность, подобная Рабенеру, не скоро появится вновь. В качестве дельного, исполнительного чиновника он стяжает себе доброе имя в кругу своих сограждан и доверие властей предержащих; а наряду с этим, в часы досуга, занимается веселым изничтожением всего, что его окружает. Педантических ученых, суетных юнцов, всякого рода ограниченность и самодовольство он скорее вышучивает, чем предает беспощадному осмеянию; его насмешка чужда презрения. Точно так же шутит он и над собственными несчастьями, над своею жизнью и смертью.
То, как трактует этот писатель свои сюжеты, не отвечает требованиям эстетики. Правда, внешними формами он пользуется умело и достаточно разнообразно, но при этом явно злоупотребляет прямой иронией, то есть притворно хвалит достойное порицания и притворно же хулит достойное похвалы; но такой риторический прием хорош лишь при достаточно редком его употреблении, ибо умному человеку он вскоре наскучит, неумного же собьет с толку; льстит он разве что людям вполне заурядным, которых увлекает их собственная догадливость, позволяя им думать, что они умнее других. Но все то, что́ он делает и ка́к он это делает, свидетельствует о честности и веселой невозмутимости автора, а это всегда подкупает; широкий успех Рабенера у современников — следствие его неоспоримых нравственных достоинств.
Вполне понятно, что в обществе для персонажей «общих» сатир Рабенера подыскивались живые прототипы; отсюда же явствует, что многие на него обижались. Многословные заверения писателя в том, что он ни в кого лично не метил, показывают, как его задевали подобные наветы. Некоторые из его писем достойно увенчивают его как человека и писателя. Доверительное письмо, в котором Рабенер рассказывает, как при осаде Дрездена он потерял свой дом, свое имущество, свои рукописи и парики, не утратив при этом обычного душевного спокойствия и веселой бодрости, для нас ценно и рисует писателя с самой выгодной стороны, хотя иные современники и сограждане так и не могли простить ему счастливой способности столь легко относиться к жизни. Письмо, в котором он говорит об упадке сил и приближающейся смерти, тоже достойно всяческого уважения; Рабенер вполне заслуживает того, чтобы все разумные, жизнерадостные и жизнелюбивые люди почитали его за святого.
Я неохотно расстаюсь с этим человеком, добавив к сказанному только то, что его сатира всегда направлена на среднее сословие; кое-где в своих сочинениях он, правда, давал понять, что и высшее сословие ему знакомо, но его-де вряд ли желательно затрагивать. Можно с уверенностью сказать, что Рабенер не имел преемников, ибо ни у кого недостало смелости с ним сравняться или ему уподобиться.
Ну, а теперь о критике, и прежде всего о ее теоретических опытах! Мы не впадем в преувеличение, сказав, что в ту пору идеальное из области мирского отступило в область религии и едва брезжило даже в учении о нравственности; о высшем же принципе искусства никто тогда и понятия не имел. Нас потчевали «Критической поэтикой» Готшеда; она содержала немало дельного и поучительного, в ней давался исторический обзор всех родов поэзии, а также говорилось о ритме и различных его ходах. Поэтический талант, надо думать, предполагался, но речи о нем не было, зато пространно говорилось о том, что поэт должен обладать множеством знаний, быть ученым, иметь хороший вкус и прочее и прочее. Под конец нас отсылали к «Науке поэзии» Горация; мы с благоговением вчитывались в отдельные замечательные речения этой бесценной книги, но понятия не имели, что делать с нею в целом и какую можно извлечь из нее пользу.
Швейцарцы выступали в качестве антагонистов Готшеда; надо думать, они хотели идти иным путем, добиваться чего-то лучшего; нас уверяли, что они и вправду многого достигли, и мы принялись за изучение «Критической поэтики» Брейтингера. Перед нами открылся большой простор, вернее же — еще более запутанный лабиринт, который был тем утомительнее, что гонял нас по нему человек, внушавший нам полное доверие. Краткий обзор подтвердит сейчас справедливость этих слов.
Для поэтического искусства как такового основной принцип так и не был найден: уж слишком оно было духовно и неуловимо. Живопись — искусство, которое можно удержать глазами, путь которого шаг за шагом можно проследить с помощью внешних чувств, в большей мере поддавалось теоретическому обоснованию; англичане и французы уже теоретизировали по поводу пластических искусств, отсюда возникла мысль определить поэзию путем ее сравнения с этими искусствами. Пластические искусства создают образы для глаза, поэзия — для воображения; итак, прежде всего были подвергнуты рассмотрению поэтические образы. Началось все со сравнений, засим последовали описания — словом, разговор пошел обо всем, что доступно внешним чувствам.
Так, значит, образы! Но откуда же их заимствовать, как не из природы? Живописец, очевидно, подражал природе; почему бы, спрашивается, и поэту не делать того же? Но природе, такой, какою она предстает перед нами, едва ли следует подражать: ведь она полным-полна незначительного, недостойного, следовательно, надо выбирать; но что в таком случае определяет наш выбор? Надо отыскивать наиболее значительное. А что считать значительным?
Швейцарцы, видно, долго думали, прежде чем ответить на этот вопрос и под конец напали на мысль, правда несколько странную, но в общем-то недурную и даже забавную: наиболее значительно то, что ново; подумав еще немного, они решили, что чудесное всегда новее прочего.
Таким образом они свели воедино все требования, предъявляемые поэзии. Но — новая загвоздка: ведь чудесное-то может оказаться пустым и к человеку вовсе не относящимся. Поскольку же поэзия так или иначе сопряжена с человеком, то она должна быть и высоко моральна, иными словами — способствовать улучшению рода человеческого, а посему следует признать конечной целью поэтического произведения — по достижении всех прочих целей — его полезность. Согласно этим требованиям, надлежало подвергнуть испытанию все виды поэзии и по справедливости признать первейшим и наилучшим тот из них, который одновременно и подражал бы природе, и таил бы элемент чудесного, и — преследуя нравственную цель — был бы очевидно полезен. После долгих размышлений пальма первенства была решительно присуждена Эзоповой басне.
Как ни странен покажется теперь этот вывод, в то время он возымел недюжинное влияние даже на передовые умы. То, что Геллерт, а вслед за ним и Лихтвер посвятили себя этому жанру, что в нем пытался работать даже Лессинг, не говоря о многих других талантливых баснописцах, непреложно свидетельствует о великих надеждах, возлагавшихся тогда на этот вид поэзии. Теория и практика всегда взаимодействуют; по литературным творениям можно судить о воззрениях человека, а по его воззрениям предсказать, что он сотворит.
Но мы не вправе расстаться со швейцарской теорией, не воздав ей должного. Бодмер, несмотря на свои старания, всю жизнь оставался ребенком как в теории, так и в своей практике. Брейтингер, человек дельный, образованный и мыслящий, копнув поглубже, уяснил себе все требования, которым должна отвечать поэзия, более того, — и это, кстати сказать, вполне доказуемо, — смутно почувствовал недостатки своей методы. В этом смысле примечателен его вопрос: является ли описательное стихотворение Кенига о потешном лагере Августа Второго истинно поэтическим творением? Ответ его свидетельствует о незаурядной теоретической зоркости. К полному оправданию Брейтингера служит уже то, что, оттолкнувшись от ложной точки и описав почти весь круг своих умозаключений, он все же сумел увидеть главное и счел себя вынужденным сделать в конце книги своего рода дополнение, в котором признал, что поэзия главным образом призвана изображать обычаи, характеры и страсти, то есть внутренний мир человека.
Нетрудно себе представить, в какое смятение повергали юные умы все эти шаткие максимы, недопонятые законы и не сводящие концы с концами теории. Все старались держаться надежных образцов, но это ни к чему не приводило, ибо как иностранные, так и древние творения слишком далеко от нас отстояли, а в лучших отечественных всегда проглядывала ярко выраженная индивидуальность, на достоинства которой посягать не осмеливались, опасность же повторить их ошибки грозила каждому. Для того, кто чувствовал в себе творческую силу, такое положение вещей было нестерпимо.
Внимательно присматриваясь к недостаткам немецкой литературы, нетрудно было заметить, что ей не хватает содержания, и притом национального, ибо в талантах у нас никогда не было недостатка. Вспомним в этой связи хотя бы о Гюнтере, который может быть назван поэтом в полном смысле слова. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многоразличными знаниями и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической. Нам остается только дивиться легкости, с которой он умел в своих стихотворениях «на случай» возвысить любое состояние глубиною чувства, неожиданными сопоставлениями, образами, почерпнутыми из недр истории и древних мифов. Его стихи не свободны от грубой необузданности, и виною тому его время, его образ жизни, но прежде всего его характер или, вернее, его бесхарактерность. Он не умел себя укрощать, и потому его жизнь растеклась и растаяла, так же как его поэзия.
Гюнтер по-мальчишески прошутил счастливую возможность служить при дворе Августа Второго, где — в дополнение к прочему великолепию — хотели обзавестись еще и придворным поэтом, который придал бы должный размах и грацию королевским пиршествам, увековечив своим пером их преходящую пышность. Сдержанный, покладистый фон Кениг выполнял обязанности придворного поэта с бо́льшим достоинством и успехом.
Во всех самодержавных государствах содержание поэтических творений диктуется сверху. Потешный лагерь под Мюльбергом был, пожалуй, первой достойной темой, представившейся поэту, правда и на этот раз всего лишь провинциально-локальной, не имеющей общенационального значения. Встреча двух королей перед лицом многочисленной армии, весь военный и придворный чин, окружавший монархов, хорошо обученные войска, инсценированное сражение, пышные празднества как-никак тешили глаз и слух и представляли обильнейший материал для изобразительной и описательной поэзии.
Конечно, уже самый предмет, трактуемый в этой поэме, таил в себе порочное зерно: ведь и пышная потеха не может породить великих деяний. В этом произведении никто, кроме высоких особ, не привлекает к себе особого внимания, более того — поэт не смеет даже возвышать одного монарха, дабы не оскорбить другого. К тому же он должен был неукоснительно сообразоваться с придворным и государственным календарем, отчего характеристика отдельных лиц обретала нежелательную сухость. Недаром современники упрекали фон Кенига в том, что кони были им лучше выписаны, чем действующие лица. Но не к его ли чести следовало отнести именно то, что он всякий раз выказывает свое искусство там, где ему находится применение? Вскоре поэт, наверное, и сам уразумел, в чем кроется главное затруднение, не позволяющее ему успешно завершить начатую поэму; так или иначе, но он не продвинулся дальше первой песни.
Среди всех этих занятий и размышлений меня настигло неожиданное событие, пресекшее благие мои намерения досконально изучить нашу новейшую литературу. Мой земляк Иоганн Георг Шлоссер, в усердных трудах проведший свои университетские годы, вернувшись во Франкфурт-на-Майне, избрал для себя проторенный путь адвокатской деятельности, но его мятущийся дух, жаждущий всеобъемлющей продуктивности, не мог и не хотел вместиться в такие узкие рамки. Не долго думая, он поступил на должность тайного секретаря к герцогу Людвигу Вюртембергскому, жившему в Трептове. Этого владетельного герцога причисляли к благородным правителям, посвятившим свою жизнь просветительской деятельности в кругу своих близких и подданных, стремясь сплотить их во имя лучших и высоких целей. Герцог Людвиг был тем самым вельможей, который направил письмо самому Руссо, испрашивая совета касательно воспитания своих детей. Полученный им знаменитый ответ начинался с рискованной фразы: «Si j’avais le malheur d’être né prince…»[15]
Отныне Шлоссер должен был не только заниматься делами герцога, но и участвовать советом и делом в воспитании его детей, не будучи, впрочем, официальным их наставником. Благородный, воодушевленный наилучшими намерениями, безукоризненно нравственный юноша при первом знакомстве проигрывал из-за присущей ему суровой сдержанности, но его редкостная литературная образованность, превосходное знание языков и удивительное умение письменно выражать свои мысли, как в стихах, так и в прозе, делали приятной совместную жизнь с этим своеобразным человеком и постепенно притягивали к нему все сердца. Меня известили, что он проездом будет в Лейпциге, и я ждал его со страстным нетерпением. Но вот он приехал и остановился в Брюле на постоялом дворе, вернее — в трактире некоего Шёнкопфа. Шёнкопф, женатый на уроженке Франкфурта, почти круглый год обслуживал лишь малое число нахлебников, постояльцев же и вовсе не держал в своем тесном доме, но во время ярмарки у него столовалось много франкфуртцев, а иные из них, на худой конец, даже и останавливались в его трактире. Туда-то я и поспешил, чтобы свидеться со Шлоссером, как только он уведомил меня о своем прибытии. Не помню, видел ли я его раньше; теперь передо мной стоял молодой человек, хорошо сложенный, с круглым лицом, в сосредоточенном выражении которого не было, однако, ничего тупого. Его округлый лоб под кудрявыми волосами и густые черные брови скорее свидетельствовали о серьезном, строгом, может быть, даже упрямом характере. Он был как бы прямой противоположностью мне, на чем, вероятно, и держалась наша прочная дружба. Я восхищался его талантами и сразу же заметил, что он значительно превосходит меня уверенностью в себе и своих действиях. Я выказывал ему доверие и уважение, что укрепило его симпатию ко мне и приумножило снисходительность, с какою он должен был относиться к моей непостоянной, живой, всегда подвижной натуре, столь отличной от его душевного склада. Он прилежно штудировал англичан. Поп не был для него образцом, но в тем большей мере служил ему точкой опоры; в противовес «Опыту о человеке» последнего, но в том же роде и тем же размером он написал свою поэму, в которой христианская религия, по замыслу автора, должна была восторжествовать над деизмом Попа. Из большого запаса рукописей, бывшего при нем, он позднее показал мне свои стихотворные и прозаические сочинения на разных языках, которые побудили меня к подражанию и вновь повергли в страшное беспокойство. Но в работе я быстро нашел успокоение и стал писать обращенные к нему немецкие, итальянские, французские и английские стихи, материалом для которых служили наши беседы, всегда интересные и поучительные.
Шлоссер не хотел покинуть Лейпциг, не повстречавшись с местными именитыми учеными. Я охотно ввел его к тем, которые были мне знакомы; с теми же, кого я не знал, через него завязал почетное знакомство, ибо его, как человека высокообразованного, уже успевшею себя зарекомендовать и к тому же отличного собеседника, везде принимали с большим радушием. Не могу обойти молчанием наше посещение Готшеда; уж слишком оно характерно для убеждений и нрава этого человека. Готшед жил весьма комфортабельно в первом этаже «Золотого медведя», где Брейткопф-старший в пожизненное пользование предоставил ему квартиру в благодарность за барыши, которые принесли его торговле Готшедовы сочинения, переводы и постоянное сотрудничество.
Мы велели доложить о себе. Лакей провел нас в большую комнату и сказал, что его господин вскорости выйдет. Может быть, мы неправильно поняли его жест, но нам показалось, что он нас приглашает войти в соседнюю комнату. Мы так и поступили и здесь наткнулись на странную сцену: из противоположной двери в ту же самую минуту вышел Готшед в зеленом дамастовом халате на красной тафтяной подкладке, дородный широкоплечий гигант, с огромной плешью на непокрытой голове. Эта досадная небрежность, видимо, подлежала немедленному устранению, так как из боковой двери тотчас же выскочил лакей, держа на руке огромный парик (локоны ниспадали ему по самый локоть), и с испуганным видом протянул его своему господину. Готшед, не выказав ни малейшего неудовольствия, левой рукой взял парик и мигом насадил его себе на голову, правой же дал бедняге такую оплеуху, что тот, точь-в-точь как в комедии, опрометью выскочил из кабинета, после чего почтенный патриарх величественным мановением руки пригласил нас присесть и удостоил довольно долгого собеседования.
Покуда Шлоссер был в Лейпциге, я ежедневно обедал вместе с ним и другими весьма приятными сотрапезниками. Несколько молодых лифляндцев и их гувернеры, сын старшего придворного пастора Германа из Дрездена, впоследствии лейпцигский бургомистр, далее надворный советник Пфейль, автор «Графа фон П.», задуманного как своего рода pendant к геллертовской «Шведской графине», Цахариэ, брат поэта, и Кребель, редактор географических и генеалогических справочников, — все это были воспитанные, веселые и общительные люди. Цахариэ — самый тихий из всех; Пфейль — изящный человек, чем-то напоминавший дипломата, лишенный, впрочем, какой бы то ни было манерности и весьма благодушный; Кребель — настоящий Фальстаф, большой толстый блондин с выпуклыми живыми глазами, синими, как небо, неизменно жизнерадостный и доброжелательный. Все эти люди отнеслись ко мне более чем дружелюбно, отчасти из-за Шлоссера, отчасти же из-за собственного моего добродушия и всегдашней готовности быть полезным, так что мы без труда уговорились обедать вместе и впредь. После отъезда Шлоссера я отказался от стола у Людвига и стал чувствовать себя в их замкнутом кружке тем лучше, что мне очень нравилась дочь хозяина, хорошенькая и милая девушка. Во время обеда мне предоставлялась возможность обмениваться с нею нежными взглядами, радость, которой после несчастья с Гретхен я не искал и не испытывал даже случайно. Часы обеда я проводил с друзьями весело и не без пользы. Кребель искренне любил меня и умел, всегда в меру, меня поддразнивать и расшевеливать мою мысль; Пфейль же, напротив, принимал меня всерьез, стараясь влиять на мой образ мысли в определенном направлении.
В их кругу, из разговоров, примеров и благодаря собственным размышлениям, я понял, что первый шаг к выходу из этой водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи может быть сделан лишь путем непреложной точности и выразительной краткости. Стиль, господствовавший доселе, не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влеклось к одинаково плоскому. Писатели уже пытались одолеть сие широко распространившееся зло, и кое-кому это более или менее удавалось. Галлер и Рамлер были от природы склонны к энергической, сжатой речи; Лессинга и Виланда к тому же самому привела рефлексия. Первый в своих творениях становился все более эпиграмматичным, скупым на слова в «Минне», лаконическим в «Эмилии Галотти»; лишь позднее, в своем «Натане», он возвратился к прежнему веселому простодушию, которое так шло к нему. Виланд, еще достаточно многословный в «Агафоне», «Доне Сильвио», в «Комических рассказах», вдруг чудесным образом сделался краток и точен в «Мусарион» и в «Идрисе», не утратив при этом своего обаяния. Клопшток, столь многоречивый в первых песнях «Мессиады», — в своих одах и мелких стихотворениях, равно как и в трагедиях, напротив, удивительно лаконичен. Соревнуясь с древними, и прежде всего с Тацитом, он все дальше заходит в тупик в своем пристрастии к сжатости стиля и под конец становится уже непонятным и неудобочитаемым. Герстенберг, прекрасный, но причудливый талант, тоже старается не давать себе воли; его заслуги ценят, но радости от него мало. Глейм, по натуре склонный к благодушному многословию, впал в аскетическую краткость речи лишь однажды: в своих военных песнях. Рамлер, собственно, в большей мере критик, нежели поэт. Он начинает собирать все созданное немцами в лирике, но при этом обнаруживает, что ни одно стихотворение полностью его не удовлетворяет. Он выбрасывает лишние строчки. Редактирует, изменяет, чтобы придать стихотворениям хоть какую-то форму. Тем самым он наживает себе столько же врагов, сколько у нас любителей и поэтов, ибо каждый, собственно, узнает себя по своим недостаткам, а публика скорее интересуется несовершенной индивидуальностью, нежели тем, что создано или выправлено в соответствии с общепринятыми правилами и вкусом. Ритмика в ту пору еще не вышла из пеленок, и никто не знал, как укоротить ее детство. Поэтому возобладала поэтическая проза. У Гесснера и Клопштока явилось немало подражателей; находились, конечно, и приверженцы строгого метра, которые перелагали эту прозу рифмованными стихами. Но и к ним никто не питал благодарности, ведь они были вынуждены многое отбрасывать и, напротив, добавлять, и прозаический оригинал все равно всеми почитался лучшим. Но чем усиленнее становятся поиски насыщенного лаконизма, тем легче давать оценку произведениям, ибо значительное, не потонувшее к многословии, поддается обоснованным сравнениям. Одновременно возникло несколько разновидностей истинно поэтических форм; ведь чтобы о каждом предмете, подлежавшем воспроизведению, сказать лишь самое необходимое, надо было к каждому подойти по-особому, и хотя никто не ставил себе такой задачи, способов изображения стало больше, правда, иные из них были безобразны, и многие искания кончались полной неудачей.
Без сомнения, наилучшими природными данными обладал Виланд. Он рано созрел в тех идеальных сферах, где любит пребывать молодежь; но так как это пребывание было омрачено тем, что мы называем опытом, — раздорами со светом и женщинами, то он подался в область реального и в споре двух миров доставлял наивысшую радость себе и другим, ибо его талант всего прекраснее проявлялся именно в этом легком поединке между шуткой и сознанием суровости земного бытия. И сколько же блестящих его произведений пришлось на мои университетские годы! «Мусариои» произвела на меня сильнейшее впечатление, и я, как сейчас, помню, когда и где Эзер дал мне прочитать пробные листы этой вещи. Передо мною, так мне казалось, оживали античные времена! Все пластическое в Виландовом таланте воплотилось здесь с наибольшим совершенством, а так как проклятый злосчастной трезвостью ума Фаниас-Тимон под конец примиряется со своей возлюбленной и со всем миром, то нам поневоле хотелось заодно с ним пережить и его человеконенавистническую пору. Вообще Виландовым произведениям охотно приписывали насмешливое неприятие возвышенного образа мыслей, каковой, стоит им чрезмерно увлечься, часто переходит в бесплодное мечтательство. Автору охотно прощали его насмешки над тем, что принято считать истинным и достойным уважения, тем более что эти вопросы, как явствовало из его творений, были ему всего дороже.
О том, как убоги были критические оценки произведений Виланда, нетрудно составить себе представление, обратившись к первым томам «Всеобщей немецкой библиотеки». Хотя Виландовы «Комические рассказы» в одном из них и удостоились почетного упоминания, но — увы! — сколько-нибудь глубокого проникновения в поэтическую своеобычность писателя там не обнаружишь. Рецензент, как большинство тогдашних критиков, воспитал свой вкус на избитых образцах. Он даже не догадывался, что нельзя судить о пародийном произведении, не имея все время перед глазами благородного, прекрасного оригинала, потому что как иначе установить: удалось ли пародисту подметить в нем слабые и смешные стороны или что-нибудь из него позаимствовать, а не то — под видом подражания — самому изобрести нечто ценное? Но это рецензенту и в голову не приходило; он ограничивался одобрением или порицанием отдельных отрывков целостного произведения. По собственному признанию автора рецензии, им было подчеркнуто столько мест, пришедшихся ему по вкусу, что для одного их перечня не сыскалось бы места в журнале. А ежели вспомнить, что даже весьма удачный перевод Шекспира «Всеобщая немецкая библиотека» встретила восклицанием: «По правде сказать, такого писателя, как Шекспир, и вовсе не следовало бы переводить», то едва ли приходится доказывать, как безнадежно отстал этот печатный орган от духа времени и почему молодым людям, способным чувствовать искусство, приходилось искать себе новые путеводные звезды.
Материал, в какой-то мере определяющий и поэтическую форму произведения, немцы заимствовали отовсюду. Им мало или вовсе не приходилось разрабатывать сюжеты, насыщенные национальным содержанием. «Герман» Шлегеля лишь робко намекал на такую возможность. Пристрастие к идиллическому жанру получило широчайшее распространение. Идиллии Гесснера, при всей их бесхарактерности, обладали немалым обаянием и детской наивностью, это позволяло думать, что и он был бы способен обратиться к национально характерному началу. Не выходили из сферы отвлеченной человечности и поэтические произведения, стремившиеся воссоздать своеобразие чужой национальности, к примеру — еврейские пасторали и прочие патриархальные мотивы, заимствованные из Ветхого завета. «Ноахида» Бодмера — чистейший символ тех водных хлябей, которые грозили затопить немецкий Парнас, но теперь, пусть еще очень медленно, все же убывали. Великое множество посредственных умов вконец укачала мертвая зыбь анакреонтического пустозвонства. Лаконическая точность Горация понуждала немецких поэтом вырабатывать в себе, все с той же замедленной постепенностью, это ценное свойство. Комикогероические поэмы, обычно бравшие себе за образец «Похищение локона» Попа, также не содействовали приближению лучшей поэтической эры.
Не могу обойти молчанием еще одну тогдашнюю выдумку, ка первый взгляд достаточно глубокомысленную, но по сути смехотворную. Немцы понабрались богатейших исторических сведений обо всех родах поэзии, в которых преуспели разные нации. Готшеду удалось сколотить в своей «Критической поэтике» целую систему полок и полочек, по существу уничтожившую самое понятие поэзии, и заодно доказать, что и немцы уже успели заполнить эти полки образцовыми произведениями. Так оно продолжалось и впредь. Всякий год сия коллекция пополнялась, но всякий же год одна работа вытесняла другую из сферы, в которой та еще так недавно блистала. Теперь у нас уже имелись если не свои Гомеры, то Вергилии и Мильтоны, если не Пиндар, то Гораций; не замечалось недостатка и в Феокритах. Таким вот образом мы тешили себя сравнениями с великими чужеземцами, в то время как число поэтических творений все возрастало и наконец-то появилась возможность сравнивать достоинства наших собственных поэтов.
Пусть в вопросах вкуса мы еще хромали на обе ноги, но нельзя не признать, что в ту самую пору в протестантской части Германии и в Швейцарии уже пробивалось к свету то, что мы обычно называем человеческим разумом. Школьная философия, заслуга которой в том всегда и состояла, что она на любой вопрос тотчас же давала ответ согласно принятым ею исходным положениям, однажды установленному порядку и определенным рубрикам, вдруг из-за нередко темного и очевидно бесполезного своего содержания, из-за некстати применяемого ею, вполне, впрочем, почтенного, метода и, наконец, из-за чрезмерного количества предметов, ею затрагиваемых, сделалась в глазах профанов чем-то чуждым, неудобоваримым, а под конец и вовсе ненадобным. Кое-кто уже пришел к убеждению, что природа дала ему довольно светлого и здравого смысла, чтобы составить себе ясное представление о предметах и, руководствуясь таковым, добиться результатов, себе и другим на благо, не хлопоча о необъятно-всеобщем и не спрашивая себя: существует ли метафизическая связь между отвлеченнейшими вещами, не слишком-то нас касающимися? Попытка не пытка! Люди открыли глаза, стали смотреть прямо перед собой, удвоили свое внимание, усердие, расторопность и порешили, что тот, кто может правильно судить и действовать в своем более узком круге, не оплошает, взявшись рассуждать и о том, что лежит далеко за его пределами.
В согласии с таким убеждением, каждый был вправе не только философствовать, но и мнить себя философом. Философия отныне была не чем иным, как более или менее здравым и понаторевшим в умствовании человеческим разумом, дерзнувшим подняться в сферу всеобщего и толковать о внешнем и внутреннем опыте. Отчетливая ясность мысли и особого рода умеренность, а под таковой понимались способность держаться «золотой середины» и признавать относительную правоту любого мнения, снискали доверие и уважение к подобным писаниям и устным высказываниям; так что в конце концов нашлись свои философы на всех факультетах и во всех сословиях, не исключая простых ремесленников.
Вступив на тот же путь, богословы неизбежно должны были прийти к идее так называемой естественной религии, и на вопрос, способен ли свет природы приблизить нас к познанию бога и к установлению лучшего нравственного миропорядка, возымели отвагу, не вдаваясь в излишнее глубокомыслие, отвечать положительно. Под углом все того же принципа умеренности были признаны одинаковые права за всеми позитивными религиями, отчего каждая из них казалась одинаково безразличной и ненадежной. Впрочем, ни одна из них, по существу, не отрицалась; а так как Библия, превышавшая богатством содержания любую другую книгу, давала обильнейший материал для раздумий и множество поводов для суждений о делах человеческих, то она и теперь могла по-прежнему служить основой церковных проповедей и прочих религиозных наставлений.
Но и этой книге, подобно всем мирским писаниям, была предначертана своя судьба, в ходе времен ставшая неотвратимой. До сих пор всеми принималось на веру, что книга книг проникнута единым духом, более того — сотворена духом господним, как бы написана со слов вездесущего бога. Но уже давно и верующие и неверующие отмечали разночтения, встречающиеся в различных частях Святого писания, кто глумясь над таковыми, кто, напротив, стараясь их оправдать. Англичане, французы, немцы, с большей или меньшей яростью, с остроумием, дерзостью и веселым задором нападали на Библию, и точно так же за нее вновь и вновь вступались серьезные и благомыслящие представители всех наций. Что касается меня лично, то я любил и ценил эту книгу, ибо едва ли не ей одной был обязан своим нравственным формированием; в меня глубоко запали отображенные в ней события, ее наставления, символы, притчи, и все это так или иначе продолжало на меня воздействовать. Поэтому мне были не по душе несправедливые, насмешливые нападки и кривотолки; но дело дошло уже до того, что и поборники Библии охотно приняли — с целью защитить несообразности отдельных мест Святого писания — ходовой довод, согласно коему утверждалось, что и господь бог должен был сообразоваться с кругом представлений и с умственным уровнем человека и что даже боговдохновенные мужи не в силах начисто отрешиться от своего права и ограниченных представлений, а посему простой пастух Амос никак не мог говорить языком Исайи, который, по преданию, был княжеским сыном.
Из таких убеждений и умонастроений неизбежно должен был развиться — тем более при возраставшем знании языков — некий более основательный способ изучения священных текстов, учитывающий их связь с Древним Востоком, локальное и национальное своеобразие тех стран, климат и плодородие, благодаря чему складывалось более наглядное представление о былых временах. Михаэлис посвятил этому всю силу своего таланта и свои обширные знания. Описания путешествий сделались действенным вспомогательным средством для уяснения Священного писания. Новейшие путешественники, обремененные пространным списком вопросов, должны были, ответствуя на них, как бы свидетельствовать в пользу пророков и апостолов.
Но в то время, как большинство стремилось прийти к простому и естественному восприятию Священного писания и сделать более доступным строй его мыслей и представлений, с тем чтобы с помощью историко-критической точки зрения устранить иные нападки, убрать опасные камни преткновения и пресечь пустое насмешничество, другие ученые, напротив, ударились в обратную крайность, избрав предметом своих толкований наиболее темные и загадочные места в Библии, каковые они хоть и не проясняли, но всемерно подкрепляли своими догадками, исчислениями и прочими остроумными, подчас ошеломляющими заключениями, ссылаясь на якобы уже сбывшиеся библейские пророчества и тем самым внушая веру в то, что сбудутся и доселе еще не оправдавшиеся.
Достопочтенный Бенгель многих покорил и захватил своими учеными толкованиями Откровений апостола Иоанна, чему в значительной мере помогла его добрая слава: он был широко известен, как человек высокомудрый, праведный и богобоязненный. Мистики предпочитают жить прошлым и грядущим. Мирская суета мало что значит для них, коль скоро она не дает им погружаться в благоговейное созерцание уже оправдавшихся в ходе времени пророчеств и пребывать в постоянном чаянии того, что в ближайшие или отдаленнейшие сроки сбудутся покуда еще сокрытые от нас предсказания. Ведь в силу этого возникает связь всемирных свершений, которую мы тщетно ищем в исторических хрониках, ибо история знакомит нас лишь со случайным шараханьем то в одну, то в другую сторону внутри замкнутого круга. Доктор Крузиус принадлежал к тем, кого в Священном писанин больше всего прельщают пророчества и прорицания, так как только они приводят в совместное действие две противоположные силы, присущие человеку, — душевную и умственную. Смыслом его учения прониклись многие юноши, объединившись в довольно многочисленное содружество, которое тем более бросалось в глаза, что Эрнести и его последователи грозили не только пронзить светом знания тот мрак, который им так полюбился, но и вовсе его рассеять. Отсюда пошли разные дрязги, взаимная ненависть, преследование друг друга и много прочих неприглядных поступков. Я держал сторону поборников света и старался усвоить плодотворные принципы и положительные результаты их методы, хотя иной раз, набравшись смелости, и спрашивал себя, не приведут ли их достохвальные и глубокомысленные толкования Библии к исчезновению — вместе с темными пророчествами — и поэтического ее содержания.
Но для тех, кто занимался немецкой литературой, а также изящными искусствами, были всего ближе такие писатели, как Иерузалем, Цолликофер и Спальдинг, старавшиеся хорошим, чистым слогом своих проповедей и ученых трактатов пробудить интерес к религии и родственной ей этике у людей, наделенных незаурядным умом и вкусом. Изящный способ изложения был признан для всех обязательным, а так как изящество стиля к тому же должно было сочетаться и с удобопонятностью, то со всех сторон стали объявляться литераторы, задавшиеся целью говорить о своей науке и своих изысканиях ясно, непринужденно и вразумительно, в форме, доступной не только для знатоков, но и для толпы.
По примеру иноземца Тиссо, и наши врачи стали усиленно содействовать общему образованию. Наибольшего влияния на этом поприще достигли Галлер, Унцер и Циммерман, и что бы там ни ставилось им в укор, в особенности Циммерману, вез они в свое время сделали важное дело. Об этом следовало бы кое-что сказать в истории медицины и тем паче в их биографиях, ибо значение человека не сводится к тому, что он после себя оставил, а заключается главным образом в том, как он действовал при жизни и на что откликался, а также в том, пробудил ли он в своих современниках потребность действовать и отдаваться новым веяньям.
Ученым правоведам, привыкшим с юных лет к напыщенному стилю, нелепейшим образом сохранившемуся во всех учреждениях, начиная с канцелярии владетельного имперского рыцаря и до рейхстага в Регенсбурге, было нелегко привыкнуть к более свободному слогу, тем более что вопросы, подлежавшие их компетенции, были теснейшим образом связаны с давно сложившейся формой, а следовательно, и со стилем. И все-таки фон Мозер-младший зарекомендовал себя как свободный и своеобразный писатель, а Пюттер ясностью изложения внес ясность как в самый предмет, так и в стиль своих сочинений. Этой особенностью отличалось все, что было создано его школой. Теперь даже философы оказались вынужденными писать просто и удобопонятно. Мендельсон и Гарве, выступив в печати, сразу же вызвали всеобщее сочувствие и восхищение.
Заодно с развитием немецкого языка и стиля во всех областях знания росла и способность суждения; нам остается только удивляться тогдашним рецензиям на религиозные, нравственные, а также медицинские сочинения, хотя отзывы о стихах и прочих видах изящной словесности были по-прежнему слабы, подчас даже жалки. Это относится и к «Литературным письмам», и к «Всеобщей немецкой библиотеке», и к «Библиотеке изящных наук», что нетрудно подтвердить множеством примеров.
Среди такой мешанины каждому, кто хотел творить самостоятельно, а не выхватывать слова и фразы изо рта своих предшественников, приходилось рано или поздно браться за поиски пригодного материала. Но и здесь мы немало плутали, по милости разных советчиков. В то время из уст в уста передавались слова Клейста, часто слышанные и нами. Он искренне, шутливо и остроумно ответил тем, кто его поддразнивал частыми прогулками в полном одиночестве: это-де не праздношатание, а охота за образами. Дворянину и солдату вполне подобало такое сравнение, оно противопоставляло его людям того же сословия, которые не упускали случая с ружьем за плечами отправиться на охоту за куропатками или зайцами. В стихах Клейста мы действительно частенько находим удачно схваченные, хотя и не всегда удачно переданные образы, премило воскрешающие природу в нашем воображении. Наши наставники вполне серьезно напоминали, что и нам-де пора уж отправляться на охоту за образами, с которой мы, кстати сказать, вернулись не с пустыми руками, хотя Апельсгартен, а также Кухенгартен, Розенталь, Голис, Рашвиц и Конневиц, представляли собой довольно неподходящие угодья для погони за поэтической дичью. И все же, именно с этой целью, меня нередко тянуло к одиноким прогулкам, а так как мой взор здесь не тешили прекрасные или возвышающие душу виды, а в действительно великолепном Розентале летом комары не позволяли зародиться ни единой изящной мысли, то я упорно и неустанно наблюдал за nature vivante[16] (я употребляю это слово по аналогии с nature morte[17]), а поскольку все, что происходило в этом замкнутом кругу, само по себе мало что значило, то я приучил себя во всем улавливать смысл, склонявшийся то к символике, то к аллегории, смотря по тому, что́ в данную минуту брало верх — созерцание, чувство или рефлексия. Об одном из множества сходных событий я сейчас расскажу.
По человеческой слабости, я был влюблен в свое имя и, подобно многим молодым и невежественным людям, воспроизводил его где ни попадя. Однажды я красиво и четко вырезал его на гладкой коре еще не старой липы. На следующую осень, когда моя любовь к Аннете была в самом разгаре, я старательно выцарапал над своим также и ее имя. Но уже к концу зимы я, в своей взбалмошной влюбленности, мучил и изводил ее по любому поводу, и вот весною случайно оказался возле той же самой липы. Сок, которым мощно налилось дерево, проступил через еще не зарубцевавшиеся надрезы, образующие ее имя, и омочил невинными древесными слезами уже затвердевшее начертание моего. Видя, что она плачет надо мною, столько раз уже вызывавшим ее слезы своими выходками, я был потрясен. При мысли о моей вине и ее любви на мои глаза тоже набежали слезы, я поспешил вдвойне, втройне испросить у нее прощения и воплотил это событие в идиллию, которую сам никогда не мог перечитывать иначе как с любовью или читать другим без глубокой растроганности.
Но покуда я, как пастушок с берегов Плейсе, ребячливо углублялся в такие чувствительные темы, всегда выбирая из них те, что всего живее находили отклик в моем сердце, для немецких поэтов давно настало время больших и важных деяний.
Впервые правдивое, высокое и подлинно жизненное содержание было привнесено в немецкую поэзию Фридрихом Великим и подвигами Семилетней войны. Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном — на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, как один человек, стоят за общее дело. Королей следует изображать на войне и в опасности, ибо доподлинными властителями они являются лишь в часы испытаний, когда определяют и разделяют судьбу последнейшего из подданных и в силу этого становятся интереснее самих богов, ибо боги, однажды предначертав исход событий, устраняются от участия в таковых. В этом смысле каждая нация, посягающая на всемирно-историческое значение, должна иметь свою эпопею, для которой отнюдь не обязательна форма эпической поэмы.
Военные песни, впервые пропетые Глеймом, потому и стоят так высоко в немецкой поэзии и так безотказно действуют на нас, что они возникли из сражений и во время сражений, и еще потому, что их форма словно отлита участником битвы в минуты величайшего Соевого напряжения.
Рамлер по-другому, но в высшей степени достойно воспевает подвиги своего короля. Все его песни содержательны, в них нас волнуют большие, возвышающие душу темы, которые и сообщают его творениям непреходящую ценность.
Внутреннее содержание обрабатываемого предмета — начало и конец искусства. Никто, конечно, не собирается отрицать, что гений, художественный талант, получивший правильное развитие, своей обработкой может из всего сделать все и покорить себе даже непокорнейший материал. Но если всмотреться поглубже, то это будет скорее фокус, чем художественное произведение, ибо последнее должно строиться на достойном сюжете, который благодаря умелой, старательной и усердной обработке может разве что заблистать еще большим великолепием.
Итак, пруссаки, а вместе с ними и вся протестантская Германия, обрели для своей литературы сокровище, у противной стороны не имевшееся и не возместимое никакими позднейшими усилиями. На высоком понятии о своем короле, по праву сложившемся у прусских писателей, они стали строить свою литературу — тем усерднее, что тот, во имя которого все это делалось, раз и навсегда ничего о них и знать не хотел. Уже прежде, через посредство французской колонии, впоследствии же — благодаря тому, что король высоко чтил просвещение этой нации и ее финансовые учреждения, в Пруссию так и хлынула французская культура, весьма благотворная для немцев, ибо она поощряла их к сопротивлению и противоречию. И точно такой же удачей была для развития нашей литературы явная антипатия Фридриха ко всему немецкому. Писатели делали все, чтобы король их заметил, подарил бы их если не благосклонностью, то хоть толикой внимания, но делали это на немецкий лад, в сознании своей правоты и с затаенным желанием, чтобы король признал и оценил их немецкую правоту. Но этого не случилось, да и не могло случиться, ибо возможно ли требовать от короля, который жил, наслаждаясь зрелыми плодами культуры, чтобы он тратил свои годы, дожидаясь радостей от запоздалого развития того, Что представлялось ему варварством? Что касается ремесленных и фабричных изделий, то здесь он мог, конечно, навязывать себе и в первую очередь — своему народу весьма посредственные суррогаты вместо отличных чужеземных товаров, но в этой области путь к совершенству короче и не надобно целой человеческой жизни, чтобы дождаться поры зрелости.
Но об одном поэтическом порождении Семилетней войны, всецело навеянном мощным духом северонемецкой национальной сути, я должен здесь упомянуть с особой признательностью. Первым драматическим произведением сугубо современного содержания, смело выхваченным из самой гущи той замечательной эпохи и посему оказавшим чрезвычайное, никем не предвиденное воздействие, была «Минна фон Барнхельм». Лессинг, в отличие от Глейма и Клопштока, частенько пренебрегал личным достоинством, в твердой уверенности, что сможет в любую минуту восстановить и упрочить свою добрую славу. Он любил предаваться рассеянной, даже разгульной жизни, поскольку его мощный, напряженно работающий интеллект всегда нуждался в сильном противовесе; по этой причине он принял решение примкнуть к свите генерала Тауенцина. Сразу чувствуешь, что упомянутая пьеса была им создана среди треволнений войны и мира, любви и ненависти. Она впервые позволила нам заглянуть в область, более возвышенную и замечательную, чем тот литературный и обывательский мирок, в коем до сих пор вращалась наша поэзия.
Яркая взаимная ненависть, в которой пребывали в годы этой войны Пруссия и Саксония, не была изжита и с ее окончанием. Саксонец теперь особенно остро чувствовал раны, нанесенные ему не в меру возгордившимся пруссаком. Мир политический не мог сразу восстановить мир душевный. Этому и должны были поспособствовать драматические образы Лессинговой пьесы. Обаяние и прелесть саксонских женщин здесь побеждают самонадеянность и гордое упрямство пруссаков; во всех действующих лицах драмы, главных и второстепенных, искусно сочетаются характерно локальные и противоборствующие им общечеловеческие черты.
Если мои сбивчивые и во многом случайные заметки о немецкой литературе повергнут читателя в немалое смущение, это будет значить, что мне удалось дать ему хоть некоторое представление о том хаотическом состоянии, в котором находился мой бедный мозг, когда в конфликте двух весьма важных для нашего литературного отечества эпох на меня обрушилось столь много нового, прежде чем я успел управиться со старым, и столь много старого еще продолжало властвовать надо мной, хоть я и сознавал, что имею все основания начисто с ним покончить. О том, какой путь я избрал, чтобы выпутаться из этого злополучного лабиринта, я и хочу здесь поведать в немногих словах.
Период многословия, совпавший с моею ранней молодостью, я сумел изжить в себе одновременно с многими почтенными мужами. Томы рукописей ин-кварто, оставленные мною у отца, могли бы засвидетельствовать, сколько опытов, черновых набросков, полузавершенных благих намерений развеялись прахом — скорее из смутного недовольства собой, чем по здравому убеждению! Теперь из повседневных разговоров, из разных поучений и острых дискуссий, но прежде всего из бесед с моим сотрапезником, надворным советником Пфейлем, я учился все больше ценить значительность материала и энергичную сжатость его обработки, хотя, собственно, и не знал, где искать первое и как добиваться второго. Замкнутый круг, в котором я вращался, безразличие моих однокашников, сдержанность учителей, обособленность образованных жителей Лейпцига и к тому же ничем не примечательная природа вынуждали меня все искать в себе самом. Если я нуждался в правдивой основе для стихов, то есть в исходном чувстве или мысли, мне приходилось почерпать их в своей же душе; если для поэтического воплощения мне требовалось непосредственное созерцание того или иного предмета или события, я не мог покинуть круга, непосредственно на меня воздействовавшего, с которым были связаны все мои интересы. Посему я начал с того, что написал ряд маленьких стихотворений в форме песен или более свободным размером; они были плодом рефлексии, обращались к прошлому и в большинстве случаев носили эпиграмматический характер.
Так начался путь, с которого я уже не сошел на протяжении всей моей жизни, а именно: все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня, я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение; тем самым я сводил счеты с самим собою, исправлял и проверял свои понятия о внешнем мире и находил внутреннее успокоение. Поэтический дар был мне нужнее, чем кому-либо, ибо моя натура вечно бросала меня из одной крайности в другую. А потому все доселе мною опубликованное — не более как разрозненные отрывки единой большой исповеди, восполнить которую я и пытаюсь в этой книге.
Прежнюю свою любовь к Гретхен я перенес на некую Анхен, о которой могу сказать только, что она была молода, хороша собой, резва, ласкова и так мила, что вполне заслуживала на некоторое время места в киоте моего сердца; я охотно оказывал знаки любви и почитания этой маленькой святой, что часто бывает гораздо приятнее, чем самому принимать таковые. Каждый день я беспрепятственно видел ее, она помогала готовить кушанье, которое мне подавалось, приносила — мне, по крайней мере, — вино, которое я пил по вечерам, и уж одно то, что наша дружная компания ежедневно собиралась за столом в этом маленьком доме, в неярмарочную пору посещаемом лишь немногими гостями, свидетельствовало, что этот пансион пользовался самой доброй славой. О чем только мы с ней не говорили, улучив минутку! Но так как ей нельзя было, да она и сама не хотела надолго отлучаться из дому, то наше времяпрепровождение сделалось довольно однообразным. Мы пели песни Цахариэ, играли Крюгерову комедию «Герцог Михель», в которой пойманного соловья нам заменял скомканный носовой платок, и так некоторое время довольно сносно забавлялись. Но чем невиннее подобные отношения и чем дольше они длятся, тем становятся монотоннее. Вскоре мною овладела злая охота устраивать себе развлечение из страданий возлюбленной, унижать ее преданность произвольными и тираническими причудами. Я срывал на ней злость за неудачу моих поэтических опытов, за неумение разобраться в причине подобных неудач — словом, за все, что так или иначе меня уязвляло, хоть она и любила меня всем сердцем и делала все, что было в ее силах, стараясь мне угодить. Необоснованными, глупейшими вспышками ревности я отравлял себе и ей лучшие дни. Она долгое время сносила их с невероятным терпением, но я имел жестокость подвергать ее все новым и новым испытаниям. Наконец я понял со стыдом и отчаянием, что душа ее от меня отдалилась и что сейчас-то я, пожалуй, и вправе предаваться тем безумствам, которые раньше позволял себе безо всякого повода. Между нами происходили страшные сцены, но они мне на пользу не шли; теперь только я понял, что по-настоящему люблю ее и не могу без нее обходиться. Страсть моя росла и принимала все формы, возможные в подобных обстоятельствах, так что под конец мне досталась та роль, которую прежде играла она. Я выискивал любые способы быть ей приятным, старался доставлять ей радость даже через других, ибо не мог поступиться надеждой вновь завоевать ее. Но поздно! Я и в самом деле ее потерял, и неистовство, с которым я бессмысленно мстил своей телесной природе, стремясь покарать свою нравственную, немало способствовало тем физическим страданиям, из-за которых я потерял лучшие годы моей жизни. Я наверное не пережил бы этой утраты, если бы мне на помощь не пришел мой поэтический дар во всеоружии своих целебных сил.
Еще раньше в минуты просветления я отдавал себе отчет в недопустимости своих поступков. Я искренне жалел эту бедную девушку, безо всякой нужды нанося ей душевные раны, и так часто и так подробно сравнивал ее и мое положение с благополучием другой парочки из нашего круга, что наконец ощутил потребность, на муку себе и в назидание другим, изложить эту историю в драматической форме. Так возникла самая ранняя из моих уцелевших драматических работ — одноактная пьеса «Капризы влюбленного», в невинной сущности которой уже чувствуется кипение нешуточной страсти.
Но мир, глубокий, значительный, исполненный стремлений и порывов, окликнул меня уже давно. Моя история с Гретхен и печальный ее исход позволили мне преждевременно заглянуть в те петляющие подземные ходы, которыми подрыто бюргерское общество. Религия, закон, сословные и имущественные обстоятельства, обычаи и привычки — все это царит лишь на поверхности городской жизни. Улицы, обрамленные великолепными домами, содержатся в чистоте, каждый достаточно пристойно ведет себя на них. Но тем заброшеннее часто выглядит все это внутри, и внешняя благопристойность лишь, как тонкий слой штукатурки, прикрывает подгнившие стены, которые не сегодня-завтра рухнут с грохотом, тем более страшным, что он раздастся среди мирного ночного спокойствия. Сколько семейств я уже видел издали и вблизи, обреченных гибели или едва-едва удержавшихся на краю пропасти — из-за банкротств, расторгнутых браков, похищенных дочерей, убийств, домашних краж, отравлений; как ни молод я был, мне уже не раз приходилось в подобных случаях протягивать руку помощи, а так как моя искренность внушала доверие, молчаливость была испытана, участие мое всего энергичнее проявлялось в наиболее опасных случаях и я бывал готов на любые жертвы, то мне предоставлялось достаточно поводов посредничать, примирять, предотвращать грозу и прочее и прочее. При этом, конечно, я и сам приобретал немало горького и унизительного опыта. Чтобы хоть немного отвлечься, я в ту пору набросал немало пьес и для целого Ряда из них уже разработал экспозицию. Но так как взаимоотношения действующих лиц всякий раз приобретали опасный характер и почти все эти пьесы склонялись к трагическому концу, я один за другим отбрасывал эти ранние замыслы. Завершены были только «Совиновники». Но в резвую и причудливую интригу этой комедии тоже закралось нечто жуткое, хотя бы уже потому, что она протекает на фоне мрачных семейных отношений; поставленная на театре, эта пьеса в общем-то нагоняет страх, хотя в деталях и веселит зрителя. Прямой рассказ о противозаконных поступках оскорбляет эстетические и моральные чувства, почему моя пьеса и не получила признания на немецкой сцене, хотя подражания ей, обходившие эти подводные рифы, пользовались неизменным успехом.
Обе упомянутые пьесы, хотя я и не отдавал себе в этом отчет, написаны с высоких позиций. Они ратуют за осмотрительную терпимость при моральной оценке человека и, в грубоватых словах и чертах, с веселой непринужденностью доносят до зрителя речение Христово: «Кто без греха, пусть первый бросит камень».
Из-за сурового ригоризма, омрачившего первые мои произведения, я совершил ошибку и пренебрег мотивами, которые были близки моей натуре. Надо сказать, что эти первые и для молодого человека ужасные испытания развили во мне дерзкий юмор, который возвышается над обстоятельствами момента и не только не отступает перед опасностью, но, напротив, задорно ее приманивает. Такой юмор зиждется на заносчивости, свойственной возмужавшему человеку и любезной его сердцу; едкий и карикатурный, он доставляет удовольствие окружающим как в настоящем, так и в воспоминаниях. Это явление настолько распространено, что для его обозначения в словаре наших университетских кругов появилось словцо «сюиты», так что — по аналогии с выражением «откалывает штуки» — у нас стали говорить «откалывает сюиты».
Такие смелые юмористические выпады, с умом и чувством поставленные на театре, оказывают недюжинное воздействие на зрителя. От интриги их отличает злободневность, и цель, в которую они метят, если таковая имеется, непременно должна быть близкой. Бомарше вполне оценил их значение, и успех его «Фигаро» главным образом на этом и держится. Если такие лукавые и плутовские проделки, сопряженные с известной личной опасностью, служат благородным целям, то и ситуации, из них возникающие, как нельзя лучше подходят для театра и с эстетической и с нравственной точки зрения. Так, например, сюжет оперы «Водонос» должен быть признал едва ли не удачнейшим из когда-либо попадавших на театральные подмостки.
Чтобы скрасить бесконечную скуку будней, я изобретал великое множество таких литературных проказ, отчасти просто для развлечения, отчасти же в угоду друзьям, которым любил доставлять удовольствие. Не помню, чтобы я хоть раз преднамеренно сделал что-либо подобное для себя, и никогда я не смотрел на такие затеи как на достойный объект для искусства. Но возьми я и разработай эти под рукой лежащие сюжеты, мои первые произведения были бы веселее и доступнее. Кое-что в этом роде у меня позднее, правда, встречается, но лишь в единичных случаях и не преднамеренно.
Поскольку сердце волнует нас более, чем ум, и доставляет нам немало хлопот, тогда как ум сам в состоянии себе помочь, то дела сердечные всегда представлялись мне более важными. Я без устали размышлял о мимолетности чувств, об изменчивости нашей натуры, о нравственном начале чувственности и обо всем том высоком и низком, что, сочетаясь в нас, создает так называемую загадку человеческой жизни. Я и здесь старался освободиться от того, что меня мучило, в песне, в эпиграмме, в каком-нибудь стишке, которые, касаясь сугубо личных чувств и обстоятельств, вряд ли могли быть интересны кому-нибудь, кроме меня самого.
Между тем по прошествии некоторого времени многое изменилось в моей жизни. Мадам Бёме скончалась после долгой и тяжелой болезни; последние дни она не допускала меня в свою комнату. Муж ее не мог быть особенно доволен мною: он считал меня слишком легкомысленным и недостаточно усердным. Он очень рассердился на меня, когда ему сказали, что на лекциях по немецкому государственному праву я, вместо того чтобы прилежно записывать, рисовал на полях тетради упоминавшихся им лиц: камерального судью, президента и заседателей в диковинных париках, и этими дурачествами смешил и отвлекал от слушания лекции своих прилежных соседей. После смерти жены он жил более замкнуто, и я перестал ходить к нему, опасаясь его упреков. На беду, и Геллерт не хотел пользоваться тем влиянием, которое мог бы иметь на нас. У него, разумеется, не было времени разыгрывать из себя исповедника и вникать в образ мыслей и в проступки каждого студента; поэтому он избрал весьма общий подход к нашим сердцам, надеясь их усмирить с помощью церкви и ее ритуалов. Допуская нас изредка к себе на собеседования, он, склонив головку, плаксивым голосом вопрошал нас, прилежно ли мы посещаем церковь, кто наш духовник и приобщались ли мы святых тайн. Ежели мы плохо сдавали этот экзамен, он отпускал нас с воздыханиями и горькими сетованиями; мы же, как и следовало ожидать, уходили скорее рассерженные, чем просветленные духом, хотя и продолжали всем сердцем любить этого достойного человека.
По сему случаю я должен ненадолго вернуться к поре моей ранней юности и на наглядном примере показать, как важно, чтобы высокие церковные обряды совершались в известной целесообразной последовательности, иначе они не приносят тех плодов, которых мы вправе от них ожидать. Протестантскому богослужению недостает впечатляющей полноты и благолепия, чтобы объединить паству; отдельные прихожане нередко от нее отпадают, образуя новые маленькие паствы, либо же безмятежно живут своей бюргерской жизнью безо всякого общения с церковью. Уже в те времена слышались жалобы на то, что число прихожан год от года уменьшается и в той же пропорции уменьшается число верующих, приобщающихся святых тайн. Причина этих явлений, в первую очередь — отказа от причастия, лежит на поверхности, но кто отважится ее назвать? Мы попытаемся это сделать.
В делах нравственных и религиозных, равно как в делах физических и гражданских, человек предпочитает держаться торного пути; ему нужна преемственность, порождающая привычку; все, что он должен любить и совершать, он не может себе представить обособленно от привычного житейского обихода и охотно повторяет лишь то, что не стало ему чуждым. Если протестантскому вероисповеданию в целом недостает полноты, то, присматриваясь к отдельным его обрядам, мы увидим, что на долю протестанта приходится слишком мало таинств, — пожалуй, лишь одно, в котором он соучаствует деятельно, а именно: причастие. Ведь крещение он видит лишь со стороны, когда оно совершается над другими; его самого оно не осеняет благодатью. Таинства — наивысшее в религии, чувственный символ великой господней милости и благости. Во время причастия земные уста вкушают пресуществившуюся плоть господню и под видом земной пищи приемлют пищу небесную. Смысл этого таинства един во всех христианских церквах, только что приобщаются его с большим или меньшим проникновением в тайну, с большим или меньшим постижением ее. Но во всех случаях оно остается великим священным свершением, подменяющим (собою все возможное и невозможное из происходящего в действительной жизни, все, чего человек не может достигнуть в бренном мире, но без чего не может и обойтись. Такое великое таинство не должно стоять в полном обособлении: иначе ни один христианин не воспримет его с той истинной радостью, которой должен приобщиться, если только в нем не развит вкус к сакраментальной символике. Он должен быть приучен к восприятию внутренней религии сердца и внешней религии церкви как неделимого целого, как единого великого таинства, которое членится на множество таинств, сообщая каждому из них свою извечную святость, нерушимость и вечность.
Вот юная чета подает друг другу руки — не для мимолетного привета или танца; священник произносит над ними слова благословения, и узы, их связующие, отныне нерасторжимы. Проходит недолгий срок, и эти супруги приносят к алтарю свое подобие; младенец очищен святой водою и отныне приобщен к церкви так прочно, что лишь преступным отпадением может разрушить сию благодатную связь. Земным делам ребенок научается сам, для дел небесных он нуждается в наставлении. Если при испытании, предшествующем первому причастию, окажется, что он усвоил необходимое, его принимают в лоно церкви как истого христианина, как сознательно и добровольно верующего, отмечая и этот акт внешним символическим обрядом. Лишь теперь он становится полноправным христианином, лишь теперь познает свои преимущества, но также и свои обязанности. А до этого чего-чего он только не испытал; через учение и наказание ему открылось, как несовершенен еще его внутренний мир, а это значит, что и впредь ему надо учиться, что он и впредь не избегнет прегрешений, но наказаний уже не будет. И здесь, когда он окончательно собьется с пути под натиском противоречивых требований, выдвигаемых природой и религией, ему представляется отличное средство — поведать о своих поступках и проступках, о своих грехах и сомнениях на то поставленному достойному человеку, который сумеет его успокоить, предостеречь, покарать символическими карами и под конец, полностью отпустив ему вину, его благословит и вновь вручит ему чистую, омытую скрижаль человечности. Итак, благодаря ряду священнодействий, которые, если вглядеться попристальнее, разветвляются на меньшие таинства, он, подготовленный и чистый душою, преклоняет колена, принимая облатку; а чтобы таинство этого акта было еще торжественнее, видит чашу только вдали, ибо это не питье и не яства, насыщающие нас, это небесная пища, и от нее мы еще сильнее жаждем небесного питья.
Но пусть не думает юноша, не думает и зрелый муж, что все на этом кончается. Если в земной жизни мы и научаемся стоять на собственных ногах, хоть и здесь нам часто недостает должных знаний, разума и характера, то в небесных делах и подавно ничему нельзя научиться до конца… Высокое чувство нам не всегда по плечу, и к тому же его то и дело вытесняют внешние обстоятельства — так где уж тут может хватить душевных сил на самоутешение, на помощь себе самому? Для этого-то нам и прописано на всю жизнь вышеупомянутое целительное средство, для этого возле нас всегда и находится проницательный и благочестивый муж, указующий правый путь заблудшему и облегчающий муки страдальцу.
То, что умиротворяло человека в продолжение всей жизни, на пороге смерти десятикратно умножает свою целительную силу. По доверчивой привычке, приобретенной с юных лет, умирающий жадно внемлет многозначительным символическим словам в час, когда уже кончилась земная порука и небесная дарит его вечным блаженством. Он твердо верит, что ни враждебные силы, ни злой дух не помешают ему предстать во образе преображенном перед престолом всевышнего, сподобиться бесконечной радости, от него проистекающей.
В заключение, дабы человек был весь освящен, пастырь благословляет своего духовного сына и помазает миром его ноги. Отныне, даже если больной и выздоровеет, его стопы будут лишь с отвращением прикасаться к земной, твердой, непроницаемой почве. Отныне им придана дивная упругость, и они отталкивают от себя ту землю, что прежде притягивала их. Так в едином блистательном цикле свершаются одинаково важные священнодействия, о красоте которых здесь сказано лишь вскользь: они связуют извечным кругом колыбель и могилу, как бы далеко те друг от друга ни отстояли.
Но эти чудодейственные дары не произрастают, подобно прочим плодам, на естественной почве; их нельзя ни посеять, ни посадить, ни выходить. Их надобно вымолить из потусторонних сфер, а это дается не всякому и не во всякое время. И тут нам приходит на помощь высший из символов древнего благочестия. Нам исстари возвещалось, что один человек может быть предпочтен свыше перед другими, благословен и освящен всевышним. А дабы низошедшая на него благодать не была сочтена случайным даром природы, нужно, чтобы сия великая, сопряженная с многотрудными обязанностями господня милость передавалась от ранее удостоенного благодати другому. Величайшее благо, коего может сподобиться человек, бытует на земле и утверждается в веках лишь путем духовного преемства, ибо никому не удается ни добиться его, ни овладеть им, благодаря собственным усилиям. Да, в таинстве посвящения в сан поистине сосредоточено все необходима для совершения священных действ, спасительных для народа, от коего не требуется иного соучастия в богослужении, кроме истовой веры и безусловного доверия. Так священнослужитель вступает в круг таких же, как он, помазанников, в непрерывную чреду своих духовных предков и грядущих наследников, представляя всеблагое высшее существо тем благолепнее, что не его мы чтим, а им воспринятый сан, не пред ним преклоняем колена, а пред благословением, коим он нас осеняет и каковое представляется нам тем священнее, тем непосредственнее нисходящим на нас от престола божия, что даже несовершенное, грешное земное орудие, его осуществляющее, не может ни умалить, ни тем паче лишить его чудодейственной силы.
Но как же ущерблена высшая связь с вездесущим духом, как разрозненны ее звенья в протестантизме, который объявил часть упомянутых символов апокрифическими и признает каноном лишь немногие из них; а возможно ли, отрицая одни, проникнуться убеждением в нерушимой святости остальных?
В свое время меня обучал закону божию добродушный, старый и безвольный пастор, бывший в течение многих лет духовником нашей семьи. Катехизис, его толкование и обряд причастия я знал как свои пять пальцев, известны были мне и все библейские речения, подтверждающие истинность веры, но все это не приносило мне ни малейшей пользы; когда же мне сказали, что и на главном испытании старик придерживается старых формул, я окончательно утратил интерес к этим занятиям и всю последнюю неделю предавался обычным развлечениям: я раздобыл у старшего товарища записки, которыми его снабдил наш покладистый старец, сунул их в шляпу и в свободную минуту бездушно и бессмысленно прочитал подряд все то, что мог бы научиться говорить с душой и по убеждению.
Моя добрая воля и возвышенные устремления, уже расхоложенные сухой, бездумной рутиной, были тем более парализованы в тот важный час, когда мне предстояло направиться в исповедальню. Я знал за собою немало прегрешений, но не больших грехов, и мое сознание невольно приуменьшало их, отсылая меня к той нравственной силе, которая была во мне заложена и, в сочетании с твердой решимостью и доброй волей, служила верной порукой тому, что я все же восторжествую над ветхим Адамом. Нас поучали, что мы намного лучше католиков именно потому, что на исповеди не должны признаваться в отдельных своих грехах, более того — даже если бы мы и вознамерились в них признаться, это считалось бы неподобающим. Последнее мне было очень не по душе, ибо я терзался своеобразными религиозными сомнениями и был бы рад разрешить их при такой оказии. Но поскольку это было недопустимо, я написал исповедь, которая, ясно выражая мое душевное состояние, могла бы в общих чертах открыть разумному человеку то, о чем мне было запрещено говорить в частностях. Но когда я поднялся на старинные хоры в церкви Босоногих братьев и увидел чудные решетчатые загородки, в коих духовники совершали акт исповеди, когда звонарь открыл мне двери и я оказался запертым в тесном помещении лицом к лицу с моим старцем, когда он надломленным, гнусавым голосом произнес слова приветствия, в мгновение ока погас весь свет моего ума и сердца, затверженная наизусть исповедь замерла у меня на губах, я в смущении раскрыл бывшую у меня в руках книгу и прочитал первую попавшуюся краткую формулу, настолько общую, что ее мог бы спокойно произнести и любой другой. Я получил отпущение грехов и, нимало этим не взволнованный, отправился домой. На следующий день вместе с родителями я ходил причащаться и дня два вел себя так, как положено после сего святого таинства.
Впоследствии и меня настигла беда, которая для вдумчивых людей проистекает из нашей религии, усложненной множеством догм и основанной на библейских текстах, допускающих самые разноречивые толкования, и доводит их до ипохондрии, мало-помалу принимающей форму навязчивой идеи. Я знавал людей практических и весьма разумных, которые не могли отделаться от мысли о прегрешении против святого духа и от страха, что это с ними случилось. Подобная же беда грозила и мне в отношении причастия. Еще в раннем детстве на меня огромное впечатление произвели слова, что недостойно вкушающий святых даров вкушает вместе с ними свой собственный приговор. Все страшное, что я читал в средневековых описаниях божьего суда о необычайных испытаниях каленым железом, огнем и прибывающей водой, а также то, что рассказывается в Библии об источнике, от воды которого невиновный исцелялся, а виновный разбухал и лопался, проносилось в моем воображении и порождало ужас, ибо во время святого таинства на недостойном, казалось, тяготели все грехи мира: лжесвидетельство, лицемерие, клятвопреступление, и это было тем страшнее, что никто не имел права считать себя достойным, а отпущение грехов, в конце концов все сглаживавшее, было обставлено столькими условностями, что никто не мог возлагать на него надежды.
Эти мрачные сомнения до такой степени мучили меня, а разъяснения, которые мне выдавали за исчерпывающие, в моем понимании были до того скудны и несостоятельны, что устрашающая картина делалась еще страшнее, и я, приехав в Лейпциг, постарался избавиться от всякой церковной опеки. И потому как же мне были тяжки увещания Геллерта, которого я, принимая во внимание его и без того сухое отношение к нашей назойливости, не хотел обременять столь смехотворными вопросами, тем паче что в минуты бодрости я и сам стыдился их, покуда наконец не позабыл о своих непонятных угрызениях совести, а заодно и о церкви и алтаре.
Геллерт, благочестивый по природе, создал свою систему морали и время от времени публично оглашал таковую, тем самым выполняя свой общественный долг. Геллертовы сочинения уже давно были основой немецкой нравственной культуры, и всем страстно хотелось видеть их в печати, но так как это могло произойти лишь после смерти славного автора, то немцы почитали себя счастливыми, когда слышали все это при его жизни и из его уст. Философская аудитория в такие дни бывала набита до отказа, а прекраснодушие лектора, его чистая воля, заинтересованность этого благородного человека в нашем общем благе, его увещания, предостережения и просьбы, произносимые несколько глуховато и скорбно, не могли не производить мгновенного впечатления, но прочным оно не было, тем паче что находились насмешники, умевшие сделать для нас подозрительной его мягкую и, как они полагали, расслабляющую манеру. Помнится, один заезжий француз все расспрашивал об этических основах и убеждениях человека, слушать которого собирается такая тьма народу. Когда мы посильно ему о них рассказали, он покачал головой и, улыбаясь, заметил: «Laissez le faire, il nous forme des dupes»[18].
Избранное общество, с неохотой позволяющее чему-то достойному соседствовать с собой, при каждом удобном случае подрывало нравственное влияние, которое мог бы иметь на нас Геллерт. То ему ставилось в упрек, что он обучает богатых и знатных датчан, особо ему рекомендованных, лучше, чем остальных студентов, и больше о них заботится; то его обвиняли в своекорыстии и непотизме, так как он устроил их нахлебниками у своего брата. Поговаривали, что этот последний, рослый, видный мужчина, резковатый и довольно бесцеремонный, в прошлом учитель фехтования, иной раз при попустительстве брата довольно круто обходился со своими благородными столовниками и что надо-де было бы заступиться за этих бедных молодых людей. Имя нашего почтенного Геллерта склонялось на все лады, и под конец мы, боясь в нем усомниться, попросту к нему охладели и больше не показывались ему на глаза, а только сердечно его приветствовали, когда он проезжал верхом на своей покорной белой лошадке. Эту лошадку ему подарил курфюрст, чтобы принудить его к моциону, необходимому для его здоровья, — отличие, которое не так-то легко прощалось Геллерту.
Так мало-помалу надвигалось время, когда все авторитеты перестали существовать для меня и я усомнился, более того — отчаялся в самых великих и лучших людях, которых я знал или только представлял себе.
Фридрих Второй в моем представлении по-прежнему возвышался над всеми выдающимися людьми столетия, и меня удивляло, что среди жителей Лейпцига, так же как некогда в доме моего деда, мне запрещалось петь ему дифирамбы. Война, разумеется, легла тяжким бременем на всех этих людей, и вряд ли можно было винить их за то, что они не питали особого расположения к тому, кто эту войну начал и продолжал. Выдающимся человеком они его, разумеется, признавали, но отнюдь не великим. Велика ли заслуга, говорили они, многого достигнуть, когда располагаешь неограниченными средствами, а ежели еще не жалеть ни земель, ни денег, ни крови, то в конце концов не диво осуществить свои намерения. Фридрих-де ни в одном из своих планов и деяний не показал себя великим. Покуда все зависело от него, он только и знал, что делал ошибки, чрезвычайные же свершения всегда были лишь следствием исправления таковых; этим он и снискал себе славу, ибо каждому лестно натворить ошибок, а потом ловко их исправить. Стоит шаг за шагом проследить историю Семилетней войны, и даже ребенку станет ясно, что король понапрасну загубил свою превосходную армию и что на него целиком ложится вина за продолжительность роковой распри. Истинно великий человек и военачальник скорее справился бы с врагом. В подтверждение своих слов они пускались в нескончаемые подробности; я не умел опровергнуть их доводы, и постепенно во мне начал остывать тот безусловный восторг, который мне с детских лет внушал этот удивительный государь.
Если жители Лейпцига лишили меня радости чтить великого человека, то новый друг, которого я в то время приобрел, очень и очень поколебал во мне уважение к тогдашним моим согражданам. Друг этот был одним из самых удивительных чудаков, когда-либо рождавшихся на свет божий. Фамилия его была Бериш, и он служил гувернером у молодого графа Линденау. Уже самая его внешность отличалась оригинальностью. Сухопарый, хорошо сложенный, лет эдак под сорок, с огромным носом, да и вообще с резкими и крупными чертами лица; с утра до ночи он носил на голове волосяную накладку, больше смахивавшую на парик, изящно одевался и не выходил из дому иначе как при шпаге и со шляпою под мышкой. Он принадлежал к людям, обладающим особым талантом попусту убивать время или, вернее, из ничего делать нечто для того, чтобы его убить. За что бы он ни брался, он все делал медленно, с важностью, которую можно было бы назвать аффектированной, если бы аффектация не была его врожденным свойством. Он был похож на старого француза и, кстати сказать, легко и свободно говорил и писал по-французски. Наибольшим удовольствием для него было всерьез заниматься какими-нибудь дурачествами, и эти занятия он умел длить до бесконечности. Он, например, всегда ходил в сером, но так как предметы его туалета были сшиты из разных материй, то и оттенки у них были разные, и он мог дни напролет размышлять, что бы еще нацепить на себя серого, и бывал счастлив, когда ему удавалось что-нибудь придумать и посрамить нас, сомневавшихся в том, что он изыщет еще одну возможность. В таких случаях он подолгу распекал нас за недостаток изобретательности и неверие в его таланты.
Вообще же он был человек образованный, отлично знал новые языки и литературы и к тому же мог похвалиться прекрасным почерком. Мне он очень симпатизировал, и я, всегда склонный к дружбе со старшими, в свою очередь, привязался к нему. Общение со мной сильно его занимало, и он находил удовольствие в том, чтобы укрощать мое беспокойство и мой нетерпеливый нрав, доставлявший ему немало хлопот. В поэзии он обладал тем, что зовется вкусом, то есть имел общее суждение о плохом и хорошем, посредственном и допустимом, но все его суждения по большей части сводились к порицанию, и он окончательно подорвал даже то относительное доверие, которое я питал к современным писателям, безжалостно отпуская остроумные и взбалмошные замечания относительно их прозы и стихов. К моим произведениям он был снисходителен и не мешал мне писать, под условием чтобы я пока ничего не печатал. Взамен он посулил собственноручно переписать некоторые мои стихотворения, им одобренные, и преподнес их мне в виде изящно изготовленного томика. Эта затея послужила поводом для максимально возможной траты времени. Покуда он сыскал подходящую бумагу, подобрал по своему вкусу формат, определил ширину полей и наилучшую форму начертания букв, покуда раздобыл вороньи перья и очинил их и покуда, наконец, натер тушь, прошли долгие недели, а дело еще не сдвинулось с места. Потом он всякий раз приступал к работе с не меньшими приготовлениями, но мало-помалу все же сотворил премилую рукописную книжицу. Названия были написаны готическим шрифтом, текст прямым саксонским почерком, в конце каждого стихотворения красовалась соответствующая виньетка, которую он либо где-нибудь разыскал, либо придумал сам, сумев вдобавок изящнейшим образом воспроизвести штриховку типографских заставок, гравированных на дереве. По мере продвижения вперед он показывал мне эти штуки, комико-патетическим тоном уверяя, что я должен быть счастлив, видя себя увековеченным в столь прекрасном списке, да еще на манер, не достижимый ни для какой типографии, и мы опять-таки проводили приятнейшие часы за этими беседами. К тому же, благодаря его обширным знаниям, общение с ним было для меня поучительно, а благодаря его умению умерять мой пыл и мое беспокойство — целительно в нравственном отношении. Он питал отвращение ко всему грубому, и шутки его, при всей их причудливости, никогда не были ни пошлыми, ни примитивными. Он позволял себе не терпеть своих соотечественников и в карикатурном виде изображал все, что бы они ни предпринимали. В изображении отдельных людей он был поистине неистощим, умело находя в каждом комические и нелепые стороны. Так, часами лежа имеете со мною на подоконнике, он без устали наводил критику на прохожих, а вдоволь над ними натешившись, начинал обстоятельно расписывать, как им следовало бы одеваться, как ходить, как вести себя, чтобы сойти за порядочных людей. Обычно в этих предложениях выдвигалось что-то до того неподобающее и дурацкое, что мы хохотали не столько над тем, как сейчас выглядит тот или иной человек, сколько над тем, каков он сделается, буде сойдет с ума и решится изменить свое обличье. В таких шутках Бериш бывал беспощаден, хотя человеком был вовсе не злым. Зато и мы изрядно его мучили, уверяя, что с виду все принимают его если не за француза — учителя танцев, то, уж во всяком случае, за учителя иностранных языков при университете. Этот упрек, как правило, служил сигналом к бесконечно длинным доказательствам, сколь огромная разница существует между ним и старым французом. При этом он навязывал нам всевозможные дурацкие предложения, которые мы могли бы сделать касательно изменения и пополнения его гардероба.
Направление моего поэтического творчества, которому я предавался тем усерднее, чем изящнее становилась переписываемая Беришем книжечка, теперь всецело склонялось к естественному и правдивому; пусть мои темы не были значительны, но я всегда старался их выразить ясно и отчетливо, тем паче что мой друг частенько напоминал мне, сколь нелегкий это труд — переписать стихотворение на голландской бумаге вороньим пером и тушью, как много надо затратить на это времени, способностей и сил, которые, конечно же, не следует растрачивать попусту. Тут он обычно раскрывал уже готовую тетрадь и принимался подробно объяснять мне, что́ не должно стоять на том или ином месте, а затем поздравлял себя и меня с тем, что оно и не стоит там. Далее он клеймил презрением книгопечатание, в лицах представляя, как наборщик торопливо хватает буквы из кассы, смеялся над его жестикуляцией и выводил отсюда все злополучие литературы. Этой суете он противопоставлял благотворную позицию пишущего; чтобы наглядно нам ее показать, он тут же усаживался за письменный стол и, разумеется, попутно учинял нам разнос за то, что, сидя за таковым, мы не ведем себя в точности как он. Через минуту он снова заговаривал о контрасте между писцом и наборщиком, перевертывал начатое было письмо вверх ногами, доказывал нам, что неловко писать снизу вверх или справа налево; короче говоря, пересказом всех его выходок и монологов можно было бы заполнить целые томы.
В таких невинных дурачествах мы расточали драгоценное время, причем ни одному из нас не приходило в голову, что наш кружок случайно сотворит нечто такое, что окажется весьма сенсационным и не будет способствовать нашей доброй славе.
Геллерт, надо думать, не ждал особых радостей от своего семинара, и если иногда все же руководил занятиями по прозаическому и поэтическому стилю, то только privatissime, для немногих, к которым мы были не вправе себя причислить. Брешь, возникшую таким образом в нашем общем образовании, вознамерился заполнить профессор Клодиус; он уже завоевал себе некоторое имя в области литературы, критики и поэзии и, как человек молодой, энергичный и деятельный, имел множество друзей в университете и в городе. На его лекции нам указал Геллерт, и в самом главном мы, по правде сказать, большой разницы не заметили. Клодиус тоже критиковал лишь частности, тоже делал исправления красными чернилами, и мы, казалось, находились в окружении одних только ошибок, не зная, где искать правильное. Я принес ему несколько своих маленьких работ, которые он нашел недурными. Но как раз в это время я получил письмо из дому с настойчивой просьбой прислать стихотворение по случаю свадьбы моего дядюшки. Я был уже так далек от той легкой и легкомысленной эпохи, когда подобная просьба могла бы меня порадовать, и, не сумев ничего извлечь из житейских обстоятельств, решил прибегнуть к помощи внешних украшений. Посему у меня весь Олимп держал совет по поводу свадьбы франкфуртского правоведа, в тоне вполне серьезном и приличествующем торжественному событию в жизни сего почтенного гражданина. Венера и Фемида повздорили из-за него, но лукавая шутка, которую Амур сыграл с последней, решила дело в пользу первой, и боги постановили: свадьбе быть.
Работой своей я остался доволен. Из дому мне пришло похвальное письмо, я снова тщательно все переписал и надеялся снискать еще и одобрение учителя. Но не тут-то было. Он отнесся ко мне весьма сурово, вовсе не заметил пародийного начала, положенного в основу замысла, объявил достойным всяческого порицания столь щедрое привлечение божественных сил для мелких человеческих надобностей; то, что я употребил для своей цели мифологические фигуры и, по его мнению, злоупотребил ими, он охарактеризовал как привычку, унаследованную от лживых и педантических времен, язык нашел местами слишком низким, местами чрезмерно высокопарным, и хотя отнюдь не пожалел красных чернил на мою работу, но все же заверил меня, что выправил ее недостаточно.
Конечно, такие произведения читались и рецензировались анонимно, но студенты внимательно друг за другом следили и ни для кого не осталось тайной, что злополучное собрание богов — мое творение. Но так как, постаравшись усвоить точку зрения Клодиуса, я не мог не признать его правоты, да и сам убедился, что пресловутые боги — всего-навсего бледные тени, то я послал к черту весь Олимп, забросил мифологический Пантеон и с тех пор, кроме Амура и Луны, в моих стихотворениях уже не появлялись иные божества.
Среди тех, кого Бериш избрал мишенью для своих острот, первое место занимал Клодиус; в нем и правда нетрудно было усмотреть комические черты. Низенький, коренастый и склонный к полноте, он был скор в движениях, невоздержан на язык и непостоянен в поведении. Он очень выделялся среди своих сограждан, вполне, впрочем, его признававших из-за многих хороших свойств и тех надежд, которые он подавал.
Ему обычно поручали стихотворения на разные торжественные случаи, и в своих так называемых одах он следовал манере Рамлера, которая, однако, только Рамлеру и была к лицу. Клодиусу же, как подражателю, прежде всего бросились в глаза иностранные слова, придававшие величественную помпезность стихотворениям Рамлера, где таковая, вполне соответствуя величию предмета и всей поэтической обработке, и впрямь воздействовала наилучшим образом ка слух, сердце и воображение. Напротив, у Клодиуса эти выражения выглядели чужеродным телом, ибо его поэзии не свойственно было так или иначе возвышать душу.
И вот, часто видя эти стихи превосходно отпечатанными и вдобавок слыша неумеренные похвалы таковым, мы сочли весьма предосудительным, что, разнеся в пух и прах наших языческих богов, он сам решил вскарабкаться на Парнас по лестнице, сколоченной из греческих и латинских словесных ступенек. Обороты, часто встречающиеся у него, крепко засели у нас в памяти, и в веселую минуту, когда мы лакомились отличным пирожным в ресторации «На огородах», мне вдруг пришло на ум собрать все его громкие и могучие слова в стихотворении к пирожнику Генделю. Сказано — сделано! Привожу это стихотворение таким, каким оно было написано карандашом на стене:
О Гендель, славою и север ты и юг
Наполнил. В честь свою услышь пеан, о друг!
Твой гений творческий печет оригиналы
Пирожных, любят их британцы, ищут галлы.
А кофе — океан, что у тебя течет,—
Конечно, слаще, чем Гиметта сладкий мед.
Твой дом есть монумент, искусства он венчает,
Трофеями богат и нациям вещает:
Без диадемы здесь наш Гендель счастья сын
И у котурна грош отбил он не один.
Пусть с помпой урны блеск твой гроб нам обозначит,
Мрак катакомб твоих пусть патриот оплачет.
Но нет, живи! Плодись твой торус много раз!
Высок будь, как Олимп, стой твердо, как Парнас;
Фалангам Греции и всем баллистам Рима
Германцев с Генделем будь мощь необорима.
Твоя беда — нам скорбь, успех твой — радость нам,
И храм, о Гендель, твой любезен муз сынам.
Долгое время оно оставалось незамеченным среди множества других стихов, которыми были исписаны стены этого заведения, и мы, вдоволь позабавившись, начисто о нем забыли за другими делами. Некоторое время спустя Клодиус выступил со своим «Медоном», чью мудрость, великодушие и добродетель мы нашли беспредельно смешными, хотя на первом представлении пьеса имела успех. В тот же вечер, когда мы опять собрались в погребке, я написал ломаным стихом пролог; в нем появлялся Арлекин с двумя большими мешками, которые он ставил на просцениум, и, после разнообразных предварительных шуток, сообщал зрителям, что в них припасен морально-эстетический песок, чтобы актеры могли бросать его в глаза зрителям. Дело в том, что один из мешков битком набит благодеяниями, которым грош цена, другой — пышно выраженными убеждениями, за которыми ровно ничего не стоит. Арлекин неохотно уходил со сцены, снова возвращался и серьезным тоном просил зрителей, памятуя о его предостережении, закрывать глаза, уверяя, что всегда был их другом и желает им только добра и тому подобное. Пролог тут же на месте был разыгран нашим другом Горном, но тем не менее шутка эта не вышла за пределы нашего кружка, мы даже не изготовили копии, и бумажка, на которой я его написал, вскоре затерялась. Однако Горну, очень недурно сыгравшему Арлекина, пришло на ум дополнить мое стихотворение о Генделе несколькими строфами и заострить его против «Медона». Он продекламировал нам свой вариант, но радости нам не доставил, мы нашли его дополнения недостаточно остроумными и искажающими первое, совсем в ином духе написанное стихотворение. Горн, раздосадованный нашим безразличием, более того — хулой, видимо, показал стихотворение другим, которые сочли его новым и забавным. Теперь уже с него стали делать списки, быстро распространившиеся, благодаря славе Клодиусова «Медона». Результатом этого явилось всеобщее неудовольствие, и зачинщиков (вскоре, конечно, обнаружилось, что стихотворение вышло из нашего кружка) поносили на все лады, ибо после преследования Готшеда Кронеком и Ростом ничего подобного не случалось. Мы и без того последнее время сидели тихо, но тут и вовсе оказались в положении филина среди прочих птиц. В Дрездене тоже неодобрительно отнеслись к этой истории, имевшей для нас если не неприятные, то все же весьма серьезные последствия. Граф Линденау давно уже был недоволен воспитанием сына. Бериш, правда, не пренебрегал юношей и во время его ежедневных занятий с учителями всегда находился в комнате молодого графа или по соседству, он неизменно отправлялся вместе со своим воспитанником на лекции, днем никогда без него не выходил из дому и сопровождал его на прогулки, а мы, остальные, вечно торчавшие в доме Апеля, в это время охотно присоединялись к ним, что уже обращало на себя внимание. К тому же Бериш привык к нам и часов около девяти вечера обычно сдавал своего питомца на руки камердинеру, а сам отыскивал нас в погребке, куда являлся не иначе как в туфлях и чулках, при шпаге и со шляпою под мышкой. Шуткам и дурачествам, которые он затевал, казалось, конца не будет. Так, например, один из наших приятелей имел обыкновение уходить ровно в десять; у него была интрижка с некоей прелестной девочкой, и видеться они могли лишь в эти часы. Нам очень его недоставало, и однажды вечером, когда все невесть как развеселились, Бериш решил ни за что его не отпускать. Не успело еще пробить десять, как тот встал, собираясь уходить. Бериш его окликнул и попросил подождать минуту-другую, ему-де сегодня тоже нельзя засиживаться, и он пойдет вместе с ним. Тут он натуральнейшим образом пустился на поиски своей шпаги, которая стояла на самом видном месте, затем стал так неловко ее пристегивать, что казалось, никогда с этим делом не управится. Поначалу он вел себя до того естественно, что никто не заподозрил его в лукавстве. Когда же вариации на эту тему сделались еще разнообразнее и шпага у наго оказывалась то на нравом боку, то между ног, все покатились со смеху, в том числе и торопливый любовник, собственно, веселый и компанейский малый. Бериш канителился, покуда не прошел час свидания, так что в результате совместное веселье и занимательные разговоры продлились до глубокой ночи.
Как на беду, Бериш, а через него и мы, питал склонность к нескольким девицам, которые были лучше, чем их слава, что не могло способствовать и нашей доброй славе. Нас иногда видели у них в саду, и случалось, что мы направляли туда свои стопы, когда с нами бывал и молодой графчик. Обо всем этом в конце концов было доложено отцу, и он постарался деликатно отделаться от гувернера, которому это, кстати сказать, пошло на пользу. Его благообразная внешность, его знания и способности, равно как и безупречная честность, снискали ему любовь и уважение выдающихся людей, по чьей рекомендации он был приглашен гувернером к наследному принцу Дессаускому и обрел наконец прочное счастье при дворе превосходного во всех отношениях государя.
Утрата такого друга, как Бериш, имела для меня огромное значение. Воспитывая, он меня избаловал, и чтобы то, что он в меня вложил, принесло хоть какие-никакие плоды обществу, необходимо было его присутствие. Он не позволил мне отступить от благоприличного и достойного, иными словами — уместного, и старался выставить напоказ мои светские таланты. Но так как в этом отношении я не приобрел еще никакой самостоятельности, то не успел я остаться один, как ко мне вновь вернулась моя прежняя сумбурная неуравновешенность, все возраставшая по мере моего недовольства окружающими, которые, как мне казалось, были недовольны мною. Я злился, произвольно и безрассудно, на то, что могло бы пойти мне на пользу, оттолкнул от себя тех, с кем до сих пор пребывал в недурных отношениях, и после неприятностей, которые я навлекал на себя и на других то ли своими действиями, то ли бездействием, пересолом или недосолом, должен был выслушивать от расположенных ко мне людей, что мне недостает жизненного опыта. То же самое говорили мне разные благожелатели, знакомые с моими произведениями, в первую очередь с теми, в которых изображался внешний мир. Я наблюдал его по мере сил, но ничего поучительного в нем не усмотрел и, чтобы сделать его хоть сколько-нибудь сносным, многое привносил от себя. Не раз приставал я и к своему другу Беришу с просьбой объяснить мне, что же такое жизненный опыт. Но вечно занятый своими дурачествами, он со дня на день откладывал ответ и наконец, после долгих приготовлений, объявил: набраться подлинного опыта значит на опыте установить, как опытный человек набирается опыта, приобретенного исключительно опытом. Когда мы его как следует разбранили, требуя, чтобы он высказался яснее, он стал уверять нас, что за этими словами кроется великая тайна, которую мы сможем постигнуть, лишь приобретя опыт, и так далее и тому подобное, ибо ему ничего не стоило на протяжении добрых четверти часа распространяться на тему, что опытность, делаясь все опытнее, становится наконец истинным опытом. Когда же мы возмущались этим шутовством, он клялся, что манеру ясно и проникновенно выражаться перенял у современных писателей, к тому же у крупнейших, которые научили нас, что можно покойно покоиться в покое и что в тиши тишина становится еще тише.
Как-то раз, находясь в одной достойной компании, я услышал похвалы некоему офицеру, проводившему у нас свой отпуск, на редкость-де умному и многоопытному человеку; будучи участником Семилетней войны, он приобрел всеобщее уважение и доверие. Я без труда сблизился с ним, и мы часто отправлялись вдвоем на прогулки. Понятие «опыт» сделалось для меня чуть ли не навязчивой идеей, а потребность уяснить его себе — неодолимой страстью. Чистосердечный, как всегда, я не скрыл от моего спутника беспокойства, меня терзавшего. Он улыбнулся и, в ответ на мои бесчисленные вопросы, дружелюбно рассказал мне кое-что о своей жизни и о жизни вообще, из чего я, впрочем, узнал не больше того, что опыт заставляет нас понять, сколь недостижимы лучшие наши чаяния, желания и намерения, а также то, что человека, который лелеет подобные мечты и ни от кого их не таит, считают неопытным.
Но так как он был честным и славным малым, то тут же заверил меня, что и сам еще не вовсе расстался с мечтательством и, сохранив лишь малый остаток веры, надежды и любви, тем не менее живет сравнительно неплохо. Затем он много говорил со мной о войне, о походной жизни, о битвах и перестрелках, главным образом о тех, в которых сам был участником, и все эти грозные события, применительно к восприятию отдельного человека, вдруг приобрели для меня совсем иной, необычный облик. Я побудил его затем откровенно рассказать о недавней жизни саксонского двора, которая представилась мне просто сказочной. Я узнал о физической силе Августа Второго, о его многочисленных детях и неимоверных тратах, о страсти наследника к искусству и коллекционерству, а также о графе Брюле и его безграничной любви к пышности, временами даже оборачивающейся безвкусицей, о разнообразных празднествах и увеселениях, которым сразу положило конец вторжение Фридриха в Саксонию. Теперь королевские замки стали руинами, великолепие Брюля отошло в прошлое и от всего этого осталась лишь сильно пострадавшая прекрасная страна.
Видя, как удивила меня столь безрассудная жажда наслаждений и как огорчили воспоследовавшие засим несчастья, он заметил, что опытный человек не должен диву даваться по тому или по другому поводу и принимать все слишком близко к сердцу, вследствие чего я ощутил желание подольше быть неопытным; он поддержал меня в этом желании, настойчиво посоветовав до поры до времени выискивать приятные впечатления и по мере возможности бежать неприятных, даже если они будут по пятам меня преследовать. Но однажды, когда мы опять мимоходом заговорили об опыте и я рассказал ему о шутливых речах друга Бериша, он улыбнулся, покачал головой и заметил: «Вот ведь как получается со словами, слетевшими с языка! Те, что вы мне передали, звучат до нелепости вздорно, и кажется, в них невозможно вложить какой-либо разумный смысл. Но, может быть, нам все же попытаться это сделать?»
А когда я стал настойчиво просить у него объяснения, он отвечал весело и рассудительно, как всегда: «Если вы разрешите прокомментировать и дополнить слова вашего друга, разумеется, в его манере, то, думается мне, он хотел сказать: быть опытным значит понимать, что ты узнаешь не то, что хотел бы узнать, — вот к чему все и сводится, по крайней мере, в этом мире».
КНИГА ВОСЬМАЯ
Другой человек, во всем бесконечно отличный от Бериша, все же в одном отношении сходствовал с ним; я имею в виду Эзера. Он был из той породы людей, что весь свой век проводят в благодушных и неторопливых занятиях. Даже близкие его друзья в душе признавали, что, при отличных природных данных, он смолоду был недостаточно прилежен, а потому так никогда полностью и не овладел техникой своего искусства. Но Эзер, видимо, прикопил известное усердие под старость, и в годы, когда я с ним встретился, не знал недостатка ни в изобретательной фантазии, ни в работоспособности. Меня потянуло к нему с первого же взгляда; даже его жилище, странное и таинственное, было для меня исполнено необычной привлекательности. Войдя в старинный замок Плейсенбург, надо было сразу же свернуть в правый угол и затем подняться по подновленной и приветливой винтовой лестнице. Наверху слева открывались просторные, светлые залы Академии художеств, директором которой он являлся; попасть к нему можно было, лишь нащупав дверь в конце узкого темного коридора, по одну сторону которого тянулась анфилада комнат директорской квартиры, по другую — располагались обширные кладовые. Первый покой был увешан картинами мастеров поздней итальянской школы, чью прелесть он умел ценить. Здесь вместе с несколькими молодыми дворянами, бравшими у него частные уроки, я и занимался рисованием, но иной раз мы проникали также в соседнюю комнату — кабинет Эзера, где находилась его очень небольшая библиотека, художественные и естественноисторические коллекции и все прочее, что было мило его сердцу. Он все здесь сумел распределить с таким вкусом и умением, что маленькая комната вместила очень многое. Мебель, шкафы, папки без излишних украшений были безупречно изящны. Может быть, потому первое, что он нам внушал и к чему постоянно возвращался, была простота во всем, что совместно создают искусства и ремесла.
Заклятый враг разных завитушек, ракушек и всех вычур барокко, он показывал нам их на старинных гравюрах и зарисовках, противопоставляя им более изящные украшения, более простую по форме мебель и другие предметы домашнего убранства. Поскольку все окружавшее Эзера вполне соответствовало его взглядам, то его слова и благие поучения оказывали на нас тем более прочное воздействие. Вдобавок у него была возможность ознакомить нас с тем, как претворяются эти взгляды на практике, ибо, пользуясь большим уважением как частных, так и официальных лиц, он нередко призывался на консультации при возведении новых зданий и перестройке старых. Да он и вообще предпочитал от случая к случаю создавать вещи, предназначенные для определенной цели и практического употребления, нежели что-то безотносительно прекрасное, а потому требующее большей завершенности: по этой же причине он неизменно откликался на предложения книгопродавцев изготовить для их изданий гравюры большего или меньшего формата; так, к примеру, им были выгравированы виньетки к первой книге Винкельмана. Но чаще он делал лишь эскизные наброски, которые затем отлично разрабатывал и завершал Гейзер. Фигуры Эзера всегда носили несколько общий, чтобы не сказать — идеальный, характер. Ему удавались благообразные, милые женщины и в меру наивные дети, но вот с мужчинами дело обстояло хуже, так как при его пусть изобретательной, по несколько туманной и схематической манере все они смахивали на лаццарони. Впрочем, поскольку Эзер в своих композициях уделял больше внимания светотени и массе, чем отчетливым контурам, эти лаццарони обычно выглядели недурно и даже не были лишены известной грации, как и все прочие его творения. К тому же он не мог, да и не хотел отступать от прочно укоренившейся в нем склонности к значительному, аллегорическому, пробуждающему мысль; и вправду, все, созданное его рукою, наводило на размышления и, не будучи совершенным в художественном отношении, отчасти становилось таковым, благодаря домыслам зрителя. Но подобная тенденция чревата опасностью; она нередко доводила его до границ хорошего вкуса, а иногда вынуждала и преступать таковые. Для осуществления своих намерений Эзер порой пускался на всевозможные выдумки и хитроумные затеи; даже лучшим его работам была присуща юмористическая игривость. А если публика не всегда оставалась довольна его штукарством, он мстил ей новыми, еще большими чудачествами. Так, позднее он поставил в прихожей большого концертного зала идеальную, по его представлениям, скульптуру женщины, которая, держа в руке щипцы, тянулась к свече, и был вне себя от радости, когда вокруг начинались споры; что собирается сделать эта странная муза — сиять нагар со свечи или потушить ее? При этом он сам коварно высказывал то одно, то другое предположение.
Всеобщее внимание в мое время привлек к себе только что выстроенный театр, в котором занавес, тогда еще совсем новый, производил поистине очаровательное впечатление. Эзер низвел на землю муз, обычно изображавшихся парящими в облаках. Двор перед далеко отнесенным вглубь Храмом Славы был украшен статуями Софокла и Аристофана, вкруг которых толпились все новейшие авторы драм и комедий. Тут же находились и богини искусств. Все вместе производило достойное и прекрасное впечатление. И вдруг — такая неожиданность! Середина композиции была оставлена свободной, там в отдалении виднелся портал храма и человек в простенькой куртке, который шел дюж двух упомянутых групп, казалось, вовсе их не замечая, прямо к ступеням храма; видимый нам, следовательно, со спины, он был выписан довольно небрежно. Человек этот был Шекспир. Без предшественников и преемников, нимало не заботясь об образцах, он собственным своим путем двигался навстречу бессмертию. Работа над занавесом производилась на обширном чердаке нового театра. Мы часто собирались там вокруг Эзера, и там же я однажды прочитал ему пробные листы «Мусарион».
Что касается меня, то в искусстве рисования я с места не двигался. Общение с Эзером воздействовало на наш ум и вкус, но собственные его произведения были слишком неопределенны, чтобы научить меня, еще смутно блуждавшего в мире природы и искусства, точному и строгому владению рисунком. Говоря о лицах и телах, он больше распространялся о передаче общего от них впечатления, чем о их форме и построении, больше о позах, нежели о пропорциях. Давая нам лишь самое общее понятие об образах и фигурах, он требовал, чтобы мы претворяли их в нечто живое. Все это было бы, пожалуй, приемлемо и осмысленно, не будь мы новичками. Словом, Эзер не обладал подлинным педагогическим талантом, но его острый ум, его житейский опыт и редкостная подвижность духа все же делали его в некоем высшем смысле истинным учителем. Он отлично подмечал недостатки каждого из нас, но говорить о них прямо и без обиняков не любил, предпочитая выражать порицание и похвалу только косвенно и весьма лаконично. Нам приходилось основательно размышлять над его словами, и это способствовало более быстрому и глубокому проникновению в предмет. Так, например, я, согласно полученному заданию, чрезвычайно старательно воспроизвел черным и белым карандашами на голубой бумаге букет цветов, широко прибегнув к штриховке и растушевке, чтобы лучше передать объемность. Я долго корпел над этой работой, но вот Эзер наконец приблизился, постоял у меня за спиной и, воскликнув: «Больше бумаги!» — тотчас же удалился. Мой сосед и я долго ломали себе голову над тем, что бы это могло значить: вокруг моего букета, нарисованного на большом полулисте, и так было довольно пространства. После долгих раздумий мы наконец сообразили, в чем дело, заметив, что наслоение черного и белого вовсе закрыло голубой фон бумаги, разрушив меццо-тинто, в результате чего рисунок, над которым я усердно трудился, оказался неудачным. Эзер много толковал нам о перспективе и свете, но всегда так, что мы положительно выбивались из сил, прежде чем нам удавалось практически применить преподанные им первоосновы. Зная, что мы не намереваемся стать художниками, он, надо думать, стремился лишь воспитать в нас вкус и понимание общих требований, предъявляемых к произведениям искусства, не настаивая на том, чтобы мы сами создавали таковые. А поскольку усердие никогда не было моей сильной стороной (мне доставляло радость лишь то, что я схватывал на лету), я мало-помалу если не распустился, то усомнился в себе и, уразумев, что знания менее утомительны, чем действия, стал удовлетворяться тем немногим, что он считал нужным нам сообщить.
В ту пору вышла в немецком переводе «Жизнь художников» д’Аржанвиля; я тотчас же раздобыл эту книгу и с головой ушел в ее изучение. Эзеру это, видимо, пришлось по душе, он доставил нам возможность просмотреть кое-какие папки из больших лейпцигских коллекций и тем самым как бы ввел нас в историю искусств. Но и эти занятия оказали на меня совсем не то действие, которого он ожидал. Разнообразные темы, затронутые художниками, оживили во мне поэтический талант: подобно тому как художник делает гравюры к стихотворениям, я стал писать стихи к гравюрам и рисункам, стараясь живо представить себе изображенных на них людей в их прошлом и предположительном будущем, иной раз даже сочинял песенку, приличествующую их устам, и таким образом приучил себя рассматривать искусства в их взаимосвязи. Самые ошибки, в которые я впадал, — мои стихи иной раз выходили не в меру описательными, — впоследствии пошли мне на пользу, заставив меня, когда я стал работать сознательнее, уяснить себе различия между искусствами. Многие из этих мелких вещиц были включены в сборник, составленный Беришем, но ни одна из них не сохранилась.
Сфера искусства и хорошего вкуса, в которой жил Эзер и куда устремлялись все те, кто усердно посещал его уроки, настраивала нас на тем более радостный и возвышенный лад, что он любил предаваться воспоминаниям о людях почивших или отсутствующих, с которыми был связан прежде или поддерживал общение еще и теперь. Однажды подарив кого-нибудь своей любовью и уважением, он оставался верен и неизменен в своих чувствах.
Из французов у нас особенно почитали Кайлюса, и Эзер счел своим долгом ознакомить учеников с немецкими авторами, работавшими в той же области. Так мы узнали, что профессор Крист, любитель, коллекционер и знаток, сослужил немалую службу искусству и своими знаниями заметно посодействовал его расцвету. И напротив, одобрительно отзываться о Гейнеке нам не полагалось отчасти потому, что он с излишним рвением занимался ранними, еще робкими зачатками немецкого искусства, каковые не слишком-то жаловал Эзер, но главным образом по той причине, что однажды некрасиво обошелся с Винкельманом, чего Эзер во веки веков не мог ему простить. Зато учитель усиленно обращал наше внимание на труды и заслуги Липперта, высоко им ценимые. Хотя статуи и скульптурные композиции, говаривал он, есть и будут основой и вершиной искусства, мы сравнительно редко видим их как в оригинале, так и в слепках; Липперт же ввел нас в малый мир гемм, благодаря чему нам нагляднее и ощутимее открылось совершенство великих художников древности — их удивительная выдумка, целесообразность композиции, изящество обработки — и, при огромном количестве этих произведений искусства, предоставлялась возможность сравнения их достоинств. В то время как мы, по мере сил, всем этим занимались, Эзер поведал нам о высоком художественном подвиге Винкельмана в Италии, и мы с благоговением начали изучать первые его работы. Страстный почитатель Винкельмана, наш учитель сумел и нам внушить это чувство. Правда, мы с трудом разбирались в проблематике этих небольших статей, к тому же усложненных иронией и трактующих в высшей степени специальные мнения и события; но поскольку на наше восприятие влиял Эзер, неуклонно заставляя нас усваивать его евангелие прекрасного или, точнее, хорошего вкуса и художественного обаяния, то мы все же сумели кое-как вникнуть в таковые и воображали, что идем по правильному пути уже потому, что нам выпало счастье черпать из того источника, который утолил первую жажду Винкельмана.
Великое счастье для города, ежели в нем одновременно, друг подле друга, живут несколько просвещенных людей, к тому же одинаково понимающих сущность и достоинство искусства. Это счастье выпало Лейпцигу, мирно вкушавшему его, покуда не стало обнаруживаться различие в суждениях. Губер, собиратель гравюр и опытнейший знаток искусства, заслуживал благодарности еще и за то, что намеревался посвятить французов в достоинства немецкой литературы; Крейхауф, обладатель острого и верного глаза, был другом всего художественного мира к поэтому на все коллекции был вправе смотреть как на свои собственные; Винклер, охотно деливший со всеми ту разумную радость, которую доставляли ему его сокровища, и многие другие любители жили и действовали в едином духе, и я, часто присутствовавший при осмотре произведений искусства, не упомню, чтобы между ними когда-либо возникали разногласия. Всегда оставаясь справедливыми, они принимали во внимание школу, из которой вышел данный художник, время, в которое он жил, особенности таланта, дарованного ему природой, и то, как он сумел его развить. Они не ведали пристрастия к духовным или светским сюжетам, к городским или сельским ландшафтам, к натюрмортам или живой натуре и знали одну лишь меру — степень художественности.
И хотя эти любители и коллекционеры по своему положению, образу мыслей, состоянию и прочим житейским обстоятельствам предпочитали нидерландскую школу, но, постоянно упражняя свой глаз на недосягаемо высоких произведениях северо-западных художников, они с надеждой и упованием взирали и на юго-восток.
Итак, университет, не оправдавший ожиданий моей семьи, как, впрочем, и моих собственных, тем не менее положил основу тому, что на протяжении всей моей жизни давало мне величайшее удовлетворение, и оттого-то воспоминания о местах, где с такою силою начала работать моя мысль, навсегда остались важными для меня и милыми моему сердцу. Я и поныне живо вижу перед собой старый Плейсенбург, залы Академии, но прежде всего квартиру Эзера, собрания Винклера и Рихтера.
Однако молодой человек, внимающий беседам старших о вещах, хорошо им знакомых, набирается лишь разрозненных знаний и потом, оставшись один на один с труднейшей задачей — привести эти знания в порядок, зачастую попадает в довольно затруднительное положение. Поэтому я вместе с другими страстно жаждал нового источника света, открывшегося нам через человека, которому мы и без того были обязаны столь многим.
Есть два пути для того, чтобы возрадовался дух, — созерцание и уразумение. Но первое нуждается в достойном объекте, каковой не всегда имеется в наличии, а также в относительной просвещенности, каковою мы тоже еще не могли похвалиться. Уразумение же, напротив, требует лишь восприимчивости, содержание заложено в нем самом, и оно само является орудием просвещения. Посему так радостен был луч света сквозь сумрачные облака, брошенный на нас несравненным мыслителем. Надо быть юношей, чтобы представить себе, какое действие произвел на нас Лессингов «Лаокоон». Это творение из сферы жалкого созерцательства вознесло нас в вольные просторы мысли. Упорное наше непонимание тезиса «Ut pictura poesis»[19] вдруг было устранено, различие между пластическим и словесным искусством стало нам ясным; оказалось, что вершины этих искусств раздельны, основания же их друг с другом соприкасаются. Художник, занимающийся пластическим искусством, должен держаться в границах прекрасного, тогда как художник слова не может обойтись без всего разнообразия явлений, и ему вполне дозволено преступать эти границы. Первый работает в расчете на внешние чувства, удовлетворить которые может лишь прекрасное, второй в расчете на воображение, а оно не брезгует и уродством. Словно молнией озарили нас последствия этой великолепной мысли: всю прежнюю наставительную и оценивающую критику мы сбросили с себя, как изношенное платье, и сочли, что избавлены ото всех зол и отныне можем позволить себе с состраданием взирать на блистательное в остальном XVI столетие, когда в немецких произведениях изобразительного искусства и в стихах жизнь представляли себе в виде шута в колпаке с бубенчиками, смерть — стучащим костями скелетом, а необходимые и случайные бедствия мира — в уродливом образе черта.
Более всего восхищала нас красота представления древних о смерти и сне как о двух братьях, схожих друг с другом, как то и подобает Менехмам. В этой мысли мы видели наивысший триумф красоты, безобразное же во всех его разновидностях, коль скоро оно не может быть изгнано из мира, отсылали в низшую сферу искусства — в область комического.
Величие таких важнейших и основополагающих понятий открывается только душам, на которые они мощно воздействуют, и только в эпоху, когда они, давно желанные, внезапно возникают перед нами. И тогда люди, которым такая пища по вкусу, долгие годы любовно трудятся над практическим применением этих плодотворных понятий, радуясь их бурному росту. Но всегда, конечно, находятся и такие, что восстают против плодотворных идеи, хулят и порочат их высокий смысл.
Поскольку уразумение и созерцание предъявляют права друг на друга, я — вместе с радостным усвоением этих поразивших меня понятий — почувствовал неодолимое желание увидеть побольше значительных произведений искусства. И посему решил немедля отправиться в Дрезден. Деньги на эту поездку у меня имелись, но надо было справиться с разными другими трудностями, которые я еще приумножил собственной блажью. Дело в том, что свои сборы я держал ото всех в большом секрете, намереваясь в полном одиночестве смотреть дрезденские сокровища искусства, дабы никто не сбивал меня с толку. Да и еще одна моя причуда осложнила это простое дело.
У нас бывают врожденные слабости, бывают и привитые воспитанием, и еще вопрос, какие из них доставляют нам больше хлопот. Охотно знакомясь со всевозможными житейскими состояниями и находя к тому немало поводов, я почему-то испытывал внушенное мне отцом отвращение ко всякого рода постоялым дворам. Отец проникся этим отвращением во время своих путешествий по Италии, Франции и Германии. Он редко прибегал к образным выражениям, да и то лишь будучи в благодушном настроении, но все же любил утверждать, что на воротах постоялого двора ему всегда видится огромная паутина, сплетенная так искусно, что насекомые легко в ней запутываются, выпутаться же из нее, не обломав крылышек, не могут даже привилегированные осы. Его просто ужасало, что, поступившись своими привычками, всем, что тебе мило, и живя по указке трактирщика и кельнера, ты должен еще платить бог знает какие деньги. Тут же он пускался в похвалы гостеприимству былых времен и, хотя не терпел каких-либо изменений распорядка в доме, многим радушно предоставлял кров, в первую очередь художникам и музыкантам. Кум Зеекац, например, постоянно останавливался у нас, и Абель, последний из музыкантов, игравших на гамбе, тоже всегда находил у нас стол и квартиру. Ну мог ли я, все еще неизгладимо хранивший в памяти эти юношеские впечатления, отважиться жить на постоялом дворе в чужом городе? По правде говоря, ничего не было проще, чем устроиться на квартире у добрых знакомых: надворный советник Кребель, асессор Герман и прочие давно мне это предлагали, но я и от них хотел утаить свою поездку, и вот меня осенила вздорная идея. У моего соседа, прилежного богослова, — к несчастью, со зрением у него становилось все хуже и хуже, — в Дрездене был родич, башмачник, с которым он время от времени обменивался письмами. Этот человек давно уже заинтересовал меня своими высказываниями, и каждое его письмо было для нас обоих настоящим праздником. Очень уж своеобразно отвечал он на сетования своего родственника, страшившегося слепоты: он нимало не старался его утешить, что, конечно, было бы нелегко, но та добродушная веселость, с которой он смотрел на свою скудную, бедную и трудную жизнь, неистощимые шутки, которые он умудрялся извлекать из множества горестей и неудобств, его непоколебимое убеждение, что жизнь сама по себе есть благо, сообщали бодрость духа тому, кто читал эти письма, и хотя бы на время настраивали его на тот же благодушный лад. Со свойственной мне горячностью я просил своего соседа передавать сердечнейшие приветы этому человеку, прославлял счастливые свойства, отпущенные ему природой, и выражал желание познакомиться с ним. При сей предпосылке мне показалось естественным разыскать его, с ним побеседовать и, может быть, даже остановиться у него, чтобы поближе его узнать. Мой добрый богослов, не без некоторого сопротивления, дал мне наконец с трудом написанное письмо, и я, положив в карман сей матрикул и горя нетерпением, сел в желтую карету и отбыл в Дрезден.
Там я сразу же пустился на поиски своего башмачника и вскоре нашел его в одном из предместий. Сидя на низенькой скамеечке, он приветливо со мной поздоровался, прочитал письмо и сказал, улыбнувшись:
— Из этого я вижу, молодой человек, что вы довольно странный христианин.
— Как это понять, мейстер? — спросил я.
— Странный не значит дурной, — отвечал он. — Так говорят про человека, не всегда согласного с самим собою. Я назвал вас странным христианином потому, что в чем-то вы следуете учению господа нашего Иисуса Христа, а в чем-то и нет.
В ответ на мою просьбу объясниться понятнее он продолжал:
— Вы, видно, намереваетесь принести благую весть бедным и униженным, это хорошо: выполнять заветы Христовы — похвально. Но вспомните, что он больше любил сидеть за столом благоденствующих и богатых и не пренебрегал даже ароматом бальзама, у меня же в доме запахи совсем другие.
Веселое это начало сразу привело меня в хорошее настроение, и мы довольно долго шутливо с ним препирались. Жена его стояла в раздумье, как принять и чем потчевать такого гостя. Он и тут за словом в карман не полез и сослался уже не только на Библию, но и на Готфридову хронику, и когда было решено, что я остаюсь у них, я отдал на хранение хозяйке свой кошелек, попросив ее брать оттуда, когда и сколько понадобится. Он хотел это отклонить и не без лукавства заметил, что не так уж он гол, как мне представляется, но я обезоружил его, сказав:
— Если мой кошелек хотя бы поможет превратить воду в вино, то в наше время, когда чудес не бывает, таким испытанным домашним средством, право же, не стоит пренебрегать.
Хозяйку мои речи и мое поведение уже более не смущали; вскоре мы отлично друг с другом свыклись и провели вместе весьма приятный вечер. Хозяин оставался верен себе, ибо для него все проистекало из одного источника. Его главным достоянием был здравый человеческий разум, покоившийся на веселии духа, сдобренном равномерным и привычным трудом. Неустанная работа была первейшей потребностью этого человека, на все прочее он смотрел как на случайность, сохраняя, таким образом, ровное расположение духа. Волей-неволей я мысленно причислил его к тем, кого называют практическими философами и бессознательными мудрецами.
Наконец настал нетерпеливо ожидаемый мною час открытия галереи. Я переступил порог святилища и остановился, пораженный: то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Многажды повторяющий себя зал, где великолепие и опрятность сочетались с полнейшей тишиной, старинные рамы, как видно, недавно позолоченные, навощенный паркет и комнаты, где чаще встретишь зрителя, чем усердного копииста, — все это вместе создавало впечатление единственной в своем роде торжественности, тем более напоминавшей чувство, с которым мы вступаем в дом господень, что украшения различных храмов, свято чтившиеся многими поколениями, здесь были выставлены напоказ, но лишь во славу искусства. Я охотно следовал за своим проводником, по порядку показывавшим мне залы, но затем попросил у него разрешения остаться во внешней галерее. Здесь, к вящей своей радости, я почувствовал себя как дома. Картины многих художников я уже видел раньше, одни были мне знакомы по гравюрам, другие — хотя бы по названиям; я сказал об этом проводнику, отчего тот проникся ко мне известным доверием, к тому же его забавлял восторг, всякий раз охватывавший меня перед произведениями, в которых кисть одержала победу над природой, ибо всего привлекательнее были для меня картины, которые при их сравнении со знакомой мне природой победоносно утверждали чудесное превосходство искусства.
Вернувшись к обеду в дом моего башмачника, я едва поверил своим глазам. Мне почудилось, что передо мною картина Остаде, столь прекрасно выполненная, что хоть сейчас вешай ее в галерее. Расположение предметов, свет, тени, коричневатый колорит целого, магическая сила сдержанности и соразмерности, поражавшая нас в его полотнах, — все это наяву предстало передо мной. Здесь я впервые в полной мере ощутил в себе дар, которым впоследствии стал пользоваться уже сознательно: воспринимать натуру как бы глазами художника, чьи произведения я только что рассматривал с особым вниманием. Эта способность доставляла мне много радости, но она же время от времени неудержимо влекла меня пробовать свои силы на том поприще, где природа обделила меня талантом.
Я посещал галерею во все отведенные для осмотра часы и продолжал вслух выражать свое восхищение теми или иными шедеврами. Таким образом, я сам же нарушил свое похвальное намерение оставаться неизвестным и незамеченным. Если первое время мною занимался только простой смотритель, то теперь меня приметил инспектор галереи, советник Ридель, обративший мое внимание на многие вещи. Этот превосходный человек тогда был так же деятелен и обходителен, как и во все последующие наши встречи в течение долгих лет. Образ его до такой степени слился для меня с сокровищами Дрезденской галереи, что я мысленно никогда не отделяю его от них. Память о нем постоянно сопровождала меня и в Италии, где мне очень его не хватало при осмотре больших и богатых собраний.
Но так как даже среди чужих и незнакомых великие произведения искусства нельзя смотреть молча, не обмениваясь впечатлениями, так как нигде душа не раскрывается шире, чем перед их лицом, то и я вступил в разговор с неким молодым человеком, жившим в Дрездене и, видимо, принадлежавшим к персоналу одного из посольств. Он пригласил меня зайти вечерком в ресторацию, там-де соберется веселая компания, и каждый, заплатив свою скромную долю, может провести несколько приятных часов.
Я явился в условленное время, но никакой компании не застал и был несколько удивлен, когда кельнер передал мне поклон от пригласившего меня молодого человека, добавив, что он просит извинения за то, что придет попозже, а также просит меня ничему не удивляться и помнить, что мне не надо будет платить ничего, кроме своей доли. Я недоумевал — как все это понять, но тут мне вдруг пришли на память «паутины» моего отца, я решил набраться терпения и ждать того, что должно было воспоследовать. Наконец все пришли, мой знакомец меня представил, и вскоре я понял, что здесь собираются мистифицировать одного юношу, новичка в этом обществе, который, однако, уже всем успел досадить своим самоуверенным и дерзким поведением. Я поостерегся, как бы они и меня не зачислили в проштрафившиеся новички. За столом их намерение сделалось еще очевиднее, но только не для него. Мы пили и пили, покуда не был провозглашен тост за его возлюбленную, все дружно прокричали «виват!» и, уверяя, что негоже продолжать пить из этих бокалов, побросали их на пол; это послужило сигналом к куда большим сумасбродствам. Я счел за благо потихоньку уйти, и кельнер, подав мне весьма скромный счет, попросил меня приходить еще, у них-де далеко не каждый вечер бывает такой кавардак. Идти мне было далеко, и я явился домой около полуночи. Двери оказались незапертыми, все спали, лампа освещала бедное убранство дома, и перед моим уже опытным взором воскресло прекрасное полотно Скалькена; я не мог отделаться от этого видения и так и не уснул до утра.
Считанные дни моего пребывания в Дрездене были целиком отданы картинной галерее. Антики тогда помещались в павильонах большого сада, и я решил их не смотреть, так же как и разные другие сокровища Дрездена, вполне убежденный, что даже в собрании картин многое останется мною неоткрытым. Так, например, достоинства итальянских мастеров я скорее принял на веру, чем сам убедился в них. Все то, что я не мог рассматривать как натуру, мысленно переносить в натуру, сравнивать со знакомыми предметами, оставалось мне недоступно. Ибо только материальное впечатление может стать началом даже самого возвышенного любительства.
Со своим башмачником я отлично уживался. Он не лез за словом в карман, имел достаточно разносторонние интересы, и мы нередко состязались в лукавых шутках; однако человек, полагающий себя счастливым и того же требующий от других, в конце концов начинает раздражать, а настойчивое навязывание своих взглядов неизбежно нагоняет тоску. Я был очень занят, полон интереса, возбужден, но отнюдь не счастлив, и башмаки по его мерке меня стесняли. Тем не менее мы расстались друзьями, да и хозяйка при прощании не осталась мною недовольна.
Незадолго до отъезда мне было еще суждено испытать большую радость. Через посредство того самого молодого человека, не пожелавшего раз и навсегда поступиться моим уважением, я был представлен директору фон Гагедорну, который с большим благожелательством разрешил мне осмотр своего собрания и сам от души радовался восторгам молодого ценителя искусств. Как то и подобает истинному любителю, он был положительно влюблен в свои картины, но не так-то часто встречал в других живое участие, которого жаждало его сердце. Больше всего его порадовало мое безмерное восхищение картиной Сваневельта, так мне полюбившейся, что я не уставал ее превозносить и рассматривать во всех деталях, ибо ландшафты с прекрасным светлым небом, — под таким небом рос и я, — с богатой растительностью тех краев и с прочими благодатными дарами теплого климата всего более меня трогали на картинах, будя во мне волнующие воспоминания.
Эти неоценимые впечатления, подготавливающие чувства и ум к подлинному восприятию искусства, к сожалению, перемежались с печальным зрелищем многих разрушенных и опустелых улиц Дрездена, по которым я должен был проходить. Моренштрассе, лежавшая в развалинах, так же как Крейцкирхе с ее треснувшей колокольней, глубоко врезались мне в намять и навсегда темным пятном остались в моем воображении. С купола Фрауенкирхе я смотрел на жалкие развалины, вкрапленные в стройный порядок городских улиц. Там ко мне подошел кюстер и стал прославлять искусство зодчего, строившего церковь и, как бы в предвидении столь нежелательного оборота событий, сделавшего ее недоступной разрушительной силе ядер. Затем этот добродушный человек повел рукою в сторону повсюду видневшихся руин и произнес вдумчиво и кратко: «Вот что сделал враг!»
Наконец, хотя и с большой неохотой, я воротился в Лейпциг, где мои друзья, непривычные к таким выходкам с моей стороны, пребывали в полном недоумении и ломали себе голову над тем, что мог означать мой таинственный отъезд. Я честно рассказал им всю историю, но они объявили ее сказкой и принялись изощряться в остроумных догадках, какая шаловливая затея скрывалась за этим якобы невинным пребыванием у башмачника.
Загляни они, однако, мне в сердце, они бы ничего проказливого в нем не обнаружили, ибо справедливость старой пословицы «идти в науку — терпеть муку» полностью на мне подтвердилась, и чем больше я затрачивал сил на то, чтобы упорядочить и усвоить все, мною увиденное, тем меньше мне это удавалось; в конце концов я понял, что должен удовольствоваться воспринятым, ибо позднее оно во мне отзовется. Будничная жизнь тем временем вновь потекла своим чередом, и я опять почувствовал себя в своей тарелке, когда в общении с друзьями, в приобретении новых знаний и в прилежном стремлении овладеть основами рисования нашел для себя пусть менее важное, но зато посильное занятие.
Очень приятным сказалось мое знакомство с симпатичным семейством Брейткопфов, имевшим на меня самое доброе влияние. Бернгард Кристоф Брейткопф, родоначальник этой семьи, некогда явившийся в Лейпциг неимущим типографским подмастерьем, еще здравствовал и проживал тогда в «Золотом медведе», большом доме на новом Неймаркте, деля его с Готшедом. Сын старика Брейткопфа, Иоганн Готлиб Иммануэль, давно женатый, был отцом многочисленного семейства. Оба они сочли разумным вложить часть своего солидного капитала в сооружение нового дома — «Серебряного медведя», через дорогу. Дом этот должен был стать выше и больше старого, но ко времени, когда я подружился с Брейткопфами, еще не был полностью достроен. Старший сын, молодой человек приятной наружности, года на два, на три постарше меня, посвятил себя музыке: он играл на рояле и на скрипке. Второй, добрый и славный малый, тоже был очень музыкален и с не меньшим рвением принимал участие в концертах, которые у них устраивались. Оба брата, так же как их родители и сестры, очень ко мне благоволили; я принимал самое деятельное участие в хлопотах по постройке, отделке и меблировке дома и был свидетелем благополучного в нем водворения, приобретя тем самым немало житейских сведений и стал к тому же прямым свидетелем практического применения теорий Эзера. В этом доме, возникшем у меня на глазах, я был частым гостем. У нас находилось много совместных занятий, а старший брат даже положил на музыку несколько моих песен, которые вышли в свет, помеченные только его, а не моим именем и большой известности не получили. Лучшие из этих песен я потом отобрал и поместил среди других маленьких стихотворений. Отец Брейткопф то ли изобрел печатание нот, то ли его усовершенствовал. Он разрешил мне пользоваться своей прекрасной библиотекой, в которой преобладали книги, касавшиеся возникновения и роста типографского дела, благодаря чему я обогатился некоторыми познаниями и по этой части. Там же я обнаружил превосходные гравюры из жизни древних и по ним успешно продолжал изучать древность, чему немало содействовало то обстоятельство, что при переезде пришла в беспорядок солидная коллекция гипсовых слепков. Я взялся привести ее в должный вид и, не полагаясь на себя, частенько заглядывал в труды Липперта и других искусствоведов. Время от времени мне — увы! — приходилось советоваться с врачом, доктором Рейхелем, тоже одним из домочадцев Брейткопфов: я чувствовал себя если и не больным, то не вполне здоровым. Но в общем мы все вместе вели тихую, приятную жизнь.
В этом же доме у меня завязались отношения совсем другого рода. Дело в том, что в мансарде у Брейткопфов поселился гравер Шток, родом из Нюрнберга. Все его знали как человека, всегда работавшего с превеликой точностью и тщанием. Подобно Гейзеру, и он резал по рисункам Эзера большие и малые гравюры, входившие в моду в качестве заставок к стихам и романам. Работал он так чисто, что его гравюры выходили из протравы почти законченными и помогать себе резцом, которым он владел в совершенстве, ему почти не приходилось. Он точно рассчитывал, сколько времени ему понадобится на ту или иную пластину, и ничто не могло отвлечь его от работы, покуда он не выполнил своего дневного урока. С самого утра он уже сидел за широким рабочим столом возле большого слухового окна в своей чисто прибранной комнате, где ему составляли компанию жена и две дочери. Из них одна счастливо вышла замуж, другая сделалась превосходной художницей — обе на всю жизнь остались моими добрыми приятельницами. Итак, я делил свое время между верхним и нижним этажами и очень привязался к этому человеку, наделенному, наряду с усердием и упорством, еще и чудесным чувством юмора.
Соблазненный примером Штока, технической точностью его искусства, я попытался сам изготовить нечто подобное. Я и на этот раз остановил свой выбор на ландшафте, облюбованном во время одной из моих уединенных прогулок; ландшафт казался мне более доступным для воплощения, нежели человеческие фигуры, меня пугавшие. Под руководством Штока я стал гравировать ряд ландшафтов по рисункам Тиле и других художников, и надо сказать, что они, при всей неумелости, все же производили недурное впечатление и были одобрительно приняты моими друзьями. Грунтовка и беление пластин, гравировка как таковая и, наконец, протрава требовали самых разнообразных навыков, и вскоре я уже мог ассистировать своему учителю при некоторых процессах. Я умел должным образом сосредоточиться при протраве, и неудача редко постигала меня, но осторожности и умения уберечься от ядовитых паров, неизбежных при этой операции, мне не хватало, что, надо думать, немало способствовало болезни, впоследствии мучившей меня довольно долго. Иной раз, чтобы все испробовать, я резал по дереву, изготовляя небольшие клише по французским образцам, многие из которых нашли себе полезное применение.
Да будет мне позволено упомянуть здесь еще о некоторых людях, живших в Лейпциге или хотя бы ненадолго туда приезжавших. Так, все мы любили и уважали окружного сборщика податей Вейсе, человека в цвете лет, веселого, приветливого и отзывчивого. Мы увлекались его пьесами, хотя и не считали их образцовыми, а его оперы, оживленные изящной музыкой Гиллера, доставляли нам искреннее удовольствие. Шиблер из Гамбурга шел той же стезею, и его «Лизюар и Дариолетта» пользовалась у нас немалым успехом. Эшенбург, красивый юноша, лишь немного постарше нас, выгодно выделялся среди студентов. Цахариэ несколько недель провел в нашем обществе и, рекомендованный братом, обедал вместе с нами. Мы, разумеется, почитали это за честь и наперебой старались попотчевать нашего гостя каким-нибудь редким блюдом, обильным десертом или выдержанным вином, тем более что этот рослый, красиво сложенный, приятный мужчина не скрывал своего пристрастия к хорошему столу. Лессинг появился в Лейпциге в пору, когда нам на ум взбрела какая-то блажная мысль: мы ничего не делали, чтобы с ним повстречаться, напротив, тщательно избегали тех мест, где он бывал, вероятно, потому, что воображали себя слишком значительными, чтобы держаться от него в отдалении, а на более короткие с ним отношения рассчитывать не смели. Эта фантазия, нежданно нами овладевшая, а впрочем, весьма характерная для самонадеянной, неразумной молодежи, впоследствии сама за себя отомстила: я никогда не повстречался с этим замечательным и столь высоко ценимым мною человеком.
Всякий, кто с должным усердием занимался искусством и древностями, всегда имел перед глазами Винкельмана, чья деятельность пользовалась восторженным признанием на его родине. Читая и перечитывая труды Винкельмана, мы стремились уяснить себе обстоятельства, при которых были написаны первые его работы. Многие взгляды, высказанные в них, казалось, явно восходили к Эзеру, более того — иные шутки и причудливые отступления были выдержаны в духе последнего, и нам очень хотелось доискаться, как и почему возникли сии удивительные, во многом загадочные творения. Впрочем, мы не слишком бились над этим: юность больше жаждет вдохновляющего толчка, чем точных знаний, и я не в последний раз поднялся на новую значительную ступень своего развития благодаря таким «сивиллиным листам».
В литературе тогда царила прекрасная пора; выдающимся людям повсюду воздавалось должное, хотя интриги Клоца и контроверзы Лессинга уже предвещали близкий ее конец. Винкельман пользовался всеобщим безусловным уважением, и мы знаем, как болезненно он относился к любым публичным выступлениям, задевавшим его чувство собственного достоинства. Вся периодическая печать согласным хором прославляла его, все просвещенные путешественники возвращались от него, преисполненные восторга и обогащенные знаниями, а все его новые идеи и мысли тотчас же утверждались в науке и в жизни. Подобным уважением к нему проникся и князь Дессауский. Молодой, благородный и благомыслящий, он много путешествовал и везде был желанным гостем. Винкельман был им очарован и не скупился в своих отзывах о нем на самые лестные эпитеты. Разбивка в те времена еще невиданного парка, вкус к зодчеству, который развивал и поддерживал в нем своими творениями фон Эрдмансдорф, — все свидетельствовало в пользу этого владетельного князя, чья деятельность, служа примером другим властителям, сулила золотой век не только его приближенным, но и всем его подданным. И вот до нас, молодых людей, вдруг дошел радостный слух, что Винкельман, возвращаясь из Италии, хочет посетить своего высокого друга, а по пути еще заедет к Эзеру и, таким образом, попадет в поле нашего зрения. Мы, разумеется, не претендовали на беседу с ним, но надеялись его увидеть, а так как молодежь охотно пользуется любым поводом для увеселительной прогулки, то между нами уже было договорено ехать в Дессау верхами и в экипажах, чтобы там, среди красивой, облагороженной искусством природы, в мудро управляемой и со вкусом украшенной стране, собственными глазами посмотреть на достойных мужей. Эзер сам пребывал в состоянии экзальтации при одной мысли о встрече, как вдруг, точно гром среди ясного неба, поразила нас весть о смерти Винкельмана. Я еще и сейчас помню место, где она меня настигла, — во дворе Плейсенбурга близ дверей, через которые мы входили в квартиру Эзера: навстречу мне попался один из моих однокашников, он сказал, что Эзер сейчас никого не принимает, и объяснил, по какой причине. Это ужасное событие произвело тягчайшее впечатление: стон и плач стояли повсюду, преждевременная смерть Винкельмана заострила внимание общества к его бесценной жизни. Возможно, что влияние его деятельности не было бы так велико, если бы он дожил до преклонного возраста и земной его путь не ознаменовался бы страшным концом, подобно жизням столь многих незаурядных людей.
День и ночь оплакивая гибель Винкельмана, я никак не подозревал, что вскоре буду опасаться за собственную жизнь, так как под воздействием всех этих событий состояние моего здоровья приняло достаточно неблагоприятный оборот. Известная склонность к ипохондрии была мне присуща и дома, здесь же от сидячей и малоподвижной жизни она только усилилась. Боль в груди, которую я порой ощущал со времени ауерштедтской дорожной катастрофы, заметно возросла после падения с лошади и очень меня угнетала. Неудачной диетой я вконец испортил себе пищеварение; крепкое мерзебургское пиво туманило мой мозг, кофе, повергавший меня в меланхолическое настроение, в особенности если я пил его с молоком после еды, парализовал мой кишечник и, казалось, полностью приостановил его функции, что очень напугало меня, но не заставило вести более благоразумный образ жизни. Натура моя, подкрепленная недюжинными силами молодости, металась от одной крайности к другой, от распущенного веселья к меланхолической грусти. Вдобавок тогда настала эпоха холодных купаний, считавшихся чуть ли не обязательными. Спать рекомендовалось на жестком ложе, под топким одеялом, отчего закупоривались привычные испарения. Эта и другие глупости — следствие неправильно понятого учения Руссо — будто бы должны были приблизить нас к природе и спасти от гибельного влияния установившихся обычаев. Все эти методы, к тому же примененные в неразумной последовательности, многим причинили весьма ощутительный вред, я же до такой степени подорвал свой здоровый организм, что отдельные его системы взбунтовались против целого во имя спасения такового.
Однажды ночью я проснулся оттого, что у меня горлом хлынула кровь; я нашел в себе еще достаточно сил, чтобы разбудить своего соседа по комнате. Немедленно вызванный доктор Рейхель дружески оказал мне врачебную помощь. Несколько дней я находился между жизнью и смертью, но радость вскоре последовавшего улучшения была омрачена тем, что во время приступа у меня образовалась опухоль на левой стороне шеи, которую удосужились заметить, только когда прямая опасность миновала. И все же выздоровление всегда радостно и приятно, как бы медленно и неприметно оно ни совершалось, а так как мне на помощь пришла сама природа, то постепенно я как бы сделался другим человеком: дух мой возвеселился, чего я уже давно не испытывал, я радовался, сознавая свое внутреннее раскрепощение, хотя извне мне все еще угрожали продолжительные страдания.
Всего действеннее помогало мне в ту пору участливое и мною вовсе не заслуженное отношение многих превосходных людей. Я сказал «не заслуженное», так как не было среди них ни одного, кого бы я неоднократно не ранил своим болезненным упрямством или глупейшим образом не избегал в течение долгого времени, чувствуя свою неправоту. Все это было позабыто, они заботливо нянчились со мною и на все лады старались развлечь и занять меня в моей комнате, да и позднее, когда я уже мог ее покидать. Они ездили со мною на прогулки, радушно принимали меня в своих загородных домах, и я, казалось, стал быстро поправляться.
Среди этих друзей я прежде всего упомяну советника, впоследствии бургомистра города Лейпцига, доктора Германа. Он был одним из тех моих сотрапезников, с которыми я свел знакомство благодаря Шлоссеру; с ним, более чем с другими, у меня установились ровные и прочные отношения. Его можно было причислить к прилежнейшим из моих товарищей по университету. Он не только регулярно посещал лекции, но не менее регулярно и неустанно трудился дома. Шаг за шагом, без единого отклонения, он достиг на моих глазах докторской степени и затем возвысился до звания асессора; никакие усилия не были ему в тягость, и никогда он не спешил, так же как никогда ни с чем не опаздывал. Мягкость его характера меня привлекала, а его содержательные беседы занимали мой ум. Иной раз мне кажется, что я восхищался его неизменным прилежанием хотя бы потому, что, ни в коей мере не обладая сим похвальным качеством, путем признания и уважения такового как бы к нему приобщался.
Размеренным он был не только в своих делах, но и в применении своих талантов, в развлечениях и удовольствиях. Он искусно играл на клавесине, прочувствованно рисовал с натуры, да и меня к этому приохотил. Копируя его манеру, я нарисовал белым и черным мелком на серой бумаге ивовые заросли на Плейсе и еще несколько прелестных уголков на берегу тихих вод, неотступно предаваясь за этим занятием своим тоскливым думам. Он умел отвечать веселыми шутками на комичные проявления моего характера, и мне вспоминается немало приятных часов, проведенных вместе с ним, когда, к примеру, он с шутливой торжественностью приглашал меня отужинать вдвоем и мы при свете восковых свечей с важностью поедали так называемого «магистратского зайца», заскочившего к нему на кухню в качестве представителя родного магистрата, солеными шутками во вкусе Бериша сдабривая еду и повышая хмельное действие вина. Я радуюсь возможности после столь долгого времени открыто выразить благодарность этому достойному человеку, и поныне Энергично исполняющему свои обязанности на высоком посту, за то, что в пору моих бед, пусть чаянных, но не во всем роковом их объеме, он выказывал преданное участие, каждый свободный час проводя со мною и веселыми воспоминаниями скрашивая иные печальные минуты.
Помимо этого дорогого друга, много внимания подарил мне Грёнинг из Бремена. Я недавно познакомился с ним, в его расположении убедился уже во время моего несчастья и высоко оценил его доброжелательство, памятуя, что редко кто по доброй воле ищет сближения с больным человеком. Не щадя сил, он старался чем-нибудь порадовать меня, отвлечь от мыслей о моем состоянии, суля мне выздоровление и предсказывая деятельную жизнь в ближайшем будущем. Как же часто я радовался впоследствии, слыша, сколь успешно трудится этот прекрасный человек на пользу родному городу.
Конечно, и друг Горн непрерывно расточал мне свою любовь и внимание. Все семейство Брейткопфов, семейство Штоков, так же как многие другие, отнеслись ко мне как к родному, и дружеское расположение людей ласково и неприметно скрашивало эту тяжелую полосу в моей жизни.
Но гораздо подробнее я должен рассказать здесь о человеке, с которым познакомился в ту пору и чья обогащающая душу близость до такой степени захватила меня, что я позабыл о печальном своем положении. Это был Лангер, впоследствии библиотекарь в Вольфенбюттеле. Широко образованный, во многих отраслях весьма сведущий человек, он радовался моей жгучей жажде знаний, при тогдашнем моем болезненном возбуждении нередко принимавшей какую-то лихорадочную форму. Он старался меня успокоить, постепенно расширяя мой кругозор, так что я многим обязан даже краткому общению с ним. Этот человек в самых разных отношениях руководил мною, и он же сосредоточил мое внимание на том направлении, которого мне тогда следовало держаться. Я был тем более обязан ему, что знакомство со мною подвергало его некоторой опасности: дело в том, что он заступил после Бериша место гувернера при молодом графе Линденау, отец которого поставил новому ментору непременное условие — не водить дружбы со мною. Любопытствуя поближе узнать столь опасного субъекта, он сумел устроить так, что мы встречались на нейтральной почве. Мне удалось вскоре завоевать его расположение, и он, будучи осмотрительнее Бериша, заходил за мной в поздний час; мы гуляли вдвоем, вели интересные беседы, и под конец я провожал его до дверей его возлюбленной, ибо и этот внешне суровый, серьезный и ученый человек не избег сетей одной прелестницы.
Немецкая литература, а вместе с ней и мои собственные поэтические начинания с некоторых пор перестали меня интересовать, и я вновь обратился к милым моему сердцу древним, что неизбежно при таком автодидактическом круговороте. Подобно голубеющим горным вершинам, отчетливым в своих очертаниях и массивах, но неразличимым в отдельных частях и внутренних связях, древние все еще заслоняли горизонт моих духовных вожделений. Я совершил обмен с Лангером, разыграв одновременно Главка и Диомеда: отдал ему несколько корзин, полных немецких поэтов и критиков, а от него получил множество томов древних авторов, которые должны были меня услаждать даже при затянувшемся выздоровлении.
Доверительность между новыми друзьями, как правило, устанавливается постепенно. Совместные занятия и общие пристрастия — вот первое, что определяет обоюдное согласие; далее сообщительность простирается на прошлые и настоящие любовные чувства — и в первую очередь на любовные приключения. Но существует и нечто более глубокое, открывающееся, лишь когда дружбе суждено стать полноценной, а именно — религиозные убеждения, сердечные заботы, заботы о непреходящем, которые равно укрепляют основу дружбы и венчают ее вершину.
Христианская религия колебалась между ее исторически сложившимся позитивным учением и чистым деизмом, основанным на понятии нравственности и, в свою очередь, призванным насаждать таковую. Различие характеров и убеждений проявлялось здесь в бесчисленном множестве оттенков, тем более что на всем этом сказалось еще одно, едва ли не главное различие, определившее тогда же всплывший вопрос: в какой мере должен и может участвовать в образовании наших религиозных убеждений разум и в какой — чувство. Самые талантливые и духовно значительные люди в этом случае уподобились мотылькам, позабыв о стадии гусениц, сбросили кокон, в котором достигли своей органической зрелости. Других, более скромных и прямодушных, можно было бы сравнить с цветами: уже расправив лепестки для пышного цветения, они тем не менее не отрываются от корня, от материнского стебля, более того — именно благодаря этой нерушимой семейной связи и приносят желанный плод. К последним принадлежал Лангер. Ученый, завзятый книжник, он отдавал Библии решительное предпочтение перед всеми письменными первоисточниками, рассматривая ее как единственный документ, из которого мы можем вывести наше нравственное и духовное генеалогическое древо. Есть люди, которым недоступно понятие бога, равнозначного вселенной; таков был и Лангер. Он нуждался в опосредствовании, аналогии которого находил повсюду — в земном и в небесном. Его рассуждения, интересные и последовательные, не могли не увлечь молодого человека, отчужденного докучливой болезнью от земных радостей и, естественно, жаждавшего обратить свой подвижный ум на небесное. Библию я знал досконально, мне не хватало только веры, чтобы признать божественным то, что я до сих пор почитал высшим проявлением человеческого духа, но утвердиться в таком богопочитании мне было нетрудно: ведь я сыздетства привык смотреть на Библию как на книгу божественную. Для молодого человека с обострившейся от болезни чувствительностью Евангелие не могло не явиться желанной пищей. И хотя Лангер при всей своей вере оставался человеком трезвым и рассудительным, твердо стоявшим на том, что нельзя давать чувству главенствовать над тобою и доводить тебя до экстатических неистовств, я все же не понимал, как можно читать Новый завет, не отдаваясь чувству и энтузиазму.
В подобных беседах мы проводили немало времени, и Лангер до такой степени полюбил меня как верного и хорошо подготовленного прозелита, что сплошь и рядом жертвовал мне часами, предназначенными для его красотки, более того — не убоялся, как то случилось с Беришем, прогневить своего патрона. За его доброе отношение я платил ему искренней благодарностью, и если все, что он для меня сделал, было бы в любое время большой заслугой, то в настоящем моем положении я не мог не расценивать это как истинно нравственный подвиг.
Обычно бывает так: стоит душе устремиться к вершинам духа, как извне с неистовой силой вторгаются грубые, визгливые звуки мирской суеты и, вдруг обнажившись, дает о себе знать долго таившийся извечный контраст. А посему и мне, прежде чем я покинул перипатетическую школу моего славного Лангера, довелось пережить событие, для Лейпцига весьма необычное, — студенческие беспорядки, возникшие по следующему поводу: молодые люди повздорили с лейпцигскими солдатами, и эта стычка не обошлась без рукоприкладства. Часть студентов объединилась, чтобы отомстить за обиду. Солдаты оказали яростное сопротивление, и внакладе, конечно, осталась рассерженная академическая молодежь. Вскоре распространился слух, что отцы города одобрили стойкий отпор победителей и даже выдали им награды; чувство оскорбленной чести взыграло в молодых людях, призывая их к отмщению. В городе стали открыто поговаривать, что следующим вечером кое-где будут выбиты окна, и мои приятели, явившиеся с известием, что беспорядки начались, увлекли меня за собою, ибо сумятица и опасность всегда притягивают юношей. Тут и вправду разыгрался редкостный спектакль. На одной стороне улицы, и остальной части безлюдной, толпился народ, неподвижно и бесшумно ожидавший, что будет дальше. По пустынной мостовой взад и вперед прохаживалось около дюжины молодых людей, с виду вполне спокойных, но всякий раз, дойдя до одного определенного дома, они швыряли в него камнями и повторяли это до тех пор, покуда в окнах не осталось ни одного целого стекла. Не менее спокойно, чем упомянутая сцена, происходил и весь этот бунт, не имевший дальнейших последствий.
Дребезжащий отзвук сих академических подвигов еще стоял у меня в ушах, когда в сентябре 1768 года я выехал из Лейпцига в удобной наемной карете вместе со знакомыми мне и вполне благонадежными людьми. Под Ауерштедтом я вспомнил о дорожной неприятности, в свое время там со мной приключившейся, но, конечно, не мог предвидеть, что много лет спустя мне будет угрожать оттуда еще большая опасность, так же как не мог предвидеть в Готе, стоя в большой зале с лепными украшениями, — мы попросили показать нам герцогский замок, — что со временем удостоюсь здесь стольких милостей и благоволения.
По мере приближения к родному городу я мысленно все чаще возвращался к прошлому; в каком душевном состоянии, с какими перспективами и надеждами я уезжал из дому, а теперь меня угнетало унизительное чувство, что я возвращаюсь словно потерпевший кораблекрушение. Но так как мне, собственно, не в чем было себя винить, я довольно быстро успокоился; тем не менее встреча с домашними прошла не без взаимного волнения. Живость моей натуры, усиленная и обостренная болезнью, явилась причиной драматической сцены. Я, надо думать, выглядел хуже, чем мог это предположить, так как давно не смотрелся в зеркало, к тому же человек легко привыкает к своему виду! Короче говоря, все пришли к молчаливому соглашению лишь постепенно узнавать от меня подробности моей жизни и прежде всего дать мне отдохнуть физически и душевно.
Сестра с первой же минуты не отходила от меня, и как прежде из ее писем, так теперь от нее самой, но уже подробнее и обстоятельнее, я узнал о семейных взаимоотношениях. После моего отъезда отец все свои дидактические причуды обратил на сестру и при замкнутом образе жизни, ставшем возможным в мирное время, в доме, наконец-то свободном от жильцов, не только не давал ей передышки, но отрезал все пути к соприкосновению с внешним миром. Он заставлял ее изучать французский, итальянский, английский и притом еще долгие часы проводить за роялем. Не позволялось ей пренебрегать и письменными упражнениями, и я уже давно заметил, что отец вмешивался в ее переписку со мной и с помощью ее пера донимал меня своими поучениями. Сестра как была, так и осталась непонятным существом, странной смесью суровости и мягкости, упрямства и уступчивости, причем эти свойства ее характера проявлялись то в совокупности, то, под воздействием воли или порыва, по отдельности. Теперь она, с жестокостью, меня устрашавшей, ополчилась на отца за то, что в течение трех долгих лет он лишал ее всех невинных радостей или же отравлял их, и не хотела признавать за ним ни одного из его добрых и хороших качеств. Она исполняла все, что он приказывал или предписывал, но самым неприятным на свете образом. То есть все делала добросовестно, но ровно столько, сколько ей было приказано, ни на йоту больше или меньше. Она пальцем не пошевелила из любви или хотя бы из любезности, мать горько жаловалась мне на это в одном из наших разговоров с глазу на глаз. Но так как сестра нуждалась в любви больше, чем кто бы то ни было на земле, все ее чувства обратились теперь на меня. Попечения обо мне, старания меня развлечь поглощали все ее время. Ее подругам, которыми она верховодила, сама о том не подозревая, тоже вменялось в обязанность придумывать все возможное для того, чтобы угодить мне и меня позабавить. Она изобретала множество способов развеселить меня и порой даже выказывала зачатки подлинного юмора, которого я никогда не знал за нею и который очень ее красил. Вскоре мы с нею придумали некий условный язык и могли говорить при ком угодно — нас все равно не понимали, и она дерзко пользовалась этим воляпюком даже в присутствии родителей.
Отец мой в то время был в добром здравии, большую часть дня проводил за обучением сестры, писал о своих путешествиях, настраивал лютню дольше, чем на ней играл, и при этом по мере сил скрывал свою досаду на то, что вместо здорового, деятельного сына, которому пора было, защитив диссертацию, начать уготованную для него карьеру, в его дом вернулся хворый юноша, вдобавок страдавший душевно еще больше, чем телесно. Своего желания ускорить мое излечение он скрыть уже не мог; в его присутствии мне пуще всего приходилось остерегаться ипохондрических настроений, ибо, заметив таковые, он впадал в гнев и раздражение.
Моя мать, от природы веселая и жизнерадостная, томилась в этой атмосфере. С небольшим хозяйством она справлялась легко и быстро. Душа этой доброй женщины, внутренне всегда деятельной, стремилась отыскать для себя какое-нибудь прибежище, которое и открылось ей в религии, тем более что ее ближайшие подруги были образованными женщинами и подлинными богопочитательницами. Первое место среди них, несомненно, занимала фрейлейн фон Клеттенберг, та самая, чьи беседы и письма послужили основой для «Исповеди прекрасной души», включенной в «Вильгельма Мейстера». Она была хрупкого сложения, среднего роста, а ее естественные, простые манеры приобретали еще большую приятность благодаря усвоенной ею светской обходительности. Ее всегда изящный костюм походил на одежду гернгутерских женщин. Радостное спокойствие духа никогда не покидало ее. Свою болезнь она рассматривала как необходимую составную часть бренного земного существования, с величайшим терпением переносила свои страдания, а в часы, когда они отпускали ее, была оживленна и разговорчива. Занятием, которому она предпочтительно, если не исключительно, предавалась, было приобретение нравственного опыта, который дается только человеку, способному наблюдать за собою; не в меньшей степени занимали ее и религиозные предметы, каковые она метко и остроумно подразделила на естественные и сверхъестественные. Едва ли здесь надо многое добавлять для любителей подобных психологических наблюдений к тому, что уже было однажды сказано мною касательно ее души. При том особом направлении, которое избрала с юных лет женщина, рожденная и воспитанная в высшем сословии, при живости и оригинальности ее ума, она не очень-то ладила с другими, избравшими сходный путь для спасения души. Госпожа Гризбах, самая выдающаяся из них, была слишком сурова, суха и учена; она больше знала, больше размышляла и схватывала, чем ее приятельницы, довольствовавшиеся развитием своего чувства, и была им в тягость, потому что не каждая могла или хотела тащить за собой на пути к вечному блаженству столь громоздкий аппарат. Зато большинство из них производили довольно тусклое впечатление, поскольку они держались терминологии, похожей на терминологию позднейшего сентиментализма. Фрейлейн фон Клеттенберг шла своим путем между этими двумя крайностями и не без известного самодовольства усматривала свое подобие в графе Цинцендорфе, чьи убеждения и поступки свидетельствовали о его высоком рождении и принадлежности к высшему обществу. Во мне она нашла то, что ей было нужно, — юношу с живым умом, в свою очередь, стремившегося к неведомому благу, который, хотя и не зная за собою особых прегрешений, отнюдь не чувствовал себя счастливым и не был здоров ни душою, ни телом. Она восхищалась тем, что дала мне природа, и многим из того, что я приобрел сам. Признание за мною ряда преимуществ нисколько ее не унижало: во-первых, ей и на ум не шло соревноваться с мужчиной, во-вторых, она считала, что в религиозном развитии оставила меня далеко позади. Мое беспокойство и нетерпение, пытливость, мои стремления, поиски, размышления и колебания она толковала по-своему и без обиняков меня уверяла, что все мои беды происходят от непримиренности с господом богом. Я же с младых ногтей был убежден, что пребываю со своим богом в наилучших отношениях, более того — на основании некоторого опыта полагал, что он у меня в долгу, и даже воображал в своей дерзостности, что мне приходится кое-что ему прощать. Причиной этого высокомерного заблуждения была моя бесконечно добрая воля, которой он, как мне казалось, должен был бы энергичнее прийти на помощь. Нетрудно себе представить, сколь часто между мною и моей подругой из-за этого завязывались споры, всегда, впрочем, кончавшиеся вполне дружелюбно и приблизительно так же, как мои споры со стариком ректором, восклицавшим: «Ну и чудной же ты мальчонка!» — в убеждении, что мне многое можно простить.
Опухоль на шее изрядно мучила меня, и поскольку врач и хирург сначала решили ее разогнать, а затем, как они выразились, дождаться ее созревания и, наконец, сочли за благо ее вскрыть, я долгое время страдал не столько от боли, сколько от неудобства, хотя под конец лечения смазывание ляписом и другими едкими веществами досаднейшим образом отравляло мне существование. И врач и хирург, при всем несходстве характеров, принадлежали к секте «благочестивцев». Хирург, стройный, хорошо сложенный человек, проворный и легкий на руку, но, увы, болевший чахоткой, сносил эту беду с истинно христианским долготерпением и не позволял недугу мешать своей медицинской практике. Врач, непонятный мне человек, с хитрецой во взгляде, велеречивый, но при этом довольно бестолковый, в своем благочестивом кругу пользовался незаурядным доверием. Будучи энергичным и внимательным, он благотворно влиял на больных, но пациенты гласным образом стекались к нему оттого, что он потчевал их таинственными, им самим приготовленными лекарствами, говорить о которых они не имели права, так как лечение самодельными лекарствами у нас было строжайше воспрещено. Из некоторых порошков, видимо, способствовавших пищеварению, он особого секрета не делал, но о его чудодейственной соли, применяемой лишь в крайне опасных случаях, много говорили в самом тесном кругу верующих, хотя никто ее в глаза не видел и никто не испытал на себе ее действия. Дабы пробудить и укрепить веру в возможность существования чудодейственного лекарства, он рекомендовал некоторые мистические и химико-алхимические книги всем своим пациентам, мало-мальски склонным к такого рода чтению, и заодно давал им понять, что, проникнув в эти тайны, каждый сам сумеет скомпоновать его, а это тем более важно, что рецепт приготовления, по причинам физического и нравственного порядка, не может быть никому сообщен; для того чтобы постигнуть это снадобье, сотворить и применить его, необходимо познать тайны природы во всех их взаимосвязях, так как сия панацея существует не обособленно, а является универсальной и даже изготовляться может в самых различных формах и видах. Моя подруга с интересом внимала сим соблазнительным словесам. Исцеление плоти тесно связано с исцелением души; так можно ли было оказать большее благодеяние ближним, проявить большее милосердие, чем изготовив средство, которое утолит великое множество страданий и многих людей избавит от неминучей опасности? Она уже и раньше изучала Веллингов «Opus mago-cabbalisticum»[20], но так как автор этой книги тотчас гасил свет, который сам же излучал, она нуждалась в друге, способном помочь ей разобраться в этой непрерывной смене мрака и света. Многого не требовалось, чтобы и меня вовлечь в эти поиски. Я раздобыл книгу Веллинга, родословное древо которой, как и всех подобных произведений, по прямой линии восходило к школе неоплатоников. Главная моя работа при ее изучении заключалась в том, чтобы скрупулезно отмечать те темные места, где автор отсылает читателя к другим местам, не менее темным, обещая раскрыть ему таким образом доселе скрываемое. Я отмечал на полях номера страниц, долженствующих прояснить одна другую. Но книга по-прежнему оставалась темной и достаточно непонятной. В результате мне удалось лишь с известной мере освоить ее терминологию и, пользуясь таковой по собственному усмотрению, если не понимать суть дела, то хоть толковать о ней. Автор книги с величайшим почтением отзывается о своих предшественниках — обстоятельство, побудившее меня и мою подругу обратиться к этим первоисточникам. Итак, мы принялись штудировать Теофраста Парацельса, Базилия Валентина, не пренебрегая также Гельмонтом, Старкеем и другими, чтобы, вникнув в их учения и предписания, применить таковые на деле. Мне больше всего пришлась по душе «Aurea catena Homeri»[21], где природа, хоть и на несколько фантастический лад, изображена в прекрасном взаимодействии и единстве. Так, мы, то в одиночку, то вместе, немало времени тратили на эти диковинные сочинения и в подобных занятиях славно проводили долгие зимние вечера, когда я еще не покидал своей комнаты. К нам присоединилась и моя мать, и мы втроем тешились этими тайнами больше, чем радовались бы их раскрытию.
Между тем мне было уготовано еще одно тяжкое испытание. Мое расстроенное и по временам вовсе отказывающееся работать пищеварение пришло в полную негодность; никакие лекарства мне не помогали, и я в страхе уже ждал близкой смерти. Тут моя перепуганная мать упорными настояниями заставила смущенного врача пустить в ход свою панацею. Сначала долго отнекиваясь, он все же поздней ночью поспешил домой и возвратился с баночкой сухой кристаллической соли; приняв ее, растворенную в воде, я явственно ощутил вкус щелочи и тут же почувствовал облегчение. С этой минуты болезнь приняла благоприятный оборот, мало-помалу приведший к выздоровлению. Трудно передать словами, до какой степени это заставило нас уверовать во врача и с каким усердием мы взялись за труды для овладения подобным сокровищем.
Моя подруга, у которой не было ни родителей, ни родных, жившая в большом, красиво расположенном доме, еще раньше обзавелась маленькой духовой печью, а также колбами и ретортами средней величины и орудовала всем этим согласно указаниям Веллинга и многозначительным намекам врача-чудодея; опыты производились в первую очередь над железом, в каковом будто бы таились наиболее целительные силы, если уметь их выявить. Поскольку же во всех известных нам писаниях большую роль играла добыча «воздушной соли», то прежде всего надо было раздобыть щелочи, которые, растворясь в воздухе, воссоединялись бы с чудесными ингредиентами и в конечном счете должны были per se[22] образовать таинственную и целительную «среднюю соль».
Как только я немного понравился и с наступлением весны снова перебрался в свою мансарду, я начал мастерить себе небольшой аппарат; духовая печь с «песчаной баней» вскоре были готовы, и я быстро научился с помощью горящего фитиля превращать стеклянные колбы в чаши для испарения различных смесей. Теперь можно было приступить к таинственной и сложной обработке ингредиентов макро- и микрокосма, и прежде всего мы постарались выщелочить доселе не слыханным способом «средние соли». Долгое время меня больше всего увлекал так называемый «liquor silicum» («кремневый сок»), возникающий в результате воссоединения чистого кварцевого песка с соответствующим количеством щелочи. При этом опыте образуется прозрачное стекло, которое под воздействием воздуха плавится и преображается в красивую прозрачную жидкость. Тот, кто хоть однажды ее изготовил и увидел собственными глазами, уже не может смеяться над людьми, верящими в «девственную землю» и в возможность воздействия на нее и через нее. В приготовлении кремневого сока я приобрел отличную сноровку; гладкая белая галька, которой изобилует Майн, служила мне превосходным материалом, да и во всем остальном, равно как и в усердии, недостатка у меня не наблюдалось. Но мое рвение тут же иссякло, когда я волей-неволей установил, что кремневый сок отнюдь не так тесно связан с солью, как мне представлялось на основании философических выводов: он очень легко снова от нее отделялся, а прекрасная минеральная жидкость, к величайшему моему удивлению несколько раз принимавшая у меня форму животного студня, неизменно давала осадок в виде порошкообразного вещества, которое я не мог не признать за тончайшую кремневую пыль; в самой природе этого вещества не чувствовалось ничего продуктивного, ничего позволяющего надеяться, что сия «девственная земля» когда-либо перейдет в состояние «земли-матери».
Как ни случайны и ни бессистемны были все эти манипуляции, они многому меня научили. Я очень внимательно присматривался к кристаллизациям, которые происходили ка моих глазах, и ознакомился с внешними формами различных продуктов природы. Я знал, что в новейшее время химические опыты производятся более методично, а потому решил составить себе самое общее представление о химии, хоть я в качестве полуадепта и презирал аптекарей и прочих «профанов», орудующих обыкновенным огнем. Но, заинтересовавшись химическим учебником Бургаве, я прочитал еще ряд его книг и, поскольку продолжительная болезнь в какой-то мере приблизила меня к медицине, принялся изучать его «Афоризмы», которые мне очень хотелось получше усвоить и запомнить.
Другое, пожалуй, более земное и в данное время более полезное для моего формирования занятие состояло в просмотре писем, которые я в свое время писал домой из Лейпцига. Лучше всего мы постигаем себя, когда у нас перед глазами оказывается нечто, от нас не так давно изошедшее, и мы начинаем себя рассматривать как объективное явление. Но, конечно, я был тогда еще слишком молод, и слишком близка была пора, запечатленная в этих письмах. Вообще же в молодые годы нелегко отделаться от известного самомнения, прежде всего выражающегося в том, что мы презираем себя в недавнем прошлом, ибо, поднявшись на новую ступень и уже яснее понимая, что все представлявшееся нам хорошим, даже превосходным в себе и в других, мало чего стоит, мы воображаем, что лучший способ выйти из создавшегося неприятного положения — самому зачеркнуть то, что все равно уже нельзя исправить. Это же происходило и со мной. Если в Лейпциге я постепенно научился пренебрежительно относиться к своим детским творениям, то теперь и университетская жизнь казалась мне заслуживающей всяческого пренебрежения. Я не понимал, что ценность ее в том и заключалась, что она возвела меня на более высокую ступень наблюдений и понимания. Отец заботливо собрал и переплел все мои письма к нему и к сестре, более того — он тщательно их прокорректировал, исправив как грамматические, так и языковые ошибки.
Прежде всего мне бросился в глаза внешний вид этих писем, я ужаснулся невероятной небрежности своего почерка начиная с октября 1765 года и до середины следующего января. Затем в половине марта рука моя вдруг приобрела твердость и четкость, я стал писать, как в свое время на конкурсах по чистописанию. Мое удивление превратилось в благодарность нашему славному Геллерту, который, как мне теперь вспомнилось, своим проникновенным голосом призывал нас в сочинениях заботиться о почерке не меньше, если не больше, чем о стиле. Он говорил это всякий раз, увидев небрежные ученические каракули, и любил повторять, что охотно сделал бы красивый почерк основной целью своего преподавания, тем паче что, по его убеждению, хорошая рука влечет за собою и хороший стиль.
Заодно я обратил внимание на то, что французские и английские места в моих письмах были хоть и не свободны от ошибок, но написаны легко и непринужденно. Обоими этими языками я продолжал пользоваться в переписке с Георгом Шлоссером, все еще жившим в Трептове, ибо не порывал с ним связи и благодаря этому знал о многих мирских делах (у него по-прежнему не все шло так, как бы ему хотелось), проникаясь все большим доверием к его серьезному и благородному образу мыслей.
Просматривая свои письма, я сделал еще одно наблюдение, а именно — что мой славный отец с наилучшими намерениями причинил мне величайший вред и поневоле принудил меня к той странной жизни, какую я вел все последнее время. Он многократно предостерегал меня от карточной игры, но госпожа советница Бёме, покуда была жива, настроила меня на совсем иной лад, уверяя, что отец меня предостерегал лишь против злоупотребления картами. Зная, как в обществе благоволят к игрокам, я охотно ей подчинился. Карточные игры я схватывал быстро, но вкус к ним у меня отсутствовал; в минуту с легкостью научившись той или иной игре, я был не в состоянии надолго на ней сосредоточиться. Хорошо начав, я под конец делал ошибки, проигрывал сам и вынуждал проигрывать других, отчего к столу шел уже в дурнейшем расположении духа, а то и попросту уходил домой. Едва только скончалась госпожа Бёме, — впрочем, во время своей продолжительной болезни она уже не заставляла меня понтировать, — как наставления отца снова взяли надо мной верх. Я стал далеко обходить карточные столы, хозяева не знали, чем еще меня занять, и я, чувствуя, что становлюсь в тягость себе и другим, начал отклонять приглашения, которые теперь приходили все реже, а вскоре и вовсе прекратились. Карточная игра, весьма полезное занятие для молодых людей с практической сметкой, желающих зарекомендовать себя в обществе, разумеется, не могла сделаться моей страстью, ибо я, сколько не играй, все равно не сдвинулся бы с мертвой точки. Если бы кто-нибудь дал мне общее представление об игре, обратил бы мое внимание на то, что определенные знаки на картах, разумеется, в сочетании со случаем, создают некое подобие материи, на которой можно упражнять свои умственные способности, свою предприимчивость, если бы мне дали одновременно вникнуть в несколько игр, я бы скорее пристрастился к ним. Тем не менее в пору, о которой я говорю, вышеприведенные соображения заставили меня признать, что карточных игр избегать не следует, скорее, напротив, надо постараться приобрести в них известную сноровку. Время — бесконечно, и каждый день — это сосуд, очень много в себя вмещающий, если ты хочешь действительно его наполнить.
Итак, в своем уединении я предавался многообразным занятиям, тем более что мало-помалу стали оживать мои былые увлечения. Вновь пробудилась и любовь к рисованию, а поскольку я всегда стремился воссоздавать природу, вернее — действительность, то первым долгом я изобразил свою комнату со всей мебелью и с людьми, в ней находящимися, а когда это перестало меня увлекать, занялся изображением в лицах различных городских событий, о которых только что шла речь и которые всех нас интересовали. Мои рисунки не были лишены характера и даже известного вкуса, но фигурам, увы, недоставало пропорций, исполнение же было расплывчато и затуманено. Отец, которому эти упражнения, как всегда, доставляли удовольствие, хотел видеть их более четкими и завершенными. Посему он велел расклеить рисунки и обвести их; но этого ему показалось мало, и его домашний художник Моргенштерн — тот самый, что впоследствии приобрел громкую известность своими зарисовками церквей, — должен был ввести в них перспективные линии комнат и прочих помещений, резко подчеркнувшие расплывчатость фигур. Отец надеялся таким способом приучить меня к определенности линий, и я, желая сделать ему приятное, нарисовал несколько натюрмортов, причем, когда перед моими глазами стояла натура, я работал отчетливее и увереннее. Наконец мне вздумалось снова заняться гравировкой. Скомпоновав довольно интересный ландшафт, я порадовался, что не забыл рецептов, завещанных мне Штоком, и за работой предался воспоминаниям о тех счастливых временах. Я быстро протравил пластину и сделал пробные оттиски. На беду, моя композиция была лишена светотени, и я мучился, стараясь внести в нее то и другое, но так как не знал толком, что, собственно, надо сделать, ничего путного у меня не получалось. Я уже чувствовал себя вполне сносно, но вдруг на меня напала болезнь, дотоле ни разу меня не мучившая. Горло у меня покрылось какими-то язвами, и воспалился так называемый язычок; глотание причиняло мне адскую боль, и врачи не знали, как помочь беде. Меня вконец измучили смазываниями и полосканиями, но легче мне не становилось. Наконец меня словно осенило: я не соблюдал достаточной осторожности при протраве и сам же, часто и нетерпеливо повторяя эту процедуру, навлек на себя болезнь и усугубил ее. Врачи сочли мою догадку вполне вероятной и окончательно в этом убедились, когда я прекратил работу над гравюрами. Сделал я это тем охотнее, что мои опыты оказались неудачными и я не только не мог похвалиться результатами, но должен был прятать их от людских глаз. Утешился я тем легче, что моя болезнь вскоре прошла бесследно. При этом я не мог прийти к убеждению, что лейпцигское увлечение гравировкой тоже немало привнесло в болезни, заставившие меня так много страдать. Скучное, конечно, занятие и к тому же печальное — вечно думать о том, что́ идет нам на пользу и что́ во вред, однако не подлежит сомнению, что при странной идиосинкразии человеческой природы, с одной стороны, и бесконечных различиях образа жизни и радостей — с другой, надо считать чудом, что род человеческий доселе еще не истребил себя. Видно, природе человека свойственна такая стойкость и приспособляемость, что она преодолевает все, воздействующее на нее извне и изнутри; когда же ассимиляция ей не удается, она, по крайней мере, вырабатывает в себе безразличие. Правда, при буйных эксцессах ей, несмотря на всю силу ее сопротивления, все же приходится уступать стихиям, в чем нас убеждает множество эндемических болезней и действие алкоголя. Если бы мы могли бесстрашно следить за тем, что́ именно в сложной гражданской и общественной жизни нам благоприятствует и что́ вредит, и, принимая во внимание роковые последствия, способны были поступаться тем, что доставляет нам радость, мы бы избегли многих горестей, которые, даже при здоровой конституции, мучают нас больше, чем болезнь. К сожалению, с диетой происходит то же, что и с моралью: ошибку мы замечаем, только избавившись от нее, что опять-таки не приносит нам никакой пользы, ибо следующая ошибка не похожа на предыдущую, и, следовательно, за этой новой формой мы ее разглядеть не можем.
Когда я перечитывал письма, которые писал сестре из Лейпцига, мне бросилось в глаза, что даже в самом начале университетских занятий я почитал себя умником и мудрецом, а чуть понабравшись знаний, уже строил из себя профессора и поучал других. Меня очень насмешило, что я в докторальном топе тотчас же передавал сестре все, что сообщил или порекомендовал нам Геллерт, не понимая, что многое из жизненного опыта или опыта, приобретенного чтением, приличествует юноше, но совсем не надобно девушке. Теперь мы вместе с нею немало потешались над таким обезьянничаньем. Стихотворения, написанные мною в Лейпциге, тоже никак меня не удовлетворяли и казались мне холодными, сухими и слишком поверхностными в выражении многоразличных состояний человеческого духа и сердца. Это побудило меня при вторичном расставании с отчим домом, когда я собирался в другой университет, учинить большое аутодафе моим работам. Несколько начатых пьес, из которых одни были доведены до третьего или четвертого акта, другие существовали только в наброске, множество стихотворений, писем и бумаг были преданы огню. Уцелели только мои работы, переписанные Беришем, а также «Причуды влюбленного» и «Совиновники»; последних я продолжал править с особой любовью и, хотя пьеса была уже закончена, еще раз переработал всю экспозицию, стремясь сделать ее подвижнее и яснее. Лессинг явил нам в двух первых актах «Минны» недостижимый образец того, как надо строить драму, и я всеми силами стремился приблизиться к его духу и замыслам.
Рассказ о том, что в эти дни трогало, волновало и занимало меня, уже и так достаточно подробен, и все же я должен снова вернуться к сверхчувственным явлениям, которые внушали мне такой интерес, что я положил раз и навсегда составить себе о них более ясное понятие.
Большое влияние на меня оказала случайно попавшая мне в руки замечательная книга, а именно — «История церкви и ересей» Арнольда. Автор ее был не только вдумчивым историком, но и благочестивым, тонко чувствующим человеком. Его убеждения во многом совпадали с моими, но более всего меня порадовало то, что по этому произведению я составил себе выгодное понятие о многих еретиках, которых мне прежде изображали как безумцев и безбожников. Во всех нас заложен дух противоречия и любовь к парадоксам. Я старательно изучал различные мнения, и так как мне не раз приходилось слышать: каждый человек о конце концов имеет, мол, свою собственную религию — то мне показалось вполне естественным сочинить таковую и для себя, что я и сделал с превеликим увлечением. В основе ее лежал неоплатонизм, к которому примешались элементы герметики, мистицизма и кабалистики. Так я построил для себя мир, довольно причудливый и странный.
Я тщился вообразить себе божество, извечно само себя воспроизводящее, но так как воспроизведение немыслимо без многообразия, то это божество неизбежно должно было предстать перед собою как нечто второе, нам ведомое под именем сына божия. Отныне они оба были призваны, продолжая акт воспроизведения, предстать перед собою уже в качестве третьего, столь же неизменного, живого и вечного, каким является целое. На этом круг божества замкнулся, и впредь они уже не могли создавать вполне себе подобных. Однако потребность в воспроизведении не иссякла, и посему было создано еще и четвертое, в котором таилось уже некое противоречие, ибо, подобно триединому божеству, оно было безусловно, но вместе с тем в нем и содержалось, им и ограничивалось. То был Люцифер — ему отныне была передана вся созидательная сила, и от него впредь должно было исходить все остальное бытие. Он тотчас же явил доказательство своей безграничной дееспособности, создав ангелов, — также по своему подобию, независимых, но в нем неизменно содержащихся и им ограниченных. Окруженный величием этого сонма, он позабыл о своем происхождении от всевышних, возомнив, что его первоисточник в нем же и содержится. От этой-то первой великой неблагодарности и произошло все, что представляется нам несовместным с духом и с замыслом божиим. Чем больше Люцифер сосредоточивался в самом себе, тем было хуже ему и всем духам, которых он лишил радости сладостного восхождения к их первоистоку. Так свершилось то, что мы зовем отпадением ангелов. Часть их сплотилась вокруг Люцифера, другая вновь воспарила к своему истоку. Из этой сплоченности всего сотворенного Люцифером и ему повинного произошло то, что мы понимаем под материей, все, что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Но и материя, если не непосредственно, то все же по прямой линии происходящая от божества, так же безусловна, всесильна и извечна, как ее родитель и прародители. Поскольку же все зло, если простительно так называть его, пошло от Люциферовой односторонности, то вполне понятно, что сотворенному им бытию недоставало лучшей его половины: ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение. Таким образом, довершенное Люцифером творение, пребывая в извечной концентрации, само размололо и уничтожило бы себя вместе с отцом своим Люцифером и посему уже не могло бы посягать на вечность, равную божественной. Элохим некоторое время наблюдали создавшееся положение, решая, что выбрать: дожидаться ли тех эонов, которые очистят поле действия и предоставят им простор для нового творения, или же вмешаться в нынешнее положение вещей и, в силу своей бесконечности, устранить сей изъян мироздания. Они избрали последнее и, напрягши свою волю, в мгновение ока уничтожили зло, каковое было сопряжено с преуспеянием Люцифера. Они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку. Необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем светом, и началось то, что мы привыкли обозначать словом «творение». Но как ни разнообразилось час от часу творение благодаря неиссякающей жизненной силе Элохимов, все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того — ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен и ограничен. А так как это противоречие сказывалось во всех проявлениях его бытия и ясное сознание, равно как постоянная целенаправленность его воли должны были сопровождать все стадии его жизни, то можно было предвидеть, что он будет одновременно самым совершенным и самым несовершенным, счастливейшим и несчастнейшим созданием. Прошло немного времени, и он в точности сыграл роль Люцифера. Покинуть своего благодетеля — высшая форма неблагодарности, и это вторичное отпадение возымело столь же великие последствия, ибо весь сотворенный мир был и есть не что иное, как вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку.
Нетрудно усмотреть, что искупление не только предопределено от вечности, но и задумано как вечная необходимость, более того — что таковое должно постоянно обновляться на протяжении всего становления и бытия. И в этом смысле вполне естественно, что божество принимает образ человеческий, заранее им себе уготованную оболочку, дабы на краткий срок разделить человеческие судьбы и, уподобившись человеку, возвысить радость и умягчить наши горести. История всех религий и философских систем учит нас, что эта великая, необходимая человеку, истина передавалась от поколения к поколению разными народами и в разные времена в причудливых символах и притчах, соответственно ограниченности представлений каждого народа. Но с нас хватит и осознания того, что мы находимся в состоянии, которое как будто и подавляет, как будто и тянет нас книзу — и все же дает нам возможность, даже вменяет нам в долг возвышаться над собою и, стремясь воплотить великие замыслы господни, то заставляет нас уходить в свою сущность, то — через равномерные промежутки времени, — напротив, отрекаться от своей обособленности.
КНИГА ДЕВЯТАЯ
«И тут растроганному сердцу открываются более возвышенные добродетели, в нем возникают и крепнут утонченно-нежные чувства. Но прежде всего в нем зарождаются свойства, позволяющие юному читателю проникнуть в потайные уголки человеческой души и ее страстей, — знание, которым превосходно владел Овидий Назон и насколько же более ценное, нежели латынь и греческий вместе взятые. Но не по этой причине дают юношам читать древних поэтов, в том числе, следовательно, и Овидия. Вседержитель даровал нам немало душевных сил, которые необходимо культивировать с первых же дней, и здесь нам не помогут ни логика, ни метафизика, ни латынь и ни греческий. Мы наделены воображением, и его надо питать прекрасными и подобающими картинами, дабы оно не удовлетворялось первыми попавшимися, и таким образом упражнять наш дух, приучать его отыскивать прекрасное повсюду, и в природе тоже, любя и опознавая это прекрасное по характерным, иной раз едва уловимым чертам. Мы нуждаемся во множестве понятий и знаний как для науки, так и для повседневной жизни, и знание это не почерпнешь ни из какого учебника. Наши восприятие, склонности и страсти, успешно развиваясь, должны непрерывно подвергаться очищению».
Сие примечательное место из «Всеобщей немецкой библиотеки» было не единственным в своем роде. С разных сторон уже высказывались подобные взгляды и убеждения. Они живо воздействовали на чуткую молодежь, тем более что такое воздействие подкреплялось примером Виланда: произведения его второго, блистательного периода явно сложились под влиянием этих максим. Чего же еще оставалось нам желать? Философия с ее невразумительными требованиями была убрана с дороги, древние языки, изучение коих сопряжено с большими трудностями, отодвинуты на задний план. Школьная премудрость, о несостоятельности которой нам уже шепнул Гамлет, все больше ставилась под сомнение. Нас отсылали к наблюдениям за подвижной жизнью, каковую мы охотно вели, к познанию страстей, которые уже зарождались в нашем сердце и наполняли его смутными чаяниями страстей, прежде подвергавшихся хуле и поношениям, а ныне почитавшихся чем-то столь важным и достойным, что это должно было составить основной предмет нашего обучения: познание их слыло за наилучшее средство воспитания наших духовных сил. Вдобавок этот образ мыслей был под стать моим убеждениям, более того — моим поэтическим замыслам и начинаниям. Итак, после крушения многих доблестных надежд и благих намерений я, не сопротивляясь, подчинился воле отца, задумавшего послать меня в Страсбург, где меня будто бы ждала веселая, легкая жизнь, а заодно возможность продолжить учение и в конце концов защитить диссертацию.
Весною я почувствовал, что ко мне вернулось здоровье, а главное, вернулся былой юношеский задор, и меня снова потянуло прочь из родительского дома, хотя и по совсем другим причинам, чем в первый раз: уютные комнаты, где я столько выстрадал, стали мне неприятны, с отцом я не сумел наладить добрых отношений, так как не мог простить ему, что при рецидивах моей болезни и затянувшемся выздоровлении он выказывал больше нетерпения, чем принято в подобных случаях, и, вместо того чтобы успокоительно на меня воздействовать своей снисходительностью, страшным образом роптал на то, что не зависит от человека, словно виной всему была моя злая воля. Но и я, со своей стороны, не раз уязвлял и обижал его.
Молодые люди почерпают в университетах множество новых понятий, что, конечно, хорошо и похвально; беда в том, что, вообразив себя людьми умудренными, они прилагают благоприобретенные знания в качестве масштаба ко всем предметам, которые по большей части только теряют от этого. Так и я, набравшись довольно общих сведений о зодчестве, устройстве и украшении жилищ, неосмотрительно высказывал их в применении к нашему дому. Отец заботливо обдумал все внутреннее устройство дома и во время строительства с большой настойчивостью добивался точного выполнения своих замыслов, против которых ничего нельзя было возразить, поскольку дом предназначался только для нашей семьи, к тому же по такому плану были построены многие дома во Франкфурте. Широкая лестница свободно поднималась кверху, проходя через просторные прихожие, которые легко могли быть превращены в превосходные комнаты, и мы действительно любили в них находиться в теплое время года. Однако это устройство, приятное и уютное для одной семьи, когда все этажи непосредственно сообщались между собой, становилось нестерпимо, если в доме появлялись другие жильцы, в чем мы имели случай убедиться во время французского постоя. Тяжелая сцена с королевским лейтенантом не имела бы места, да и отец испытал бы меньше неприятностей, будь наша лестница, на лейпцигский манер, отнесена в сторону и в каждый этаж сделана отдельная дверь. Однажды я вздумал расхваливать дома, выстроенные по такому плану, отстаивая их целесообразность, и указал отцу на возможность перенести нашу лестницу, из-за чего он впал в неописуемую ярость, тем более что недавно я раскритиковал вычурные рамы для зеркал и пренебрежительно отозвался о наших китайских обоях. Между нами разыгралась сцена, правда, быстро сглаженная и позабытая, но тем не менее ускорившая мой отъезд в прекрасный Эльзас. В удобном новом дилижансе я совершил эту поездку без задержек и в кратчайший срок.
Я остановился в гостинице Святого Духа и тотчас же поспешил удовлетворить свое страстное желание — вблизи посмотреть на собор (издали мои попутчики уже давно указывали мне на него, и в продолжение довольно большого отрезка пути он все время оставался в поле нашего зрения). Теперь, когда этот исполин сперва открылся мне в конце узкой улочки, а потом я очутился на площади, слишком тесной для него, он произвел на меня впечатление весьма необычное, в котором я не сразу разобрался и которое оставалось смутным и тогда, когда я начал торопливо подниматься на башню, чтобы еще при высоко стоящем солнце окинуть взором всю эту обширную и богатую страну.
И вот, стоя на верхней площадке, я увидел перед собой прекрасный край, где мне предстояло жить и действовать в продолжение известного времени: большой город, поляны, широко раскинувшиеся вокруг него и поросшие великолепными густыми деревьями, — все необычайное богатство растительности, которая, следуя за течением Рейна, обряжает его берега, острова и островки. Разнообразной зеленью изобилует и тянущаяся с юга равнина, орошаемая водами Иллера; радуют глаз очаровательными перелесками и пестрыми лугами также отдельные низменности, убегающие на запад, к горам; северная же, холмистая часть Эльзаса испещрена бесконечным множеством маленьких ручейков, способствующих быстрому росту деревьев и трав. Если к тому же себе представить, что среди этих тучных, пространных лугов, среди веселых, там и сям мелькающих рощиц каждый мало-мальски пригодный клочок земли великолепно обработан, что нивы зеленеют и колосятся, а на самых плодородных участках пристроились деревни и мызы и что все это великое, необозримое пространство — этот новый рай, уготованный для человека, — вблизи и поодаль обрамляется возделанными или поросшими лесом горами, то станет понятно чувство восторга, с которым я благословил судьбу, на время забросившую меня в этот край.
Вид новой страны, в которой нам предстоит пробыть какой-то срок, имеет еще ту своеобразную, обнадеживающую прелесть, что вся она лежит перед нами как белая страница. Ни радости, ни горести, нам сужденные, не написаны на ней, это веселое, пестрое, оживленное пространство еще немо для нас; наш взор останавливается лишь на предметах, которые сами по себе примечательны, ни любовь, ни страсть еще не наложили своей меты на тот или иной уголок, но чаяние грядущего уже тревожит юное сердце, неутоленные чувства в тиши торопят то, что может и должно прийти и что — все равно, благо то или горе, — мало-помалу воспримет характер местности, в которой мы находимся.
Опустившись вниз, я еще помедлил возле величественного строения. Но ни тогда, ни в ближайшие дни я все не мог взять в толк, почему это архитектурное чудо представилось мне каким-то страшилищем, которое отпугнуло бы меня, не будь оно так понятно в своей упорядоченности, так привлекательно искусностью своей разработки. Впрочем, я не стал ломать себе голову над этим противоречием и предоставил сему удивительному памятнику спокойно воздействовать на меня самим фактом своего существования.
Я занял маленькую, но уютную и удобную квартиру на южной стороне Фишмаркта — красивой длинной улицы, постоянная оживленность которой могла сама по себе служить развлечением в минуты досуга. Я тут же разнес рекомендательные письма и среди других адресатов обрел себе покровителя в лице одного негоцианта, придерживавшегося вместе со своим семейством хорошо мне знакомых «благочестивых» воззрении, причем он не порывал ни с церковью, ни с традиционной обрядностью. Будучи человеком здравомыслящим, он и в делах, и в житейском обиходе отнюдь не предавался ханжескому унынию. Мои сотрапезники, как выяснилось после взаимных рекомендаций, были люди приятные и занимательные. Этот пансион давно уже держали две старые девы — аккуратные и рачительные хозяйки. За стол обычно садилось человек десять — совсем молодых и постарше. Среди первых мне лучше всего запомнился некий Мейер, родом из Линдау. Лицом и фигурой он был бы положительно красавец, если бы во всем его облике не замечалось какой-то развинченности. Точно так же и его прекрасные природные данные были искалечены невероятным легкомыслием, а его отзывчивая душа — неукротимым беспутством. У него было скорее круглое, чем овальное, открытое и веселое лицо; органы чувств — глаза, нос, рот, уши, — хорошо и в меру развитые, свидетельствовали о незаурядном темпераменте. Необыкновенно хорош был его рот с чуть изогнутыми губами; а вся физиономия приобретала какое-то своеобразное выражение от сросшихся на переносице бровей, что всегда накладывает на красивое лицо приятный отпечаток чувственности. Благодаря своей веселости, прямоте и добродушию он пользовался всеобщим расположением; память у него была феноменальная, и занятия не стоили ему ни малейшего труда: он все запоминал и был достаточно умен, чтобы во всем находить известный интерес, тем паче что предметом его изучения была медицина. Восприятие его отличалось необычайной живостью, а страсть к передразниванью профессоров временами заходила так далеко, что, побывав утром на трех различных лекциях, он за обедом повторял их вперемежку отдельными параграфами, а иногда еще более дробными частями; столь пестрые чтения подчас забавляли нас, но частенько и утомляли.
Остальные мои сотрапезники были более или менее учтивы, положительны и серьезны. Среди них находился один вышедший на пенсию кавалер ордена святого Людовика, но в большинстве это были студенты, все хорошие, благомыслящие люди, покуда не хлебнут через край. О том, чтобы это случалось пореже, заботился председатель, некий доктор Зальцман. Холостяк лет под шестьдесят, он уже годами посещал этот пансион, поддерживая за столом порядок и благоприличие. Будучи обладателем солидного состояния, он внешне всегда выглядел изящно и подтянуто и принадлежал к тем, кто неизменно носит чулки и туфли, а шляпу держит под мышкой. Надеть шляпу на голову казалось ему целым событием. Он постоянно таскал с собою зонтик, памятуя, что даже в прекраснейшие летние дни случаются грозы и ливни.
С ним-то я и обсудил свое намерение продолжать в Страсбурге изучение юриспруденции, чтобы как можно скорее защитить диссертацию. Так как он был осведомлен решительно обо всем, я стал расспрашивать его о лекциях, которые мне предстояло слушать, и о том, что он о них думает. Он отвечал, что в Страсбурге дело обстоит несколько иначе, чем в других немецких университетах, где стараются подготовить широко образованных ученых юристов. Здесь же благодаря связям с Францией все, собственно, сводится к практике; обученье ведется на французский манер, а французы не охотники ломать традицию. В Страсбурге студенту намеренно преподают лишь общие основы, определенные начальные знания, да и то, по мере возможности, сжато и лишь самые необходимые. Вскоре после этого разговора он познакомил меня с одним человеком, который пользовался большим доверием в качестве репетитора и не замедлил внушить доверие и мне. Для начала заговорив с ним об отдельных юридических дисциплинах, я немало удивил его бойкостью рассуждений. Дело в том, что в Лейпциге я приобрел больше сведений о праве, чем мне довелось изложить выше; впрочем, весь мой научный багаж был скорее энциклопедическим обзором, нежели подлинно солидными знаниями. Университетская жизнь, даже если ты и не можешь похвалиться особым прилежанием, бесконечно благоприятствует приобретению разнородных сведений, ибо ты всегда находишься среди людей, овладевших или стремящихся овладеть наукой, и невольно впитываешь в себя эту атмосферу.
Репетитор, сначала терпеливо выслушав мое словоизвержение, под конец дал мне понять, что я прежде всего должен иметь в виду ближайшую цель, а именно — экзамены, защиту диссертации и предстоящую мне практику. «Что касается экзаменов, — продолжал он, — то здесь вам в особые подробности вдаваться не надо. Никто вас не спросит, когда и где возник тот или иной закон, каковы были внутренние и внешние поводы для его возникновения, никто не станет допытываться, как он изменился соответственно временам и обычаям и не был ли извращен вследствие ложного толкования или неправильного применения в судопроизводстве. Ученые посвящают таким исследованиям всю свою жизнь, но нас интересует лишь то, что имеет место в настоящем, и это знание мы удерживаем в памяти, дабы всегда иметь его наготове для защиты и пользы клиентов. Так мы оснащаем молодых людей для будущей жизни — остальное уже зависит от их одаренности и трудолюбия». Сказав это, он вручил мне свои тетради с вопросами и ответами, по которым я мог более или менее точно прорепетировать экзамен, ибо маленький юридический катехизис Гоппе еще отлично сохранился в моей памяти. Остальное я одолел с помощью довольно усидчивых занятий и, против ожидания, чрезвычайно легко получил кандидатскую степень.
Но так как на этом пути я не мог проявить никакой самостоятельности, не имея вкуса ни к чему позитивному (мне все хотелось уяснить себе, если не теоретически, то хоть исторически), я нашел для своих способностей другое, более широкое поприще, на которое неожиданно вступил, увлекшись интересами моего случайного окружения.
Большинство моих сотрапезников были медики. А медики, как известно, единственные из студентов, которые и вне учебных часов с оживлением беседуют о своей науке, своем ремесле. Да это и вполне естественно. Объекты их усилий самые конкретные и самые возвышенные, простейшие и в то же время наиболее сложные. Медицина захватывает человека целиком, ибо занимается человеком в целом. Все, что изучает юноша, переносится им в область важной, правда опасной, но зато во многих отношениях щедро вознаграждаемой практики. Поэтому он со страстью набрасывается на все, что ему надлежит узнавать и делать; отчасти потому, что это само по себе его интересует, отчасти же потому, что это сулит ему самостоятельную и обеспеченную будущность.
За столом я и теперь слышал одни лишь медицинские разговоры, точь-в-точь как раньше в пансионе советника Людвига. Во время прогулок и увеселительных поездок тоже редко говорилось о чем-нибудь другом, ибо мои сотрапезники, люди очень компанейские, обычно составляли мне компанию и в подобных предприятиях, а к ним еще всякий раз присоединялись их однокашники и единомышленники. Медицинский факультет вообще чрезвычайно выгодно отличался от всех прочих как именитостью своих профессоров, так и многочисленностью студентов; этот поток тем легче увлек меня, что я знал о медицине ровно столько, сколько нужно для того, чтобы разгорелась жажда знаний. Поэтому с начала второго семестра я стал посещать лекции Шпильмана по химии, Лобштейна по анатомии и решил быть весьма усердным, так как уже снискал себе известное доверие и уважение всей компании, благодаря своим общим, точнее — сторонним знаниям.
Но мои занятия пострадали не только от такой разбросанности и раздробленности; им нанесло урон еще одно из ряду вон выходящее и всех захватившее государственное событие, которое дало нам возможность довольно долго пробездельничать: Мария-Антуанетта, эрцгерцогиня австрийская и королева французская, на своем пути в Париж должна была проследовать через Страсбург. Начались приготовления к многочисленным празднествам, которые должны были напомнить народу о том, что среди нас на свете живут и великие мира сего. Более всего меня поразило воздвигнутое между двумя мостами на одном из рейнских островов здание, предназначавшееся для приема юной королевы и передачи ее в руки посланников супруга. Очень невысокое, с большой залой посередине и двумя меньшими по бокам, за которыми следовала анфилада других комнат, оно, при более добротной постройке, могло бы служить загородным домом для Знатной семьи. Но что меня особенно привлекало и ради чего я не раз совал привратнику по нескольку бюзелей (мелкая серебряная монета, бывшая тогда в обращении), это гобелены, которыми оно было обито внутри. Здесь я впервые увидел ковры, вытканные по картонам Рафаэля, и они произвели на меня неизгладимое впечатление, ибо в таком количестве я впервые лицезрел, пусть в копии, произведения столь безупречные и совершенные. Я входил, выходил и снова входил и все не мог досыта насмотреться; вдобавок меня мучило тщетное стремление понять, что же здесь до такой степени меня пленяло. Боковые залы, по-моему, выглядели светло и празднично, но тем ужаснее казалась мне главная зала. Она вся была увешана большими и гораздо более пышными и богатыми коврами, вытканными по рисункам новейших французских художников, и загромождена всевозможными декоративными предметами.
С манерой французов я бы еще мог примириться, ибо мне было несвойственно что-либо полностью отвергать, но сюжет привел меня в негодование. Эти картины изображали историю Язона, Медеи и Креузы — иными словами, историю несчастнейшего из супружеств. По левую сторону трона невеста, окруженная рыдающими приближенными, боролась с неумолимой смертью; по правую — отец оплакивал убитых детей, распростертых у его ног, а по воздуху на запряженной драконами колеснице проносилась фурия. И словно для того, чтобы к омерзительному и страшному добавилось еще и нелепое, из-за красного золототканого бархата, наброшенного на спинку трона, торчал белый хвост волшебного быка, тогда как само огнедышащее чудовище и сражающийся с ним Язон были скрыты под этой драгоценной тканью.
Во мне разом ожили все максимы, усвоенные мною в школе Эзера. То, что Христа и апостолов разместили в боковых залах свадебного здания, произошло, конечно, случайно и непреднамеренно. Можно было не сомневаться, что королевский хранитель ковров руководствовался лишь размером комнат; эту ошибку я готов был простить ему, так как извлек из нее немалую для себя пользу. Но промах с большой залой совершенно лишил меня самообладания, и я запальчиво и страстно призвал своих товарищей в свидетели этого преступления против вкуса и такта. «Как, — вскричал я, нимало не заботясь об окружающих, — неужели допустимо, чтобы юной королеве при первом же вступлении в ее новую страну так необдуманно явили пример самой страшной свадьбы, которая когда-либо совершалась в мире? Возможно ли, чтобы среди французских архитекторов, декораторов, обойщиков не нашлось ни единого человека, понимающего, что картины не просто раскрашенный холст, что они воздействуют на чувства и мысли, оставляют след в душе, пробуждают предчувствия? Ведь это все равно что выслать на границу для встречи юной и, как говорят, жизнелюбивой дамы омерзительнейшее привидение». Не помню, что я еще говорил, но спутники мои постарались меня успокоить и, опасаясь неприятностей, поскорее отсюда спровадить. Они уверяли, что не всякий станет искать смысла в картинах, что они, например, ровно ничего не заметили и что подобные фантазии никогда не взбредут на ум ни устремившемуся сюда населению Страсбурга и его окрестностей, ни даже самой королеве и ее свите.
Я и доныне помню прекрасное, благородное, веселое и в то же время гордое лицо молодой женщины. Сидя в стеклянной карете, открытая всем взорам, она, казалось, оживленно беседовала со своими придворными дамами о толпе, со всех сторон обступавшей ее поезд. Вечером мы бродили по улицам, любуясь иллюминацией и прежде всего светящейся верхушкой соборной башни, на которую мы издали и вблизи не могли вдосталь наглядеться.
Королева проследовала своей дорогой, окрестные жители разошлись по домам, и в городе воцарилось прежнее спокойствие. Перед прибытием королевы было отдано весьма разумное распоряжение, чтобы на ее пути не попадались уроды, калеки или безобразные больные. Все над этим подшучивали, а я даже сочинил небольшое французское стихотворение, в котором сравнивал пришествие Христа, явившегося в этот мир ради калек и убогих, с прибытием королевы, разогнавшей этих несчастных. Мои друзья отнеслись к нему одобрительно, но один француз, проживавший вместе с нами, немилосердно и, видимо, вполне основательно раскритиковал его язык и размер и тем навсегда отшиб у меня охоту писать французские стихи.
Не успела прийти из столицы весть о благополучном прибытии королевы, как за нею последовало трагическое сообщение: во время праздничного фейерверка на одной из улиц, заваленной строительными материалами, по недосмотру полиции погибло великое множество людей с лошадьми и экипажами, и город, в разгаре праздничных торжеств, погрузился в печаль и траур. Размеры бедствия постарались скрыть как от молодой королевской четы, так и от всего света; погибших хоронили украдкой, и многие семьи лишь по затянувшемуся отсутствию своих близких догадывались, что и они стали жертвами этого ужасного несчастья. Вряд ли стоит упоминать, что при этом известии перед моими глазами вновь возникли страшные картины главной залы, ибо каждый знает, сколь могущественны духовные впечатления, воплотившиеся в чувственных образах.
Этому событию суждено было повергнуть в страх и трепет также и моих близких из-за глупой шалости, которую я себе позволил. Среди молодых людей нашей лейпцигской компании долго сохранялась страсть дурачить и мистифицировать друг друга. И вот я с непростительным легкомыслием написал письмо одному приятелю во Франкфурт (тому, что пополнил «Медона» моим «Посланием к пирожнику Генделю», тем самым посодействовав его широкой огласке): в этом письме, написанном якобы из Версаля, я уведомлял о своем благополучном прибытии туда, об участии в празднествах и тому подобном, прося его сохранить все это в строжайшей тайне. Должен признаться, что в нашей дружной лейпцигской компании давно вошло в привычку мистифицировать автора упомянутой шутки, всем нам причинившей немало неприятностей, тем более что этот презабавный шутник бывал особенно мил, когда ему открывался наш обдуманный обман, жертвой которого он нередко становился. Отослав письмо, я на две недели уехал в небольшое путешествие. Между тем весть о парижской катастрофе достигла Франкфурта; мой приятель, полагая, что я в Париже, и любя меня, стал опасаться, не попал ли и я в беду. Он осведомился у моих родителей и других лиц, с которыми я состоял в переписке, давно ли они имели от меня известия, но так как я был в отъезде, то никто ничего от меня не получал. Он все время пребывал в большой тревоге и, наконец, поделился ею с нашими ближайшими друзьями, которые тоже очень взволновались. По счастью, мои родители узнали об этих спасеньях уж после получения от меня письма, в котором я извещал их о своем возвращении в Страсбург. Приятели мои порадовались благополучному исходу этой истории, но остались в полной уверенности, что я за истекшее время успел побывать в Париже. Известия о тревоге, которую я им причинил, так меня растрогали, что я дал зарок никогда больше не повторять подобных шалостей, но, к сожалению, не раз нарушал его. Действительная жизнь иногда до такой степени утрачивает всякий блеск, что мы не можем противостоять желанию освежить ее лаком выдумки.
Мощный поток придворной жизни и роскоши прокатился, не оставив во мне никаких чувств, кроме тоски по рафаэлевским коврам, которые я готов был созерцать ежедневно, ежечасно, чтить их и на них молиться. По счастью, мне удалось моим страстным отношением заинтересовать нескольких влиятельных лиц, так что эти ковры по мере возможности долго не снимали и не упаковывали. Затем мы опять отдались тихому, безмятежному течению университетской и общественной жизни, а в этой последней нашим общим учителем по-прежнему оставался актуариус Зальцман, председатель нашего стола. Его ум, чувство собственного достоинства, которое ему никогда не изменяло, добродушная снисходительность к нашим шуткам и невинным проказам снискали ему любовь и уважение всей компании. Сколько я помню, он лишь в самых редких случаях выказывал серьезное неудовольствие нашим поведением и не спешил пресечь своим авторитетным вмешательством наши застольные споры и краткие размолвки. Изо всех сотрапезников особенно горячо к нему привязался я, да и он предпочитал общаться со мною, считая меня сравнительно с другими более разносторонне образованным и чуждым предвзятого однодумства. Я подражал и внешним его повадкам, что давало ему основание открыто признать меня своим другом и единомышленником: занимая не слишком приметную должность, он как-никак снискал себе немалую славу усердным отправлением своих обязанностей. Он был делопроизводителем опекунского совета, но, по сути, держал в своих руках бразды правления — не менее твердо, чем непременный секретарь какой-нибудь академии. Он уже много лет трудился на этом поприще, и в городе не было такой семьи, от самой первой до последней, которая не была бы ему обязана благодарностью; ведь во всем государственном аппарате не сыщется человека, которого так дружно благословляют либо же проклинают, как должностное лицо, пекущееся о благе сирот или, напротив, дозволяющее расхищать их кровное достояние.
Жители Страсбурга — страстные любители прогулок, и это вполне понятно. В какую бы сторону они ни направились, везде им встречаются веселые уголки, частью естественные, частью устроенные в давние, а то и в новейшие времена, — и те и другие всегда полны шумной, жизнерадостной толпой, которая выглядит здесь веселее и пестрей, чем в других городах, благодаря разнообразным нарядам женщин. Городские девушки еще носили в то время косы, обвитые вокруг головы и сколотые большой шпилькой, а также узкое платье, с которым никак не мог бы сочетаться шлейф; мне нравилось, что такой убор отнюдь не являлся сословной принадлежностью, ибо имелось еще много богатых и знатных семейств, не позволявших своим дочерям одеваться по другому. Но некоторые уже держались французской моды, и эта партия с каждым годом приобретала все больше сторонников. Зальцман имел широкое знакомство и доступ во все дома — весьма приятное обстоятельство для его спутника, в особенности летом, когда во всех садах, ближних и дальних, нас встречал хороший прием, веселая компания, прохладительное питье, а нередко еще и предложение весело провести здесь весь день. Так мне представился случай быстро зарекомендовать себя в семье, которую я посетил лишь во второй раз. Мы были приглашены к определенному часу и явились точно в назначенное время. Общество собралось небольшое; по обыкновению, одни играли, другие прогуливались по саду. Позднее, когда пора уже было идти к столу, я заметил, что хозяйка и ее сестра живо что-то обсуждают и кажутся смущенными. Я подошел к ним и сказал: «Сударыни, я, конечно, не имею права проникать в ваши секреты, но не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, хотя бы добрым советом?» Они открыли мне, в чем состоит затруднение: к столу было приглашено двенадцать человек, как вдруг из путешествия возвратился один родственник, который в качестве тринадцатого мог стать роковым memento mori[23] и накликать беду если не на себя, то на кого-нибудь из гостей. «Ну, этому горю помочь нетрудно, — отвечал я, — дозвольте мне откланяться, сохранив за собой право явиться в другой раз». Будучи людьми светскими и воспитанными, они этому решительно воспротивились и послали к соседям искать четырнадцатого. Я не возражал, но, увидев, что посланный слуга возвратился один, ускользнул и чудесно провел вечер под старыми липами в Ванценау. Что моя предупредительность и скромность были щедро вознаграждены, это само собой разумеется.
Общество теперь как-то не умеет развлекаться без карточных игр. Зальцман возобновил благотворные уроки госпожи Бёме, и я тем усерднее внимал его поучениям, что и сам убедился: ценою столь незначительного самопожертвования (коль скоро карточную игру можно признавать за таковое) ты приобщаешься ко многим удовольствиям и чувствуешь себя в обществе куда непринужденнее. Мы извлекли на свет божий старый, давно позабытый пикет, я выучился висту и завел себе, по совету моего ментора, особый кошелек для игры, который при любых обстоятельствах должен был оставаться неприкосновенным. Все это дало мне возможность проводить большинство вечеров вместе с Зальцманом в лучших домах, где ко мне обычно очень благоволили и прощали разные мелкие промахи, на которые мне, впрочем, очень мягко указывал мой друг.
Но, видно, для символического постижения того, как необходимо даже внешне приспосабливаться к обществу и по нему равняться, я был вынужден сделать нечто, казавшееся мне тогда крупнейшей неприятностью. У меня были очень красивые волосы, но мой страсбургский парикмахер стал уверять, что сзади они слишком коротко подстрижены и он не может сделать из них прическу, в которой было бы пристойно появляться в обществе. В те времена полагалось только спереди оставлять кок коротких запитых волос, все же остальные, начиная с темени, либо заплетать в косу, либо убирать сзади в волосяной кошелек. Итак, мне следовало обзавестись накладкой, покуда собственные мои волосы не отрастут соответственно требованиям моды. Он обещал, что никто не заметит этого невинного надувательства, против которого я сначала возмутился, если я решусь на него без промедления. Парикмахер сдержал слово, и меня повсюду считали за прекрасно причесанного молодого человека с великолепной шевелюрой. Но поскольку мне теперь приходилось с самого утра ходить завитым и напудренным и в то же время заботиться, чтобы испарина или резкое движение не выдали моего секрета, это пошло мне на пользу: я стал вести себя спокойнее и скромнее, привык ходить со шляпой под мышкой и, конечно, в башмаках и чулках, под которые мне приходилось надевать еще другие чулки из тонкой кожи для защиты от рейнских комаров, ибо в погожие летние вечера они тучами вились над садами и лужайками. И если я, в силу этих обстоятельств, должен был воздерживаться от усиленного движения, то тем более оживленными и страстными сделались наши товарищеские беседы; пожалуй, до тех пор мне никогда не случалось вести столь интересных разговоров.
При моем образе мыслей и чувств мне ничего не стоило каждого принимать за то, чем он был, более того — за то, чем он хотел казаться. Эта искренность и неискушенность молодого духа, едва ли не впервые ощутившего свой расцвет, приобрела мне много друзей и приверженцев. Наша застольная компания возросла до двадцати человек, но так как Зальцман продолжал блюсти традиции, то все оставалось по-прежнему, а беседы стали едва ли не более чинными, поскольку теперь каждому приходилось считаться со многими слушателями. Среди новых нахлебников меня особенно заинтересовал некий Юнг, впоследствии известный под именем Штиллинга. Во всем его облике, несмотря на старомодную одежду и даже несколько грубоватые манеры, сквозила какая-то нежность. Парик с волосяным кошельком не портил его значительного и приятного лица. Голос у него был тихий, не будучи слабым или надтреснутым, но становился силен и благозвучен, когда обладатель его распалялся, а это случалось нередко. При ближайшем знакомстве он обнаруживал здравый смысл, основывавшийся на чувстве и потому легко поддававшийся влиянию симпатий и страстей; из этого же чувства рождалось его восторженное отношение к добру, истине, справедливости в их чистейших проявлениях. История жизни этого человека была очень проста, но богата событиями и разнообразной деятельностью. Источником его энергии была непоколебимая вера в бога и в помощь, непосредственно от бога исходящую, которая так очевидно выражается в непрестанном божьем промысле и непременном избавлении от всех бед и напастей. Юнг столько раз в жизни испытал это на себе и продолжал испытывать даже теперь, в Страсбурге, что, никогда не зная, на что он будет существовать следующую четверть года, смело вел, конечно, умеренную, но все же беспечную жизнь и очень серьезно учился. В молодости он собирался стать угольщиком, но затем почему-то занялся портняжьим ремеслом; попутно он овладел более высокими знаниями и, подчиняясь своей любви к преподаванию, стал добиваться должности школьного учителя. Из этого, однако, ничего не вышло, и ему пришлось вернуться к труду ремесленника, от которого он, впрочем, не раз отрывался, так как во многих семьях к нему чувствовали симпатию и доверие и частенько приглашали его занять место домашнего учителя. Однако внутренним, подлинным своим воспитанием он был обязан той распространенной породе людей, которая на свой лад ищет спасения, стараясь усовершенствовать себя чтением Святого писания и благочестивых книг, а также взаимными поучениями и исповедями, и таким путем достигает на диво высокой степени культуры. Поскольку все, что постоянно и повсюду занимало их, покоилось на простейшей основе нравственности, благожелательности и благотворительности, и отклонения от этой нормы, встречавшиеся среди столь скромных людей, могли быть лишь незначительными, то совесть их в большинстве случаев оставалась чистой, дух бодрым; отсюда и зародилась культура не искусственная, а, напротив, совершенно естественная, которая вдобавок имела еще и то преимущество, что она соответствовала всем возрастам и сословиям и по самой своей природе была общедоступна. Потому-то эти люди в своем кругу были весьма красноречивы и умели найти подобающие и добрые слова, говоря даже о самых щекотливых, самых сложных сердечных делах. Таков был и наш славный Юнг. В узком кругу, состоящем пусть даже не всегда из единомышленников, но, по крайней мере, из людей, не враждебных его образу мыслей, он был не только словоохотлив, но и красноречив; особенно хорошо он рассказывал историю своей жизни, отчетливо и живо воссоздавая все ее перипетии. Я уговаривал его записать все это, что он мне и обещал. Но так как своей манерой рассказывать он походил на лунатика, который при оклике падает с высоты, или на тихий ручеек, начинающий бурлить при малейшей преграде, то в большом обществе ему бывало не по себе. Вера его не терпела сомнений, убеждения — насмешек. Будучи неистощимым собеседником, когда ему не возражали, он мгновенно умолкал при малейшем противоречии. В таких случаях я обычно приходил ему на помощь, и он платил мне за это искренней любовью. Образ мыслей Юнга был не чужд мне, ибо я уже изучил его на моих лучших друзьях и подругах; к тому же Юнг правился мне своей естественностью и наивностью, почему и чувствовал себя со мной превосходно. Направление его духа было мне приятно, а веры в чудеса, которая так его поддерживала, я старался не задевать. Зальцман тоже бережно к нему относился; я говорю — бережно, ибо по своему характеру, складу, возрасту и положению он держал сторону разумных, вернее — рассудительных христиан, чья религия, собственно, покоилась на честности и мужественной независимости и которые поэтому неохотно предавались чувствам и фантазиям, способным завести их в туман и мрак. Этот разряд людей тоже был респектабелен и многочислен; все честные, работящие люди друг друга понимали, придерживались одинаковых убеждений, жили одинаковой жизнью.
Лерзе, другой наш сотрапезник, также принадлежал к их числу. Это был в высокой степени честный и при ограниченных денежных средствах весьма умеренный и аккуратный молодой человек. Из всех студентов, которых я знавал, никто не был так скромен в своем образе жизни и хозяйстве. Одет он был чище нас всех, хотя и ходил всегда в одном и том же костюме; к своему гардеробу он относился необыкновенно заботливо, все вокруг себя держал в чистоте и требовал, чтобы в этих житейских делах все следовали его примеру. Ему никогда не случалось прислониться к чему-нибудь или положить локти на стол; он не забывал пометить свою салфетку и строго выговаривал служанке, если стулья не были безукоризненно чисты. При всем этом в его внешнем виде отсутствовала какая-либо чопорность. Говорил он всегда откровенно, определенно, с суховатой живостью, с легкой, шутливой иронией, которая очень шла к нему. Фигура у него была ладная, статная, рост высокий, лицо рябоватое и невзрачное, но взгляд маленьких голубых глаз отличался веселостью и проницательностью. Если у него и так было достаточно поводов читать нам различные наставления, то мы еще вдобавок сами избрали его своим учителем фехтования; он прекрасно владел рапирой, и ему, видимо, доставляло удовольствие донимать нас необходимой при этом занятии педантичностью. Зато мы действительно многое у него переняли и обязаны ему приятными совместными часами, проведенными в усиленном движении.
Благодаря этим своим качествам Лерзе сделался непременным судьей и арбитром во всех мелких и крупных ссорах, которые хоть и редко, но случались в нашем кругу, когда Зальцману не удавалось по-отечески их уладить. Не придерживаясь внешних форм, накладывающих такой неприятный отпечаток на университетскую жизнь, мы составляли общество, сплоченное обстоятельствами и доброй волей; посторонние могли соприкасаться с ним, но не могли в него проникнуть. При разборе наших внутренних неурядиц Лерзе выказывал полнейшее беспристрастие; если же ссора уже не могла быть улажена словами и объяснениями, умел сделать неизбежное удовлетворение достойным и безопасным. На этот счет не было человека искуснее его; он частенько говаривал, что, если уж небу не угодно было сделать его героем войны или любовных историй, он готов удовлетвориться второстепенной ролью секунданта. Он всегда оставался верен себе и мог служить образцом добродушия и постоянства, а потому я с любовью сохранил его образ и, когда стал писать «Геца фон Берлихингена», ощутил потребность поставить памятник нашей дружбе и нарек именем Франца Лерзе бравого воина, достойно умеющего подчиняться.
В то время как он с обычной своей юмористической суховатостью то и дело напоминал нам о наших обязанностях по отношению к себе и другим и учил соблюдать известную дистанцию между собой и людьми, дабы возможно дольше мирно с ними уживаться, мне приходилось, внутренне и внешне, вести борьбу с совсем другими обстоятельствами и противниками, ибо я пребывал в разладе с самим собой, с окружающим миром, более того — со стихиями. Здоровье больше не подводило меня ни в каких моих предприятиях и начинаниях, но во мне еще сохранилась известная раздражительность временами лишавшая меня внутреннего равновесия. Резкие звуки заставляли меня содрогаться, вид болезни возбуждал во мне гадливость. Но еще больше пугало меня головокружение, которое я всякий раз испытывал, глядя вниз с высоты. Эти мои недостатки я старался изжить, и, за недосугом, несколько крутыми мерами. Вечером, когда играли зорю, я ходил около барабанов, от дроби и грохота которых у меня сердце готово было разорваться. Я поднимался в полном одиночестве на самую вершину соборной башни и добрых четверть часа просиживал в так называемой «шейке» под капителью, прежде чем отважиться выйти на воздух, где, стоя на площадке величиной не более локтя в квадрате и не имея за что ухватиться, ты видишь перед собою всю необъятную страну, в то время как лепные украшения скрывают от тебя собор и все, на чем и над чем ты стоишь. Ощущение такое, словно ты поднялся в воздух на монгольфьере. Таким страхам и мученьям я подвергал себя до тех пор, покуда со всем этим не свыкся; позднее, при восхождениях на горы, при геологических изысканиях, на больших постройках, где я взапуски бегал с плотниками по выступам и карнизам, а также в Риме, где приходится проделывать такие же головоломные штуки, чтобы поближе рассмотреть великие произведения искусства, мне очень пригодились эти предварительные упражнения. Поэтому и анатомия приобрела для меня двойную ценность; она приучила меня переносить отвратительнейшие зрелища и в то же время удовлетворяла мою жажду знаний. Итак, я посещал клинику доктора Эрмана-старшего и лекции по акушерству его сына с двойной целью — почерпнуть многообразные знания и освободиться от чувства омерзения. И я своего добился — все это перестало выводить меня из равновесия. Но не только против этих чувственных впечатлений, а и против игры воображения я старался закалить себя. Мне удалось выработать в себе равнодушие к жути и ужасам темноты, кладбищам, уединенным местам, к пребыванию ночью в церквах и часовнях и тому подобному; я стал одинаково чувствовать себя и днем и ночью в любом месте; и даже много позже, когда у меня появилась охота еще раз, как в молодости, испытать трепет в такой обстановке, мне уже едва удавалось ощутить его при помощи самых странных и страшных картин, которые я вызывал в своем воображении.
Этим стараньям сбросить с себя гнет и тяжесть того серьезного и тяжелого, что властвовало надо мной и казалось мне то силой, то слабостью, несомненно, пришла на помощь свободная, компанейская, подвижная жизнь; она все больше правилась мне, я привык к ней и научился наконец непринужденно ею наслаждаться. Нетрудно подметить, что человек чувствует себя освободившимся от своих недостатков, когда он живо представляет себе недостатки других и самодовольно о них распространяется. Разве же не приятное ощущение, осуждая и злорадствуя, возвышаться над себе подобными? Поэтому хорошее общество, малолюдное или многолюдное, преимущественно этим и занимается. Но ничто не может сравниться с тем уютным самодовольством, которое мы испытываем, возведя себя в судьи над высшими и власть имущими, над правителями и государственными людьми или же объявляя те или иные общественные институции неудачными и нецелесообразными; ведь мы замечаем лишь возможные и действительные препятствия, но не принимаем в расчет величия намерений и помощи, которой следует ожидать от времени и обстоятельств для всякого начинания.
Тому, кто помнит положение французского государства, кто точно и подробно знает его из позднейших описаний, нетрудно себе представить, как в те времена в полуфранцузском Эльзасе говорили о короле и министрах, о дворе и фаворитах. Для моей любознательности это были новые, а для моего юношеского умничанья и самомнения — весьма желанные темы. Я все отмечал, прилежно записывал и теперь из того немногого, что у меня сохранилось, вижу, что подобные сведения, пусть даже почерпнутые в тот момент из сплетен и недостоверных слухов, впоследствии все же приобретают известную ценность, ибо дают возможность сравнить тайное, сделавшееся явным, с тем, что тогда уже было раскрыто и предано гласности, или сравнить неправильные мнения современников с суждениями потомства.
Праздные гуляки, мы ежедневно видели, как проект украшения города удивительнейшим образом переходит от чертежей и планов к осуществлению. Интендант Гайо задался целью перестроить кривые закоулки Страсбурга и создать распланированный по линейке, солидный и красивый город. Блондель, парижский архитектор, составил проект, согласно которому участки ста сорока домовладельцев расширялись, восьмидесяти — уменьшались, а прочие оставались неприкосновенными. Этот уже получивший одобрение план должен был, однако, осуществляться не сразу, но постепенно, и город тем временем пребывал в причудливом промежуточном состоянии между формой и бесформенностью. Если, например, предстояло выпрямить дугообразную сторону улицы, то любой желающий мог выдвинуть свой дом на новую линию; его примеру следовал либо ближайший сосед, либо третий или четвертый от него; таким образом возникали нелепейшие углубления, служившие дворами для оставшихся позади домов. Насильственных мер здесь не принимали, но и без принуждения все дело бы застопорилось, а потому никто не имел права производить ремонт или переделку выходящей на улицу части приговоренного дома. Все эти комические случайные несообразности давали нам, бездельникам, поводы для насмешек и всевозможных предложений в духе Бериша по улучшению и ускорению строительства. Мы громко выражали сомнения в осуществимости этого проекта, хотя некоторые новые прекрасные здания должны были внушить нам совсем иные мысли. Насколько удачно этот проект был осуществлен впоследствии, я уже сказать не могу.
Другой любимой темой протестантов-страсбуржцев было изгнание иезуитов. Едва только Страсбург стал французским, как сии отцы начали ходатайствовать о предоставлении им здания под коллегию. Вскоре они здесь утвердились и соорудили великолепную школу, до того близко к собору, что задняя стена иезуитской церкви закрыла собою треть его фасада. Здание это должно было образовать правильный четырехугольник с садом посередине; три стороны его уже были готовы. Оно было каменное, добротное, как и все постройки иезуитов. Потеснить или даже вытеснить протестантов входило в намерения этого ордена, поставившего себе целью полностью восстановить старую веру. Падение иезуитов, естественно, доставило величайшее удовлетворение их противникам, которые не без удовольствия наблюдали, как те продавали свои вина, укладывали свои книги; здание коллегии должно было теперь отойти к другому, вероятно, менее деятельному, ордену. До чего же радуются люди, освободившись от противника или даже от стража: стадо не понимает, что без собаки оно станет добычей волков.
Так как каждому городу положено иметь свою трагедию, заставляющую содрогаться еще и последующие поколения, то в Страсбурге частенько вспоминали злополучного претора Клинглина, который сначала достиг высших почестей, неограниченной власти над городом и страной, наслаждаясь всем, что дают человеку богатство, почет и влиятельное положение, а под конец впал в немилость при дворе, был привлечен к ответственности за все деяния, на которые до сих пор смотрели сквозь пальцы, брошен в темницу и там, уже старцем за семьдесят лет, умер таинственной смертью.
Эту и тому подобные истории со страстным увлечением рассказывал наш сотрапезник, кавалер ордена святого Людовика, почему я охотно присоединялся к нему на прогулках, тогда как другие всячески уклонялись от его приглашений и с удовольствием оставляли нас наедине. Новое знакомство, как всегда, не заставило меня задумываться о том, что из него выйдет и какое влияние оно на меня будет иметь; лишь позднее я стал замечать, что рассказы и рассуждения моего спутника скорее меня тревожат и сбивают с толку, чем просвещают и поучают. Я никогда не понимал, что́ он такое, хотя эту загадку нетрудно было бы разгадать. Он принадлежал к числу тех, кому не задалась жизнь и кто поэтому все время разбрасывается на мелочи. На беду, он до страсти любил предаваться размышлениям, хотя не умел мыслить, а в таких людях легко укореняется какое-нибудь представление, становящееся своего рода душевной болезнью. Такая навязчивая идея постоянно преследовала его, и потому долгое общение с ним становилось невыносимым. Он то и дело жаловался на ослабление памяти, особенно в отношении недавних событий, и, делая своеобразный логический вывод, утверждал, что все добродетели обязаны своим существованием хорошей памяти, а все пороки — забывчивости. Эту теорию он обосновывал довольно остроумно, что, впрочем, нетрудно сделать, если ты позволяешь себе употреблять и применять слова вполне произвольно, то в широком, то в узком, то в прямом, то в переносном смысле.
Первое время слушать его было занимательно, более того — его красноречие вызывало изумление. Казалось, что перед тобою оратор-софист, умеющий шутки ради или для упражнения придать блеск самым странным словам. К несчастью, это первое впечатление слишком быстро притуплялось; что бы я ни отвечал, он любой разговор сводил все к той же теме. Его мысль невозможно было задержать на событиях прошлых времен, хотя они интересовали его и он знал мельчайшие их подробности. Какой-нибудь вдруг пришедший ему на ум пустяк заставлял его прервать рассказ из всемирной истории и опять возвращаться к своей злополучной идее.
Одна из наших послеобеденных прогулок оказалась в этом смысле особенно несчастливой; я расскажу о ней, вместо того чтобы приводить целый ряд подобных случаев, рискуя наскучить читателю или даже утомить его.
Когда мы шли через город, нам повстречалась старая нищенка; своими просьбами и приставаниями она прервала его рассказ. «Отвяжись ты, старая ведьма!» — воскликнул он и пошел дальше. Она прокричала ему вдогонку известную пословицу, несколько переиначив ее, так как, видимо, приметила, что этот угрюмый господин уже в летах: «Не хочешь быть стар, так дал бы в молодости себя повесить!» Он круто обернулся, и я уже испугался, как бы не вышло истории. «Повесить, — завопил он, — меня повесить? Нет, эта штука не прошла бы, я слишком честный малый, но повеситься, самому повеситься мне следовало и впрямь, а не то истратить на себя заряд пороха: все лучше, чем дойти до того, чтобы уже не стоить этого заряда». Старуха окаменела, а он продолжал: «Ты сказала святую истину, старая ведьма, и раз тебя еще не утопили и не сожгли, так получай награду за свои слова». Он протянул ей бюзель — монету, не часто достававшуюся нищим.
Мы уже перешли первый мост через Рейн и направились к харчевне, где думали передохнуть, причем я все время старался вернуться к прерванному разговору, когда на живописной тропинке показалась прехорошенькая девушка; завидев нас, она учтиво поклонилась, воскликнула: «Куда это вы собрались, господин капитан?» — и произнесла еще несколько незначащих слов, которые обычно говорят при встрече. «Мадемуазель, — несколько смущенно начал капитан, — я не помню…» — «Неужели, — кокетливо удивилась она, — вы так скоро забываете друзей?» Слово «забываете» привело его в раздражение, он потряс головой и проворчал: «Право же, мадемуазель, я не припоминаю…» Она отвечала не без насмешливости, хотя и очень сдержанно: «Берегитесь, господин капитан, в следующий раз я вас не узна́ю», — и быстро, не оглядываясь, пошла дальше. Мой спутник внезапно ударил себя по лбу обоими кулаками и закричал: «Ах, осел, старый осел! Теперь вы видите, прав я или нет». И он вновь разразился обычными своими речами и теориями, в которых его еще больше подкрепил этот случай. Я не могу, да и не хочу повторять его страстную филиппику, обращенную к самому себе. Под конец он стал обращаться уже ко мне: «Я призываю вас в свидетели. Помните вы ту торговку на углу, немолодую и некрасивую? Проходя мимо, я всякий раз ей кланяюсь и иногда говорю несколько приветливых слов, а между тем прошло уже тридцать лет с тех пор, как она была ко мне благосклонна. А вот какой-нибудь месяц назад, клянусь вам — всего месяц, эта девушка обошлась со мной более чем любезно, и теперь я ее не узнаю и оскорбляю в награду за ее учтивость. Разве я не говорил всегда, что неблагодарность величайший из пороков, а ведь неблагодарны только беспамятные люди».
Мы вошли в трактир, и шум бражничающей в передних залах толпы заглушил обвинения, возводимые им на себя и своих сверстников. Капитан замолк, и я надеялся, что он угомонился, когда мы поднялись в верхнюю комнату, где в одиночестве расхаживал какой-то молодой человек, которого капитан окликнул по имени. Я был рад с ним познакомиться, ибо мой старый приятель всегда хорошо о нем отзывался и говорил мне, что этот служащий в военном ведомстве юноша не раз оказывал ему бескорыстные услуги по исхлопотанию пенсии. Я обрадовался, что разговор перешел на общие темы, и мы, продолжая беседу, распили бутылку вина. Но тут, к сожалению, обнаружился другой недостаток, свойственный нашему кавалеру, как, впрочем, и всем упрямым людям. Так же как ему не удавалось освободиться от навязчивой идеи, он не был способен преодолеть любое мгновенное неприятное впечатление и неумеренно о нем распространялся. Досада его на свою забывчивость еще не успела пройти, а тут к ней присоединилось и нечто новое, хотя совсем в другом роде. Оглядевшись, он увидел на столе двойную порцию кофе и две чашки; кроме того, этот стреляный воробей по каким-то признакам почуял, что молодой человек не все время пребывал здесь в полном одиночестве. Едва только в нем возникло подозрение, тотчас же превратившееся в уверенность, что хорошенькая девушка, которую мы встретили, тоже побывала здесь, как к первому порыву раздражения примешалась еще своеобразная ревность, и он окончательно утратил самообладание.
Безмятежно беседуя с молодым человеком, я вдруг услышал, что капитан неприятным тоном, мне так хорошо знакомым, начинает отпускать шпильки по поводу двух чашек и еще чего-то. Юноша, несколько смущенный, сначала благоразумно пытался отшутиться, как и подобало воспитанному человеку, но старший собеседник продолжал так злобно его задирать, что тому только и оставалось, схватив палку и шляпу, бросить капитану на прощанье недвусмысленный вызов. Ярость последнего разразилась еще неистовее, ибо за это время он успел, почти в одиночку, осушить целую бутылку вина. Ударив кулаком по столу, он несколько раз прокричал: «Я его убью!» Впрочем, смысл этих слов не был так уж грозен, ибо он произносил их всякий раз, когда ему кто-нибудь перечил или не нравился. На обратном пути дело неожиданно еще ухудшилось, так как я неосторожно указал ему на его неблагодарность по отношению к молодому человеку и напомнил, как он сам восхвалял любезность этого чиновника. Нет! Такой ярости против самого себя мне никогда больше видеть не приходилось. Это была страстная заключительная речь к обвинениям, возведенным им на себя после нашей встречи с хорошенькой девушкой. Я увидел раскаяние и покаяние, доведенные до карикатуры, но так как страсть подменяет собою гений, то поистине гениальные. Он снова перечислил все происшествия нашей послеобеденной прогулки, риторически используя их для самообвинения, заставил ведьму еще раз держать речь против него и, наконец, так распалился, что я стал опасаться, как бы он не бросился в Рейн. Будь я уверен, что выужу его так же скоро, как Ментор своего Телемаха, я не стал бы ему мешать и привел бы его домой несколько поостывшим.
Я тотчас же рассказал все происшедшее Лерзе, и на следующее утро мы вместе отправились к молодому человеку, которого Лерзе очень насмешил сухостью своего обращения. Мы сговорились устроить нечаянную встречу, в надежде что они помирятся. Но самое забавное, что капитан, проспавшись, как обычно, забыл о своей выходке и готов был принести извинения молодому человеку, тоже не охотнику до ссор. В одно прекрасное утро все было улажено, но так как эта история не осталась тайной, я не избег насмешек моих приятелей, по собственному опыту знавших, сколь много бед может иногда произойти от дружбы с нашим капитаном.
Раздумывая, как продолжить свой рассказ, я по случайной игре воображения вспомнил величественное здание собора, которому я как раз в те дни посвящал все свое внимание и которое, где бы я ни был, в городе или в окрестностях, всегда стояло перед моими глазами.
Чем чаще я рассматривал его фасад, тем более укреплялось во мне первое впечатление, что здесь возвышенное соединилось с изящным. Гигантское здание, всем своим массивом выступающее перед нами, чтобы не напугать нас и не сбить с толку, когда мы стараемся проникнуть в его частности, должно вступить и противоестественную, более того — казалось бы, невозможную связь: к нему должно присоединиться приятное. Но так как передать впечатление от собора мы можем, только соединив эти два друг друга исключающих свойства, то из одного этого уже видно, сколь высокое достоинство должны мы признать за сим памятником старины. К описанию его мы приступим, изложив с подобающей серьезностью, как могли в нем мирно переплестись и сочетаться столь противоречивые элементы.
Наши наблюдения прежде всего относятся к фасаду (о башнях мы пока говорить не станем), мощно выступающему перед нами в виде вертикально поставленного продолговатого четырехугольника. Если мы приблизимся к нему в сумерки, при свете луны или в звездную ночь, когда все детали сначала как бы расплываются, а потом и вовсе исчезают, то увидим лишь колоссальную стену, высота которой находится в благотворном соотношении с шириной. Рассматривая фасад днем и при этом усилием воли заставив себя отвлечься от частностей, мы поймем, что перед нами фасад здания, который не только замыкает внутренние его помещения, но закрывает собою и ряд соседствующих строений. Отверстия в этой гигантской поверхности указуют на потребности внутреннего размещения, и сообразно им мы тотчас же можем разделить таковую на девять полей. Прежде всего нам в глаза бросаются большие средние двери, открывающие доступ в корабль собора. По обе стороны от них расположены двери поменьше, ведущие под крестовые своды. Над главной дверью взор наш упирается в колесообразное окно, предназначенное распространять таинственный свет в храме и его притворах. По бокам мы видим два больших, вертикально расположенных отверстия в форме вытянутых четырехугольников; они резко контрастируют со средним отверстием и явно свидетельствуют о своей связанности с основанием устремленных ввысь башен. В третьем, горизонтальном ряду три отверстия предназначены для колокольных перекладин и других церковных надобностей. Вверху целое горизонтально замыкается не карнизом, а балюстрадой галереи. Все эти девять полей поддерживаются и обрамляются четырьмя вздымающимися от земли контрфорсами, которые делят здание на три части.
Если во всем массиве собора нельзя отрицать прекрасного соотношения высоты и ширины, то именно контрфорсы и стройные промежутки между ними сообщают всем деталям фасада некую равномерную легкость.
Но вернемся к нашему абстрактному представлению и вообразим себе эту гигантскую стену с крепкими, устремленными ввысь столбами лишенной каких бы то ни было украшений, отверстия же обусловленными лишь насущной нуждой, тогда, как бы удачны ни были пропорции трех главных подразделений, целое предстанет перед нами серьезным и величавым, но досадно безрадостным, неукрашенным и потому не заслуживающим названия произведения искусства. Ибо произведение искусства, слагающееся из больших, простых и гармонических частей, производит благородное, достойное впечатление, но подлинную радость нам дарует только «приятное», а оно возникает как следствие гармонии всех разработанных деталей.
И в этом-то отношении нас всемерно удовлетворяет рассматриваемое здание, ибо мы видим, что каждое украшение Здесь полностью соответствует детали, к которой оно относится, подчинено ей и кажется из нее возникшим. Такое разнообразие всегда радостно, ибо вытекает из должного соотношения частей и потому пробуждает ощущение единства, исполнение же лишь в этом случае заслуживает наименования вершины искусства.
Только благодаря таким средствам и могла крепкая, непроницаемая стена, которая должна была служить основанием двух до небес вздымающихся башен, представиться нашему взору покоящейся в себе, самостоятельно существующей и притом легкой, изящной; тысячекратно пробитая, она производит впечатление нерушимой крепости.
Эта загадка решена здесь на редкость удачно. Отверстия в стене, сплошные ее плоскости, столбы — все носит свой особый характер, определенный назначением той или иной части; он постепенно сообщается и частностям здания, и потому здесь все украшения так гармоничны, потому все большое иди малое находится на должном месте, легко воспринимается глазом и сквозь непомерность проступает «приятное». Напомню хотя бы о перспективно уходящих в толщу стены дверях, с бесконечной щедростью украшенных столбиками и готическими арками, об окне и удивительно выполненной розе, обусловленной его круглой формой, о рисунке ее лучей и стройных пустотелых колоннах перпендикулярных подразделений. Представьте себе постепенно отступающие вглубь опоры, сопровождаемые стройными, устремленными ввысь арками, которые зиждутся на легких колонках и, наподобие балдахинов, осеняют статуи святых; каждому ребру, каждой капители придан вид либо бутона, либо гирлянды листьев, либо иной какой-нибудь образ, заимствованный из природы и переосмысленный в камне. Для того чтобы правильно оценить и оживить мое описание, сравните его если не с самим собором, то хотя бы с его изображениями в целом и в деталях. Мои слова многим могут показаться преувеличением; ведь и мне, с первого же взгляда воспылавшему любовью к этому строению, понадобилось долгое время, чтобы проникнуть в его достоинства.
Выросший среди хулителей готического зодчества, я питал отвращение к непомерно тяжелым, путаным украшениям, которые своей произвольностью придавали сугубо неприятный характер мрачной религиозности церковным зданиям; я еще более укрепился в этой нелюбви, потому что мне приходилось видеть лишь бездушные сооружения такого рода, в которых отсутствовали правильные пропорции, равно как и ясная последовательность. Здесь же на меня точно снизошло откровение: хула уже не шла мне на ум, как бывало, мною овладели совсем противоположные чувства.
По мере того как я всматривался в собор и размышлял, мне открывались все новые его достоинства. Я постигал правильность пропорций больших подразделений, постигал, как осмысленны, вплоть до последней мелочи, все эти богатые украшения, но теперь я еще уразумел их разнообразную связь, переходы от одной части к другой, сплетения пусть однородных, но по виду весьма различных деталей, от святого — до чудища, от листа — до зубчика. Чем больше я наблюдал, тем больше изумлялся; чем больше сил затрачивал на обмеры и зарисовки, тем сильнее становилась моя любовь к этому творению. И сколько же времени у меня ушло на то, чтобы изучить все, что открывалось моему взору, на то, чтобы воссоздать мысленно и на бумаге все недостающее, незаконченное, и в первую очередь это относилось к башням собора.
Памятуя, что здание было заложено на древней немецкой земле и строилось в подлинно немецкую эпоху, а также что по-немецки звучало имя зодчего, начертанное на скромном надгробии, я осмелился, вдохновленный величием этого произведения искусства, изменить бесславное название «готическая архитектура» и под именем «немецкого зодчества» возвратить его нашему народу. Далее я не преминул изложить свои патриотические взгляды, сначала устно, а потом и в небольшой статье, посвященной D. М. Ervini a Steinbach[24].
Когда моя биографическая повесть дойдет до поры появления в печати упомянутой статьи, которую Гердер позднее включил в свой сборник «О немецком характере и искусстве», мне придется еще немало говорить обо всех этих весьма значительных предметах. Но прежде чем на сей раз покончить с этой темой, я хочу воспользоваться случаем и разъяснить предпосланный данному тому эпиграф тем, в ком он мог бы пробудить известные сомнения. Мне хорошо известно, что жизненный опыт нередко опровергает или ставит под сомнение старую, добрую и обнадеживающую немецкую поговорку: «Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости», но в ее пользу можно многое сказать, и я сейчас объясню, что я под этим подразумеваю.
Наши желания — предчувствия способностей, в нас заложенных, предвестники того, что́ мы сумеем совершить. То, на что мы способны, и то, чего мы хотим, представляется нашему воображению как бы вне нас, в отдаленном будущем: мы испытываем тоску по тому, чем в тиши уже обладаем. Итак, страстное предвосхищение превращает в мечту действительно возможное. Если такое направление присуще нашей натуре, то с каждым шагом нашего развития частично исполняется и наше первоначальное желание, при благоприятных обстоятельствах — это совершается прямым путем, при неблагоприятных — окольным, с которого мы, как бы там ни было, всегда сходим на прямой. Так мы видим, что упорством человек добивается земных благ — богатства, блеска и внешних почестей. Другие еще увереннее добиваются духовных преимуществ, вырабатывают в себе ясный взгляд на вещи, достигают спокойствия духа и уверенности в настоящем и будущем.
Но есть еще и третье направление, смесь этих двух, наиболее многообещающее. Если молодость человека совпадает со значительной эпохой, в которую созидательные силы преобладают над разрушительными, если в нем своевременно пробуждается предчувствие того, что такая эпоха требует и сулит, то он, подстрекаемый внешними обстоятельствами к деятельному участию в современной жизни, будет бросаться то в одну, то в другую сторону, и в нем непременно оживет стремление к многосторонней деятельности. Но на пути человека, кроме его собственной ограниченности, возникает еще множество случайных препятствий, и вот начатое не движется вперед, взятое выпадает из рук и одно желание за другим мельчает и гаснет. Но если эти желания возникли от чистого сердца и соответствуют потребностям времени, то разбрасывай их и спокойно оставляй лежать на дороге — все равно их найдут, поднимут да еще извлекут на свет божий многое из того, что им сродни и о чем никто доселе и не помышлял. Если же в течение нашей жизни мы видим, что другими сделано то, к чему мы некогда чувствовали призвание, которым поступились так же, как и многим другим, то нас охватывает прекрасное чувство, что лишь человечество в целом есть истинный человек и что каждый в отдельности должен быть рад и счастлив, ежели у него хватает мужества ощущать себя частью этого целого.
Это отступление здесь весьма уместно, ибо когда я стараюсь разобраться в чувстве, которое влекло меня к старинным зданиям, припоминаю время, отданное мною Страсбургскому собору, или внимание, с которым я впоследствии рассматривал соборы в Кельне и Фрейбурге, все больше проникаясь величием этих строений, мне, казалось бы, следует упрекнуть себя за то, что в дальнейшем я совсем ими не занимался и другое, более развитое искусство их от меня заслонило. Но когда я вижу, что в новейшее время вновь вспыхивает внимание, более того — любовь, даже страсть к этим творениям, что весьма достойные молодые люди, охваченные такою страстью, безоглядно отдают этим памятникам прошлых веков свои силы, время, заботы и состояние, мне становится радостно оттого, что давние мои мечты были устремлены на нечто подлинно ценное. Я с удовлетворением отмечаю, что ныне не только умеют ценить содеянное нашими предками, но стараются, хотя бы на бумаге, по сохранившимся первоисточникам воссоздать их первоначальные намерения, чтобы ознакомить нас с мыслью, которая всегда есть начало и конец любого предприятия, и таким образом вдохнуть жизнь и ясность в столь запутанное на первый взгляд прошлое. Прежде всего я воздаю хвалы славному Сульпицию Буассере, неутомимо работающему над воссозданием — в роскошной серии гравюр — Кельнского собора, образца тех исполинских замыслов, которые, наподобие Вавилонской башни, устремлялись в небо и до такой степени не соответствовали земным возможностям, что их исполнение неминуемо приостанавливалось. Если ранее нас удивляло, что подобные сооружения достигли существующих размеров, то мы еще больше удивимся, узнав, какими они были задуманы спервоначала.
Дай бог, чтобы литературно-артистические предприятия такого рода всегда находили достойную поддержку у людей, имеющих на то довольно сил, влияния и денег, и мы могли бы собственными глазами убедиться в величии и грандиозности замыслов наших предков и составить себе представление о дерзновенности их желаний. Знания, добытые таким путем, не останутся бесплодными, и мы сможем наконец составить себе справедливое суждение об этих памятниках. Оно будет достаточно основательно, если наш деятельный молодой друг не ограничится монографией, посвященной Кельнскому собору, но во всех подробностях проследит историю зодчества немецкого средневековья. Если же еще в какой-то мере будет раскрыто, как технически осуществлялось это искусство, если в основных чертах оно будет воссоздано путем сравнения с искусством греко-римским и восточно-египетским, то в этой области мало что останется несделанным. Я же, после того как результаты этих патриотических трудов будут обнародованы, с истинным удовлетворением повторю, как повторяю и теперь, после частных собеседований, мудрую поговорку: «Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости».
Но если в отношении того, что воздействует в течение веков, можно полагаться на время и выжидать случая, то существуют ведь вещи совсем иного порядка, которыми надо наслаждаться в молодости, как наслаждаются плодами, покуда те не перезрели. Да будет мне позволено сделать неожиданный поворот и заговорить о танцах; в Страсбурге, в Эльзасе они каждый день, каждый час звучат в наших ушах, так же как собор непрерывно стоит перед нашими глазами. С детских лет отец сам учил танцам меня и сестру — занятие как будто бы неподходящее для столь серьезного человека, но он и тут не утрачивал своей обычной важности, точнейшим образом разъяснял нам все позиции и па, и убедившись, что мы уже можем протанцевать менуэт, наигрывал на флажолете какую-то простенькую мелодию в три четверти такта, под которую мы и двигались, как умели. Во французском театре я тоже с детства видывал если не балеты, то сольные танцы, pas de deux и тому подобное и хорошо запомнил различные мудреные телодвижения и прыжки. Когда менуэт нам наскучил, я стал просить отца сыграть нам другие танцы, к примеру, жигу и мюрки, которых немало имелось в тогдашних нотных тетрадях, и тотчас же стал изобретать разные па и прочие движения, ибо чувство ритма у меня было врожденное. Это забавляло отца, и он, случалось, позволял нам, детям, плясать как бог на душу положит, себе и ему на потеху. После неприятности с Гретхен я в течение всего моего пребывания в Лейпциге уже не танцевал; помнится даже, что когда на одном из балов меня заставили танцевать менуэт, ритм и подвижность словно покинули меня, а все па и фигуры выветрились из памяти. Я чувствовал бы себя опозоренным, если бы большая часть зрителей не приписала мою неловкость упорству и желанию досадить девицам, насильно вовлекшим меня в свои ряды.
Во время моего пребывания во Франкфурте все эти радости вовсе для меня не существовали, но в Страсбурге ко мне вместе с прежней жизнерадостностью вернулась и способность двигаться в такт музыке. По воскресным и будничным дням, в любом увеселительном заведении можно было обнаружить веселую компанию, готовившуюся танцевать или уже танцующую. В окрестных имениях нередко давались балы, и везде шли разговоры о великолепных маскарадах предстоящей зимы. Тут уж я, конечно, оказался бы не на высоте и обществу было бы от меня очень мало проку, если бы один мой приятель, отличный танцор, не посоветовал мне сперва испытать себя в менее взыскательной компании, чтобы потом появиться в лучших домах. Он свел меня к одному учителю танцев, пользовавшемуся хорошей репутацией; последний посулил обучить меня дальнейшим танцевальным премудростям после того, как я повторю и усвою начальные правила. Танцмейстер принадлежал к числу вертких, сухопарых французов и принял меня очень любезно. Я заплатил ему за месяц вперед и получил на руки двенадцать билетов, соответствовавших количеству уроков, которые он должен был дать мне. Учитель мой оказался строг, точен, не чужд педантизма, но так как я был уже до известной степени подготовлен, то вскоре отблагодарил его своими успехами и даже удостоился похвалы.
Впрочем, успешности его преподаванья весьма способствовало одно обстоятельство: у него были две дочери, обе прехорошенькие и еще не достигшие двадцати лет. С детства обученные этому искусству, они отлично танцевали и в качестве партнерш могли способствовать успехам даже самого неловкого ученика. Обе они были весьма благовоспитанны, говорили только по-французски, и я делал все возможное, чтобы не показаться им неуклюжим и смешным. Мне повезло, они тоже не могли мною нахвалиться; в любую минуту они готовы были танцевать со мной менуэт под скрипку отца и даже, что, конечно, было уже труднее, научили меня вальсировать. У отца их, видимо, было мало клиентов, и они вели уединенную жизнь. Поэтому обе барышни нередко просили меня остаться после уроков и поболтать с ними. Я соглашался тем охотнее, что младшая мне очень нравилась, да и обе они были весьма милы в обращении. Случалось, я читал им вслух какой-нибудь роман, иногда читали они. Старшая, очень хорошенькая, еще лучше младшей, которая, однако, больше мне нравилась, бесспорно, была ко мне любезнее и приветливее. Она всегда присутствовала на уроке и, случалось, нарочно затягивала его; посему я не раз пытался предложить отцу два билета вместо одного, но он отказывался наотрез. Младшая хоть и не была со мной нелюбезна, но вела себя тише и всегда дожидалась, когда отец позовет ее сменить сестру.
Причина этого уяснилась мне однажды вечером. Закончив в танцклассе урок, я захотел пройти со старшей во внутренние комнаты, но она остановила меня словами: «Побудем еще немного здесь; я должна вам признаться, что у моей сестры сидит гадалка, которая пообещала открыть ей, как обстоит дело с одним ее другом из другого города; сестра всем сердцем привержена к нему и возлагает на него немало надежд. Что до меня, — продолжала она, — то мое сердце свободно, и, видно, придется мне смириться с тем, что его отвергают». Я отвечал несколькими любезностями и добавил, что ей ничего не стоит узнать, так ли все это на самом деле, обратившись к той же прорицательнице; я же последую ее примеру, ибо давно уже хотел узнать, что ждет меня в будущем, да все не верил в гаданье. Она побранила меня за это неверие и стала убеждать, что ничего нет на свете достоверней предсказаний сего оракула, если его вопрошают не шутливо и насмешливо, но по достаточно серьезному поводу. Под конец, как только она убедилась, что гаданье окончено, я все-таки заставил ее пройти со мной в ту комнату. Сестру ее мы застали в весьма приподнятом настроении; она обошлась со мной любезнее, чем обычно, много смеялась и даже острила; успокоенная касательно верности отсутствующего друга, она сочла возможным непринужденно болтать с присутствующим здесь другом сестры, за какового меня считала.
Мы обласкали старуху и посулили ей хорошую плату, если она теперь еще и нам откроет правду. С обычными приготовлениями и церемониями она разложила все свои причиндалы, чтобы сперва погадать красавице. Но, вглядевшись в карты, вдруг запнулась, язык у нее, казалось, прилип к гортани. «Вы, верно, — сказала младшая, видимо, уже разбиравшаяся в сих магических табличках, — боитесь сказать моей сестре неприятность, но она ведь легла, эта проклятая карта!» Старшая сестра побледнела, однако взяла себя в руки и сказала: «Говорите же, голову с вас не снимут». Старуха, глубоко вздохнув, начала толковать о том, что красавица любит, но не любима, что на пути ее стоит другая особа, и так далее. Бедная девушка была явно смущена. Решив позолотить пилюлю, старуха начала что-то бормотать о письме и деньгах. «Писем, — отвечала красотка, — мне ждать не от кого, деньгами я не интересуюсь. Если же я и вправду влюблена, то заслуживаю, чтобы другое сердце отвечало мне тем же». — «Посмотрим, что будет дальше», — произнесла старуха, тасуя и вновь раскладывая карты, но мы собственными глазами могли убедиться, что они легли и того хуже: вокруг красавицы, теперь еще более одинокой, были сплошь черные карты; друг оказался еще дальше, а злокозненные фигуры придвинулись к ней ближе. Старуха собралась было в третий раз кинуть карты, надеясь на лучший расклад, но бедняжка не могла больше сдерживаться и разразилась неудержимым потоком слез; прекрасная грудь ее бурно вздымалась, она отворотилась и выбежала из комнаты. Я не знал, что делать. Чувство удерживало меня подле присутствующей, сострадание приказывало следовать за убежавшей; положение мое было не из завидных. «Успокойте Люцинду, — сказала младшая сестра, — пойдите за ней». Я медлил: разве мог я ее утешить, не заверив, что хоть немного люблю ее, и можно ли было в такую минуту говорить об этом холодным, сдержанным тоном? «Пойдемте вместе», — предложил я Эмилии. «Не знаю, приятно ли ей будет мое присутствие», — возразила та. Мы все-таки пошли, но дверь оказалась запертой. Мы стучались, звали, упрашивали — Люцинда не откликалась. «Лучше оставить ее в покое, — сказала Эмилия, — это единственное, что ей сейчас нужно». Вспоминая ее поведение с самых первых дней нашего знакомства, я убеждался, что оно всегда было порывистым, неровным, благосклонность же свою ко мне она выражала преимущественно тем, что старалась не задевать меня в своих озорных выходках. Что мне было делать? Я щедро заплатил старухе за зло, которое она посеяла, и пошел было прочь, когда Эмилия сказала: «Я хочу, чтобы она разложила карты и на вас». Старуха снова взяла колоду. «Хорошо, но в мое отсутствие!» — воскликнул я и быстро сбежал по лестнице.
На другой день у меня недостало мужества пойти к ним. На третий, рано утром, Эмилия прислала за мной мальчика, который уже не раз приносил весточки от сестер, а от меня носил им цветы и фрукты, — с наказом непременно быть у них сегодня. Я пришел в обычный час и застал отца в одиночестве; он немножко помудрил над моей походкой, над манерой входить и выходить, над моей осанкой и жестами, но, в общем, остался мною доволен. Младшая сестра пришла под конец урока и протанцевала со мной грациозный менуэт, причем движения ее были так прелестны, что отец уверял, будто никогда еще на его паркете не двигалась такая красивая и ловкая парочка. После урока я, как обычно, прошел во внутренние комнаты; отец оставил нас вдвоем, Люцинда не показывалась. «Она лежит в постели, — сказала Эмилия, — и я этому рада, не беспокойтесь о ней. Ее душевная боль пройдет скорее, если она будет считать себя больной телесно. Умирать она не хочет и потому делает все, что мы ей предписываем. У нас есть разные домашние лекарства, которые она принимает, отдых тоже пойдет ей на пользу, и буря мало-помалу уляжется. Воображаемая болезнь делает ее очень милой и доброй, а так как она, в сущности, совсем здорова и тревожит ее только страсть, она придумывает для себя всевозможные романтические смерти и пугает себя ими, как дитя, наслушавшееся рассказов о привидениях. Еще вчера вечером она пылко уверяла меня, что на этот раз, несомненно, умрет, и пусть неблагодарного, жестокого друга, который сначала ее обольщал, а теперь от нее отвернулся, приведут уже в последние ее минуты: она выскажет ему все горькие упреки и тут же испустит дух». — «Я не знаю за собой никакой вины! — воскликнул я. — Я никогда не уверял ее в своих чувствах к ней и готов указать на одну особу, которая лучше всех может это засвидетельствовать». Эмилия улыбнулась и ответила: «Я вас поняла, но если мы не будем действовать умно и решительно, то все трое попадем в весьма неприятное положение. Что вы скажете, если я попрошу вас не продолжать более уроков? Правда, у вас осталось еще четыре билета с прошлого месяца, но отец уже говорил мне, что считает недобросовестным продолжать брать с вас деньги, если только вы не хотите всерьез посвятить себя танцевальному искусству; для светского молодого человека вы знаете уже достаточно». — «И вы, Эмилия, даете мне совет не бывать в вашем доме?» — спросил я. «Да, я, но не сама от себя. Слушайте! Третьего дня, когда вы скрылись, я велела разложить на вас карты, и трижды повторилось одно и то же прорицание, с каждым разом становясь все яснее. Нас окружали довольство и благополучие, друзья и вельможи, денег тоже было вдоволь. Женщины находились в некотором отдалении, но дальше всех моя бедная сестра; другая все приближалась к вам, но не приблизилась, так как между нею и вами встал третий. Надо вам признаться, что этой второй дамой я сочла себя, и тогда мой благожелательный совет станет вам еще понятнее. Свое сердце и руку я отдала далекому другу и до сих пор любила его сильнее всего на свете. Возможно, ваше присутствие стало бы со временем значить для меня больше, чем значило до сих пор; подумайте же, в каком положении оказались бы вы между двумя сестрами, из которых одну вы сделали бы несчастной своей любовью, а другую — своей холодностью; и все эти муки впустую и лишь на малый срок. Если бы мы и не знали, кто вы и какое вас ждет будущее, то карты раскрыли бы нам глаза. Прощайте», — закончила она и протянула мне руку. Я стоял в нерешительности. «Хорошо, — сказала Эмилия, ведя меня к двери. — В залог того, что это наша последняя встреча, примите от меня дар, в котором иначе я бы вам отказала». Она бросилась мне на шею и поцеловала меня. Я ее обнял и прижал к себе.
В это мгновение дверь распахнулась, в комнату ворвалась старшая сестра в очень легком, но изящном ночном одеянье и воскликнула: «Ты не одна будешь прощаться с ним». Эмилия оттолкнула меня, Люцинда же схватила, прижалась грудью к моей груди, а черными локонами к моим щекам и так замерла на несколько мгновений. И вот я очутился в тисках между двумя сестрами, как Эмилия только что предсказала мне. Люцинда наконец отпустила меня и серьезно посмотрела мне прямо в глаза. Я хотел схватить ее руку, сказать ей несколько добрых слов, но она отвернулась, взволнованно заходила по комнате и вдруг упала на софу. Эмилия подошла было к ней, но сестра прогнала ее, и тут произошла сцена, о которой я до сих пор не могу вспомнить без боли. В ней не было ничего театрального, она вполне соответствовала живому нраву юной француженки, и все же на сцене достойно исполнить ее могла бы только хорошая, сильно чувствующая актриса.
Люцинда осыпала сестру тысячами упреков. «Это не первое сердце, которое тяготеет ко мне и которое ты у меня отнимаешь. Разве не то же было с тем, кто уехал, ведь он под конец на моих глазах обручился с тобой. Я это видела и стерпела, но сколько же слез было мною пролито! Этого ты тоже отняла у меня, придержав и того! Скольких же ты умеешь привязать к себе одновременно! Я проста и добродушна, каждый думает, что узнал меня до конца и вправе пренебречь мною; ты тихая, скрытная, и люди воображают, что в тебе невесть что таится. На деле же в тебе есть только холодное, себялюбивое сердце, требующее непрестанных жертв, но об этом никто не догадывается, потому что оно глубоко спрятано в твоей груди, тогда как мое, горячее, верное, открыто всем — так же как и мое лицо».
Эмилия молча сидела возле сестры, а та, все более горячась, начала распространяться о вещах, о которых мне, собственно, знать не следовало. Силясь успокоить сестру, Эмилия сделала мне за спиной знак, чтобы я удалился. Но ревность и подозрительность обладают тысячью глаз, и Люцинда его заметила. Она вскочила и направилась ко мне, правда, довольно спокойно. Остановившись передо мной, она, казалось, что-то обдумывала и наконец сказала: «Я знаю, что потеряла вас, и никаких притязаний на вас не имею. Но и тебе он не достанется, сестрица! — С этими словами она крепко схватила меня за голову, запустив обе руки в мои полосы, прижала мое лицо к своему и несколько раз поцеловала меня в губы. — А теперь, — вскричала она, — бойся моего проклятия: пусть несчастье за несчастьем во веки веков настигает ту, которая первой после меня поцелует эти губы. Попробуй только опять завести с ним шашни; я знаю, на этот раз небо меня услышит! А вы, милостивый государь, бегите отсюда, да поскорей!»
Я опрометью сбежал с лестницы, твердо решив никогда больше не переступать порога этого дома.
КНИГА ДЕСЯТАЯ
Немецкие поэты, не объединенные больше гильдией, в которой все стоят за одного и один за всех, не пользовались никакими преимуществами в гражданской жизни. У них не было прочного положения, они не входили ни в какое сословие, никто не уважал их, разве что обстоятельства им благоприятствовали, и только случай определял — почести или позор выпадут на долю талантливого человека. Бедняга смертный в сознании своего ума и способностей принужден был влачить жалкую жизнь и, теснимый потребностями минуты, расточать дары, полученные им от муз. Стихотворение «на случай» — этот первейший, истиннейший род поэзии — считалось настолько презренным, что немцы и доселе не могут оценить его высоких достоинств; поэт, если он не шел дорогой Гюнтера, играл в свете жалкую роль шута и блюдолиза.
Если же муза вступала в содружество с человеком видным, то отсвет его блеска падал и на нее. Умудренные житейским опытом дворяне, как Гагедорн, почитаемые граждане, как Брокес, истинные ученые, как Галлер, были сопричислены к лучшим людям нации и, как равные, стояли в ряду знатнейших и наиболее ценимых. Но особым почетом пользовались те, которые свой приятный талант сочетали с деловитостью и усердием. Уц, Рабенер, Вейсе потому и снискали себе такое исключительное уважение, что в них сочетались эти разнородные и редко сочетающиеся качества.
Но неминуемо должна была прийти пора, когда поэтический гений себя осознает, создаст для себя соответствующие условия и положит начало своей независимости и достоинству. В Клопштоке объединилось все для начала подобной эпохи. Это был юноша чистых чувств и нрава. Серьезно и основательно воспитанный, он с самого раннего возраста придавал большое значение самому себе и своим поступкам; наперед обдумывая и соразмеряя каждый жизненный шаг, он, уже предчувствуя свою духовную мощь, обратился к наивысшей теме — Мессии, — а это имя обозначает бесконечное множество свойств, — и решил заново его возвеличить. Искупитель должен был стать его героем, которого он вознамерился провести через всю земную юдоль и страдания к высшему небесному торжеству. В этом должно было соучаствовать все божественное, ангельское и человеческое, что заложено в молодой душе. Воспитанный на Библии и вскормленный ее мощью, Клопшток, словно современник, общается с праотцами, пророками и предтечами, но все они, во все века, составляют лишь нимб вокруг Спасителя, на чье унижение призваны взирать с содроганием, чьей славе им дано споспешествовать. Ибо в конце концов после сумрачных и страшных часов вечный судия разоблачит свой лик, вновь признает богоравного сына, а тот приведет к его престолу отвернувшихся от него людей и даже отпавшего было от него злого духа. Тысячи ангельских голосов возликуют в оживших небесах вкруг престола вседержителя, и сияние любви зальет вселенную, взоры которой еще так недавно были прикованы к страшному жертвеннику. Небесный мир, живо прочувствованный Клопштоком, когда он замышлял и писал поэму, еще и теперь доходит до сердца каждого, кто, читая ее первые десять песен, умеет подавить в себе известные требования, с которыми, впрочем, неохотно расстаются просвещенные умы.
Величие темы возвысило поэта в его собственных глазах. Надежда, что сам он воссоединится с этим хором, что богочеловек его отличит, с глазу на глаз отблагодарит за усилия, как слезами уже благодарили его в этом мире чувствительные сердца, — все эти невинные, ребяческие мечты могли взрасти лишь в праведном сердце. Таким образом, Клопшток завоевал себе право рассматривать себя как священную особу и во всех своих действиях стал блюсти заботливую чистоту. Уже в преклонном возрасте его страшно тревожило, что первая его любовь была отдана девушке, которая, выйдя замуж за другого, оставила его пребывать в неизвестности относительно того, любила ли она его и была ли его достойна. Убеждения, связывавшие его с Метой, глубокая тихая любовь, короткое святое супружество, решительное нежелание вдовца вступить во второй брак — все это со временем можно было бы вспоминать в кругу блаженных.
Такая почтительность по отношению к себе самому возрастала еще оттого, что он долгое время прожил в благонамеренной Дании, в доме одного видного, достойного и знатного человека. Здесь, в высокопоставленном кругу, правда, довольно замкнутом, но в то же время преданном всем внешним обычаям светской жизни, направление Клопштока определилось еще яснее. Величавая осанка, размеренная речь, лаконизм даже тогда, когда он откровенно говорил о важных ему вещах, на всю жизнь сообщили ему дипломатический сановитый облик, казалось бы, противоречивший его врожденной душевной нежности, хотя источник того и другого был един. Все это нашло отражение в его ранних вещах, отчего они так мощно и воздействовали на людей. Но никто не решился бы утверждать, что личность его служила примером и поощрением для других на жизненном и творческом пути.
А ведь именно такое поощрение молодых людей в их литературной деятельности, желание помочь тем, кто подавал надежды, но кому не улыбалось счастье, и облегчить их путь прославило одного немца, который с точки зрения самооценки занимал второе место, но с точки зрения живого воздействия на современников, несомненно, был первым. Всякий поймет, что я имею в виду Глейма. Занимая невидную, хотя и доходную должность, Глейм жил в красивом, небольшом городке, оживленном разнообразной военной, гражданской и литературной деятельностью. Городок этот служил для большой и богатой общины источником доходов, часть которых, конечно, обращалась ему на пользу. Глейм всегда ощущал в себе живое творческое стремление, но полностью оно его не удовлетворяло, почему он и отдался другому, может быть, более могущественному порыву — способствовать творчеству других. Обе эти деятельности неизменно переплетались в течение всей его долгой жизни; поэзия и материальная помощь поэтам были необходимы ему, как дыханье. Выручая нуждающиеся таланты из всякого рода затруднений и тем доподлинно помогая литературе, он приобрел такое множество друзей, должников и нахлебников, что ему охотно прощали пространность его творений, ибо чем можно было заплатить за щедрые благодеянья, как не терпимостью к его стихам.
Высокое понятие, которое небезосновательно составили о себе эти два человека, заставлявшие и других проникаться известным самоуважением, привело к значительным и благотворным результатам, как явным, так и скрытым. Но вместе с тем это сознание, как ни благотворно оно было, нанесло своеобразный вред им самим, их времени и тем, кто их окружал. Если обоих этих мужей и можно назвать великими по их интеллектуальной деятельности, то роль их в свете все же была незначительной, а по сравнению с другими, более подвижными жизнями их положение было просто ничтожно. День велик, а за ним еще следует ночь. Нельзя вечно сочинять, хлопотать и одаривать; у них не было возможности заполнить свое время тем, чем заполняют его светские люди, вельможи и богачи, поэтому они придавали своей узкой ограниченной жизни и ежедневной суете значение, какое она могла иметь только для них самих. Они больше, чем подобало, восхищались своими шутками, а шутки эти если и скрашивали мгновение, в дальнейшем уже ровно ничего не значили. По заслугам выслушивали хвалы и славословия и платили тем же, правда, в дозах более умеренных, но все же достаточно щедро; зная, что их похвала имеет цену, они охотно повторяли ее, не щадя ни чернил, ни бумаги. Отсюда собрания писем, поражающих потомство своей бессодержательностью. И разве можно упрекнуть новейшее поколение за то, что оно недоумевает, как могли люди столь значительные пробавляться подобным вздором, и высказывает сожаления по поводу того, что их письма были напечатаны. Но пусть эти несколько томиков стоят на полке среди множества других книг и напоминают нам, что даже самый выдающийся человек живет лишь со дня на день и вкушает однообразную, скудную пищу, если он занят одним собою и отказывается от участия в многообразной жизни внешнего мира, в коем только и можно найти пищу, нужную для роста человека и в то же самое время мерило этого роста.
Деятельность упомянутых мужей находилась в поре расцвета, когда и мы, молодые люди, зашевелились в своем кругу, а я уже был на пути к тому, чтобы вместе с младшими моими друзьями и, пожалуй, даже старшими предаться прекраснодушию, попустительству, взаимному угождению и благотворительности. В моей среде все мною созданное, естественно, заслуживало одобрения. Женщины, друзья, покровители не сочтут дурным то, что делается для их прославления; Эта обязательность в конце концов превращается во взаимный обмен любезностями, и характер человека, своевременно не закаленный делами более высокими, легко растрачивается в пустых фразах.
Но мне повезло, ибо неожиданное новое знакомство подвергло единственному в своем роде и достаточно жестокому испытанию все, что во мне таилось или уже пришло в движение от самодовольства, самолюбования, суетности и высокомерия. Это испытание нимало не соответствовало духу времени и потому оказалось более действенным и чувствительным.
Таким значительным событием, возымевшим для меня серьезнейшие последствия, было мое знакомство, а вскоре и сближение с Гердером. Сопровождая в путешествии принца Голштейн-Эйтинского, который страдал меланхолией, он вместе с ним прибыл в Страсбург. Вся наша компания, узнав о его приезде, возмечтала познакомиться с ним, мне же это счастье выпало совершенно неожиданно и случайно. Я отправился в гостиницу Святого Духа навестить какого-то важного приезжего, — не помню уже, кого именно. Внизу у лестницы я столкнулся с человеком, которого принял было за духовное лицо, он, видимо, тоже собирался идти наверх. Его напудренные волосы были скручены в круглые локоны, на нем было черное одеянье, какое обычно носят духовные лица, и не менее характерный плащ из черного шелка, концы которого были подобраны и засунуты в карманы. Несколько необычная, но, в общем, галантная и приятная внешность этого человека, о которой мне уже не раз приходилось слышать, быстро заставила меня догадаться, что это и есть знаменитый гость. Я поспешил дать ему понять, что я его знаю. Он осведомился о моем имени, которое ему, конечно, ничего не сказало. Мое прямодушие, видимо, понравилось ему, он отвечал мне весьма приветливо и, подымаясь по лестнице, вступил со мной в оживленную беседу. Не припоминаю, кого мы тогда посетили, да это и не важно; прощаясь, я испросил дозволения прийти к нему, на что он охотно согласился. Я не преминул воспользоваться его любезностью, и даже неоднократно; с каждым разом он все больше меня к себе привлекал. Его обхождению была присуща какая-то мягкость, благовоспитанная чинность, без налета светского лоска. Лицо у него было круглое, с большим лбом, туповатым носом и несколько оттопыренными, очень необычными и приятными губами. Из-под черных его бровей блистали черные как уголь глаза, взгляд которых производил неизгладимое впечатление, хотя один глаз у него был красен и воспален. Путем самых разнообразных вопросов он пытался разузнать, кто я и что я, и его притягательная сила все больше воздействовала на меня. Я был доверчив от природы, а уж от него тем более ничего не таил. Вскоре, однако, проявились и отталкивающие черты его характера, повергшие меня в немалое смущенье. Рассказывая ему о своих юношеских занятиях и увлечениях, я между прочим упомянул о коллекции печатей, которую мне удалось составить при содействии одного друга нашего дома, переписывавшегося со множеством лиц. Расположенная мною по государственному календарю, эта коллекция дала мне возможность ознакомиться со всеми владетельными особами, большими и малыми державами, правительствами и даже отдельными дворянами; я хорошо запомнил все геральдические знаки, что не раз приходилось мне очень кстати, особенно во время коронационных торжеств. Я не без удовольствия рассказывал об этом, но он был другого мнения, презрительно отозвался обо всех таких вещах и сумел сделать их мне не только смешными, но почти противными.
Его дух противоречия причинил мне еще немало неприятностей, так как Гердер — отчасти чтобы обособиться от принца, отчасти из-за болезни глаз — решил задержаться в Страсбурге. Заболевание его принадлежало к числу самых тягостных и неприятных, тем более что излечить таковое могла лишь очень болезненная, серьезная и ненадежная операция. Дело в том, что у него зарос снизу слезный мешок, так что накапливавшаяся в нем жидкость не могла стекать через нос, тем паче что и в соседней кости не было отверстия, через которое могло бы естественно происходить это выделение. Необходимо было прорезать дно слезного мешочка, пробуравить кость и затем провести через слезную точку, вскрытый мешочек и соединенный с ним новый канал конский волос, который надо было ежедневно двигать взад и вперед, чтобы восстановить нарушенную связь между двумя органами, и к тому же все это можно было осуществить лишь через наружный надрез.
Расставшись с принцем, Гердер снял себе квартиру и решил доверить операцию Лобштейну. Теперь мне очень пригодились все те упражнения, которые имели целью притупить мою чувствительность; я мог присутствовать при операции и быть полезным этому достойному человеку. У меня было достаточно поводов дивиться его необыкновенной стойкости и долготерпению; ни при многочисленных хирургических надрезах, ни при частых и болезненных перевязках он не выказывал ни малейшей раздражительности и, казалось, страдал меньше всех нас. Зато в остальное время нам приходилось многое выносить от переменчивости его настроений. Я говорю — нам, ибо, кроме меня, за ним ходил очень милый русский по фамилии Пегелов. Он познакомился с Гердером еще в Риге, теперь же, несмотря на то что был уже далеко не юношей, хотел усовершенствоваться в хирургии под руководством Лобштейна. Гердер умел быть пленительным и остроумным, но также легко выказывал и неприятные стороны своего характера. Привлекать и отталкивать свойственно, конечно, всем людям в той или иной степени, с более или менее быстрыми чередованиями; подавить в себе это свойство удается немногим, да и то по большей части чисто внешне. Что касается Гердера, то преобладание противоречивого, горького, ядовитого настроения проистекало, конечно, от его болезни и сопряженных с нею страданий. Ведь часто случается, что мы не обращаем внимания на моральное воздействие болезненных состояний и неправильно судим о многих характерах, заранее предпосылая, что все люди здоровы и посему от них можно требовать соответствующего поведения.
Во все время лечения я навещал Гердера утром и вечером; иногда оставался на весь день и вскоре совершенно привык к его хуле и брани, тем более что с каждым днем научался ценить его прекрасные, высокие качества, обширные познания и глубокие взгляды. Этот добродушный крикун очень сильно влиял на меня. Он был на пять лет старше, что в молодые годы составляет немалую разницу, а так как я признавал его за то, чем он на самом деле был, так как я умел ценить все им уже свершенное, то, конечно, не мог не чувствовать его превосходства надо мною. Но приятным для меня такое состояние не было; все люди постарше, с коими я до сих пор входил в соприкосновение, бережно меня развивали и даже баловали своей уступчивостью. У Гердера нельзя было заслужить одобрения, хоть из кожи вон вылезай. Итак, искренняя симпатия и уважение, которые я питал к нему, находились в постоянном противоречии с неприязнью, которую он во мне возбуждал, отчего я, впервые в жизни, ощутил известный внутренний разлад. Поскольку разговор его всегда был значителен, спрашивал ли он, отвечал ли или вообще что-то обсуждал, то он, конечно, ежедневно, даже ежечасно прививал мне новые взгляды. В Лейпциге я вращался в узком, замкнутом кругу, во Франкфурте при тогдашнем моем состоянии подавно не мог расширить свои знания немецкой литературы; более того, мои мистико-религиозные и химические занятия завели меня в достаточно темные области, и мне оставалось чуждо почти все, что за последние годы происходило в литературном мире. И вот благодаря Гердеру я вдруг познакомился со всеми новейшими идеями, со всеми направлениями, которые из этих идей проистекли. Сам он был уже достаточно знаменит, его «Фрагменты», «Критические рощи» и другие сочинения поставили его в ряд с наиболее выдающимися людьми, на которых давно обращены были взоры всей нации. Какое движение должно было происходить в таком уме, каким брожением была охвачена такая натура, трудно себе представить и передать. Но о том, сколь велика была внутренняя сила этого человека, можно судить по влиянию, которое он оказывал еще много лет спустя, и по тому, как много он трудился и как много создал.
Вскоре после нашего сближения он сообщил мне, что намерен участвовать в соискании премии, назначенной в Берлине за лучшее сочинение о происхождении языков. Его работа уже близилась к концу, а так как почерк у него был очень разборчивый, то в скором времени он вручил мне несколько тетрадей вполне удобочитаемой рукописи. Мне никогда не случалось размышлять о подобных предметах; я был слишком поглощен настоящим, чтобы ломать себе голову над прошедшим и будущим. Кроме того, этот вопрос, на мой взгляд, был несколько праздным; если господь создал человека человеком, то ведь и речь он придал ему так же, как вертикальную походку. Человек же, заметив, что умеет ходить и брать предметы руками, с легкостью должен был убедиться и в том, что горлом можно петь, а языком, нёбом и губами модифицировать звуки. Если происхождение человека было божественным, это относилось также и к его речи; если же его следовало рассматривать как явление природы, как существо естественное, то и речь его тоже была естественна. Для меня оба эти положения были неделимы, словно душа и тело. Зюсмильх, несмотря на свой несколько грубоватый реализм, был фантазер и высказался за божественное происхождение языка, надо думать, полагая, что бог играл у первых людей роль школьного учителя. Гердер в своем труде стремился доказать, что человек мог и должен был собственными силами дойти до овладения речью. Я прочитал его труд с удовольствием и с большой для себя пользой; но я тогда еще не достиг должного уровня ни в знаниях, ни в уменье мыслить, чтобы составить себе собственное суждение. Поэтому я с похвалой отозвался о его работе, присовокупив несколько замечании, вытекавших из моего образа мыслей. Но первое было принято так же, как и второе: автор злился и ругался, во что бы то ни стало требуя единомыслия — условного или безусловного. Толстый хирург был не так терпелив, как я; он добродушно уклонился от чтения этой вещи, уверяя, что не приспособлен размышлять о столь высоких материях. И правда, ломбер, в который мы обычно игрывали по вечерам, интересовал его куда больше.
Несмотря на весьма неприятное и болезненное лечение, наш Гердер не утратил своей живости; только она становилась все менее благотворной. Он уже не мог написать письма или попросить о чем-нибудь без злой насмешки. Так, например, однажды он написал мне:
Если ты Брутовы письма найдешь в Цицероновых письмах,
Тех утешителей школ, что на гладко обструганных полках
Пышностью тешат твой взор, — тешат внешностью больше, чем сутью,—
Будь ты потомок богов, или готов, иль попросту грязи,—
Гете, пришли их ко мне.
Не очень-то деликатно было так подшучивать над моей фамилией; имя человека не плащ, болтающийся у него на плечах, который можно прилаживать и одергивать, но плотно, точно кожа, облегающее платье; его нельзя скоблить и резать, не поранив самого человека.
Зато первый упрек был небезоснователен. Я привез с собою в Страсбург и выставил на чистенькой полочке вымененные у Лангера книги, а также разные красивые издания из библиотеки моего отца с благим намерением пользоваться ими. Но где было взять время, если я дробил его на сотни всевозможных занятий? Гердер, с большой любовью относившийся к книгам, ибо они были ему нужны всякую минуту, при первом же посещении заметил мое прекрасное собрание, но заметил также, что я до него не дотрагиваюсь. Заклятый враг всего показного и хвастливого, он не преминул меня этим уколоть.
Мне вспоминается и еще одно насмешливое стихотворение, которое он прислал мне однажды вечером, после того как я долго рассказывал ему о Дрезденской галерее. Правда, я еще не проник в высокий смысл итальянской школы, но мне очень понравился Доминико Фети, превосходный художник, хотя и юморист, а следовательно, живописец не первого ранга. Духовные темы в его время считались обязательными, и он писал сюжеты, заимствованные из притч Нового завета, — весьма своеобразно, со вкусом, с добродушным юмором, что приближало их к обыденной жизни. Столь же остроумные, сколь и наивные детали его композиций, живо воссозданные свободной кистью, пленяли меня. Гердер осмеял мой ребяческий восторг в следующих словах:
О сочувствии речь заведя,
Вспомнить должен художника я:
Домиником он Фети зовется,
За библейские притчи берется,
В сказки глупые для детей
Превращая их кистью своей,—
Как же мне не сочувствовать ей!
Я мог бы привести еще немало таких веселых или нелепых, смешных или горьких шуток. Они не сердили меня, хотя были мне неприятны. Но так как я умел ценить все, что способствовало моему развитию, то скоро свыкся с ними и старался только, по мере моих тогдашних возможностей, отличать справедливые укоры от несправедливых придирок. И потому редкий день не был для меня плодотворен или поучителен.
Поэзия открылась мне теперь совсем с иной стороны, чем раньше, наполненная совсем иным смыслом, и именно таким, который многое говорил мне. Поэтическое искусство евреев, весьма остроумно трактованное Гердером, так же как и его предшественником Лаутом, народная поэзия, истоки которой он заставлял нас отыскивать в Эльзасе, древнейшие памятники устного творчества — все это свидетельствовало о том, что поэзия — дар, свойственный всему миру и всем народам, а не частное наследственное владение отдельных тонких и образованных людей. Я с жадностью глотал все это, и чем я становился восприимчивее, тем щедрее делался Гердер и тем более интересные часы проводили мы вместе. При этом я старался не забросить и своих естественноисторических занятий, а так как время всегда можно найти, была бы охота правильно распределять его, то нередко делал в два, в три раза больше положенного. Содержание этих немногих недель нашей совместной жизни было так богато, что я смело могу сказать: все в дальнейшем осуществленное Гердером тогда уже было намечено в зачатке, мне же на долю выпало счастье пополнить, расширить, увязать с более высокими проблемами все, о чем я до сих пор думал, что изучал и усваивал. Будь Гердер более методичен, он и впредь остался бы для меня бесценным руководителем на этом пути; но он скорее был склонен испытывать и пробуждать, чем наставлять и руководить. Так, он впервые познакомил меня с сочинениями Гамана, которые ценил очень высоко. Но, вместо того чтобы разъяснить мне их и сделать понятными направление и склонности этого необыкновенного ума, он обычно только потешался над моими судорожными попытками добраться до понимания этих «сивиллиных листов». Меж тем я чувствовал, что сочинения Гамана чем-то пленяют меня, и отдавался их воздействию, не сознавая, откуда оно берется и куда ведет.
Вскоре наша совместная жизнь омрачилась. Лечение тянулось дольше обычного срока, Лобштейн, видимо, растерялся и начал повторять свои методы лечения; казалось, всему этому не будет конца, да и Пегелов втихомолку признавался мне, что на благополучный исход надежды мало. Гердер стал нетерпелив и раздражителен; ему уже не удавалось сохранять свою энергию, и он тем более ограничивал себя, что неудача этого хирургического вмешательства приписывалась излишнему умственному напряжению и его постоянно оживленному, даже веселому общению с нами. Как бы там ни было, но искусственный слезный канал не образовался и желаемое сообщение не устанавливалось. Для того чтобы не ухудшить положение, необходимо было дать затянуться ране. Если нельзя было не дивиться стойкости Гердера при столь мучительной операции, то его меланхолическое, мрачное примирение с мыслью всю жизнь страдать от этого врожденного физического недостатка имело в себе нечто подлинно возвышенное, и он навеки приобрел уважение тех, кто любил его и был с ним в то время. Этот недостаток, портивший его столь значительное и красивое лицо, особенно раздражал его и потому, что в Дармштадте он познакомился с очень достойной девушкой и заслужил ее благосклонность. Он и лечению-то решил подвергнуться главным образом из-за того, чтобы на обратном пути предстать более жизнерадостным, свободным и красивым перед тою, с которой уже наполовину обручился, и тем вернее вступить с ней в нерушимый союз. Он спешил уехать из Страсбурга, но так как его пребывание здесь оказалось столь же дорогостоящим, сколь и неприятным, то я занял для него известную сумму денег, которую он обещал прислать к назначенному сроку. Меж тем время шло, а деньги не прибывали; мои кредитор, правда, не тревожил меня, но тем не менее я несколько недель находился в весьма неловком положении. Наконец пришло письмо и деньги, но Гердер и тут остался верен себе: вместо благодарности и просьбы о прощении оно содержало только насмешливые вирши. Другого это могло бы сбить с толку и обидеть, но меня нисколько не задело, ибо я успел составить себе высокое понятие о достоинствах Гердера, и ничто уже не могло повредить ему в моих глазах.
Но так как никогда не следует говорить о своих и чужих недостатках, тем более публично, не имея в виду принести кому-нибудь пользу, я позволю себе присовокупить здесь несколько необходимых замечаний.
Благодарность и неблагодарность принадлежат к явлениям нравственного мира, которые встречаются на каждом шагу и не дают покоя людям. По-моему, следует различать отсутствие чувства благодарности, неблагодарность и нежелание быть благодарным. Первое — прирожденное свойство человека; оно возникло из способности к забвению дурного и хорошего, а это — единственная возможность продолжать жизнь. Человек для сколько-нибудь сносного существования нуждается в таком бесконечном количестве внутренних и внешних предпосылок, что если бы он захотел всегда воздавать заслуженную благодарность солнцу и земле, богу и природе, предкам и родителям, приятелям и друзьям, то у него не хватило бы ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний. Но если дать чрезмерную волю такому своему легкомыслию, возобладает холодное равнодушие, и в конце концов на благодетеля ты начнешь смотреть как на стороннего человека, которому, собственно, можно и нанести вред, если тебе самому это пойдет на пользу. Вот единственное, что можно назвать неблагодарностью в прямом смысле слова, и происходит она от грубости чувств, которая всегда берет верх в необузданной натуре. Но нежелание быть благодарным, способность за благодеяния отплачивать угрюмым, досадливым молчанием встречается редко — и только у людей выдающихся да еще таких, которые родились в низшем сословии или в беспомощной бедности и, сознавая в себе большие задатки, тем не менее с детства вынуждены были пробиваться шаг за шагом, принимая со всех сторон помощь и поддержку; неуклюжесть благодетелей временами делает такую помощь для них нестерпимой, ибо принимают-то они земные блага, а платить за них должны достижениями высшего порядка: о каком же уравнении можно здесь говорить? Лессинг, в лучшую свою пору обладавший ясным пониманием практической жизни, однажды высказался на этот счет грубовато, но остроумно. Гердер же отравлял себе и другим самые светлые дни, ибо и впоследствии не сумел силой духа побороть угрюмую раздражительность, которая неизбежно овладела им смолоду.
Такое требование вполне можно обратить и к себе самому, ибо природа, всегда и неустанно помогающая человеку уяснить себе свое внутреннее состояние, охотно спешит на помощь и его способности к самовоспитанию. В некоторых вопросах воспитания, право же, не следует огорчаться из-за иных недостатков и далеко ходить за средствами их искоренения, ибо многие пороки человек сам может изжить легко и играючи. Благодарность тоже можно обратить в простую привычку, которая со временем станет потребностью.
В биографическом очерке подобает говорить о себе. От природы я неблагодарен так же, как и другие люди; на мгновенье вспылив или рассердившись, я легко могу забыть об оказанном мне благодеянии и выказать самую откровенную неблагодарность.
Чтобы бороться с этим, я приучил себя постоянно вспоминать, как и откуда получена любая вещь, которой я владею, подарок ли это, купил ли я ее или приобрел путем обмена. Показывая свои коллекции, я вменил себе в обязанность с благодарностью вспоминать людей, через посредство которых в них попала та или иная вещь; более того, помнить о любой случайности, о самом отдаленном указании или содействии, помогшем овладеть предметом, который сделался мне столь драгоценен. Таким образом, все вокруг нас начинает одушевляться; повсюду мы усматриваем духовную и любвеобильную генетическую связь, а живое представление о прошлом возвышает и обогащает настоящее. Дарители воскресают в нашей памяти, с их образами связываются приятные воспоминания, неблагодарность становится невозможной, а плата добром за добро — доступной и легкой. Попутно мы начинаем вспоминать и о том, что не является объектом чувственного обладания, и с удовольствием размышляем о происхождении благ более высоких.
Прежде чем покончить с воспоминаниями о моем знакомстве с Гердером, имевшем для меня столь важные последствия, я должен добавить еще несколько слов. Ничего не было удивительного, что мало-помалу я стал реже говорить с ним о материях, прежде способствоваших моему развитию, и тем паче поверять ему то, что всерьез занимало меня в данное время. Он испортил мне наслаждение многим, что я прежде любил, и особенно нападал на меня за пристрастие к Овидиевым «Метаморфозам». Сколько я ни защищал любимого своего поэта, сколько ни заверял, что ничего не может быть приятнее для юношеской фантазии, чем пребывать в этих радостных краях вместе с богами и полубогами, быть свидетелем их страстей и поступков, все тщетно. Я приводил в подробностях вышеупомянутое суждение серьезнейшего мужа и подкреплял его собственным опытом — впустую. Он утверждал, что эти стихотворения лишены настоящей, непосредственной правдивости, что нет в них ни Италии, ни Греции, ни первозданного, ни культурного мира; все — сплошное манерное подражание, впрочем, ничего другого и нельзя ожидать от такого переутонченного человека. Когда же я стал говорить в ответ, что произведения выдающегося индивидуума тоже природа, что у всех народов, древних и новых, поэт всегда оставался поэтом, то мне досталось еще сильнее: я выслушал столько неприятных вещей, что мой Овидий едва мне не опротивел. Ибо никакая любовь, никакая привязанность не бывают так сильны, чтобы долго противостоять осуждению большого человека, к которому мы вдобавок питаем доверие. В душе все равно остается неприятный осадок, а когда любишь не безусловно, то это уже сомнительная любовь.
Тщательнее всего я таил от него свой интерес к определенным образам, крепко в меня засевшим и готовым мало-помалу отлиться в поэтическую форму. Я говорю о Геце фон Берлихингене и Фаусте. Жизнеописание первого до глубины души захватило меня. Этот суровый, добрый и самоуправный человек, живший в дикие, анархические времена, возбудил во мне живейшее участие. Прославленная кукольная комедия о втором на все лады звучала и звенела во мне. Я тоже странствовал по всем областям знания и достаточно рано уразумел всю тщету его. И я пускался во всевозможные жизненные опыты; они измучивали меня и оставляли в душе еще большую неудовлетворенность. Теперь я вынашивал все эти темы, так же как и многое другое, тешил себя ими в часы одиночества, но ничего не записывал. Не менее старательно скрывал я от Гердера свои занятия мистикокабалистической химией и все, что к ним относилось, хотя втайне продолжал усердствовать, стремясь сообщить ей большую последовательность, чем это удалось сделать моим предшественникам. Из своих поэтических работ я показал ему «Совиновников», но, помнится, он не выразил ни одобрения, ни неудовольствия. И все же он оставался тем, чем был: все, от него исходившее, казалось мне если не отрадным, то значительным, даже его почерк имел надо мною какую-то магическую власть. Насколько мне помнится, я ни разу не рвал и не выбрасывал не только его писем, но даже конвертов, надписанных его рукой, и все-таки при столь многочисленных переменах в местопребывании и во времени у меня не сохранилось ни единого письменного свидетельства о тех прекрасных, исполненных надежд и счастливых днях.
Не стоило бы и упоминать о том, что обаяние Гердера сказывалось не только на мне, но и на других, если бы оно не подчинило себе также и Юнга, по прозванию Штиллинг. Искренние, честные устремления этого человека не могли оставить равнодушным никого, кто умел хоть сколько-нибудь чувствовать, а его восприимчивость побуждала к сообщительности каждого, у кого было чем поделиться. Гердер тоже относился к нему снисходительнее, чем к другим, может быть, потому, что его противодействие было соразмерно действию, на него производимому. Ограниченность Юнга сочеталась с такой доброй волей, с такой мягкой серьезностью, что ни один разумный человек не мог бы сурово обойтись с ним, а ни один мало-мальски доброжелательный не позволил бы себе его вышучивать или над ним подсмеиваться. К тому же Юнг был в таком упоении от Гердера, что весь как-то подтянулся и осмелел; надо сказать, что привязанность его ко мне в такой же мере пошла на убыль. Впрочем, мы навсегда остались добрыми друзьями, сохранили прежние отношения и постоянно старались оказывать друг другу взаимные услуги.
Но оставим теперь комнату нашего больного друга, так же как и все общие соображения, свидетельствующие скорее о болезни, чем о здоровье духа, выйдем на вольный воздух, на высокую и широкую галерею собора, словно не ушло еще то время, когда мы, юные студиозусы, на весь вечер забирались туда и, наполнив бокалы, провожали заходящее солнце. Все разговоры здесь умолкали, растворялись в созерцании местности; мы испытывали остроту своего зрения, и каждый старался разглядеть, даже ясно различить, отдаленнейшие предметы. Мы вооружались отличными подзорными трубами, и приятели мои указывали места, бывшие им всего милее и дороже. И у меня теперь был такой уголок; он хоть и не особенно выделялся среди окружающего ландшафта, но привлекал меня своим ласковым очарованием больше, чем все прочее. Фантазия наша распалялась, и мы нередко тут же сговаривались о небольшом путешествии по окрестностям, а не то и безотлагательно предпринимали его. Но я хочу рассказать здесь лишь об одной такой поездке, ибо она во многих отношениях имела для меня неисчислимые последствия.
С двумя добрыми друзьями и сотрапезниками, Энгельбахом и Вейландом — оба были уроженцы Нижнего Эльзаса, — я отправился верхом в Цаберн; погода выдалась отличная, и маленький уютный городок очень приглянулся нам. Вид епископского дворца привел нас в восхищение; новые конюшни, просторные, длинные и роскошные, свидетельствовали о благосостоянии владельца. Великолепие лестницы нас поразило, в покои и залы мы вступили с благоговением. Контрастировал со всем этим только сам кардинал, маленький, щуплый человечек, которого мы застали за обедом. Окна выходили в великолепный сад, а канал в три мили длиною, прямой, как стрела, и направленный на середину дворца, помог нам составить лестное понятие о вкусе и могуществе прежних владельцев. Прогуливаясь по его берегу, мы наслаждались отдельными уголками этого живописного поместья, расположенного в конце прекрасной Эльзасской долины у подножия Вогезов.
Налюбовавшись сим духовным форпостом королевской власти и отлично проведя время под его сенью, мы на следующее утро добрались до общественного сооружения, величаво открывавшего въезд в могущественное королевство. Освещенный лучами восходящего солнца, перед нами вздымался знаменитый Цабернский подъем — плод трудов невообразимых. Шоссе, достаточно широкое, чтобы на нем разъехаться трем экипажам, светлой змеей виясь по страшным отвесам, ведет в гору столь постепенно, что подъема почти не замечаешь. Твердая и гладкая дорога с возвышениями для пешеходов по обеим ее сторонам, каменные желоба для стока горных вод — все здесь сработано так чисто, искусно и прочно, что доставляет радость глазу. Так мало-помалу путники достигают Пфальцбурга, крепости новейшего времени. Она стоит на невысокой темной скале; красивые ее укрепления сделаны из той же горной породы, выбеленные известью стыки, точно обозначая величину камней, красноречиво свидетельствуют о чистоте работы. Самый городок, как то и подобает крепости, аккуратно распланировал и сплошь выстроен из камня; церковь исполнена вкуса. Проходя по улицам воскресным утром, мы услышали музыку: в трактире уже плясали. А раз сильное вздорожание и угроза голода не мешали жителям веселиться, то и наша юная жизнерадостность ничуть не омрачилась, когда булочник отказался снабдить нас хлебом на дорогу и предложил отправиться в харчевню, где мы могли разве что съесть его на месте.
С большой охотой пустились мы в обратный путь по шоссе, чтобы во второй раз подивиться на сие архитектурное чудо и усладить взор видом Эльзаса. Вскоре мы достигли Буксвейлера, где друг Вейланд обеспечил нам хороший прием. Свежим юношеским чувствам вполне соответствуют нравы маленького городка; семейные отношения там теснее и ощутимее, домашняя жизнь, размеренно протекающая среди неторопливых служебных занятий, городских промыслов, работы на полях и в садах, приглашает нас к дружескому участию; тесное общение здесь неизбежно, и чужеземец в этом узком кругу чувствует себя весьма приятно, если его не коснутся несогласия местных жителей, в таких углах всего более ощутимые. Этот город был столицей Ганау-Лихтенбергского графства, принадлежавшего ландграфу Дармштадтскому и подвластного французской короне. То, что здесь находились местное правительство и судебная палата, делало его центром очень красивого и богатого княжеского владения. Мы быстро позабыли о кривых улочках и разностильных домах, отправившись осматривать старый замок и сады, искусно разбитые на холме. Несколько рощиц, питомник ручных и диких фазанов и остатки прочих затей свидетельствовали о том, сколь приятна некогда была эта маленькая резиденция.
Но все эти прелести превосходил вид, открывавшийся с расположенного неподалеку Башберга на подлинно райскую местность. Эта возвышенность — сплошное нагромождение различных раковин — впервые привлекла мое внимание к подобным останкам доисторического мира; я никогда еще не видал их скопившимися в столь огромном количестве. И все-таки жадный до впечатлений взор вскоре обратился лишь к ландшафту. Стоя на крайнем выступе горы, обращенном внутрь страны, видишь, как к северу расстилается плодородная равнина, испещренная небольшими лесочками, огражденная суровыми горами, которые тянутся на запад до самого Цаберна, где отчетливо различим епископский дворец и в нескольких милях от него аббатство святого Иоанна. Далее к югу глаз следит постепенно теряющуюся вдали горную цепь Вогезов. Обернувшись к северо-востоку, замечаешь на скале Лихтенбергский замок, а на юго-восток простирается нескончаемая низменность Эльзаса; ландшафты ее, становясь все туманнее, мало-помалу ускользают из поля зрения, покуда швабские горы, словно тени, не сольются с горизонтом.
Еще в первых своих странствиях по свету я заметил, как важно в пути узнать течение вод, спрашивать даже у самого маленького ручейка, куда он, собственно, течет. Так ты обозреваешь любой речной бассейн вокруг себя, получаешь представление о взаимоотношениях высот и низменностей и, следуя за этими путеводными нитями, помогаешь глазу и памяти разобраться в геологической и политической путанице стран. В таких размышлениях я торжественно простился с милым Эльзасом, ибо наутро мы намеревались отправиться в Лотарингию.
Вечер прошел в задушевных разговорах, причем все старались скрасить невеселую действительность воспоминаниями о лучшем прошлом. В этом краю, как и повсюду в крохотном герцогстве, с благоговением произносилось имя Рейнхарда, последнего графа Ганауского, чей недюжинный ум и практическая сметка, проявлявшиеся во всем им содеянном, оставили по себе немало прекрасных памятников. Люди, ему подобные, являются двойными благодетелями — они делают счастливыми своих современников и помогают потомкам сохранить добрые чувства и мужество.
Когда мы, повернув на северо-запад в сторону гор, проехали мимо Лютцельштейна, старого замка в местности, богатой холмами, и спустились в область Саара и Мозеля, небо стало хмуриться, словно желая дать нам еще сильней почувствовать суровость западного края. Долина Саара, где мы первым делом заехали в маленькое местечко Бокенгейм и насупротив его увидели Нейсаарверде с красивыми зданиями и охотничьим замком, замкнута с обеих сторон горами, которые можно было бы назвать унылыми, если бы у их подножия, уходя в необозримую даль, до самой Сааральбы, не тянулись бесконечной чредой луга и поляны, называемые Гунау. Взор здесь прежде всего привлекают крупные строения бывшего коннозаводства герцога Лотарингского; нынче, весьма пригодные для этой цели, они служат фермой. Через Сааргемюнд мы добрались до Саарбрюккена — маленькой резиденции, светлым пятном выделяющейся среди скалистой и лесистой страны. Городок на холме, красиво принаряженный последним герцогом, еще издали производит приятное впечатление; дома здесь выкрашены в светло-серый цвет, а различная их вышина придает многообразие общему виду. Посредине городка, на площади, застроенной солидными зданиями, стоит лютеранская церковь, маленькая, но вполне соответствующая здешним масштабам. Фасад замка находится на одном уровне с городом, задняя же его сторона лепится по крутому отвесу скалы. В этой скале вырублены террасы, что делает удобным спуск в долину, где теперь находится сад. Чтобы разбить его, там расчистили вытянутый четырехугольник: с одной стороны отвели реку, с другой сорвали утес, после чего все это пространство засыпали землей и засадили деревьями. Предпринято это было в эпоху, когда для разбивки садов пользовались советами архитектора, а не ландшафтного живописца, как принято теперь. Все устройство замка, его драгоценности и украшения, его богатство и изящество свидетельствовали о жизнерадостном владельце, каким и был покойный герцог; преемник его в настоящее время находился в отъезде. Президент фон Гюндероде встретил нас наилюбезнейшим образом и в течение трех дней развлекал и потчевал лучше, чем мы смели надеяться. Я воспользовался кое-какими новыми знакомствами, чтобы пополнить свои знания в различных областях. Широкая жизнь покойного герцога давала достаточно материала для бесед, равно как и всевозможные начинания, предпринятые им для того, чтобы использовать природные богатства страны. Здесь я, собственно, впервые приобщился к горному делу и почувствовал интерес к экономическим и техническим вопросам, занимавшим меня большую часть моей жизни. Наслушавшись рассказов о богатых Дудвейльских каменноугольных копях, о железоделательных заводах, о квасцовом производстве, и даже о некоей огненной горе, мы собрались осмотреть эти чудеса поближе.
Итак, мы пустились в путь по лесистым горам, которые приезжему из обильных плодородных стран могли бы показаться дикими и печальными, если бы не привлекали его сокровищами своих недр. Почти подряд мы ознакомились с двумя машинными производствами — простым и сложным: с кузней, где ковались косы, и с проволочной волочильней. Если уже первая радует тем, что ручной труд в ней заменен механическим, то на вторую вдоволь не надивишься: она действует как высший организм, почти не отделимый от разума и сознания. На квасцовой фабрике мы усердно расспрашивали о добыче и очистке столь необходимого сырья, а когда увидели большие кучи какого-то белого, жирного и рыхлого землистого вещества и осведомились о его назначении, рабочие с улыбкой ответили нам, что это пена, набегающая при кипячении квасцов, которую господин Штауф приказывает собирать, надеясь и из нее извлечь пользу. «Господин Штауф еще жив?» — с удивлением воскликнул мой спутник. Ему отвечали утвердительно, добавив, что мы будем проходить невдалеке от его уединенного жилища.
Мы пошли вдоль желобов, по которым спускаются квасцовые воды, и мимо главной штольни, называемой здесь «рудником»; в ней добывается знаменитый дудвейльский каменный уголь. В сухом виде он синеватого цвета, как закаленная сталь, и, стоит его пошевелить, переливается всеми цветами радуги. Мрачные глубины штолен тем менее привлекали нас, что их содержимое было щедро рассыпано вокруг. Затем мы подошли к разверстым ямам, где выщелачивались квасцовые сланцы, и вскоре, хотя уже и заранее наслышанные, были поражены странным явлением. Протиснувшись в узкий проход, мы очутились в сфере огненной горы. Нас обдало сильным запахом серы, одна сторона ущелья, почти раскаленная, была покрыта добела обожженным красным камнем; густой пар валил из трещин, и жар грунта проникал даже сквозь толстые подошвы. Это случайное обстоятельство — никому не известно, отчего воспламенился данный участок, — чрезвычайно выгодно для квасцового производства, так как поверхность горы состоит из обожженных самой природой сланцев, которые остается только хорошенько выщелочить. Самый же проход образовался потому, что прокаленные сланцы были уже выбраны и пущены в дело. Выкарабкавшись из этой впадины, мы оказались на вершине горы. Прелестный буковый лес окружал площадку у выхода из ущелья и расходился по обеим ее сторонам. Многие деревья уже засохли, другие увядали поблизости от совсем еще свежих и не чуявших жара, уже неумолимо подбиравшегося к их корням.
Несколько отверстий дымилось на площадке, несколько уже угасло; огонь этот тлел около десяти лет в старых заброшенных штольнях и шахтах, прорытых в горе. Возможно, что через расселины он проник и к нетронутым залежам угля; в лесу, за несколько сотен шагов отсюда, были обнаружены явные признаки богатых залежей, но едва рабочие к ним подступились, как сильный дым, поваливший навстречу, разогнал их. Отверстие немедленно забросали землей, но оно еще дымилось, когда мы проходили мимо, направляясь к отшельническому жилищу нашего химика. Домик его гнездился между гор и лесов, там, где долины образуют многообразные красивые изгибы. Почва вокруг была черна от угля, залежи которого то там, то здесь выходят на поверхность. Угольный философ, philosophus per ignem[25], как, говаривали в старину, не мог найти лучшего места для своей резиденции.
Мы приблизились к маленькому, довольно приятному на вид дому и увидели господина Штауфа; тотчас же узнав моего приятеля, он приветствовал его жалобами на новое правительство. Из его речей мы, правда, поняли, что квасцовое производство, как и некоторые другие полезные начинания, вследствие различных внешних, а может быть, и внутренних обстоятельств, не оправдывало расходов. Он принадлежал к химикам того времени, когда люди, смутно ощущая, сколь широкое применение могут получить естественные продукты, все же терялись в размышлениях о пустяках и в силу недостаточности своих знаний не умели производить то, что давало бы экономическую и коммерческую выгоду. Так, например, до пользы, которой он ожидал от вышеупомянутой пены, было еще очень далеко; все, чем он мог похвалиться, был кусок нашатыря, добытый из огненной горы.
Радуясь, что есть кому излить свои жалобы, этот сухонький, дряхлый человек, с башмаком на одной ноге и туфлей на другой, то и дело подтягивая упорно спускавшиеся чулки, тащился на гору, где стоял смолокуренный заводик, им самим основанный и теперь, к величайшему его сожалению, пришедший в полный упадок. Здесь находился ряд сообщающихся печей, в которых каменный уголь очищался от серы, чтобы стать пригодным для производства железа. Но так как основатель завода желал использовать еще и масло, смолу и даже сажу, то из всех этих многочисленных намерений ничего не выходило. При жизни покойного герцога дело еще кое-как велось из любви к такого рода опытам и в надежде — вдруг что-нибудь да получится; теперь уже требовалась прибыль, а о ней не могло быть и речи.
Покинув нашего адепта в его уединении, ибо становилось уже поздно, мы поспешили к фридрихстальскому стекольному заводу и там мимоходом ознакомились с работой мастеров этого важнейшего и удивительного ремесла.
Но едва ли не больше всего виденного нас, молодых людей, интересовали забавные дорожные приключения и причудливый фейерверк, увиденный нами при наступающих сумерках невдалеке от Нейкирха. Подобно тому как несколько ночей назад на берегах Саара, среди скал и кустарников, вокруг нас носились целые тучи мерцающих светляков, так теперь встречали нас веселым фейерверком искр огнедышащие горны. Поздно ночью мы посетили расположенные в глубине долины плавильни, где с удовольствием вглядывались в полутьму дощатых пещер, освещаемых лишь через небольшие отверстия в пылающих печах. Шум воды и приводимых ею в движение мехов, страшное жужжанье и свист воздушного потока, который, неистово врываясь в расплавленную руду, глушит и ошеломляет, наконец прогнали нас, и мы отправились в Нейкирх, прилепившийся на склоне горы.
Несмотря на все впечатления и всю пестроту дня, я не находил покоя. Оставив своего друга крепко спящим, я пошел к охотничьему замку, высящемуся над городом. Фасад его обращен к лесистым горам, очертания которых еще были различимы на фоне безоблачного ночного неба, тогда как боковые склоны и стремнины уже ускользали от взора. Пусто и одиноко стояло это хорошо сохранившееся здание: ни кастеляна, ни егеря. Я сидел перед большими стеклянными дверями на ступенях, что шли вокруг всей террасы, — в горах, под звездным небосклоном, над сумрачной, поросшей лесом землей, казавшейся еще сумрачнее от светлого горизонта летней ночи. Я сидел один в этом всеми покинутом месте и никогда еще, кажется, с такой силой не ощущал одиночества. И как приятно мне было услышать вдали внезапный звук охотничьих рогов: словно бальзамический аромат, он вдохнул жизнь в неподвижную атмосферу. И во мне тут же возник образ милого создания, на время оттесненный пестротою путевых впечатлений, — он вставал передо мною все ясней и ясней, так что я сорвался с места, побежал в гостиницу и тут же отдал распоряжения, необходимые для того, чтобы спозаранку пуститься в дорогу.
На обратном пути мы осматривали уже не столь многое. Так, например, мы торопливо проехали через Цвейбрюккен, хотя эта красивая и примечательная резиденция, безусловно, заслуживала большего внимания. Нам пришлось ограничиться беглым взглядом на большой суровый замок, на пространные, обсаженные липами эспланады, предназначавшиеся для объездки лошадей, на огромные конюшни и бюргерские дома, построенные герцогом для розыгрыша в лотерею. Все это, так же как наряды и манеры жителей, прежде всего женщин и девушек, указывало на чужеземные веяния и красноречиво свидетельствовало о влиянии Парижа, от которого уже с давних пор не свободны рейнские области. Зато мы поинтересовались загородным герцогским погребом, весьма обширным и уставленным большими, крепко сколоченными бочками. Продвигаясь дальше, мы убедились, что этот край напоминает Саарбрюккен: редкие деревни среди диких и суровых гор; здесь отвыкаешь от вида хлебных полей. Стороною проехав Горнбах, мы поднялись к Бичу, стоящему у важного водораздела, откуда одни воды устремляются к Саару, другие к Рейну; вдоль этих последних нам вскоре и пришлось держать путь. Все же мы не могли отказать себе в удовольствии осмотреть городок Бич, живописно опоясывающий гору, и крепость, вознесенную над ним. Она частично построена на скалах, частично вырублена в них. В ней более всего поразительны подземные помещения, в которых не только достаточно места для множества людей и скота, но имеется даже экзерцир-зал, мельница, часовня и все, что еще может понадобиться под землей, когда на поверхности станет неспокойно.
Спускаясь вниз по течению ручьев, мы миновали Медвежью долину. Густые леса на возвышенностях по обеим ее сторонам стоят нетронутыми. Тысячами валятся здесь гниющие стволы, и молодая поросль буйно пробивается меж своих полумертвых предшественников. Здесь от наших проводников мы вновь услыхали имя фон Дитриха, не раз уже почтительно произносившееся в этих лесных краях. Трудолюбие и деловитость этого человека, его богатство и то, как он умел им распорядиться, — все сходилось одно к одному; он по праву мог наслаждаться приобретенным, ибо приумножил его, и пользоваться плодами своих заслуг, ибо умел их упрочить. Чем больше узнавал я свет, тем с большим уважением относился наряду с именами, повсеместно прославленными, к таким, которые с почтением и любовью произносятся в том или ином краю. После недолгих расспросов я узнал, что фон Дитрих раньше других использовал горные богатства — железо, уголь, лес — и трудом своим мало-помалу достиг все возрастающего благосостояния.
Нидербронн, через который мы проезжали, служил тому еще одним доказательством. Фон Дитрих откупил это местечко у графа фон Лейнингена и других совладельцев, чтобы поставить железоделательные заводы.
Здесь, возле купален, построенных еще римлянами, на меня повеяло духом древности; благородные обломки ее в виде барельефов и надписей, остовов колонн и капителей то и дело встречались мне на крестьянских дворах, среди груд различного хлама и сельскохозяйственной утвари.
Когда же мы поднялись к Вазенбургу, вздымающемуся на крутом скалистом массиве, который служит подножием одному крылу замка, я с благоговением прочитал хорошо сохранившуюся надпись — благодарственный обет Меркурию. Самая крепость стоит на горе, последней от Бича, дальше уже начинается равнина. Собственно, это руины немецкого замка, построенного на развалинах римской крепости. С башни мы еще раз окинули взглядом весь Эльзас и по шпилю собора ясно различили местонахождение Страсбурга. Вблизи от нас начинался Гагенауский лес, за которым отчетливо вырисовывались башни этого города. Туда меня и потянуло. Мы проехали через Рейхсгофен, где фон Дитрих воздвиг довольно внушительный замок; с холмов Нидермодерна полюбовались прелестными извивами речушки Модер, текущей вдоль Гагенауского леса, и я, оставив своего друга у входа в до смешного маленькие каменноугольные копи, поскакал через Гагенау по дорогам, которые мне указывала любовь, в милый моему сердцу Зезенгейм.
И уж никакие виды дикого горного края и сменяющей его приветливой, зеленой, благодатной долины не могли привлечь моего внутреннего взора, прикованного к волнующему и влекущему меня существу. Путь туда и на сей раз показался мне пленительнее, нежели путь оттуда, ибо он приближал меня к девушке, которой я был предан душой и телом и которая равно заслуживала любви и уважения. Но прежде чем ввести благосклонного читателя в ее сельскую обитель, да будет мне позволено упомянуть об одном обстоятельстве, немало возвысившем и оживившем мою сердечную склонность и еще приумножившем удовлетворение, которое она мне давала.
Сколь сильно я отстал от новейшей литературы, нетрудно заключить по моему образу жизни во Франкфурте и по занятиям, которым я посвятил себя там; пребывание в Страсбурге тоже мало поощряло меня к чтению. Но вот явился Гердер не только со своими обширными знаниями, но и с грудой всевозможных пособий и новейших книг. Из последних он особенно расхваливал «Векфильдского священника» и решил вслух прочитать нам немецкий перевод этого романа.
Манера Гердерова чтения была весьма своеобразна; тому, кто слышал его проповеди, нетрудно ее себе представить. Он все преподносил серьезно и просто, в том числе и это произведение. Чуждый каких бы то ни было декламационно-мимических приемов, он избегал даже того разнообразия, которое при эпическом изложении не только дозволено, но и желательно, — того самомалейшего изменения интонаций в разговорах различных персонажей, которым оттеняются слова каждого и действующие лица отделяются от рассказчика. Не впадая в монотонность, Гердер все читал в одной интонации, как бы не в настоящем времени, а исторически — словно тени поэтических существ не оживали перед ним, а лишь скользили в отдалении. И все же в его устах такая манера чтения была исполнена бесконечного очарования; он чувствовал все до самой глубины и так умел ценить все детали произведения, что достоинства его выступали во всей своей чистоте и тем более отчетливо, что резко подчеркнутые частности не дробили впечатление, которое целое должно было производить на слушателя.
Протестантский сельский священник, пожалуй, самый подходящий персонаж для современной идиллии; подобно Мелхиседеку, он жрец и царь в одном лице. Занятия и семейные отношения связывают его с невиннейшим в мире трудом — трудом земледельца; он отец, хозяин, селянин и потому подлинный член общины. На такой чистой, прекрасной, земной основе покоится его высшее призвание; ему препоручено вводить людей в жизнь, он заботится об их духовном воспитании, благословляет в важнейшие мгновения бытия, поучает, укрепляет их дух, а когда нельзя сыскать утешения в настоящем, пробуждает в них надежды на лучшее будущее. Представьте же себе такого человека, исполненного человеколюбивых убеждений, достаточно сильного, чтобы ни при каких обстоятельствах не отступать от них, и этим уже возвышающегося над толпой, от которой не приходится ждать ни чистоты, ни твердости; дайте ему знания, необходимые для его сана, а также светлую ровную деятельность, пусть не чуждую страстей, но при любых обстоятельствах направленную на добро, — и образ его завершен. В то же время надо присоединить сюда и необходимую ограниченность, дабы он не только оставался в своем узком кругу, но иной раз переходил бы и в еще более узкий: сообщите ему добродушие, незлобивость, стойкость и все те похвальные качества, что вытекают из решительного характера, да еще миролюбивую уступчивость и ласковую снисходительность к своим и чужим недостаткам, и вы получите более или менее точный портрет нашего славного векфильдского священника.
Изображение такого человека, проходящего на своем жизненном пути через радости и страдания, сюжетный интерес, все время нарастающий благодаря сочетанию естественного с причудливым и необычным, делают «Векфильдского священника» одним из лучших романов, когда-либо написанных. К тому же это роман высоконравственный, в чистейшем смысле слова христианский; трактуя о торжестве доброй воли и стойкости в правом деле, он подтверждает необходимость уповать на бога, заставляет верить в конечное торжество добра над злом — и все это без тени ханжества или педантизма. От этих опасностей автора уберег его высокий ум, сплошь да рядом сказывающийся в иронии, отчего это небольшое произведение становится столь же мудрым, сколь и обаятельным. Доктор Гольдсмит, автор «Векфильдского священника», без сомнения, отлично разбирается в людях, во всех их положительных и отрицательных сторонах; при этом ему остается лишь радоваться, что он англичанин, и высоко ценить преимущества, которые ему дали его страна и нация. Семья, им изображаемая, стоит на низшей ступени буржуазного благополучия, но соприкасается и с несравненно выше поставленными семействами; ее узкий круг, впоследствии еще более суженный, благодаря семейным и общественным обстоятельствам, вводит нас и в большой свет. Этот маленький челн плавает по широким подвижным волнам английской жизни и как в радости, так и в горе вправе ожидать либо беды, либо помощи от огромного флота, бороздящего те же воды.
Я полагаю, что мои читатели знают и помнят этот роман; но те, кто сейчас впервые слышит о нем, или те, кого мне удастся побудить вновь перечитать его, без сомнения, будут мне благодарны. Я только мимоходом напомню, что жена сельского священника, работящая, славная женщина, непрестанно заботится о достатке своем и своих близких, почему у нее и сложилось о себе и своих близких несколько преувеличенное мнение. Две дочери: Оливия, красавица, интересующаяся скорее внешней стороной жизни, и прелестная София — с душою более глубокой; упомянем еще и о прилежном, несколько, правда, грубоватом сыне Моисее, ревностно следующем по стопам отца.
Если и можно было к чему-нибудь придраться в Гердеровой манере читать, то только к его нетерпению; не дожидаясь, когда слушатель поймет и усвоит какую-то часть повествования, чтобы правильно ее прочувствовать и продумать, он хотел без промедления видеть ее воздействие, видя же таковое, сердился. Он порицал избыток чувств, мало-помалу меня охватывавших. Я воспринимал роман как человек, и человек молодой; для меня все было живо, подлинно, все как бы разыгрывалось перед моими глазами. Гердер, обращавший внимание только на содержание и форму, видел, что я во власти фабулы, и не желал этого допускать. Еще бо́льший гнев вызывали у него рассуждения Пегелова, правда, отнюдь не самые тонкие. Особенно же он разозлился на нас за недостаточную проницательность: мы не предвидели заранее контрастов и, растроганные и увлеченные, не замечали этого, не раз повторенного, художественного приема. Он также не мог простить нам, что поначалу, когда Берчел, перейдя в своем рассказе с третьего лица на первое, едва не выдает себя, мы не догадались или хотя бы не заподозрили, что лорд, о котором он говорит, и есть он сам: а когда под конец мы по-детски радовались, что бедный, жалкий странник превратился в богатого и могущественного господина, он снова вернулся к тому месту, где мы, согласно замыслу автора, ничего не должны были заметить, и учинил нам разнос за нашу тупость. Из этого видно, что Гердер рассматривал роман лишь как произведение искусства и того же требовал от нас, хотя мы пребывали еще в той стадии, когда позволительно, чтобы произведения искусства воздействовали на тебя, как подлинные события.
Впрочем, нападки Гердера нимало меня не смутили: ведь молодые люди обладают способностью, счастливой или несчастной, тотчас перерабатывать в себе все воспринятое, и из этой способности возникает много как хорошего, так и дурного. Этот роман произвел на меня сильнейшее впечатление, в котором я еще не успел отдать себе отчета; но все же я сочувствовал ироническому складу мыслей, который, возвышаясь над действительностью, над счастьем и несчастьем, над добром и злом, над жизнью и смертью, таким образом полностью овладевает поэтическим миром. Правда, все это лишь позднее дошло до моего сознания, но, так или иначе, я был сильно взволнован и, уж конечно, никак не ожидал, что из вымышленного мира я вскоре окажусь перенесенным в похожий, но действительный мир.
Мой сотрапезник Вейланд, уроженец Эльзаса, время от времени разнообразивший свою тихую, трудолюбивую жизнь посещением друзей и родных в этом краю, оказывал мне немалые услуги во время моих странствий, знакомя меня с различными местностями и семействами либо снабжая рекомендательными письмами. Он не раз принимался рассказывать мне о некоем сельском пасторе, живущем неподалеку от Друзенгейма, в шести часах езды от Страсбурга, о его богатом приходе, разумной жене и двух премилых дочерях, При этом он всегда прославлял гостеприимство и уют пасторского дома. А большего и не требовалось, чтобы пробудить любопытство молодого человека, привыкшего все досужие дни и часы проводить в седле на вольном воздухе. Итак, мы решили предпринять эту поездку, причем было условлено, что, представляя меня, мой друг не скажет обо мне ни хорошего, ни худого, вообще отнесется ко мне безразлично и даже позволит мне явиться одетым если не плохо, то, во всяком случае, скромно и небрежно. Он на все это согласился в надежде немало позабавиться.
Значительному человеку нельзя поставить в укор, если при случае ему вздумается утаить свои внешние преимущества и, таким образом, дать более ясное выражение своей внутренней человеческой сущности; поэтому инкогнито монархов и проистекающие отсюда приключения всегда привлекательны: на землю нисходят переодетые боги, которым нетрудно вдвойне оценить оказанное им добро и легко отнестись к неприятностям, а то и вовсе пренебречь ими. Вполне понятно, что Юпитер остался доволен своим посещением Филемона и Бавкиды, а Генриху Четвертому нравилось после охоты инкогнито беседовать со своими крестьянами, но если молодой человек, не имеющий ни положения, ни имени, решает извлечь удовольствие из инкогнито, то это, пожалуй, может быть сочтено за непростительное высокомерие. Но поскольку здесь речь идет не о хороших или дурных поступках, а лишь о том, во что они вылились, то в интересах нашего рассказа простим юноше его самомнение, тем паче что я с юных лет питал любовь к переодеванию, и внушил мне эту страсть не кто иной, как мой строгий отец.
Так и на сей раз, сделав необычную прическу, я, с помощью своей старой одежды, а также одолженной для этого случая чужой, настолько изменил свою внешность, что мой друг всю дорогу покатывался со смеху. К тому же я в совершенстве умел копировать все повадки и движения тех горе-ездоков, которых называют «латинскими всадниками». Отличное шоссе, великолепная погода и близость Рейна привели нас в наилучшее расположение духа. В Друзенгейме мы немного задержались: он — чтобы прихорошиться, я — чтобы получше затвердить свою роль, так как боялся неожиданно выйти из нее. Местность здесь такая же открытая и ровная, как повсюду в Эльзасе. Проехав по прелестной луговой дороге, мы вскоре достигли Зезенгейма, оставили лошадей в харчевне и поспешно направились к пасторскому двору. «Ты не смотри, — сказал Вейланд, издали показывая мне на дом, — что он похож на старый, обветшалый крестьянский двор; тем больше молодости внутри». Мы вошли в ворота; мне все очень понравилось: здесь соприсутствовало то, что принято называть живописным и что так очаровывало меня в нидерландском искусстве. Очень заметно было воздействие времени на создания рук человеческих. Дом, амбар и конюшня находились в том состоянии запущенности, когда хозяева, колеблясь, приступать ли к ремонту или строиться заново, в конце концов не делают ни того, ни другого.
В деревне и на дворе было тихо и безлюдно. Мы застали отца, маленького, серьезного, но добродушного человека, в полном одиночестве: вся семья была на поле. Он приветствовал нас и предложил закусить с дороги, но мы отказались. Мой друг пошел разыскивать дам, я остался один с хозяином. «Вы, наверное, удивляетесь, — сказал он, — что в богатой деревне и при доходном месте у меня такое плохое жилище, но это происходит от нерешительности. Община и даже высшее начальство уже давно обещали мне новый дом; немало чертежей было сделано, просмотрено, исправлено, ни один не был отвергнут, и ни один не был осуществлен. Все это продолжается столько лет, что я уже потерял терпение». Я учтиво отвечал, желая поддержать в нем надежду и ободрить его, что ему следует быть настойчивее. Он продолжал доверительно описывать мне лиц, от которых это зависело, и, хотя не был большим мастером в изображении характеров, я все же отлично понял, почему дело застопорилось. В его доверчивости было нечто весьма своеобразное; он говорил так, словно знал меня уже с добрый десяток лет, и в то же время во взгляде его не было ничего, свидетельствующего о том, что он ко мне присматривается. Наконец вошел мой друг вместе с хозяйкой дома. Она совсем по-иному на меня посмотрела. У нее было правильное и умное лицо, в молодости, вероятно, очень красивое. Высокая и худощавая в той мере, в какой это подобало ее летам, она со спины выглядела еще совсем молодой и стройной. Вслед за нею в комнату резво вбежала старшая дочь; так же как ее мать и мой приятель, она первым делом спросила, где Фридерика. Отец отвечал, что не видел ее с тех пор, как они ушли все трое. Тогда она снова убежала искать сестру. Мать принесла угощение, и Вейланд вступил с супругами в беседу, касавшуюся только им известных лиц и обстоятельств, как это обычно бывает, когда знакомые, сойдясь после разлуки, осведомляются об общих друзьях и приятелях и сообщают друг другу всевозможные новости. Я внимательно прислушивался, желая узнать, что меня ожидает в этом кругу.
Старшая дочь опять торопливо вошла в комнату, обеспокоенная тем, что не нашла сестру. Все встревожились и принялись бранить младшую за дурную привычку исчезать, только отец невозмутимо сказал: «Оставьте ее в покое, никуда она не денется». В ту же минуту она и вправду показалась в дверях, точно на этом сельском небе взошла прелестнейшая звезда. Обе сестры еще одевались «по-немецки», как тогда говорили, и этот уже почти исчезнувший национальный костюм чудо как шел к Фридерике. Пышная и короткая белая юбочка с фалбалой, почти до щиколотки открывавшая очаровательнейшие ножки; узкий белый лиф и черный тафтяной передник — полубарышня, полукрестьянка. Стройная и легкая, она двигалась, словно не имея веса, и две толстые белокурые косы, ниспадавшие с изящной головки, казались слишком тяжелыми для ее шейки. Ее блестящие голубые глаза смело смотрели на мир; хорошенький вздернутый носик так живо и мило втягивал воздух, словно не существовало на свете никаких забот. На руке у нее висела соломенная шляпа. Итак, я имел счастье с первого же взгляда охватить и познать всю ее ласковую прелесть.
Я начал разыгрывать свою роль, впрочем, умеренно, несколько пристыженный тем, что приходится дурачить столь добрых людей, которых я и теперь мог наблюдать со стороны, ибо девушки живо и весело подхватили начатый разговор. Они еще раз перебрали всех соседей, всех родственников, и моему воображению явилась такая тьма дядьев, теток, кузенов, кузин, приезжающих, уезжающих, кумовьев и гостей, что я почувствовал себя живущим в необычайно многолюдном мире. Все члены семьи перемолвились со мною хотя бы несколькими словами, мать, входя и уходя, каждый раз пристально на меня взглядывала. Фридерика первая завязала со мной разговор; заметив, что я перебираю лежавшие подле меня ноты, она осведомилась, не играю ли я. Получив утвердительный ответ, она предложила мне показать свое искусство, но отец не позволил мне это сделать, заметив, что сначала следует самим почтить гостя исполнением какой-нибудь пьесы или песни.
Она сыграла несколько вещиц, не без бойкости, как обычно играют сельские барышни, на клавесине, который школьный учитель уже давно собирался настроить, да все откладывал за недосугом. Потом запела какую-то нежно-грустную песенку, но это ей уже совсем не удалось. Она встала и, улыбаясь, вернее, сохраняя на лице все то же беспечное, радостное выражение, сказала: «Если я скверно пою, то вину за это уж никак не свалишь ни на клавесин, ни на школьного учителя; пойдемте на воздух, я вам спою эльзасские и швейцарские песенки, это будет куда лучше».
За ужином меня так занимала мысль, уже раньше пришедшая мне на ум, что я сделался задумчив и молчалив, хотя живость старшей сестры и прелесть младшей достаточно часто отвлекали меня от размышлений. Я не переставал дивиться, что вот передо мною, как живая, семья векфильдского священника. Отец, правда, не шел ни в какое сравнение с тем превосходным человеком, но где сыскать ему равного? Все достоинство, в романе присущее мужу, здесь олицетворялось женой. Достаточно было увидеть ее, чтобы проникнуться уважением и даже известной робостью. В ней были все признаки хорошего воспитания, она держалась покойно, вольно, весело и приветливо.
Старшая дочь, пусть не отличавшаяся прославленной красотой Оливии, была стройной, живой и несколько порывистой; всегда деятельная, она являлась правой рукой матери. Поставить Фридерику на место Софии Примроз было нетрудно: о последней сказано мало, разве только, что она обворожительна; обворожительной была и Фридерика. Поскольку одни и те же занятия, одни и те же условия, повторяясь, приводят к сходным, если не одинаковым, положениям, то здесь говорилось и даже происходило многое из того, что говорилось и происходило в семье векфильдского священника. Когда же под конец в комнату вбежал и смело подсел к нам, не обращая внимания на гостей, младший сын, уже давно упоминавшийся в разговоре и нетерпеливо поджидаемый отцом, я едва удержался, чтобы не воскликнуть: «И ты здесь, Моисей!»
В застольной беседе этот сельский и семейный круг расширился, ибо разговор касался разных забавных происшествий, случившихся то с одним, то с другим соседом. Фридерика, сидевшая рядом со мной, воспользовавшись случаем, описала мне различные места, в которых стоило побывать. Поскольку один рассказ всегда вызывает другой, то я без труда вмешался в разговор и рассказал о сходных происшествиях, а так как мы при этом не жалели отличного местного вина, мне, естественно, грозила опасность выйти из роли. Посему мой более благоразумный друг, сославшись на прекрасную лунную ночь, предложил отправиться на прогулку, и его предложение было тотчас же принято. Он подал руку старшей сестре, я — младшей, и так мы шли по бескрайним полям, разговаривая больше о небе, чем об уходившей в необозримую даль земле. Впрочем, в речах Фридерики не было ничего мечтательно-лунного: слова ее были так ясны, что ночь превращалась в день, и ничто в них не свидетельствовало о чувстве, ничто не взывало к нему; только то, что она рассказывала, теперь больше относилось ко мне, ибо местную жизнь, селенья, знакомых она описывала с той стороны, с которой мне предстояло узнать их. Ведь она надеется, добавила Фридерика, что я не составлю исключения и вновь навещу их, как это делает всякий, кто однажды гостил в Зезенгейме.
Мне было очень приятно молча выслушивать описания мирка, в котором она вращалась, и людей, особенно ею ценимых. Таким образом она помогла мне составить ясное и весьма привлекательное представление об ее жизни, очень странно на меня подействовавшее: я вдруг ощутил глубокую досаду, что раньше не жил подле нее, и в то же время мучительную зависть ко всем счастливцам, ее окружавшим. Я тут же начал со вниманием прислушиваться, словно имел на то право, к ее описаниям мужчин, которые фигурировали под именами соседей, родственников или кумовьев, и предположения мои устремлялись то в одну, то в другую сторону, но что мог я узнать при полном неведении относительно всего, что было близко ей? Постепенно она становилась все словоохотливее, я же все молчаливее. Хорошо было внимать ей, а так как я только слышал ее голос, лицо же ее, как и весь остальной мир, было скрыто сумраком, то мне казалось, что я смотрю ей прямо в сердце, верно, очень чистое, если оно открывалось в такой непринужденной болтовне.
Когда мой спутник и я удалились в отведенную нам комнату, он тотчас же начал рассыпаться в самодовольных шутках, в восторге от того, что поразил меня сходством наших хозяев с семейством Примроз. Я поддакивал ему и благодарил. «Право же, — воскликнул он, — здесь все сошлось! Эта семья удивительно похожа на ту, остается только, чтобы некий замаскированный молодой человек взял на себя роль господина Берчела; а поскольку в обыденной жизни злодеи не так необходимы, как в романах, то я, хоть и удовольствуюсь ролью племянника, но буду вести себя лучше». Я тотчас же прекратил этот разговор, как ни приятно мне было его вести, и стал допытываться, не выдал ли он меня. Он клялся, что нет, и я был вынужден ему поверить. Напротив, продолжал он, они расспрашивали его о веселом приятеле, столовавшемся с ним в одном пансионе в Страсбурге, о котором наслышались пропасть всяких историй. Я перешел к другим вопросам: любила ли она? Любит ли? Не обручена ли уже? Он на все отвечал отрицательно. «Право же, — сказал я, — я не верю в такую врожденную веселость. Ежели бы она любила и претерпела горе и вновь утешилась или была бы невестой, в том и другом случае это было бы понятней».
Так мы проболтали до глубокой ночи, а с рассветом я уже был на ногах. Неодолимое желание вновь увидеть ее овладело мною, но, начав одеваться, я пришел в ужас от проклятого костюма, который так легкомысленно выискал для себя. С каждой надетой на себя вещью я приобретал все более гнусный вид: ведь все и было рассчитано именно на такой эффект. С волосами я бы еще кое-как справился, но когда я напялил поношенный серый сюртук с чужого плеча и его короткие рукава сделали меня совершенно комической фигурой, я просто впал в отчаяние, еще возросшее оттого, что в маленьком зеркале видел себя только по частям и одна часть была нелепее другой.
В то время как я совершал свой туалет, мой друг проснулся и с довольным видом человека, не чувствующего укоров совести и предвкушающего приятный день, поглядывал на меня из-под стеганого шелкового одеяла. Я уже давно исходил завистью к его изящному костюму, который висел на стуле, и, будь он одного со мной роста, я бы унес у него из-под носа это платье, переоделся бы где-нибудь и поспешил в сад, оставив ему мою проклятую оболочку; у него хватило бы добродушия одеться в мой наряд, и рано утром вся история с переодеванием разрешилась бы веселым смехом. Но об этом нечего было и мечтать, так же как о чьем-либо спасительном посредничестве. Предстать перед Фридерикой в том обличье, которое позволяло моему другу выдавать меня пусть за усердного и расторопного, но бедного студиозуса-богослова, после того как вчера вечером она так дружелюбно говорила с моим ряженым «я», — нет, это было невозможно! Обозленный, я стоял в раздумье, призывая на помощь всю свою изобретательность, но она покинула меня. Однако, когда мой приятель, который, нежась в постели, не спускал с меня глаз, вдруг разразился громким хохотом и воскликнул: «Право же, ты чертовски смешон!» — я тотчас закричал: «Теперь я знаю, что делать, прощай и принеси мои извинения хозяевам!» — «Ты с ума сошел!» — крикнул он и вскочил, чтобы удержать меня. Но я уже выбежал за дверь, стремглав спустился по лестнице и, промчавшись через дом и двор, ринулся к харчевне. В мгновенье ока лошадь моя была оседлана, и я, вне себя от досады, галопом поскакал к Друзенгейму, миновал его и понесся дальше.
Здесь, считая себя наконец в безопасности, я пустил коня шагом и вдруг почувствовал, как бесконечно больно мне было удаляться от тех мест. Но я покорился судьбе и спокойно воссоздал в своем воображении вчерашнюю прогулку, лелея надежду вскоре снова свидеться с Фридерикой. Однако это тихое чувство тут же опять превратилось в нетерпение, и я решил поскорее поехать в город, переодеться и раздобыть себе другую хорошую лошадь; тогда, — во всяком случае, в пылу это так представлялось мне, — я смогу еще до обеда или, вернее, под вечер, но еще до ужина воротиться и испросить себе прощение.
Только что я хотел пришпорить лошадь, чтобы осуществить свое намерение, как меня осенила новая, на мой взгляд, весьма удачная мысль. Еще вчера на друзенгеймском постоялом дворе я приметил очень чисто одетого хозяйского сына, который и сегодня поутру, занятый какими-то хозяйственными хлопотами, приветливо кивнул мне. Он был одного роста со мной и при беглом взгляде чем-то напомнил мне меня самого. Задумано — сделано. Я поворотил лошадь и вмиг очутился в Друзенгейме; поставив ее в конюшню, я без всяких околичностей попросил парня одолжить мне свое платье, сказав, что хочу, мол, устроить веселую шутку в Зезенгейме. Я не успел и договорить, как он согласился, похвалив меня вдобавок за намерение позабавить тамошних барышень: такие они славные и добрые, особенно мамзель Рикхен, да и родители любят, чтобы все вокруг были веселы и довольны. Он внимательно посмотрел на меня и, по моему виду рассудив, что я человек бедный, сказал: «Ежели вы хотите понравиться, то это самое верное дело». Тем временем мы уже почти переоделись; собственно, ему не следовало отдавать мне свое праздничное платье в обмен на мое, но он был доверчив, да к тому же в конюшне оставалась моя лошадь. Через минуту я уже щеголял в новом наряде, и мой приятель с удовольствием разглядывал своего двойника. «Черт возьми, братец, — сказал он, протягивая мне руку, которую я с удовольствием пожал, — смотри не попадайся на глаза моей девушке, а то она, чего доброго, перепутает нас».
Волосы мои за последнее время отросли, и я мог причесать их на его манер; вглядевшись попристальнее в хозяйского сына, я решил для пущей забавы подвести жженой пробкой брови, наподобие его, более густых, и ближе соединить их над переносицей, чтобы вдобавок к моему загадочному предприятию придать себе еще и загадочный вид. «Нет ли у вас какого-нибудь поручения в пасторский дом, — спросил я, принимая у него из рук шляпу с лентами, — чтобы мне было зачем туда явиться?» — «Ладно, — отвечал он, — но тогда вам придется часа два подождать. У нас тут есть родильница, я вызовусь доставить пирог госпоже пасторше, а отнесете его вы. Тому уж не до спеси, кто повеселиться захотел». Я решил подождать, но эти два часа показались мне нескончаемыми, я уже изнывал от нетерпения, когда на исходе третьего пирог был наконец извлечен из печи. Мне вручили его еще совсем горячим, и, держа в руках эту верительную грамоту, в сиянии солнечного дня я двинулся в Зезенгейм; часть пути меня провожал мой двойник, пообещавший вечером тоже прийти туда и принести мне мое платье, но я поспешил отклонить это предложение, заверив, что сам доставлю ему его костюм.
Я недалеко ушел со своей ношей, завязанной в чистую салфетку, когда вдали показались мой друг и обе девушки; они шли мне навстречу. Сердце мое сжалось сильнее, чем ему полагалось сжиматься под этой курткой. Я остановился и перевел дыханье, обдумывая, как мне вести себя; тут я заметил, что местность мне благоприятствует — они шли по другой стороне ручья, который, точно так же как и луг, где он протекал, разделял наши дороги. Когда они оказались напротив, Фридерика, еще издали меня заметившая, крикнула: «Георг, что ты несешь?» Сообразив прикрыть лицо шляпой, которую я снял для приветствия, я высоко поднял свой узелок. «Крестильный пирог! — воскликнула она в ответ. — Как здоровье твоей сестры?» — «Непло-охо», — отвечал я, стараясь говорить хоть и не по-эльзасски, но все же на чужеземный лад. «Снеси его к нам домой, — сказала старшая сестра, — и если не застанешь матери, отдай служанке; да подожди нас, мы скоро вернемся, слышишь!» Я торопливо пошел своей дорогой, окрыленный надеждой, что все сойдет хорошо, раз начало было так удачно, и вскоре достиг пасторского дома. Ни в доме, ни на кухне никого не было, мне не хотелось беспокоить хозяина, который, как я полагал, работал в своем кабинете, и потому я уселся, поставив пирог рядом с собой, на скамейке возле двери и надвинул шляпу на глаза.
Я не припоминаю ощущения более приятного: сидеть здесь на пороге, через который я еще так недавно выбежал в отчаянии! Опять видеть ее, опять слышать ее милый голос вскоре после того, как мое мрачное настроение предрекало нам долгую разлуку! Каждую минуту ожидать ее и ожидать разоблачения, при мысли о котором у меня колотилось сердце, хотя в этом двусмысленном случае разоблачение меня и не позорило: ведь я ознаменовал начало знакомства шуткой куда более веселой, чем те, над которыми мы смеялись вчера. Любовь и нужда — лучшие учителя, а на сей раз они действовали заодно, и ученик не был их недостоин.
Но вот служанка показалась у амбара. «Ну что, удались пироги? — крикнула она мне. — Как здоровье сестры?» — «Все благополучно», — отвечал я, указывая на пирог и не поднимая глаз. Она взяла салфетку и пробурчала: «Что это ты какой сегодня? Верно, опять Бербхен загляделась на другого? А мы за нее платись. Хороший это будет брак, если и дальше так пойдет!» Она говорила достаточно громко, пастор подошел к окну и спросил, в чем дело. Она указала на меня, я встал и оборотился к нему, по-прежнему прикрывая лицо шляпой. После того как он, сказав мне несколько ласковых слов, пригласил меня остаться, я направился в сад, но столкнулся с пасторшей, в эту минуту входившей в ворота; она меня окликнула. Солнце светило мне прямо в глаза, а потому я опять извлек пользу из своей шляпы и, расшаркавшись, приветствовал ее, она направилась к дому, прося меня не уходить, хоть слегка не перекусив. Я принялся шагать взад и вперед по саду; до сих пор все сходило благополучно, но у меня все же замирало сердце при мысли, что молодые люди вот-вот будут здесь. Неожиданно ко мне подошла зачем-то вернувшаяся пасторша и, намереваясь задать мне какой-то вопрос, заглянула мне в лицо; я уже не мог его спрятать, и слова замерли у нее на устах. «Я искала Георга, — сказала она после минутного молчания, — а нашла вот кого! Вы ли это, молодой человек? Сколько же у вас обличий?» — «Всерьез лишь одно, — отвечал я, — а в шутку сколько угодно». — «Шутки я вам портить не стану, — улыбнулась она, — отправляйтесь-ка на лужок за садом и приходите обратно, когда пробьет двенадцать, а я уж помогу вашей затее». Я повиновался, но только что я оставил позади изгороди деревенских садов и подошел к лугу, как на дороге показалось несколько крестьян — обстоятельство, повергшее меня в смущение. Я свернул в рощицу на ближайшем пригорке, чтобы схорониться в ней до условленного часа. Но как же я был удивлен, когда моему взору представилась расчищенная площадка со скамейками, поставленными так, что с каждой открывался красивый вид на окрестности. Здесь виднелась деревня с колокольней, там Друзенгейм и позади него лесистые рейнские острова, напротив Вогезы и, наконец, Страсбургский собор. Все эти напоенные простором картины были заключены в рамки кустов, так что невозможно было себе представить ничего более отрадного и ласкающего взор. Я опустился на первую же скамейку и на толстом стволе одного из деревьев заметил маленькую продолговатую дощечку с надписью: «Покой Фридерики». Мне и в голову не пришло, что я, быть может, явился сюда этот покой нарушить. В зарождающейся страсти то и хорошо, что она одинаково не сознает своего возникновения и не помышляет о конце; радостная и светлая, она не чует, что может породить беду.
Не успел я, оглядевшись, предаться сладостным грезам, как послышались чьи-то шаги; это была сама Фридерика. «Георг, что ты здесь делаешь?» — еще издали крикнула она. «Я не Георг, — отвечал я и побежал ей навстречу, — но тот, кто тысячу раз умоляет вас о прощении». В изумлении она попятилась, но сейчас же овладела собой и с глубоким вздохом проговорила: «Гадкий человек, как вы меня напугали». — «Один маскарад принудил меня прибегнуть к другому, — воскликнул я, — и первый был бы непростителен, если бы я хоть сколько-нибудь знал, к кому я еду; а за второй вы меня простите хотя бы уже потому, что я принял образ человека, к которому вы так дружески расположены». Ее побледневшие щеки окрасились прелестнейшим румянцем. «Я не обойдусь с вами хуже, чем с Георгом. Но сядемте. У меня ноги подкашиваются от испуга». Я подсел к ней, крайне взволнованный. «От вашего друга мы уже знаем все, что произошло до сегодняшнего утра, — сказала она, — а теперь расскажите дальнейшее». Не заставив ее дважды просить, я описал свое отвращенье к моему вчерашнему обличью и мое бегство из их дома в столь комических тонах, что она премило и превесело рассмеялась; затем я рассказал все прочее с подобающей скромностью, но достаточно взволнованно, чтобы это могло сойти за любовное объяснение в исторической форме. Радость нового свидания я ознаменовал поцелуем, запечатленным на ее руке, которую она задержала в моих. Если вчера, когда мы гуляли при луне, говорить пришлось только ей, то сегодня я щедро оплатил этот долг. Радость вновь ее видеть, высказывать ей все, что я вчера таил про себя, была так велика, что я в своей болтливости не заметил, как она сделалась задумчива и молчалива. Она несколько раз глубоко вздохнула, а я вновь и вновь просил у нее прощения за причиненный испуг. Сколько времени мы просидели так — не знаю, но вдруг до нас донеслось: «Рикхен! Рикхен!» Это был голос ее сестры. «То-то будет история, — произнесла Фридерика, вновь обретая всю свою веселость. — Она подойдет с моей стороны, — добавила она и наклонилась, заслоняя меня собой. — Отвернитесь, чтобы она вас не сразу узнала». Сестра вышла на площадку, но не одна, а с Вейландом, и оба, завидев нас, остановились как вкопанные.
Внезапно заметив пламя, с силой вырвавшееся из-под крыши мирного дома, или столкнувшись с чудищем, чье уродство в одинаковой мере возмущает и пугает нас, мы не испытываем большего ужаса, чем ужас, охватывающий нас при виде того, что мы в душе считали невозможным. «Что это значит? — в испуге вскричала сестра. — Что это? Ты с Георгом? Рука в руку? Как это понять?» — «Милая моя, — с серьезной миной отвечала Фридерика, — этот бедняга просит у меня прощения за один проступок, он будет и тебя просить о том же, но ты должна наперед простить его». — «Ничего не понимаю, ровно ничего не понимаю», — произнесла сестра, качая головой, и взглянула на Вейланда, который, будучи человеком уравновешенным, стоял совершенно спокойно, молча созерцая эту сцену. Фридерика поднялась, увлекая и меня за собой. «Нечего медлить! — воскликнула она. — Просите прощения и получайте его!» — «О да, — произнес я, приближаясь к старшей сестре, — прощение мне крайне необходимо!» Та отшатнулась, вскрикнула во весь голос, и лицо ее залилось краской, потом она бросилась на траву, громко смеясь и не имея сил остановиться. Вейланд тоже рассмеялся, с довольным видом прибавив: «Ты отличный малый!» — и от души потряс мне руку. Обычно он был не очень-то щедр на ласки, но на сей раз в его рукопожатии чувствовались теплота и ободрение, тоже, впрочем, весьма сдержанные.
Немного передохнув и придя в себя, мы двинулись обратно в деревню. По дороге я узнал, как произошла эта чудесная встреча. Под конец прогулки Фридерика оставила сестру и Вейланда вдвоем, чтобы до обеда посидеть несколько минут в своем любимом уголке; когда же те явились домой, мать спешно послала их за Фридерикой, так как обед был уже готов.
Старшая сестра шумно веселилась и, узнав, что мать уже проникла в тайну, воскликнула: «Теперь еще остается провести отца, брата, работника и служанку». Когда мы уже подошли к калитке, было решено, что Фридерика с Вейландом отправятся вперед. Служанка работала в огороде, и Оливия (будем и здесь называть этим именем старшую сестру) крикнула ей: «Погоди минуточку, мне надо тебе кое-что сказать». Оставив меня возле изгороди, она шагнула к девушке. Я видел, что они серьезно что-то обсуждают. Оливия уверяла ее, что Георг поссорился с Бербхен и, видимо, не прочь жениться на ней. Девушке это пришлось по вкусу; меня подозвали, с тем чтобы я подтвердил сказанное. Деревенская красотка потупила взор и не поднимала его, покуда я почти вплотную не приблизился к ней. Вдруг увидев чужое лицо, она громко вскрикнула и пустилась наутек. Оливия велела мне бежать за нею и остановить ее, пока она не наделала шуму в доме, сама же пошла взглянуть, чем занят отец. По дороге Оливия встретила работника, весьма неравнодушного к служанке; я же тем временем догнал девушку и схватил ее за руку. «Подумай только, какая радость, — сказала Оливия парню, — дело с Бербхен расстроилось, и Георг женится на Лизе». — «Так я и знал», — отвечал добродушный малый и остановился в растерянности.
Я растолковал девушке, что мы хотим подшутить над хозяином. Мы с ней направились к парню, который попытался спастись бегством, но Лиза привела его обратно, и он, узнав, в чем дело, только недоуменно развел руками. Все вместе мы пошли к дому. Стол уже был накрыт, и отец сидел в столовой. Оливия, заслонив меня, встала на пороге и спросила. «Отец, ты ничего не будешь иметь против, если Георг сегодня пообедает с нами? Только позволь ему не снимать шляпы». — «Сделайте одолжение, — отвечал старик, — но почему такая странная просьба? Что он, расшибся, что ли?» Она подтолкнула меня вперед, и я стоял перед ним как был, в шляпе. «Нет, — отвечала Оливия, — но у него под шляпой целый выводок птиц; я боюсь, как бы они не вылетели и не наделали беды — это страшно резвые птицы». Отец посмеялся шутке, хотя и не понимал, к чему она. В то же мгновение Оливия стащила с меня шляпу, раскланялась и велела мне сделать то же самое. Старик посмотрел на меня, узнал, но не поколебался в своем пасторском спокойствии. «Ай, ай, господин кандидат! — только воскликнул он, грозя мне пальцем. — Вы быстро пересели в другое седло, а я за одну ночь потерял помощника, который еще вчера так услужливо предлагал иной раз произнести за меня еженедельную проповедь». Сказав это, он от души рассмеялся, и мы уселись за стол. Моисей пришел позже других; всеобщий баловень, он привык не слушать обеденного колокола. Кроме того, он вообще обращал мало внимания на окружающих, даже когда перечил им. Чтобы сразу не вызвать у него подозрений, меня посадили не между двух сестер, но на нижнем конце стола, где иногда сиживал Георг. Войдя в дверь позади меня, он сильно хлопнул меня по плечу и сказал: «Хлеб да соль, Георг!» — «Спасибо, барчук», — отвечал я. Чужой голос, чужое лицо испугали его. «Что скажешь, — воскликнула Оливия, — разве он не похож на своего брата?» — «Да, сзади, — отвечал мальчик, тотчас же овладевший собой, — как и на всех людей». Не обращая больше на меня ни малейшего внимания, он принялся уписывать кушанья, с которыми мы уже покончили. Время от времени, когда вздумается, он вставал и зачем-то выходил в сад и во двор. К концу обеда появился настоящий Георг и внес еще больше оживления в эту сцену. Чтобы возбудить его ревность, его стали уверять, что теперь он будет иметь во мне соперника. Но он был достаточно скромен и в то же время хитер. Ему удалось так бестолково смешать в одну кучу свою невесту, своего двойника и обеих барышень, что под конец никто уже не понимал, о ком идет речь, и ему предоставили возможность в спокойствии выпить стакан вина и съесть кусок его собственного пирога.
После обеда заговорили о прогулке; мне неловко было идти в крестьянском платье. Однако девушки, еще утром узнав, кто так поспешно сбежал от них, вспомнили, что в шкафу висит отличная бекеша одного родственника, которую он, бывая здесь, надевал на охоту. Я, однако, отклонил это предложение, внешне шутливо, внутренне же из тщеславного нежелания испортить в образе родственника то хорошее впечатление, которое я произвел в образе крестьянина. Отец удалился соснуть после обеда, мать, как всегда, была занята хозяйственными хлопотами. Мой друг предложил мне что-нибудь рассказать, и я тотчас же согласился. Мы перешли в просторную беседку, и там я рассказал сказку, впоследствии записанную мной под заглавием «Новая Мелузина». Она относится к «Новому Парису» приблизительно так, как юноша к мальчику, и я привел бы ее здесь, если бы не боялся причудливой игрой фантазии повредить той сельской простоте, которая столь пленительно нас здесь обступает. Короче говоря, я достиг всего, что вознаграждает авторов и рассказчиков подобных историй, — разжег любопытство, подстрекнул к желанию преждевременно разгадать непроницаемые тайны, обманул ожидания, сбил с толку слушателей благодаря подмене странного еще более странным, возбудил их страх и сострадание и, наконец, обратив внешнюю серьезность в остроумную и веселую шутку, умиротворил их дух и дал пищу воображению для новых картин, а уму — для дальнейших размышлений.
Если кто-нибудь, прочтя эту сказку напечатанной, усомнится в том, что она могла произвести такое впечатление, пусть вспомнит, что человек, собственно говоря, призван непосредственно воздействовать в настоящем. Письмо — это злоупотребление языком, чтение про себя — жалкий суррогат речи. Человек во всю мощь воздействует на другого своей личностью, юность же всего сильнее воздействует на юность, благодаря чему и возникают самые чистые влияния, те, что оживляют мир и противоборствуют его вымиранию, нравственному и физическому. В наследие от отца ко мне перешла своего рода наставительная говорливость; от матери же — умение убедительно и живо воссоздавать все, что может породить или охватить фантазия, дар освежать старые сказки, придумывать и рассказывать новые, более того — рассказывая, придумывать. Из-за отцовского наследия я часто вызывал раздражение в обществе, ибо кому охота выслушивать чужие мнения, в особенности мнения юноши, которые при малом его опыте всегда кажутся неубедительными. Зато мать щедро наделила меня качествами, годными для развлечения людей. Ведь даже самая пустая сказка исполнена прелести для живого воображения, и наш ум с благодарностью воспринимает самое скудное ее содержание.
Такими рассказами, не стоившими мне ни малейших усилий, мне удавалось завоевать любовь детей, волновать и забавлять молодежь, привлекать к себе внимание старших. Правда, в обществе, таком, каким оно бывает обычно, мне пришлось очень скоро отказаться от подобных затей, отчего я потерял немало удовольствий и духовных радостей; и все же эти два родительских дара всю жизнь сопровождали меня в соединении с третьим: потребностью выражаться образами и сравнениями. Проницательный и остроумный доктор Галль, учитывая эти свойства, которые он открыл во мне, утверждал на основании своего учения, что я рожден народным оратором. Его открытие изрядно меня перепугало: ибо если это так, если в этом мое действительное предназначение, то — поскольку с моей нацией говорить не о чем, — все, за что бы я ни брался, стало бы лишь неправильно выбранным жизненным путем.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Предусмотрено, чтобы деревья не врастали в небо.
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
Окончив в зезенгеймской беседке свой рассказ, в котором обыденное приятнейшим образом переплеталось с невозможным, я заметил, что мои слушательницы, уже до того с трепетом мне внимавшие, положительно очарованы моим своеобразным изложением. Они настоятельно просили меня записать для них эту сказку, чтобы время от времени перечитывать ее или же читать вслух другим. Я согласился тем охотнее, что надеялся воспользоваться этим как предлогом для повторного визита и еще большего сближения с ними. Вслед за тем компания наша на краткое время разбрелась в разные стороны; все, видимо, почувствовали, что после столь интересно проведенного дня вечер может выдаться несколько вялым. Но меня от этого опасения избавил мой приятель: он испросил для нас обоих дозволения откланяться, так как, будучи прилежным и усидчивым студентом, хотел завтра вовремя поспеть в Страсбург и потому переночевать в Друзенгейме.
Туда мы добрались в молчании; я — потому, что чувствовал в сердце какой-то крючок, тянувший меня обратно, он — потому, что его мысли были заняты другим, что он и поспешил выложить мне, как только мы оказались на месте.
«Странно все-таки, — начал он, — что тебе на ум пришла именно эта сказка. Ты, верно, заметил, какое сильное впечатление она произвела?» — «Разумеется, — отвечал я, — разве я мог не заметить, что старшая сестра в некоторых местах смеялась больше, чем нужно, младшая многозначительно покачивала головой, да и ты был несколько смущен. Признаюсь, я даже чуть было не сбился; мне вдруг подумалось, что нехорошо с моей стороны рассказывать этим милым детям чепуху, о которой им лучше было бы ничего не знать, и внушать им то дурное представление о мужчинах, каковое в них неизбежно должен был вселить мой искатель приключений».
«Не в том дело! — отвечал он. — Ты не угадал, да и как тебе было угадать? Эти милые дети вовсе не так уж несведущи, как ты полагаешь: множество народу, с которым они общаются, дает им достаточно поводов для размышлений, а за Рейном проживает именно такая супружеская чета, какую ты изобразил, пусть несколько преувеличенно и нарочито. Он большой неотесанный мужлан, она настолько изящна и миниатюрна, что может уместиться у него на ладони. Все прочие их отношения, вся их история до такой степени совпадают с твоим рассказом, что девушки серьезно спрашивали меня, не знаешь ли ты этих людей и не их ли ты высмеял в своей сказке. Я заверил, что нет, и ты хорошо сделаешь, оставив эту вещь ненаписанной. С помощью разных проволочек и отговорок мы уж как-нибудь выпросим у них прощение».
Я очень удивился, ибо не помышлял ни о какой чете ни по ту, ни по эту сторону Рейна и даже не мог бы сказать, как пришла мне в голову эта история. Я любил мысленно тешить себя разными выдумками, никого и ничего не имея в виду, и думал, что и другие так же относятся к моим рассказам.
Вернувшись в городе к своим занятиям, я больше чем когда-либо почувствовал их обременительность: деятельный по природе человек строит слишком много планов и перегружает себя различными работами. Со всем этим он справляется, покуда какое-нибудь физическое или моральное препятствие не уяснит ему несоответствия его сил с тем, что он взял на себя.
Юридическим наукам я посвящал ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы сносно защитить диссертацию; привлекала же меня медицина, ибо она, если и не открывала мне природу, то со всех сторон показывала ее; к тому же я был к ней привержен в силу привычки и круга знакомств. Немало времени я должен был проводить и в обществе, так как был принят во многих семьях с почетом и любовью. Но все это было бы еще выполнимо, если бы меня не тяготило то, что на меня взвалил Гердер. Он разорвал завесу, скрывавшую от меня бедность немецкой литературы; жестоко расправился со многими моими предвзятыми мнениями, оставив на отечественном небосклоне лишь малое число светил первой величины, остальных же сопричислил к падающим звездам. Более того, он так омрачил мои надежды и упования на самого себя, что я и в собственных способностях начал сомневаться. Но в то же время он увлек меня за собой, вывел на прекрасную широкую дорогу, которую избрал и для себя, обратил мое внимание на своих любимых писателей, среди которых первое место занимали Свифт и Гаман, и в конце концов не столько смирил, сколько встряхнул и раззадорил меня. И вот к этому-то смятенному состоянию прибавилась еще разгорающаяся страсть, которая, грозя целиком завладеть мною, правда, отвлекла бы меня от всех моих сомнений, но вряд ли помогла бы мне стать выше их. Сюда же присоединилось еще и физическое недомогание — после еды я чувствовал какие-то спазмы в горле; позднее я с легкостью от них избавился, отказавшись от красного вина, которое нам, к вящему нашему удовольствию, подавали к столу в пансионе. Это невыносимое ощущение не давало себя знать в Зезенгейме, отчего я там чувствовал себя вдвойне хорошо, но едва я возвратился к городской диете, как оно, к моему ужасу, возобновилось. Все это вместе делало меня задумчивым и угрюмым, и внешность моя тогда, вероятно, соответствовала моему внутреннему состоянию.
В еще более мрачном настроении, чем обычно, так как после обеда моя болезнь вновь напоминала о себе, я присутствовал при обходе в клинике. Живость и общительность нашего почтенного учителя, когда он водил нас от кровати к кровати, точное наблюдение важнейших симптомов, оценка общего хода болезни, прекрасный гиппократовский способ лечения, благодаря которому безо всякой теории, только на основании опыта, вырисовывались формы знаний, а также речи, которыми он обычно заканчивал свои занятия со студентами, — все это влекло меня к нему и делало чужую специальность, в которую я заглядывал как бы сквозь щелку, еще интересней и заманчивей. Мое отвращение к больным уменьшалось по мере того, как я научился превращать факты в понятия, при посредстве которых делалось возможным исцелять и восстанавливать тело и дух человека. Профессор, по-видимому, отметил присутствие странного молодого человека и простил мне диковинную аномалию, привлекавшую меня на его лекции. На сей раз он заключил занятия не выводом относительно одной из наблюдавшихся нами болезней, а весело сказал: «Милостивые государи, скоро начнутся каникулы. Воспользуйтесь ими, чтобы хорошенько отдохнуть; для нашей работы требуются не только усердие и серьезность, но также бодрость и свобода духа. Побольше двигайтесь, постранствуйте пешком и верхом по этому прекрасному краю; здешний житель пусть порадуется тому, что мило его сердцу, приезжий пусть обогатится новыми впечатлениями и сохранит приятное воспоминание об Эльзасе».
Собственно, только к двоим из присутствующих и могли относиться эти последние слова. Не знаю, как понравился сей рецепт другому, мне же показалось, что я слышу голос с неба. Я помчался что было сил раздобыть себе лошадь и приодеться. Послал я и за Вейландом, но его нигде не нашли. Это не поколебало меня в моем решении, но, на беду, сборы затянулись, и я пустился в путь позже, чем рассчитывал. Как я ни гнал лошадь, ночь все же настигла меня. Впрочем, с дороги сбиться было невозможно; лупа освещала мое страстное паломничество. Ночь была ветреная, пронзительная, и я помчался во весь опор, чтобы не отложилась до утра встреча с нею.
Было уже поздно, когда я соскочил с коня в Зезенгейме. На мой вопрос, есть ли еще свет в пасторском доме, хозяин ответил, что барышни только сейчас воротились; краем уха он слышал, что они еще ждут какого-то гостя. Это меня огорчило: мне хотелось быть единственным. Я заторопился, чтобы хоть прийти первым. Обе сестры сидели на скамейке возле двери; они мне особенно не удивились, зато удивился я, когда Фридерика шепнула на ухо Оливии, однако так, что я слышал: «Я же тебе говорила. Вот и он». Они повели меня в столовую, где нас уже дожидался легкий ужин. Мать поздоровалась со мной, как со старым знакомым, но старшая сестра, разглядев меня при свете, громко расхохоталась: она не умела таить своих чувств.
После первых, несколько необычных минут этой встречи разговор тотчас же полился легко и свободно; то, что в этот вечер оставалось тайным, открылось мне на следующее утро. Фридерика предсказала мой приезд, а кто не чувствует себя слегка польщенным, когда сбывается его предсказание, пусть даже печальное! Предчувствие, подтвержденное событием, внушает человеку высокое понятие о себе самом, может быть, потому, что это дает ему право считать свои чувства необычно тонкими, осязающими отношения даже на расстоянии, или себя столь проницательным, чтобы прозревать непреложную, хоть и неясную связь вещей. Не осталось секретом и то, почему смеялась Оливия: по собственному ее признанию, ей было очень чудно́ увидеть меня на сей раз таким расфранченным и подтянутым; Фридерика же предпочла приписать это не столько моему тщеславию, сколько желанию ей понравиться.
Рано утром Фридерика позвала меня на прогулку; мать и сестра были заняты приготовлениями к приему многочисленных гостей. Вместе с этой обворожительной девушкой я наслаждался прелестью погожего деревенского утра, так прекрасно воссозданной нашим бесценным Гебелем. Фридерика описывала мне ожидавшихся гостей и просила помочь ей устроить так, чтобы все развлечения стали общими и подчинились известной очередности. «Ведь обычно, — пожаловалась она, — каждый развлекается на свой манер; игры и разные затеи оказываются неувлекательными, и в конце концов одной части гостей остается только сесть за карты, а другой искать выхода своему веселью в танцах».
Итак, мы с ней составили план, что делать до и после обеда, ознакомили друг друга с разными новыми играми, были веселы и во всем согласны. Когда колокол призвал нас в церковь, я, сидя подле нее, не счел слишком длинной даже суховатую проповедь ее отца.
Быстролетным становится время вблизи возлюбленной, но я этот час предавался еще и другим размышлениям, мысленно перебирая достоинства, которые она так непринужденно раскрыла передо мной: разумную веселость, наивность и вдумчивость, жизнерадостность и предусмотрительность — качества, как будто несоединимые, ей, однако, присущие и даже определяющие ее внешнюю прелесть. Мне следовало бы поразмыслить еще и над собой, но это пошло бы во вред непринужденной веселости.
С тех пор как та пылкая девушка прокляла и освятила мои губы (ибо каждое такое заклинание содержит в себе и то и другое), я суеверно избегал поцелуев, боясь нанести другой девушке какой-то мне самому неведомый духовный вред. Посему я подавлял в себе сладострастное желание, свойственное каждому юноше, заслужить у хорошенькой девушки этот иногда многозначащий, а иногда и случайный дар. Но даже в самом чопорном обществе меня подкарауливал коварный соблазн. Так называемые «салонные игры» — это то более, то менее остроумное развлечение, соединяющее и скрепляющее веселый круг молодежи, в большинстве случаев основано на фантах, при уплате которых поцелуи имеют высокую выкупную ценность. Я раз навсегда решил не целоваться, и как то бывает, когда какой-нибудь недостаток или препятствие толкают нас на поступки, которых мы, в противном случае, никогда бы не совершили, приложил все силы своего таланта и юмора, чтобы выпутываться из создавшегося положения, и при этом не только ничего не терять, а, наоборот, выигрывать в глазах общества. Когда фант требовал стихов, обычно все обращались ко мне. Я всегда был наготове и немедленно произносил какой-нибудь мадригал хозяйке или той даме, которая была ко мне всех любезнее. Если же от меня, несмотря ни на что, требовали поцелуя, я пытался отвертеться от него, ни в ком не вызывая неудовольствия, а так как я всегда этого ожидал, то у меня не было недостатка во всевозможных уловках, но лучше всего они мне удавались экспромтом.
Когда мы вернулись домой, там уже стояла веселая сутолока из-за съехавшихся со всех сторон гостей. Фридерика тотчас же повела их на прогулку к вышеупомянутому прелестному местечку. В рощице было приготовлено разнообразное угощение, и время до обеда мы решили провести за играми. Здесь, при поддержке Фридерики, хотя она и не подозревала о моей тайне, мне удалось сначала устроить игры без фантов, а затем фанты без поцелуев.
Сноровка в играх и ловкость тем более были мне необходимы, что это совершенно незнакомое мне общество, видимо, быстро разгадало мое чувство к прелестной девушке и под видом шутки всячески старалось навязать мне то, чего я так тщательно избегал. Ибо стоит такой компании заметить зарождающуюся симпатию двух молодых существ, как она всячески старается либо сконфузить их, либо оставить вдвоем, впоследствии же, когда страсть уже заявляет о себе, прилагает все усилия, чтобы вновь их разъединить; человеку компанейскому не важно, приносит это пользу или вред, лишь бы у него нашелся повод развлечься.
В то утро мне удалось внимательно присмотреться к Фридерике и познать ее сущность, тем паче что Фридерика всегда оставалась одной и той же. Уже дружелюбные поклоны крестьян, приветствовавших ее прежде других, говорили о том, что она добра и обходительна. В доме помощницей матери была старшая сестра; от Фридерики же не требовали ничего, связанного с физическими усилиями. Ее берегли, как все говорили, из-за ее слабой груди.
Некоторые женщины больше всего нравятся нам в комнатах, очарование других ярче выступает на вольном воздухе; к последним принадлежала и Фридерика. Ее движения, фигура выглядели всего обольстительнее, когда она поднималась по крутой тропинке; прелесть ее, казалось, соперничала с усеянной цветами землей, а ласковая веселость черт — с синевою неба. Живительный воздух, ее окружавший, она вносила с собою и в дом, а вскоре я еще подметил, что она умеет сглаживать все шероховатости, устранять любой неприятный осадок.
Чистейшая радость, которою нас дарит возлюбленная, — то, что на нее радуются и другие. Фридерика на людях была обворожительна. На прогулках она порхала, как животворящий дух, заполняя собою то здесь, то там возникающую пустоту. Мы уже славили легкость ее движений, но, бегая, она выглядела еще грациознее. Как лань, мчась над прорастающими посевами, всем существом исполняет свое предназначенье, так и очарованье Фридерики яснее всего выступало, когда она, едва касаясь земли, бежала по полям и лугам, чтобы принести кем-то забытую вещь, окликнуть отставшую парочку, исполнить чье-нибудь поручение. При этом она всегда легко дышала и не утрачивала равновесия, так что беспокойство родителей о ее слабой груди многим могло показаться преувеличенным.
Случалось иногда, что отец, отправлявшийся с нами на прогулку по полям и лугам, не находил себе подходящего спутника; тогда я спешил присоединиться к нему, и он, неизменно возвращаясь к своей излюбленной теме, обстоятельно обсуждал со мной предстоящую постройку пасторского дома. Он очень сетовал, что никак не может получить обратно тщательно изготовленные чертежи, чтобы еще поразмыслить над ними и внести кой-какие исправления. Я отвечал, что этой беде помочь нетрудно, и предложил свои услуги для изготовления общего плана, который только и нужен ему поначалу. Он был очень доволен, к обмеру мы решили привлечь школьного учителя, и пастор заторопился к нему, чтобы попросить его приготовить к завтрашнему дню мерку с футами и дюймами.
Когда он ушел, Фридерика обратилась ко мне: «Вы очень добры, так внимательно относясь к этой слабости моего милого отца; всем другим разговор о постройке до того надоел, что они всячески стараются от него уклониться или его оборвать. Правда, надо вам признаться, мы все против этой затеи, она обойдется слишком дорого и общине и нам. Новый дом — значит, и новая меблировка, а нашим гостям от этого не станет лучше, они привыкли к старому дому. Здесь мы хорошо принимаем их, а в большем помещении многое бы нас стесняло. Вот как обстоит дело, но продолжайте быть с ним предупредительным, я очень вам за это благодарна».
Одна дама, к нам присоединившаяся, осведомилась, читала ли Фридерика такие-то и такие-то новые романы. Та отвечала отрицательно; она вообще мало читала и выросла и сложилась среди простых, светлых, житейских радостей. У меня так и вертелся на языке «Векфильдский священник», но я не осмелился предложить ей прочесть его: сходство положений было бы слишком разительно и значило бы слишком многое. «Я очень люблю читать романы, — заметила Фридерика, — в них встречаются люди, на которых хочется походить».
Обмер дома начался на следующее утро и подвигался довольно медленно, ибо я в этих делах смыслил не больше, чем школьный учитель. Но в конце концов сносный проект все же был изготовлен. Добряк-отец высказал мне свои пожелания и не выразил неудовольствия, когда я попросил отпустить меня в город, чтобы там на досуге изготовить чертежи. Фридерика весело меня проводила; она уже была уверена в моем чувстве, как и я в ее склонности ко мне, и шестичасовое расстояние теперь не казалось нам столь большим. Ведь так просто доехать в дилижансе до Друзенгейма и поддерживать связь с помощью этого способа сообщения, а также случайных оказий и нарочного, которого мы нашли бы в лице Георга.
Приехав в город, я с самого утра засел за работу — о том, чтобы выспаться, нечего было и думать — и выполнил чертеж с величайшей тщательностью. За это же время я успел послать ей книги, сопроводив их коротенькой дружеской запиской. Ответ не заставил себя ждать, и я залюбовался ее легким, красивым, милым почерком. Содержание и стиль были так естественны, нежны и задушевны, что это письмецо поддерживало и подновляло впечатление, которое произвела на меня Фридерика. Я вновь и вновь перебирал в памяти достоинства ее милой души и лелеял надежду вскоре — и уже на более долгий срок — свидеться с нею.
В повторном призыве нашего славного учителя я уже более не нуждался; его слова, пришедшиеся как раз вовремя, излечили меня так основательно, что я не испытывал ни малейшей охоты видеть его и его больных. Переписка с Фридерикой становилась все оживленнее. Она пригласила меня на праздник, на который должны были приехать и ее друзья из-за Рейна; мне предлагалось устроить все так, чтобы пробыть подольше. Я не замедлил воспользоваться приглашением, погрузил на дилижанс довольно солидный чемодан и через несколько часов уже был подле нее. Застав в Зезенгейме довольно большое и веселое общество, я отозвал отца в сторону и вручил ему чертеж, которому он очень обрадовался. Далее я обсудил с ним все, что мне пришло в голову во время работы над чертежом; он был вне себя от восторга и на все лады расхваливал чистоту рисунка — я чуть не с детства упражнялся в черчении и на этот раз особенно постарался, взяв к тому же самую лучшую бумагу. Однако удовольствие нашего доброго хозяина вскоре омрачилось, ибо он, хоть я его и отговаривал, на радостях показал план всей собравшейся компании. Одни, не проявляя и тени желанного хозяину интереса, попросту не обратили внимания на мою великолепную работу; другие, воображавшие себя до известной степени знатоками этого дела, поступили и того хуже: раскритиковали план, как не отвечающий правилам зодческого искусства, и, едва только старик отвернулся, обошлись с чистыми листами как с черновиком; один же из гостей так энергично начертил жестким карандашом свои поправки, что о восстановлении прежней чистоты нечего было и думать.
Я едва успокоил огорченного старика, которому так грубо испортили его радость, уверяя, что и сам считаю эту работу только наброском, который надо еще обсудить, исправить и потом уже на этой основе сделать новый проект. Он все-таки ушел очень раздосадованный, а Фридерика поблагодарила меня за внимание к отцу и снисхождение к невежливости гостей.
Я же вблизи от нее не ведал ни боли, ни досады. Общество состояло из молодых и довольно шумных людей, которых старался перещеголять один пожилой господин, куролесивший еще больше, чем они. Вина было выпито изрядно, уже за завтраком; за обильным обедом никто тем более не пожелал отказать себе в этом удовольствии; очень уж приятно было пить после всей беготни в такой сравнительно теплый день, и если старичок-чиновник хватил немного лишнего, то и молодежь не очень-то от него отстала.
Я был бесконечно счастлив подле Фридерики, разговорчив, весел, остроумен, шумлив, хотя любовь, уважение и нежность все же несколько умеряли мой пыл. Она, со своей стороны, была резва, простосердечна, шаловлива и общительна. Казалось, мы оба только и занимаемся гостями, тогда как мы были заняты лишь друг другом.
После обеда мы все пошли в тенистый уголок, затеялись игры, и, уж конечно, не обошлось без фантов. При уплате их веселье приняло характер неумеренный: приходилось делать такие жесты, совершать такие поступки и разрешать такие задачи, которые свидетельствовали, что разрезвившаяся компания уже не знает удержу. Я сам разными выходками подстрекал к этим необузданным шуткам, Фридерика придумывала всевозможные шалости; мне она казалась прелестнее, чем когда-либо, все мои ипохондрические и суеверные настроения как рукой сняло, и, когда мне представился случай горячо поцеловать любимую, я тотчас же им воспользовался и тем более не преминул повторить это удовольствие.
Наконец раздалась давно ожидаемая музыка, и все устремились танцевать. Аллеманды и вальсы сменялись в непрерывной чреде. Все знали эти национальные танцы, да и я не посрамил моих тайных учительниц; Фридерика, которая танцевала так же, как она ходила, резвилась и бегала, с радостью обнаружила во мне умелого партнера. Я танцевал едва ли не с нею одною. Но вскоре нам пришлось сделать перерыв, ибо ее со всех сторон уговаривали не выбиваться из сил. Тогда мы вознаградили себя прогулкой вдвоем, рука об руку, а в ее любимом уголке еще и пылким объятием, сопровождавшимся взаимными уверениями в любви.
Старшие, встав из-за карт, позвали нас к себе. Мы не угомонились и за ужином, в здравицах и других поощрениях к выпивке не было недостатка, как и за обедом, а танцы продолжались до глубокой ночи.
Несколько часов я проспал как убитый, но потом меня разбудило волнение зажегшейся крови. В такие часы, в такие мгновения жизни тревога и раскаяние чаще всего нападают на беспомощно распростертого человека. Воображение живо рисовало мне разные картины: я видел Люцинду, видел, как она, подарив меня пламенным поцелуем, вдруг отпрянула и с разгоревшимся лицом, со сверкающими глазами произнесла проклятие, относившееся только к ее сестре, но теперь, помимо ее воли, превратившееся в угрозу посторонней, ни в чем не повинной девушке. Я видел Фридерику; она стояла напротив Люцинды, бледная, оцепенев от того, что открылось ее взору, жертва проклятия, о котором она не ведала. Я стоял между ними, равно бессильный предотвратить духовное воздействие этого странного приключения и избегнуть предвещающего беду поцелуя. Слабое здоровье Фридерики, казалось, еще приближает расплату, ее любовь ко мне теперь сулила только несчастье; мне хотелось бежать, исчезнуть.
Не скрою, почему за всем этим для меня таилось нечто еще более горестное. Известное самомнение, мне присущее, поддерживало во мне суеверное чувство: мои губы — освященные или проклятые — занимали меня больше, чем следовало; я не без самодовольства сознавал, сколь воздержно я себя веду, отказываясь от многих невинных радостей, — отчасти, чтобы сохранить свое магическое превосходство, отчасти же, чтобы не нанести вреда безобидному существу, если бы я этим превосходством пренебрег.
И вот теперь все погибло безвозвратно; я вернулся к обычному состоянию, я думал, что ранил любимейшее существо, нанес ему непоправимый вред. А значит, я не только не освободился от проклятия, но, напротив, с губ оно проникло мне в сердце.
Все это бушевало в моей крови, разгоряченной любовью, страстью, вином и танцами, путало мысли, терзало сердце, так что я после тихих радостей вчерашнего дня приходил в отчаяние, из которого, казалось, не было выхода. По счастью, сквозь щели ставней проглянул дневной свет; восходящее солнце, одолев все силы ночи, заставило меня очнуться, и вскоре я был уже на воздухе, пусть не совсем спокойный, но освеженный.
Суеверие, как и многие другие предрассудки, быстро теряет свою силу, если, вместо того чтобы льстить нашему тщеславию, становится ему поперек дороги и грозит нанести обиду этому болезненно нежному чувству; тут мы вдруг видим, что нам ничего не стоит избавиться от суеверия, и делаем это тем легче, чем больше ждем услад от того, чего мы так усердно избегали. Близость Фридерики, уверенность в ее любви ко мне, веселая природа Эльзаса — все укоряло меня за то, что в разгар счастливейших дней я дал приют сумрачным птицам ночи; ведь мне думалось, что я уже навеки отпугнул их. Все большая доверчивость милой девушки бесконечно радовала меня, и я почувствовал себя счастливцем, когда на сей раз она при прощании, не стесняясь, поцеловала меня, как целовала других друзей или родственников.
В городе меня ждала суета и множество занятий, от которых я нередко отрывался, чтобы сосредоточиться на письме к любимой, а переписывались мы изо дня в день. Она и в письмах оставалась все тою же: сообщала ли она какую-нибудь новость, вспоминала ли нам обоим известное происшествие или делала беглые зарисовки, попутно высказывая свои мысли, всегда казалось, что и здесь, на бумаге, это она, Фридерика, вбегает, летит, резвится, торопится, легкая и уверенная в себе. И я охотно писал ей; живое представление о ее прелести увеличивало мою любовь даже в разлуке, и такая беседа мало в чем уступала беседе с глазу на глаз, постепенно становясь мне даже приятнее и дороже.
Тот суеверный страх окончательно изгладился. Он возник из впечатлений прежних лет, но теперь дух времени, молодая страсть, общение с хладнокровными, рассудительными людьми — все ему не благоприятствовало; к тому же среди всех меня окружавших вряд ли нашелся бы хоть один, кто не разразился бы хохотом, признайся я ему в этой причуде. Но плохо было то, что, развеиваясь, это самовнушение оставило след — правильное понимание того положения, в которое попадает молодой человек, чье скороспелое чувство будет заведомо лишено постоянства. Что проку развязаться с суеверием, если разум и размышление ввергали меня в еще худшую беду. Страсть моя росла по мере того, как я узнавал эту прекрасную девушку, но близилось время, когда мне предстояло потерять, и, может быть, навеки, так много милого и хорошего.
Мы прожили довольно долго вместе тихо и радостно, как вдруг Вейланд выкинул лукавую шутку: привез в Зезенгейм «Векфильдского священника» и, едва только зашла речь о том, что хорошо бы почитать вслух, с невинным видом вручил мне книгу. Я взял себя в руки и стал читать по мере сил весело и непринужденно. Лица моих слушателей тотчас же просветлели; казалось, их нимало не смущает, что вот опять им навязывают сравнения. Если в Раймонде и Мелузине перед ними предстали карикатуры, то здесь они увидели самих себя в зеркале, нимало их не безобразившем. Никто не отдавал себе в этом точного отчета, но никто и не отрицал, что мы перенеслись в мир, родственный нам по духу и чувствам.
Все люди с хорошими задатками на более высокой ступени развития замечают, что призваны играть в мире двойную роль: подлинную и идеальную; в этом-то ощущении и следует искать основы всех благородных поступков. Что дано нам для исполнения первой, мы вскоре узнаем слишком хорошо, вторая же редко до конца уясняется нам. Где бы ни искал человек своего высшего назначения — на земле или на небе, в настоящем или в будущем, — изнутри он все равно подвержен вечному колебанию, а извне вечно разрушающему воздействию, покуда он раз и навсегда не решится признать: правильно лишь то, что ему соответствует.
Наиболее попятная попытка возвыситься в собственных глазах, приобщиться к чему-то высшему — это юношеское стремление сравнивать себя с героями романов, стремление в высшей степени безобидное и, как бы его ни порицали, в высшей степени безвредное. Оно развлекает нас в минуты, когда нам остается либо пропасть с тоски, либо без удержу предаться своим страстям.
Как часто слышим мы докучливые жалобы на вредность романов, а что, спрашивается, за беда, если хорошенькая девушка или красивый юноша вообразят себя на месте человека, которому приходится хуже или лучше, чем им самим? Неужто повседневная жизнь или насущные потребности стоят того, чтобы человек из-за них отказался от более высоких требований к себе?
Ответвлениями таких романтико-поэтических фикций, без сомнения, следует считать и историко-поэтические имена, проникшие в немецкую церковь взамен имен святых, нередко к досаде пасторов, совершающих обряд крещения. Разве не похвально стремление, даже если оно и не идет дальше этого, облагородить своего ребенка благозвучным именем, разве такая связь между воображаемым и действительным миром не отбрасывает приятного отблеска на всю жизнь человека? Мы с удовольствием зовем хорошенькую девушку Бертой, но нам кажется, что оскорбительно было бы называть ее Урсельбландиной. Да, такое имя застрянет на языке всякого цивилизованного человека, не говоря уже о влюбленном. Холодный и односторонний в своих суждениях свет не приходится винить за то, что он осмеивает и осуждает все необычное, но человек мыслящий и сердцевед должен уметь по достоинству ценить из ряда вон выходящее.
Однако сравнение, на которое влюбленных с прекрасных берегов Рейна толкнула дружеская шалость, пошло им только на пользу. Смотрясь в зеркало, не думаешь о себе, но чувствуешь и утверждаешь себя. То же и с нравственным подобием. Узнавая в нем, как в силуэте, свои качества и склонности, свои привычки и особенности, мы с братской горячностью стремимся постичь и объять их.
Все больше привыкали мы быть вместе, и уже как-то само собой разумелось, что я принадлежу к этому кругу. Все шло своим чередом, и никто не задавался вопросом, чем это кончится. Каким же родителям не приходится оставлять на время своих сыновей и дочерей в таком состоянии неопределенности, покуда случай на всю жизнь не определит отношения лучше, чем издавна взлелеянные намерения.
На благонравие Фридерики старшие полагались столько же, сколько и на мою порядочность, в которой их красноречиво убедило то, что я воздерживался даже от самых невинных ласк. Никто не наблюдал за нами, что, впрочем, было в обычае того времени и тех краев, и мы могли сколько душе угодно бродить по окрестностям и в большей или меньшей компании посещать друзей и соседей. По эту и по ту сторону Рейна, в Гагенау, в Форте-Луи, в Филиппсбурге и в Ортенау, были рассеяны люди, которых я встречал в Зезенгейме; каждый у себя был радушным хозяином и охотно хвалился своей кухней, погребом, своими садами, виноградниками, а заодно и всей местностью. Нередко целью наших поездок на лодке были рейнские острова. Там мы без зазрения совести бросали холодных обитателей прозрачных рейнских вод в котел или на сковороду с кипящим жиром и, может быть, дольше, чем положено, оставались бы в приветливых рыбацких хижинах, если бы ужасные рейнские комары не прогоняли нас через несколько часов. Однажды этот страшный бич испортил нам одну из очаровательнейших поездок, когда все удавалось и чувства влюбленных, казалось, возрастали от успешности любой затеи; вернувшись домой слишком рано, в неположенное и неудобное время, я разразился в присутствии добряка-пастора богохульными речами и заявил, что уж одни эти комары заставляют меня усомниться в том, что мир создан добрым и мудрым богом. Набожный старик сурово призвал меня к порядку, заявив, что комары и прочие зловредные насекомые, наверно, возникли лишь после грехопадения наших прародителей, если же были еще в раю, то там только приятно жужжали, но не жалили. Я тотчас утихомирился, ибо лучшее средство успокоить рассерженного — рассмешить его, но все-таки заметил, что в таком случае ангел с огненным мечом был вовсе не надобен для изгнания согрешившей четы из рая; да позволит мне господин пастор остаться при убеждении, что изгнанию способствовали крупные комары Тигра и Евфрата. Этим я, в свою очередь, рассмешил его; добрый старик понимал шутки или, по крайней мере, терпел их.
Но куда серьезнее и возвышеннее было наслаждение, которое нам доставляла природа этой благодатной страны в ее переходах от утра к ночи, от весны к осени. Надо было только всей душой предаться настоящему, чтобы насладиться ясностью этого синего неба, изобилием плодородной земли, ласковостью этих вечеров и теплом ночей подле любимой или невдалеке от нее. В течение долгих месяцев нас дарили счастьем безоблачные прохладные утра, когда небо, напоив землю изобильной росой, сияло всем своим великолепием, а для того, чтобы это зрелище не утомляло однообразием, облака то здесь, то там громоздились на дальние горы. Днями, неделями оставались они на вершинах, не омрачая чистого неба, и даже скоропроходящие грозы лишь освежали округу и еще краше делали зелень, когда она, не успев обсохнуть, блистала на солнце. Двойная радуга, две пестрые каймы вдоль темно-серой, почти черной полосы неба, была здесь роскошнее, ярче, явственнее, но и мимолетнее, чем где бы то ни было.
Среди всего этого во мне вновь возродилась давно уже не испытанная потребность в стихотворстве. Я сочинил для Фридерики множество песен на знакомые мотивы. Они составили бы объемистый томик; сохранились из них лишь немногие, и их нетрудно найти среди других моих стихотворений.
Так как мои безалаберные занятия и всякие другие дела принуждали меня частенько наведываться в город, то для нашей любви создалась особая обстановка, отсрочившая все те неприятности, которые обычно досаднейшим образом сопровождают такие непрочные связи. В разлуке со мной она трудилась для меня и придумывала, чем бы меня занять по возвращении; в разлуке с нею я тоже был ею занят, стараясь с помощью какого-нибудь нового дара, новой выдумки предстать перед ней обновленным. Тогда только что начали входить в моду разрисованные ленты; я тотчас же разрисовал несколько штук и послал их Фридерике в сопровождении маленького стишка, так как на этот раз принужден был задержаться в городе дольше, чем предполагал. Чтобы выполнить обещание, данное отцу, и привезти ему новый разработанный проект дома, я уговорил одного молодого человека, сведущего в архитектуре, заняться этим вместо меня. Он охотно согласился, желая сделать одолжение мне и еще больше в надежде на хороший прием в столь милом семействе. Он изготовил разрез, горизонтальную и вертикальную проекцию дома, не позабыв также о дворе и саде. К этому была приложена еще и подробная, но весьма умеренная смета, представлявшая легко выполнимой эту широко задуманную и дорогостоящую затею.
Такие свидетельства нашего дружеского усердия обеспечили нам самый радушный прием; добрый старик, видя, как охотно мы оказываем ему услуги, высказал еще одно пожелание: чтобы мы разукрасили цветами и узорами его, правда, изящную, но одноцветную коляску. Мы с готовностью согласились. Краски, кисти и все прочее было немедленно приобретено у лавочников и аптекарей в соседних городишках. Но и здесь не обошлось без «векфильдской» неудачи: когда коляска уже была тщательнейшим образом и очень пестро раскрашена, обнаружилось, что мы приобрели какой-то непросыхающий лак — ни солнце, ни сквозняк, ни сырая, ни сухая погода — ничто его не брало. Тем временем приходилось пользоваться какой-то старой колымагой, и нам осталось только смыть все украшения, что потребовало еще большего труда, чем раскрашивание. Неприятность этой работы усугублялась тем, что девушки богом заклинали нас не торопиться и хоть фон сохранить в целости. Впрочем, после этой операции нам так и не удалось возвратить ему былой блеск.
Однако эти мелкие неурядицы так же мало нарушали нашу счастливую жизнь, как и жизнь доктора Примроза и его достойной семьи. Ведь сколько у нас, у наших друзей и соседей находилось нежданных поводов порадоваться: свадьбы, крестины, возведение новых построек, утверждение в правах наследства, выигрыши в лотерею. Радости становились как бы общим нашим достоянием, а наш разум и сердце еще увеличивали их. Не в первый и не в последний раз находился я тогда в семейном и общественном кругу как раз в пору его наибольшего расцвета, и если я вправе тешить себя мыслью, что и мне довелось кое-что привнести в него, то тут же должен поставить себе в упрек, что позволил тем дням так быстро пройти и кануть в вечность.
Но нашей любви предстояло еще одно своеобразное испытание. Испытание, говорю я, хотя здесь это и не совсем подходящее слово. Семья сельского пастора, с которой я так сдружился, имела родственников в городе; это были видные, почтенные и зажиточные семьи. Молодые горожане нередко наведывались в Зезенгейм. Старшие — маменьки и тетушки, не столь подвижные, были много наслышаны о зезенгеймской жизни, о расцветающей красоте дочерей и даже о моем на них влиянии. Сначала они пожелали познакомиться со мной, а когда я уже не раз побывал у них, встретив самый радушный прием, захотели увидеть нас всех вместе, тем более что почитали необходимым отплатить за гостеприимство обитателям Зезенгейма.
О поездке в город долго судили и рядили. Мать пребывала в затруднении, как оставить хозяйство; Оливия питала отвращение к чуждой ей городской жизни, Фридерику тоже не тянуло туда. Так это намерение и откладывалось, покуда на него не повлияло то обстоятельство, что я в течение двух недель был лишен возможности приехать в деревню, и уж лучше было свидеться в городе, чем не видеться вовсе. И вот мои подруги, которых я привык видеть только на сельской сцене, чей образ являлся мне лишь на фоне колеблющихся ветвей, быстрых ручьев, взволнованных ветром нив и далеких горизонтов, впервые предстали предо мной в городских, пусть просторных, но все же заставленных комнатах, среди обоев, зеркал, стоячих часов и фарфоровых статуэток.
Отношение к тому, что любишь, обычно так определенно, что все окружающее отступает в тень, но душа все же требует соответственной, привычной, знакомой обстановки. Мое всегда живое восприятие действительности заставило меня несколько растеряться от противоречий данного момента. Достойные и благородно-спокойные манеры матери соответствовали этому кругу: она ничем не отличалась от прочих женщин; Оливия, напротив, вела себя нетерпеливо, словно рыба, выброшенная на сушу. И так же, как она окликала меня в саду или отзывала в сторону на поле, желая сообщить мне что-нибудь из ряда вон выходящее, она и здесь тащила меня в оконную нишу; она проделывала это в смущенье, неловко, ибо чувствовала, что здесь это не подобает, но все же проделывала. В результате же сообщала мне сущие пустяки, к тому же давным-давно мне известные: что ей нестерпимо плохо, что она хотела бы быть сейчас где угодно — на Рейне, за Рейном, хоть в Турции. Фридерика же в этих обстоятельствах держалась отменно хорошо. Собственно говоря, она тоже чувствовала себя не в своей тарелке, но о силе ее характера свидетельствовало уже то, что она не приноравливалась к обстоятельствам, но старалась обстоятельства приноровить к себе. На людях она вела себя точно так же, как в деревне, умело оживляя любое мгновение. Никого не тревожа, она всех заставляла расшевелиться и этим успокаивала собравшееся общество, которое и беспокоит-то, собственно говоря, только скука. Это ее уменье очень радовало теток, которым хотелось полюбоваться со своих канапе сельскими играми и забавами. Доставив им такое удовольствие, она принималась с интересом, но без зависти рассматривать платья, драгоценности и все прочее, чем щеголяли городские кузины, одевавшиеся по-французски. Фридерика, не чиня себе затруднений, обходилась со мной так же, как и в деревне. Она отличала меня среди прочих только тем, что со своими просьбами и пожеланиями обращалась ко мне скорее, чем к другим, тем самым признавая меня своим слугой.
Такого моего служения она уверенно потребовала в один из последующих дней, сообщив, что дамы хотят послушать, как я читаю вслух. Обе сестры много им об этом рассказывали, ибо в Зезенгейме я готов был читать в любое время и любую книгу. Я тотчас же изъявил свое согласие, предупредив, что прошу внимания и спокойствия на несколько часов. На это все охотно согласились, и я без перерыва, за одни вечер, прочитал всего «Гамлета», по мере сил вникая в его смысл, с той живостью и страстностью, на какую способен только юноша. Большой успех явился мне наградой. Фридерика время от времени глубоко вздыхала, и краска набегала на ее щеки. Оба эти признака взволнованного, чувствительного сердца при внешней веселости и спокойствии были мне не внове; лучшей награды я себе не желал. Она радостно выслушивала слова благодарности за то, что заставила меня читать, и при всей своей скромности немножко гордилась тем, что блеснула мною.
Предполагалось, что этот городской визит будет недолог; однако отъезд затянулся. Фридерика делала все, что могла, для развлечения общества, я тоже не отставал от нее. Но все источники веселья, столь обильные в деревне, в городе быстро иссякли. Положение становилось тем более тягостным, что Оливия окончательно утратила самообладание. Обе сестры, единственные в этом обществе, одевались по-немецки. Фридерика никогда не представляла себя в другом наряде, считала, что только такой ей к лицу, и ни с кем себя не сравнивала; Оливии же было непереносимо появляться среди этого внешне столь изысканного общества в платье, делавшем ее похожей на служанку. В деревне она едва замечала на других городские наряды и не жаждала их, в городе деревенское платье стало ей ненавистно. Все это вместе с прочими уловками городских женщин, вместе с сотнями мелочей совершенно непривычной обстановки в течение нескольких дней вызывало такую бурю в ее сердце, что я, исполняя просьбу Фридерики, изо всех сил старался угождать Оливии, лишь бы ее успокоить. Я опасался внезапного взрыва, предвидел минуту, когда она упадет к моим ногам, всеми святыми заклиная вызволить ее из этих бед. Не чувствуя принуждения, она была добра, как ангел, но все эти условности ее раздражали и грозили довести до отчаяния. Итак, я постарался ускорить то, чего так желали мать и Оливия и чему не противилась Фридерика. Я не удержался и, сравнивая ее с сестрой, похвалил ее; сказал, как мне приятно, что она ничуть не изменилась и в этих условиях чувствует себя свободно, как птичка на ветке. Она премило отвечала, что я ведь с нею, а раз так, то ей все равно, где быть.
Наконец я усадил их в экипаж, и у меня камень свалился с сердца. Дело в том, что мое душевное состояние все время было средним между состоянием Оливии и Фридерики; не будучи так болезненно уязвлен, как первая, я отнюдь не чувствовал себя так непринужденно, как вторая.
Поскольку в Страсбург я приехал для того, чтобы защитить диссертацию, то, конечно, только безалаберностью моей жизни можно было объяснить, что к этому главному делу я относился как к чему-то несущественному. От заботы об экзамене я отделался очень легко, но теперь уже пора было подумать о публичной защите, ибо, уезжая из Франкфурта, я обещал отцу, да и сам вменил себе в обязанность написать диссертацию. Частая ошибка людей способных, и способных ко многому, — то, что они считают себя способными ко всему; впрочем, молодому человеку для того, чтобы из него что-то получилось, такая самонадеянность даже идет на пользу. Составив себе более или менее точное представление о юриспруденции и всех ее дисциплинах, — причем отдельные правовые положения в известной мере даже заинтересовали меня — я, взяв за образец славного Лейзера, полагал, что с помощью здравого смысла как-нибудь справлюсь со своей задачей. В юриспруденции в то время намечались большие сдвиги: считалось, что приговоры надлежит выносить, прежде всего сообразуясь с разумом; обычное право всякий раз бралось под сомнение, особенно же больших изменений следовало ждать в криминалистике. Сам я отлично сознавал, что для пополнения той суммы юридических знаний, которую я себе составил, мне недоставало бесконечно многого; толком я, собственно, ничего не знал, сердце мое не влекло меня к этой науке. Не было и толчка извне, напротив, я увлекся совсем другим факультетом. Как правило, для того чтобы чем-нибудь заинтересоваться, я должен отыскать ядро в предмете, усмотреть в таковом нечто, кажущееся мне плодотворным и подлежащим развитию. Итак, я отметил для себя ряд вопросов, даже собрал по ним материалы, проштудировал собранное, еще раз обдумал все, что собирался доказать, равно как и схему, согласно которой хотел расположить отдельные главы, — и некоторое время над этим проработал. Однако у меня хватило ума вскоре осознать, что от таких занятий проку будет мало и что для проникновения в суть предмета потребны заинтересованность, усидчивость и прилежание, более того — что даже специальный вопрос нельзя сколько-нибудь удачно разработать, не будучи мастером или хотя бы многоопытным подмастерьем во всей этой области знаний.
Друзья, с которыми я поделился своими сомнениями, только посмеялись надо мной, уверяя, что с тем же успехом или даже с большим можно дискутировать по тезисам, а не писать трактат и что в Страсбурге это очень даже принято. Подобный выход пришелся мне по вкусу, но отец — я написал ему об этом — потребовал от меня законченной диссертации, с которой я, по его мнению, мог отлично справиться, были бы только желание и усидчивость. Итак, я был вынужден обратиться к какой-нибудь общей теме, по возможности, мне знакомой. Церковную историю я знал, пожалуй, еще лучше, чем всемирную, и давно уже интересовался тем двойным конфликтом, в котором пребывает и всегда будет пребывать церковь как официально признанное служение богу. Ибо, с одной стороны, она находится в вечном споре с государством, выше которого хочет стать, а с другой — с частными лицами, которых хочет объединить вокруг себя. Государство, в свою очередь, не желает признать за нею верховной власти, частные же лица восстают против ее права понуждения. Государство все подчиняет общим целям, частное лицо — целям домашним, сердечным, бытовым. Мне с детства доводилось наблюдать, как духовенство ссорится то с власть имущими, то с общиной. По молодости лет я и решил, что государство, законодатель, вправе устанавливать определенный культ, в соответствии с которым должно действовать и поучать духовенство; миряне же обязаны внешне и в местах общественных точно следовать этому культу, причем не надобно допытываться, что́ каждый в отдельности думает, чувствует и полагает. Таким путем, думалось мне, сразу будут устранены все коллизии. Исходя из этого, я выбрал для своей диссертации первую половину темы, а именно: законодатель не только имеет право, но обязан устанавливать известный культ, от которого не вправе уклоняться ни духовенство, ни миряне. Развил я эту тему частично в историческом, частично в философском аспекте, доказывая, что все официальные религии были введены завоевателями, королями, могущественными властителями, более того — что то же самое произошло и с христианской религией. Протестантство было тому сравнительно недавним примером. Я тем смелее принялся за эту работу, что писал ее главным образом для успокоения отца и мечтал, что цензура ее не пропустит. Еще со времени Бериша мне нестерпимо было видеть что-нибудь свое напечатанным, общение же с Гердером так ясно показало мне мою несостоятельность, что я едва ли не окончательно в себе изверился.
Так как эту работу я почти целиком черпал из себя самого, да к тому же бегло говорил и писал по-латыни, то время, на нее потраченное, прошло для меня очень приятно, Все это как-никак имело под собой некоторую основу; с точки зрения риторики было сделано недурно, а в целом получило даже известную закругленность. По окончании я обратился к хорошему латинисту, который если и не мог полностью исправить мой стиль, то все же опытной рукой сгладил наиболее существенные его недостатки и в результате получилось нечто такое, что не стыдно было показать. Переписанную набело копию я тотчас же отослал отцу; он, правда, не одобрил моего отказа от ранее взятой темы, но как рьяный протестант остался доволен смелостью моего начинания. К своеобразию моих идей он отнесся снисходительно, мои усилия признал похвальными и стал ждать наилучших последствий от опубликования этого сочиненьица.
Я передал свои тетради факультету, и, по счастью, ко мне там отнеслись столь же разумно, сколь и снисходительно. Декан, живой, здравомыслящий человек, начав с восхваления моей работы, перешел к сомнительным ее сторонам, сумел далее изобразить ее довольно опасной и кончил советом не публиковать таковую в качестве академической диссертации. Но так как аспирант, продолжал он, зарекомендовал себя факультету как мыслящий молодой человек, подающий весьма большие надежды, то факультет, не желая никаких задержек, соглашается допустить диспут по тезисам. Кроме того, он уверен, что я смогу впоследствии издать свой трактат либо в том виде, в каком он лежит перед нами, либо, переработав его, на латинском или на любом другом языке; как частному лицу и протестанту мне это будет очень просто сделать, а широкий его успех при таких обстоятельствах тем более доставит мне чистую радость. Я насилу скрыл, что от его уговоров у меня камень свалился с души. С каждым новым аргументом, который он приводил, не желая огорчить или рассердить меня своим отказом, на сердце у меня становилось все легче: в конце концов и он почувствовал облегчение, когда я, против ожидания, не только не стал возражать, но нашел его доводы весьма убедительными и пообещал во всем следовать его советам и указаниям. После этого я опять засел за работу со своим репетитором. Тезисы были выбраны, напечатаны, и диспут с моими однокашниками в качестве оппонентов прошел весело, даже легкомысленно. Мне очень пригодились мое давнее знакомство с Corpus juris и уменье отыскивать в нем нужные места, так что я даже сошел за вполне подготовленного человека. По заведенному обычаю, торжество закончилось веселой товарищеской пирушкой.
Между тем отец мой весьма огорчился, что это сочиненьице не было, по всем правилам, напечатано в качестве диссертации; он надеялся, что оно послужит к моей чести, когда я возвращусь во Франкфурт. Поэтому он и хотел, чтобы оно было издано отдельной книжкой, но я отвечал, что тема еще только намечена и подлежит дальнейшей разработке. Для этой цели он заботливо сохранил рукопись. Уже много лет спустя она попалась мне среди его бумаг.
Моя защита состоялась 6 августа 1771 года; на следующий день в возрасте семидесяти пяти лет скончался Шепфлин. Несмотря на то что я никогда непосредственно не общался с ним, он оказал на меня весьма сильное влияние. Выдающихся современников можно сравнить с крупными звездами: покуда они стоят на горизонте, наш взор обращается к ним и, ежели ему дано воспринимать подобные совершенства, укрепляет и обогащает себя этим содержанием. Щедрая природа одарила Шепфлина прекрасной внешностью, стройной фигурой, приветливым взором, красноречивыми устами — вообще обаятельнейшим обликом. Не поскупилась она для своего любимца и на духовные дары; его жизненные удачи не стоили ему больших усилий, а были плодом прирожденных и постепенно развитых достоинств. Он принадлежал к тем счастливцам, которым дано объединять прошлое с настоящим, исторические познания связывать с жизненными интересами. Уроженец Бадена, воспитанный в Базеле и Страсбурге, он, казалось, сросся с дивно красивой Рейнской долиной, которая и была его истинным обширным и прекрасным отечеством. Питая склонность к предметам историческим и антикварным, он легко в них вникал благодаря живому воображению и прочно удерживал в своей превосходной памяти. Как бы созданный для того, чтобы учиться и учить, он равномерно продвигался вперед в науке и жизни. И так же беспрерывно приближался к почету и славе. Он легко проникает в литературную и общественную среду, ибо исторические знания доступны всем кругам общества, а доброжелательное отношение к людям способствует общению. Он совершает путешествие по Германии, Голландии, Франции, Италии, входит в соприкосновение со всеми учеными своего времени; он беседует с государями, и только когда его живое красноречие не в меру затягивает часы обедов или аудиенций, придворные на него косятся. Зато он приобретает доверие государственных мужей, производит для них обстоятельные дедуктивные исследования и, таким образом, повсюду находит поприще для своих талантов. Где только не прилагают усилий, чтобы удержать его! Но он хранит верность Страсбургу и французскому двору. Его неизменно немецкое прямодушие и там находит высокую оценку, служит ему защитой даже от могущественного претора Клинглина, который втайне против него интригует. Общительный и разговорчивый от природы, он постоянно расширяет не только свои знания и сферу деятельности, но и свои знакомства, так что казалось бы непонятным, откуда у человека берется столько времени, не знай мы, что на протяжении всей своей жизни он питал отвращение к женщинам и потому сберег немало дней и часов, которые с наслаждением растрачивают женолюбы.
Как писатель он принадлежал общественной жизни, как оратор — толпе. Его программы, его речи обычно посвящены какому-нибудь торжественному дню или наступающему празднику, пространное же сочинение «Alsatia illustrate»[26] принадлежит самой жизни, ибо в нем он воскрешает прошлое, освещает поблекшие образы, одухотворяет обтесанный, обработанный камень, вновь являет уму и чувствам читателя стертые, расколотые надписи. Так его деятельность оживляет Эльзас и соседние княжества: в Бадене и Пфальце он до глубокой старости сохраняет все свое влияние, в Мангейме основывает Академию наук и до самой смерти остается ее президентом.
Мне не доводилось видеть вблизи этого превосходного человека, если не считать одной ночи, когда мы устроили ему серенаду с факелами. Наши смоляные огни не столько освещали, сколько наполняли дымом осененный липами двор вокруг старого здания, возведенного на общественные средства. Когда музыка смолкла, Шепфлин сошел вниз и вмешался в толпу студентов; он и здесь был как нельзя более уместен. Стройный, рослый, жизнерадостный старец, величаво, но непринужденно стоя среди юнцов, почтил нас хорошо продуманной речью, которую он произнес с отеческой ласковостью, без каких бы то ни было следов нарочитости и педантизма, так что мы в эту минуту чуть было не возгордились, — ведь он обошелся с нами как с владетельными особами, публичные обращения к которым были его призванием. Мы сверхшумно выразили свое удовольствие, снова загремели барабаны, литавры, и славная, добродушная университетская чернь удовлетворенно разбрелась по домам.
Его учеников и коллег, Коха и Оберлина, я знавал уже ближе. Меня до страсти интересовали обломки старины, и оба они неоднократно открывали мне доступ в музей, где хранились многочисленные материалы, легшие в основу большой работы Шепфлина об Эльзасе. Это произведение я прочитал как раз после вышеописанного путешествия, когда на местах находил и изучал различные древности, так что теперь, уже хорошо осведомленный, я мог представить себе Рейнскую долину в виде римского владения и наяву видеть сны былых времен.
Едва только я освоился со всем этим, как Оберлин привлек мое внимание к памятникам средневековья, познакомил меня с еще сохранившимися руинами, обломками, печатями, документами и даже попытался внушить мне любовь к так называемым миннезингерам и авторам героических поэм. Этому славному человеку, так же как и господину Коху, я был многим обязан, и, если бы все свершалось согласно их воле и желанию, я оказался бы обязанным им счастьем всей моей жизни. Произошло это так.
Шепфлин, с юных лет пребывавший в высокой сфере государственного права, отлично знал, сколь большое влияние при дворах и кабинетах приобретает одаренный и умный человек, благодаря научным исследованиям в этой и в смежных областях, и посему чувствовал непреодолимое, несправедливое отвращение к занятиям цивильным правом; это же мнение он сумел внушить и своим ученикам. Оба вышеназванных человека, друзья Зальцмана, обратили на меня свое благосклонное внимание. Мою способность горячо и страстно схватывать предметы внешнего мира, умение говорить, ясно излагать их достоинства, они ценили больше, нежели я сам. Разумеется, они понимали, как вяло, даже принужденно, занимался я цивильным правом, это при моей-то хорошо им известной податливости! Из любви к университетской жизни я тоже не делал секрета, и посему они надеялись приохотить меня, сначала исподволь, а потом и более решительно, к истории, государственному праву, риторике. Страсбург был весьма подходящим местом для таких занятий. Виды на должность в немецкой канцелярии Версаля, пример Шепфлина, чьи заслуги мне, правда, казались недосягаемыми, должны были подстрекнуть меня если не подражать ему, то хотя бы следовать его примеру: кто знает, таким образом, возможно, развился бы похожий талант, почетный для того, кто мог им похвалиться, и полезный для тех, кто нашел бы ему применение. Оба моих покровителя, а заодно с ними и Зальцман, очень ценили мою память и способность схватывать сущность языков, этим мотивируя свои надежды и предложения.
Почему из всего этого ничего не вышло и как случилось, что из французского лагеря я вновь перекочевал в немецкий, я и собираюсь здесь рассказать. Но для перехода да будет мне позволено сделать несколько общих замечаний.
Много ли мы знаем жизнеописаний, рисующих безмятежное, спокойное, непрерывное развитие индивидуума? Жизнь наша, как и то целое, составными частями которого мы являемся, непостижимым образом слагается из свободы и необходимости. Наша воля — предвозвещение того, что мы совершим при любых обстоятельствах. Но эти же обстоятельства на свой лад завладевают нами. «Что» определяем мы, «как» редко от нас зависит, о «почему» мы не смеем допытываться, и оттого нам справедливо указывают на «quia»[27].
Французский язык я любил с юных лет. Я узнал его среди жизни более подвижной, и благодаря ему узнал эту подвижную жизнь. Усвоил я его, как родной язык, без грамматики, без специальных знаний, благодаря практике и обиходу. Потом мне захотелось еще свободнее овладеть им, и потому я предпочел Страсбургский университет всем другим высшим школам. К сожалению, надежды мои не сбылись, в Страсбурге я скорее отошел от французского языка и нравов, чем приблизился к ним.
Французы, вообще старающиеся быть учтивыми, весьма снисходительны к иностранцам, которые только начинают говорить по-французски; им и в голову не придет смеяться над вашими ошибками или бранить вас. Не терпя, однако, прегрешений против своего языка, они обычно, как бы подтверждая, повторяют сказанное вами, но уже прибегают к другому обороту, то есть к тому, который следовало бы употребить в данном случае, и таким образом подталкивают разумного и внимательного собеседника на правильный путь.
Как ни много это дает тому, кто серьезно относится к изучению языка, тому, у кого хватает смирения считать себя школяром, здесь все-таки чувствуешь себя униженным и вдобавок слишком часто отвлекаешься от сущности разговора, отклоняешься в сторону, так что в конце концов уже не хватает терпения продолжать его. Мне все это приходилось сносить чаще, чем другим, ибо я всегда надеялся сказать что-нибудь интересное, да и ответ хотел услышать толковый, мне же просто указывали на неправильность речи; а случалось это нередко, ибо мой французский язык был пестрее языка других чужестранцев. Я заимствовал обороты речи и ударения у слуг, камердинеров, стражников, у молодых и старых актеров, у театральных любовников, пейзан и героев; это вавилонское столпотворение усложнялось еще больше благодаря некоему причудливому ингредиенту — я любил слушать французских проповедников-реформистов и тем охотнее посещал их церкви, что таким образом воскресная прогулка в Бокенгейм становилась для меня не только дозволенной, но даже обязательной. Но и это еще не все. В молодые годы, когда меня так сильно влекла к себе немецкая жизнь XVI столетия, я перенес свое расположение и на французов этой великолепной эпохи. Монтень, Амио, Рабле, Маро были моими друзьями, волновали и восхищали меня. Все эти разнородные элементы хаотически переплетались в моей речи, так что слушатель по большей части не улавливал содержания из-за странности оборотов, и любой образованный француз бывал вынужден уже не только учтиво поправлять меня, но бранить и поучать. В общем, со мной повторилась лейпцигская история, с тою лишь разницей, что на сей раз я уже не мог ссылаться на право моей родины и других провинций говорить на местном диалекте, а был вынужден здесь, на чужой земле, подчиняться раз установленным законам.
Возможно, мы бы и смирились с этим, если бы злой дух не нашептывал нам, что любые усилия иностранца овладеть французским языком все равно останутся безуспешными, ибо опытный слух и под французской маской прослышит немца, итальянца, англичанина; его будут терпеть, но в лоно единой правоверной церкви языка он принят не будет.
Исключения здесь бывали редки. Нам, правда, называли некоего господина фон Гримма, но даже сам Шепфлин, как утверждалось всеми, не достиг этой вершины. Французы отдавали ему должное, признавая, что он рано понял необходимость изъясняться по-французски в совершенстве, одобряли его общительность и прежде всего любовь занимать разговором людей знатных и высокопоставленных; даже восхваляли его за то, что на этом поприще он старался сделать французский своим родным языком и превратиться в подлинно французского оратора и собеседника. Но что дало ему отречение от родного языка, все усилия овладеть чужим? Ни у кого он не заслужил одобрения. Его находят тщеславным; как будто человек, лишенный чувства собственного достоинства и самодовольства, может пожелать себе и приобрести репутацию души общества. Что же касается тонких знатоков света и языка, то они утверждают, что он скорее читает лекции или дискутирует, чем ведет беседу в точном смысле этого слова. Первое всеми признается за наследственный и коренной недостаток немцев, последнее — за главное достоинство французов. Как публичному оратору ему приходится не лучше. Стоит ему опубликовать тщательно обработанную речь — обращение к королю или владетельным князьям, как его уже подстерегают иезуиты, видящие в нем врага-протестанта, и указывают на неправильности его французских оборотов.
Вместо того чтобы на этом успокоиться и по молодости лет терпеливо сносить то, что сносили старцы, мы досадовали на эту придирчивую несправедливость. Мы отчаивались, мы на этом ярком примере убеждались, что, по существу, все наши старания удовлетворить французов тщетны, ибо те придают слишком большое значение внешним формам, более того — всё им подчиняют. Посему мы приняли обратное решение: совсем отказаться от французского и с тем большим рвением и серьезностью посвятить себя родному языку.
И в этом нам навстречу тоже пошла сама жизнь. Эльзас был еще так недавно связан с Францией, что стар и млад сохраняли любовную приверженность к былому устройству, обычаям, языку и костюмам. Если побежденный теряет по принуждению половину своего достояния, то добровольно отдать еще и вторую половину он считает позором. И поэтому крепко держится за все, что может напомнить ему доброе старое время, тешит себя надеждой на возвращение той счастливой поры. Многие жители Страсбурга составляли самостоятельные, но объединенные общим образом мыслей кружки, постоянно расширявшиеся и пополнявшиеся за счет многочисленных подданных немецких князей, владевших большими землями, которые входили в состав Французского королевства; и отцы и сыновья из-за дел или из-за ученья обычно задерживались в Страсбурге на более или менее долгое время.
За нашим столом тоже слышалась лишь немецкая речь. Зальцман говорил по-французски весьма бегло и элегантно, но по всем своим устремлениям и деятельности, бесспорно, был истинным немцем; Лерзе мог бы служить образцом немецкого юноши; Мейер из Линдау предпочитал что-то небрежно цедить по-немецки, нежели утруждать себя разговором на французском. Среди остальных если кто-нибудь и тяготел к галльской речи и обычаям, то, попав в нашу компанию, невольно подчинялся общему тону.
Отношение к языку мы перенесли и на дела государственные. Правда, о нашем имперском управлении ничего хорошего сказать было нельзя; мы признавали, что оно состоит из сплошных злоупотреблений законом, и все же оно значительно возвышалось над тогдашней французской государственностью, окончательно запутавшейся в беззакониях и злоупотреблениях, причем правительство если и проявляло энергию, то всегда неуместную, и многие, уже не таясь, предрекали ему мрачное будущее и поговаривали о предстоящих переменах.
Когда же мы обращали взоры к северу, то Фридрих светил нам, как некая Полярная звезда, вокруг которой вращались Германия, Европа, более того — весь мир. Превосходство его сказалось уже в том, что во французской армия намеревались ввести прусскую муштру и даже прусскую палку. Мы охотно прощали ему пристрастие к чужому языку, ибо с удовлетворением отмечали, что любезные его сердцу французские поэты, философы и литераторы продолжают его гневить постоянными заявлениями, что он в литературе не более как выскочка.
Но сильнее всего отдаляло нас от французов их постоянное неучтивое утверждение, что все немцы, равно как и их тяготеющий к французской культуре король, лишены вкуса. Мы старались успокоить себя полнейшим пренебрежением к такому припеву, сопровождающему любой отзыв, но толком в этом разобраться не умели — тем более что нас пытались уверить, будто еще Менаж говорил, что французские писатели обладают чем угодно, только не вкусом. Из современного Парижа до нас тоже доходило мнение, что всем новейшим писателям недостает вкуса и что даже сам Вольтер не чужд сего величайшего недостатка. С давних пор постоянно отсылаемые к природе, мы не желали ничего признавать, кроме искренности и правдивости чувства, а также непосредственного, неприкрашенного его выражения.
А братство, дружба и любовь
Себя не сами ль выражают? —
это был лозунг, боевой клич, которым себя услаждали и по которому опознавали друг друга члены нашего маленького университетского племени. Та же максима объединяла нас во время наших товарищеских пирушек, разумеется, частенько посещавшихся дядюшкой Михелем во всем его немецком обличье.
Если в вышесказанном можно усмотреть лишь случайные, внешние побуждения и личные свойства, то и сама по себе французская литература обладала многими качествами, способными скорее оттолкнуть, чем привлечь мятущегося юношу. Она была стара и аристократична, а ни то, ни другое не может удовлетворить жаждущую жизни и свободы молодежь.
Начиная с XVI столетия развитие французской литературы никогда полностью не обрывалось, более того — внутренние политические и религиозные распри, равно как и внешние войны, лишь способствовали ее успехам. Но уже сто лет назад, по всеобщему утверждению, она достигла полноты расцвета. В силу благоприятных обстоятельств как-то вдруг созрел и был счастливо убран богатый урожай, так что даже величайшим талантам XVIII века пришлось довольствоваться подбиранием оста́льных колосьев.
А меж тем многое устарело, и прежде всего комедия, нуждающаяся в постоянном обновлении, чтобы пусть менее совершенно, но всегда по-новому приноравливаться к жизни и нравам. Многие трагедии вовсе сошли со сцены, и Вольтер не упустил случая переиздать Корнеля и показать, сколь несовершенен был тот его предшественник, до которого он, по общему мнению, не мог подняться.
И вот этот Вольтер, чудо своего времени, сам сделался так же стар, как и литература, которую он оживлял и в которой царил без малого целое столетие. Наряду с ним еще существовали и прозябали, в большем или меньшем бездействии, многие престарелые литераторы, постепенно сходившие со сцены. Влияние большого света на писателей становилось все явственнее, ибо лучшее общество, состоящее из лиц родовитых, сановных и богатых, избрало одним из главных своих развлечений литературу, и последняя, таким образом, стала светской и аристократической. Сановники и литераторы взаимно воздействовали друг на друга, и поневоле воздействовали превратно. Все аристократическое высокомерно; высокомерной сделалась и французская критика, все отрицающая, унижающая, суесловная. По ее мерке высший класс судил о писателях; писатели в несколько менее благопристойной форме — о своих собратьях и даже своих покровителях. Если не удается импонировать публике, значит, надо ошеломить ее или усмирить и таким образом подчинить себе; так, независимо от вопросов, тревоживших церковь и государство, возникло столь сильное литературное брожение, что даже Вольтеру понадобились вся его дееспособность, все его влияние, чтобы противостоять этому потоку всеобщего неуважения. О нем уже громко говорили как о старом своенравном ребенке; его неустанное трудолюбие рассматривали как тщеславные домогательства пережившего себя старца; никто более не ценил и не почитал принципов, на которых он неизменно настаивал и распространению которых посвятил всю свою жизнь. Даже бога, исповедуемого им во избежание обвинении в атеизме, уже не ставили ни во что. И вот он, праотец и патриарх, должен был, как самый молодой из его соперников, ловить момент, добиваться новых милостей, слишком много добра делать своим друзьям и слишком много зла своим недругам, под видом страстного правдолюбия действовать двулично и лживо. Надо ли было затрачивать столько усилий на такую деятельную, такую большую жизнь, если под конец она сделалась более зависимой, чем была вначале? От его высокого духа, от его повышенной чувствительности не укрылась вся нестерпимость этого состояния; иногда, рывком, он вдруг облегчал свою душу, давал волю своему остроумию, направо и налево наносил удары рапирой, к вящему неудовольствию друзей и врагов, ибо каждый полагал, что снисходит к старику, тогда как никто не мог с ним сравниться. Публика, привыкшая слушать лишь суждения стариков, начинает умничать не по летам, а что может быть менее состоятельным, чем зрелое суждение, воспринятое незрелым духом?
Мы, юноши, с нашей немецкой любовью к природе и правде почитали добросовестность по отношению к себе и другим наилучшей путеводной нитью; пристрастная недобросовестность Вольтера, его превратные истолкования многих достойных уважения вещей все больше сердили нас, и мы день ото дня укреплялись во враждебном к нему отношении. Он с неутомимой энергией унижал религию и священные книги, на которых она основана, чтобы досадить так называемым попам, и это нередко вызывало во мне неприятное ощущение. Когда же я услышал, что он, стараясь опровергнуть легенду о всемирном потопе, отрицает существование окаменелых раковин, объявляя их попросту игрою природы, я окончательно в нем изверился: ведь на Башберге я собственными глазами видел, что нахожусь на древнем высохшем морском дне среди останков его первородных обитателей. Да, эти горы некогда были покрыты водами, до всемирного потопа или во время его, какое мне до этого дело? Хватит того, что я знаю: Рейнская долина была огромным озером, необозримым заливом — в этом никто не мог разубедить меня. Напротив, я надеялся расширить свои знания о странах и горах, к чему бы это меня ни привело.
Итак, французская литература была стара и аристократична как сама по себе, так и благодаря Вольтеру. Посему мы позволим себе высказать еще несколько мыслей об этом примечательном человеке.
С юных лет все помыслы и усилия Вольтера были направлены на общественную жизнь, политику, продвижение на широком поприще, на приобретение связей с властителями мира и использование этих связей для того, чтобы самому властвовать над миром. Мало кто ставил себя в такую зависимость для того, чтобы добиться независимости. Зато ему и удалось подчинить себе умы — вся нация ему покорилась. Тщетно старались его враги развить свои заурядные таланты и неимоверную ненависть: ничто не шло ему во вред. Правда, французский двор так и не примирился с ним, но зато иноземные государи стали его данниками. Великие Екатерина и Фридрих, Густав Шведский, Христиан Датский, Понятовский, король Польши, Генрих Прусский, Карл Брауншвейгский признали себя его вассалами; даже папы считали долгом укрощать его своей уступчивостью. То, что Иосиф Второй сторонился Вольтера, не способствовало славе этого государя; и ему, и его начинаниям пошло бы на пользу, если бы, при столь обширном уме, столь благородных убеждениях, он сам был бы несколько более остроумен и лучше бы умел ценить великого острослова.
То, что я излагаю здесь сжато и до известной степени связно, в ту пору звучало для нас как зов времени, как вечный диссонанс, бессвязный и ничему не поучающий. Мы постоянно слышали лишь восхваление предков. Правда, раздавались требования хорошего, нового, но новейшего все чурались. Едва только французский патриот вывел на давно окаменевшей сцене национальные и возвышающие душу мотивы, едва только успела с потрясающим успехом пройти «Осада Кале», как эта пьеса, заодно с ее отечественными собратьями, была объявлена пустой и во всех отношениях порочной. Нравоописательные пьесы Детуша, которыми я так часто восхищался еще в детстве, стали считаться слабыми, имя этого достойного человека было предано забвению; и сколько еще таких писателей я мог бы назвать, но стоило мне выказать интерес к ним и к их произведениям, как люди, увлеченные современным литературным потоком, обвиняли меня в провинциальности суждений.
Потому-то мы вызывали все возрастающее недовольство своих одноплеменников. В силу наших убеждений, в силу наших природных особенностей мы любили подолгу вынашивать впечатления, медленно их перерабатывать, и если уж нам суждено было их публиковать, то, по мере возможности, нескоро. Мы были убеждены, что добросовестная приметливость, усидчивое занятие одним и тем же в конце концов позволяют что-то извлечь из любого предмета, а длительное рвение непременно приведет к тому, что любой мысли можно будет подыскать и обоснование. Мы сознавали также, что обширный и прекрасный мир французской культуры дает нам немало возможностей и преимуществ, ибо Руссо и вправду много значил для нас. Но ведь если поразмыслить над его жизнью и судьбой, то окажется, что высшей наградой за все им содеянное он должен был считать то, что ему, безвестному и позабытому, было позволено жить в Париже.
Если речь заходила об энциклопедистах и мы раскрывали один из томов их грандиозного творения, казалось, что проходишь среди бесчисленных веретен и ткацких станков огромной фабрики, где от непрерывного стука и жужжания, от всех этих смущающих глаз и чувства механизмов, от непостижимости всего многообразного и взаимосвязанного устройства, потребного для изготовления кусочка сукна, тебе становится противен твой собственный сюртук.
Дидро был нам значительно ближе, ибо во многом, за что его порицают французы, он был настоящим немцем. Но и его точка зрения была слишком возвышенна, а горизонт слишком широк, чтобы мы могли приобщиться к нему, встать на его сторону. Однако его дети природы, которых он сумел возвысить и облагородить своим ораторским искусством, пришлись нам очень по вкусу, а его мужественные браконьеры и контрабандисты восхищали нас; весь этот сброд впоследствии не в меру расплодился на немецком Парнасе. Дидро, как и Руссо, внушал своим читателям отвращение к светской жизни, и это была как бы скромная прелюдия к тем грандиозным мировым переменам, в которых, казалось, должно погибнуть все сущее.
Но нам надлежит еще отвлечься в сторону и поговорить о том, как влияли оба эти писателя на искусство. Они тоже отсылали, вернее — даже оттесняли, нас к природе.
Наивысшая задача любого искусства — видимостью создавать иллюзию более высокой действительности. Но порочно придавать этой видимости правдоподобие до тех пор, покуда не останется одна лишь обыденщина.
Сцена, то есть идеальная территория, сильно выиграла благодаря применению законов перспективы к поставленным одна за другой кулисам, и этим-то преимуществом теперь пожелали своенравно поступиться, замкнуть стены театра и образовать настоящие комнатные стены. Предполагалось, что с таким изменением сцены изменятся и пьесы, и манера игры актеров — короче говоря, изменится все, и возникнет новый театр.
Французские актеры достигли в комедии вершины художественной правды. Парижская жизнь, наблюдение за придворными обычаями и повадками, любовные связи актеров и актрис с высокопоставленными особами — все способствовало перенесению на сцену изящества, хорошего тона светской жизни; против этого друзьям природы нечего было возразить. Но они считали, что сделают большой шаг вперед, если для своих пьес начнут избирать серьезные и трагические сюжеты, достаточно часто встречающиеся и в обыденной жизни, для выражения высоких чувств прибегнут к прозе и таким образом мало-помалу заодно с неестественными стихами изгонят со сцены неестественную декламацию и жестикуляцию.
Весьма примечательно, хотя и осталось почти незамеченным, что в то время даже старой, строгой, ритмической и построенной согласно всем правилам искусства трагедии стали угрожать революцией, предотвратить каковую могли лишь недюжинные таланты и сила традиции.
Случилось так, что актеру Лекену, который играл своих героев с необыкновенной театральной благопристойностью, приподнятостью и силой, пренебрегая всем естественным и обычным, как бы противопоставил себя некий Офрен, ополчившийся на все неестественное и в своих трагических ролях пытавшийся приблизиться к высшей правде. Такой образ действий пришелся не по вкусу всей остальной актерской братии Парижа. Офрен был один, они же сплотились; тогда он, упрямо настаивая на своем, предпочел покинуть Париж и проездом оказался в Страсбурге. Здесь мы и увидели его, играющего Августа в «Цинне», Митридата и другие роли с правдивейшим, подлинно человеческим достоинством. На сцену выходил красивый, рослый человек, скорее стройный, чем плотный, наружности не столько внушительной, сколько благородной и привлекательной. Играл он обдуманно, спокойно, без холодности и там, где это требовалось, достаточно сильно. Офрен был очень опытный актер, один из немногих, умеющих искусство превращать в природу и природу в искусство. Неправильно понятые достоинства таких, как он, и служат поводом для обвинении в ложной естественности.
Поэтому я и хочу еще упомянуть о небольшом, но на свой лад сделавшем эпоху произведении — о «Пигмалионе» Руссо. О нем можно было бы сказать многое, ибо это причудливое произведение колеблется между природой и искусством в ложном стремлении растворить первую во втором. Мы видим здесь художника, который создал совершеннейшее творение, но не удовлетворился тем, что художественно воплотил вовне свою идею и сообщил ей высшую жизнь; нет, ему понадобилось еще стянуть ее к себе вниз, в обыденную жизнь. Высшее создание духа и деяния он пожелал разрушить низменнейшей чувственностью.
Все это и многое другое, справедливое и вздорное, верное и лишь наполовину верное, что на нас воздействовало, еще больше путало наши понятия; мы блуждали кружными путями, и так с разных сторон подготавливалась немецкая литературная революция, свидетелями которой мы были и которой, сознательно или бессознательно, волей или неволей, но неудержимо содействовали.
К философскому просвещению и совершенствованию мы не чувствовали ни влечения, ни склонности, в религиозных вопросах считали себя и без того просвещенными, и потому яростный спор французских философов с духовенством оставался для нас довольно безразличным. Запрещенные и приговоренные к сожжению книги, привлекавшие тогда всеобщее внимание, на нас не производили впечатления. Вспоминаю хотя бы «Systéme de la nature»[28], в которую мы заглянули из любопытства. Нам было непонятно, как могла такая книга считаться опасной. Она казалась нам до такой степени мрачной, киммерийской, мертвенной, что неприятно было держать ее в руках; мы содрогались перед ней, как перед призраком. Автор ее полагал, что необычайно выгодно рекомендует свою книгу, заверяя читателя, что вот-де он, отживший старец, одной ногой уже стоящий в могиле, хочет возвестить истину современникам и потомству.
Мы осмеивали его, ибо считали, что подметили истину, — старые люди ничего не ценят в мире хорошего и достойного любви. «В старых церквах темные стекла», «Каковы на вкус вишни и ягоды, спрашивайте у детей и воробьев», — вот были наши любимые поговорки; и потому эта книга, настоящая квинтэссенция старчества, казалась нам невкусной, более того — безвкусной. Все сущее необходимо, говорилось в ней, и потому бога нет. «А разве нет необходимости в боге?» — спрашивали мы, при этом признавая, конечно, что от непреложных законов — смены дня и ночи, времен года, климатических условий, физических и животных состояний — никуда, собственно, не денешься; все же мы ощущали в себе нечто, казавшееся нам полнейшим произволом, и опять-таки нечто, стремящееся этот произвол уравновесить.
Мы не могли расстаться с надеждой, что со временем будем делаться все разумнее, все независимее от внешних обстоятельств, более того — от самих себя. Слово «свобода» звучит так прекрасно, что от него невозможно отказаться, хотя бы оно и обозначало лишь заблуждение.
Никто из нас не дочитал эту книгу до конца, ибо, раскрыв ее, мы обманулись в своих ожиданиях. Она сулила нам изложение системы природы, и мы и вправду надеялись узнать из нее что-нибудь о природе, нашем кумире. Физика и химия, описания земли и неба, естественная история, анатомия и многое другое с давних пор и до последнего дня указывали нам на великолепие мира, и мы, конечно, хотели узнать как частное, так и более общее о солнцах и звездах, о планетах и лунах, о горах, долинах, реках, морях и обо всем, что живет и движется в них. А что тут должно было выйти на свет многое, простому человеку кажущееся вредным, духовенству опасным, а государству недопустимым, в этом мы не сомневались и надеялись, что книжка достойно выдержала испытание огнем. Но как же пусто и неприветно стало у нас на душе от этого печального атеистического полумрака, закрывшего собой землю со всеми ее образованиями, небо со всеми его созвездиями. Материя, утверждала книга, неизменна, она постоянно в движении, и благодаря этому движению вправо, влево и во все стороны без дальнейших околичностей возникают все бесконечные феномены бытия. Мы бы этим удовлетворились, если бы автор из своей движущейся материи на наших глазах построил мир. Но он, видимо, так же мало знал природу, как и мы, ибо, твердо установив некоторые основные понятия, тотчас же забывал о них, чтобы превратить то, что выше природы, или высшую природу в природе, в природу материальную, тяжелую, правда, подвижную, но расплывчатую и бесформенную, полагая, что этим достигает очень многого.
Если упомянутая книга до некоторой степени нам и повредила, то разве в том отношении, что после нее нам опротивела всякая философия, особенно же метафизика, и мы с тем большей горячностью набросились на живое знание, опыт, действие и поэзию.
Итак, на границе Франции мы вдруг, одним махом, освободились от всего французского. Образ жизни французов мы объявили слишком определенным и аристократичным, их поэзию — холодной, их критику — уничтожающей, философию — темной и притом недостаточно исчерпывающей, и уже готовы были, хотя бы в порядке опыта, предаться дикой природе, если бы другое влияние уже в течение долгого времени не подготавливало нас к более высоким, свободным и столь же правдивым, сколь и поэтичным взглядам на мир, к духовным наслаждениям, которые сначала тайно и незаметно, а потом все более явно и властно завладели нами.
Едва ли нужно пояснять, что я имею в виду Шекспира, но раз уж это сказано, то все дальнейшие объяснения становятся излишними. Шекспир оценен немцами больше, чем всеми другими нациями, может быть, больше, чем его собственной. Мы отнеслись к нему так справедливо, доброжелательно и бережно, как никогда не относились друг к другу, выдающиеся люди всегда старались показать его духовные дары в благоприятнейшем свете; я был готов подписаться подо всем, что говорилось к его чести, в его пользу и даже в его оправдание. Мне уже раньше довелось писать о том, какое влияние оказал на меня этот великий человек, а также опубликовать кое-какие заметки о его вещах, встреченные с одобрением. Посему я сейчас ограничусь этой общей декларацией, а впоследствии, когда представится случай, сообщу друзьям, желающим меня выслушать, еще кое-какие мысли о его величайших заслугах, которые я поначалу собирался изложить здесь.
Теперь же расскажу только о том, как я узнал его. Произошло это в сравнительно раннюю пору, в Лейпциге, благодаря книге Додда «Beauties of Shakespeare»[29]. Что бы ни говорилось о сборниках, которые преподносят нам произведения в раздробленном виде, они все-таки очень полезны. Ведь мы не всегда бываем достаточно сосредоточенны и проницательны, чтобы должным образом воспринять большое произведение в целом. И разве мы не подчеркиваем в книге строки, непосредственно нас затрагивающие? В особенности молодые люди, еще недостаточно образованные, приходят в восторг, весьма похвальный, от отдельных блистательных мест. Так и я до сих пор почитаю одной из прекраснейших Эпох моей жизни ту, которая была отмечена чтением этой книги. Великолепная своеобычность Шекспира, незабываемые изречения, меткие характеристики, юмористические черточки — все это поражало и потрясало меня.
И вот появился перевод Виланда. Мы жадно проглотили его и стали рекомендовать друзьям и знакомым. Нам, немцам, везло в том смысле, что многие произведения других народов были с первого же раза легко и хорошо переведены на немецкий язык. Шекспир в прозаическом переводе, сначала Виланда, а потом Эшенбурга, был понятен любому читателю, почему он и получил столь широкое распространенно и оказал столь большое влияние. Я высоко ценю ритм, рифму — только благодаря им поэзия и становится поэзией, но собственно глубокое, подлинно действенное, воспитующее и возвышающее — это то, что остается от поэтического произведения, когда оно переведено прозой. Только тогда мы видим чистое, неприкрашенное содержание, ибо внешний блеск нередко подменяет его, если оно отсутствует, и заслоняет, если оно имеется. Поэтому я считаю, что для первоначального воспитания молодежи произаический перевод предпочтительнее поэтического; ведь известно, что мальчики, всё готовые обратить в шутку, забавляются звучностью слов, каденцией слогов и, задорно пародируя поэтическое произведение, разрушают благороднейшее его содержание. Поэтому я предлагаю подумать над тем, не следует ли прежде всего создать прозаический перевод Гомера, но, разумеется, чтобы он был не ниже того уровня, которого теперь достигла немецкая проза. Пусть над этим, так же как и над вышесказанным, поразмыслят наши уважаемые педагоги, располагающие обширным опытом в этой области. Чтобы подкрепить мое предложение, напомню только о Лютеровом переводе Библии; ибо то, что этот превосходный муж перевел сие произведение, чрезвычайно пестрое по стилю, и сумел весь его тон, то поэтический, то исторический, то повелительный, то поучающий, отлить как бы из одной формы на нашем родном языке, больше способствовало упрочению религии, чем если бы он пожелал подражать тем или другим особенностям оригинала. После него все старания усладить нас в поэтической форме книгой Иова, псалмами и другими песнями остались тщетными. Для толпы, на которую надо воздействовать, такой простой перевод — наилучший. Критические переводы, соперничающие с оригиналом, служат, собственно, лишь для развлечения ученых мужей.
Итак, в нашем страсбургском кругу Шекспир в переводе и в оригинале, частями и в целом, в отрывках и в извлечениях так влиял на нас, что мы, наподобие людей, посвящающих свою жизнь изучению Библии, все более и более глубоко проникались его произведениями, в разговорах подражали добродетелям и недостаткам его времени, с которыми он нас ознакомил, хохотали над его каламбурами и соперничали с ним, переводя их или выдумывая собственные. Этому немало способствовало то, что я более других был охвачен энтузиазмом. Радостное сознание, что надо мной царит какой-то высший дух, заразительно подействовало на моих друзей, которые стали держаться того же образа мыслей. Мы не отрицали возможности лучше узнать его достоинства, глубже понять и вникнуть в них, но это предоставлялось позднейшим эпохам. Покуда же мы хотели только радоваться ему, живо все перенимать и в благодарность за великое наслаждение, которое нам доставлял Шекспир, не заниматься разборами и исследованиями, но безусловно его почитать.
Тот, кто захочет поподробней узнать, что в ту пору думали, говорили и обсуждали в нашей беспокойной компании, пусть прочтет статью Гердера о Шекспире в его книге «О немецком характере и искусстве», а также «Замечания о театре» Ленца, к которым был приложен его перевод «Тщетных усилий любви». Гердер глубже проникает в сущность Шекспира и великолепно воссоздает ее; Ленц яростно штурмует театральные традиции, требуя, чтобы все и вся действовали по образу и подобию Шекспира. Поскольку я уже упомянул здесь об этом столь же одаренном, сколь и странном человеке, будет уместно сказать о нем несколько слов. Я познакомился с ним уже под конец моего пребывания в Страсбурге. Встречались мы редко, так как вращались в разном обществе, но все же искали случая встретиться и доверительно относились друг к другу, ибо были юношами одной эпохи и имели сходные убеждения. Ленц был мал ростом, но ладно сложен, с прелестной головой, изящной форме которой вполне соответствовали миловидные, но несколько расплывчатые черты; голубые глаза, белокурые волосы — короче говоря, фигурка, время от времени встречающаяся среди северных юношей. Походка у него была мягкая и как бы осторожная, речь приятная, но не совсем беглая, манеры не то сдержанные, не то робкие, что очень красит молодых людей. Он очень хорошо читал маленькие стихотворения, особенно свои собственные, и легко писал их. Его образ лучше всего характеризовался английским словом «whimsical»[30], которое, как гласит словарь, в одном понятии объединяет разные странности. Может быть, именно поэтому никому не было дано в такой мере понимать все излишества и причуды шекспировского гения и подражать им. Вышеупомянутый перевод служит этому доказательством. Ленц обошелся с оригиналом весьма свободно, меньше всего придавая значения точности и буквальности, но сумел так приладиться к доспехам, вернее — к шутовскому наряду, своего предшественника, с таким юмором воспроизвести его ужимки, что, конечно, должен был иметь большой успех у тех, кому все это по вкусу.
Нелепые выходки шута доставляли нам истинное наслаждение, и мы всячески превозносили Ленца за то, что ему так удалась эпитафия застреленному принцессой оленю:
Красотка принцесса попала стрелой
Молодому оленю в ляжку.
Простился с жизнью олень молодой
И нам пойдет на кашку.
Hirsch — по-немецки есть олень;
Теперь смекай, кому не лень.
Немецкий Hirsch с немецким L
Есть олененок — Hirschel.
Немецкий Hirsch с латинским L
Уже полсотни Hirschel.
Я сто оленей напложу,
Коль Hirsch с LL я напишу.
Склонность к абсурдному, которая в молодости проявляется свободно и без стеснения, впоследствии же, и оставаясь в силе, прячется поглубже, процветала в нашей компании, и мы в честь своего великого учителя изощрялись на все лады в придумыванье оригинальных шуток. Гордости нашей не было конца, когда нам удавалось предложить обществу нечто более или менее заслуживающее внимания, как, например, эпиграмма на учителя верховой езды, который расшибся при падении с необъезженной лошади:
Наездник снял квартиру — там,
А мастер — в этом месте,
Я мастера езды создам,
Связав обоих вместе.
Коль мастер он в езде — везде
Он ездить может смело;
Беда тогда, когда езде
До мастера нет дела.
Подобные произведения обсуждались всерьез: достойны они шекспировского шута или недостойны, вылились они из подлинного чистого источника шутовства или к ним неуместным и недопустимым образом примешались смысл и рассудок. Все эти странности получили широкое распространение и захватили многих людей с той поры, как Лессинг, пользовавшийся большим доверием, подал к ним первый сигнал в своей «Драматургии».
В такой шумной и неспокойной компании мне довелось совершить несколько приятных поездок в Верхний Эльзас, из которых я — впрочем, именно по этой причине — и не вынес ничего поучительного. Множество мелких стихов, возникавших у нас по любому случаю, — впоследствии они могли бы украсить описание путешествия, — затерялось. В галерее аббатства Мольсгейм мы любовались витражами; плодородный край между Кольмаром и Шлетштадтом оглашался шутливыми гимнами Церере, прославлявшими обильное потребление плодов и весело разбиравшими важный и спорный вопрос о свободе или ограничении торговли фруктами. В Энзисгейме мы видели огромный метеорит, подвешенный в церкви, и со свойственным нашему времени скептицизмом потешались над людским легковерием, не предполагая, что сии сыны воздуха если и не будут падать на наши собственные нивы, то, во всяком случае, будут храниться в наших собраниях редкостей.
До сих пор я с удовольствием вспоминаю паломничество на гору святой Оттилии вместе с сотнями, а может быть, и тысячами верующих. Сюда, где еще сохранился каменный фундамент римской крепости, в эти руины и скалы, по преданию, некогда удалилась набожная и прекрасная графская дочь. Неподалеку от часовни, где молятся паломники, показывают ее колодец и рассказывают о ней прелестные легенды. Образ ее, мне представившийся, а также самое имя глубоко запечатлелись в моем сердце. Я долго вынашивал их и наконец нарек ее именем и снабдил ее чертами одну из моих поздних, но оттого не менее любимых дочерей, которая была так благосклонно встречена всеми кроткими и чистыми сердцами.
С этой вершины взору опять открывается прекрасный Эльзас, все тот же и вечно новый; как в амфитеатре, где бы ты ни сел, ты видишь весь народ и, всего отчетливее, своих соседей, так здесь видятся кустарник, скалы, холмы, леса, поля, луга и деревушки, близкие и дальние. Нас даже уверяли, будто на горизонте вырисовывается Базель; не поручусь, что я его видел, но отдаленная синева швейцарских гор оказала на нас свое воздействие, маня нас к себе, а так как мы не могли последовать ее зову, то в душе осталось какое-то болезненное чувство.
Всем этим прогулкам и увеселениям я предавался охотно, более того — до опьянения, ибо мое страстное чувство к Фридерике уже начинало тревожить меня. Такую юношескую, бездумно вскормленную любовь можно сравнить с выпущенною в ночи бомбой; чертя в своем полете тонкую блестящую линию, она взвивается к звездам, на мгновенье даже будто задерживается среди них и опять летит вниз, той же дорогой только в обратном направлении и, кончая свой лет, приносит гибель и разрушение. Фридерика оставалась такой же, как была, она, видимо, не думала, не хотела думать, что наша связь может кончиться так скоро. Но Оливия, тоже всегда с неохотой меня отпускавшая, хотя она и не теряла так много, была прозорливее или, может быть, откровеннее. Она иногда заговаривала со мной о возможной разлуке, старалась примириться с ней и примирить сестру. Девушка, которая оставляет мужчину, не отрицая любви к нему, не испытывает тех трудностей, которые испытывает юноша, столь же далеко зашедший в своих уверениях. Его роль всегда невыгодна; от него, в недалеком будущем мужчины, ждут известного понимания своего положения, и чрезмерное легкомыслие отнюдь его не красит. Причины отказа девушки неизменно признаются уважительными, юноши — никогда.
А между тем разве вкрадчивая страсть позволяет нам видеть, куда она нас ведет? Ведь она владеет нами и тогда, когда мы, вняв голосу рассудка, отрекаемся от нее; пусть по-иному, но мы еще тешимся милой привычкой. Так было и со мной. Если близость Фридерики и пугала меня, то я все же не знал ничего приятнее, чем в разлуке думать о ней, с нею беседовать. Я стал реже посещать Зезенгейм, но тем оживленнее была наша переписка. Она умела весело рассказывать мне о своей жизни, грациозно о своих чувствах, и я, с нежностью и страстью, перебирал все ее достоинства. Разлука давала мне свободу, и моя любовь по-настоящему расцветала лишь в этих беседах на расстоянии. В такие минуты я был совершенно слеп по отношению к будущему; бег времени и всевозможные занятия сильно отвлекали меня. До сих пор мое живое отношение к современности, к сегодняшнему дню помогало мне справляться с самыми разнообразными делами, но под конец все они нагромоздились друг на друга, как это обычно бывает накануне отъезда.
И еще одно случайное происшествие поглотило мои последние дни в Страсбурге. Я находился среди прочих гостей в одном загородном доме, откуда был отлично виден фасад собора и вздымающаяся над ним башня. «Как жаль, — заметил кто-то, — что собор остался незаконченным и эта башня единственной». — «Жаль также, — отвечал я, — что не закончена и эта единственная башня: четыре верхних завитка недостаточно заострены, их должны были венчать еще четыре легких шпиля и там, где теперь неуклюже торчит крест, один средний повыше».
Когда я, со своей обычной живостью, высказал это замечание, один маленький бойкий человечек спросил меня: «Кто вам это сказал?» — «Сама башня, — отвечал я. — Я так долго, внимательно и любовно всматривался в нее, что она решилась наконец открыть мне сию очевидную тайну». — «Она вас не обманула, — отвечал он, — кому же это и знать, как не мне, ведь я состою надзирателем соборного здания. У нас в архиве еще хранятся оригинальные чертежи, это подтверждающие, можете их посмотреть, если хотите». Ввиду предстоящего отъезда я стал просить его поскорее оказать мне эту любезность. Он пригласил меня и вынес мне бесценные свитки; я быстро срисовал шпили, отсутствующие на здании, и пожалел, что раньше не знал об этом сокровище. Но таков уж был мой удел: с трудом и только благодаря созерцанию и наблюдению предметов составлять себе понятие о них, зато, может быть, более яркое и плодотворное, чем то, которое получаешь из чужих рук.
В тоске и смятении я все же не мог еще раз не повидать Фридерики. То были тяжкие дни, и воспоминание о них во мне не сохранилось. Когда я, уже вскочив в седло, в последний раз протянул ей руку, слезы стояли у нее в глазах, у меня же на душе было очень скверно. Я поехал по тропинке в Друзенгейм, и вдруг мне явилось странное видение. Я увидел — не физическим, но духовным взором — себя самого, едущим мне навстречу по той же тропинке, в платье, какого я еще никогда не носил, — темно-сером с золотым шитьем. Когда я очнулся, виденье исчезло. Самое же странное, что восемь лет спустя в платье, которое привиделось мне и которое я надел не преднамеренно, а случайно, я ехал по той же дороге, чтобы еще раз навестить Фридерику. Что бы ни означали подобные видения, но странный призрак в эти первые минуты разлуки несколько успокоил меня. Смягчилась боль от того, что я навсегда покидаю прекрасный Эльзас и все, что мне там встретилось. Вырвавшись из горести расставания, я поехал дальше уже в лучшем и более мирном настроении.
Приехав в Мангейм, я, горя от нетерпения, тотчас же ринулся в зал древностей, о котором был много наслышан. Еще в Лейпциге, читая Винкельмана и Лессинга, у нас толковали об этих выдающихся произведениях искусства, но видеть их мне не доводилось, ибо кроме Лаокоона-отца и Фавна с кастаньетами в академии других слепков не было. Эзер же, если и говорил при случае об этих статуях, то, по обыкновению, довольно загадочно. Да и как прикажете внушать неофиту понятия о вершинах искусства?
Директор Фершафель оказал мне любезный прием. Один из его помощников пошел со мною и, отперев зал, оставил меня наедине с моими чувствами и мыслями. Охваченный бурею впечатлений, я стоял в просторном четырехугольном зале, из-за огромной своей высоты казавшемся почти кубическим; яркий свет падал в него из окон, расположенных высоко под самым карнизом. Великолепнейшие древние статуи были расставлены не только вдоль стен, но и посередине зала — целый лес статуй, через который надо было пробираться, великое сборище идеальных созданий, со всех сторон тебя обступавших. Все эти замечательные фигуры можно было освещать наивыгоднейшим образом, сдвигая и раздвигая занавеси; к тому же они были подвижны на своих постаментах и, подчиняясь твоей воле, вращались и поворачивались.
Выдержав минуту-другую первое впечатление от этой всепокоряющей толпы, я обратился к статуям, которые всего более меня привлекали. Кто станет отрицать, что Аполлон Бельведерский пропорциональностью своей гигантской фигуры, стройностью телосложения, свободным движением и победоносным взглядом прежде других одерживает победу над нашими чувствами? Затем я подошел к Лаокоону с сыновьями, которого здесь впервые увидел. По мере сил я постарался припомнить все противоречивые мнения о нем и сыскать собственную точку зрения, но меня все время отвлекало то одно, то другое. Я долго простоял перед умирающим гладиатором, но самые блаженные минуты пережил возле группы Кастора и Поллукса, этих бесценных, хотя и проблематических останков древних времен. Я еще не знал, что невозможно тотчас отдать себе отчет в том, что так радостно воспринял твой взор. Я принуждал себя размышлять и, пусть мне не удавалось прийти к какой-либо ясности, все же чувствовал, что каждый из этой великой толпы постижим, каждая деталь естественна и значительна.
Мое внимание в первую очередь приковалось к Лаокоону, и пресловутый вопрос, почему он не кричит, я решил для себя следующим образом: он и не может кричать. Действия и движения всех трех фигур уяснились мне из самой концепции группы. Напряженно необычная и в то же время высоко правдивая поза центральной фигуры обусловлена двумя причинами: Лаокоон тщится сбросить с себя змей, но в это же самое мгновение его тело прянуло назад от нестерпимой боли укуса. Чтобы смягчить эту боль, он невольно втягивает низ живота, и крик становится невозможным. Далее я решил, что младшего сына еще не укусила змея, и чего только я еще не надумал, стараясь объяснить себе силу художественного воздействия прославленной группы. Все это я изложил в письме к Эзеру, но он не обратил особого внимания на мою трактовку и в своем ответе лишь в общих чертах поощрил мое рвение. Но я все равно в течение многих лет радостно сберегал эту мысль, покуда она не воссоединилась наконец со всем моим опытом и моими убеждениями; об этом я и высказался позднее в «Пропилеях».
Насмотревшись столь многих великих произведений пластического искусства, я вкусил еще и первую радость знакомства с античным зодчеством. Мне попался слепок с капители Ротонды, и не стану отрицать, что вид этих огромных и в то же время изящных акантовых листьев несколько поколебал мою веру в северное зодчество.
Созерцание великих творений, сужденное мне в юности и оказывавшее на меня влияние в течение всей моей жизни, на первых порах почти никаких последствий для меня не имело. Сколь охотно начал бы я книгу с этого описания, вместо того чтобы заключать ее таковым, но не успели закрыться за мною двери дивного зала, как я ощутил потребность вновь вернуться к себе, постарался отбросить увиденное, как нечто враждебное тогдашним моим представлениям, и в круг этих образов вернулся, лишь проделав долгий окольный путь. И все же бесценна неспешная плодотворность впечатлений, которые мы вбираем в себя без дробящей их на части критики. Высшее это счастье даруется юноше только тогда, когда он, не критикуя, не исследуя и ничего не расчленяя, позволяет совершенному и прекрасному на себя воздействовать.
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
Странник наконец возвратился домой, более здоровым и жизнерадостным, чем в первый раз, хотя во всем его существе и чувствовалась нервическая взвинченность — свидетельство неполного душевного выздоровления. С самого начала я поставил свою мать перед необходимостью посредничать между мною и отцом, улаживая недоразумения, то и дело возникавшие из-за всевозможных проявлений моей эксцентричности и его неизменной любви к порядку. В Майнце мне до такой степени пришелся по душе один мальчик, игравший на арфе, что я пригласил его во Франкфурт, благо там вот-вот должна была открыться ярмарка, посулив ему приют и поддержку. В этом случае вновь сказалась слабость, столь дорого обходившаяся мне на протяжении всей моей жизни: любовь привечать и собирать вокруг себя более молодые существа, вследствие чего на меня, естественно, падало бремя забот о их дальнейшей судьбе. Одна неприятная история, следовавшая за другой, не заглушала во мне этой врожденной потребности, которая и поныне, несмотря на приобретенный опыт, иной раз завлекает меня в свои сети. Моя мать, будучи дальновиднее меня, понимала, сколь странным покажется отцу, что ярмарочный музыкант будет ходить из нашего респектабельного дома по постоялым дворам и харчевням, зарабатывая свой хлеб, и сумела устроить ему по соседству стол и квартиру. Я рекомендовал его своим друзьям, и ребенку, в общем-то, жилось неплохо; когда я встретил его через несколько лет, он был уже рослым и неотесанным парнем, очень мало преуспевшим в музыке. Славная женщина, она осталась довольна своей первой пробой в искусстве сглаживать и примирять, не чая, что в ближайшее время оно вновь и вновь понадобится ей. Отец, предаваясь обычным занятиям и застарелым пристрастиям, вел равномерную жизнь и чувствовал себя превосходно, как человек, осуществляющий свои планы вопреки всем препонам и задержкам. Я уже получил степень магистра, первый шаг по некрутой лестнице бюргерского благополучия был сделан. Диссертация заслужила одобрение отца, теперь он более подробно с ней знакомился и готовил ее к печати. За время пребывания в Эльзасе я написал множество небольших стихотворений, статей, путевых заметок и прочих мелочей. Отцу было интересно распределять их по рубрикам, приводить в порядок, требовать от меня завершения; к тому же он тешил себя надеждой, что мое непреодолимое отвращение к печатанию какой-либо из этих работ со временем пройдет. Сестра собрала вокруг себя кружок умных и приятных особ женского пола. Не будучи властолюбивой, она властвовала над ними, ибо была достаточно разумна, чтобы на многое смотреть сквозь пальцы, и обладала даром объединять и примирять, не говоря уж о том, что по самой ее сути ей скорее подобала роль наперсницы, чем соперницы. Из старых моих знакомцев неизменно верным другом и по-прежнему занятным собеседником оставался Горн; ближе сошелся я и с Ризе, не упускавшим случая испытывать и упражнять мою находчивость и, постоянно со мною споря, противопоставлять догматическому энтузиазму, в который я нередко впадал, сомнение и отрицание. Мало-помалу в наш круг вступали и другие, о ком я еще упомяну в дальнейшем, но изо всех, кто сделал мое пребывание в родном городе приятным и плодотворным, на первом месте, безусловно, стояли братья Шлоссеры. Старший, Иероним, солидный юрист, наделенный изящным и находчивым умом, снискал всеобщее доверие в качестве присяжного стряпчего. Прирожденный домосед, он больше всего любил проводить время среди своих книг и бумаг в комнатах, где царил величайших порядок; там я заставал его в неизменно добром и благожелательном расположении духа. Впрочем, он и в большой компании был приятным и занимательным собеседником, ибо его ум, благодаря широкому кругу чтения, был пропитан красотою древнего мира. Ему нравилось иной раз забавлять общество остроумными латинскими стихотворениями; у меня и по сей день сохранилось несколько его шутливых двустиший: они служили подписями к нарисованным мною карикатурам на некоторых франкфуртских оригиналов, пользовавшихся широкой известностью. Я частенько советовался с ним по разным житейским и деловым вопросам, касающимся моей только что начавшейся карьеры, и если бы сотни всевозможных склонностей, увлечений и страстей не сбили меня с этого пути, он стал бы надежнейшим моим руководителем.
Ближе по возрасту мне был другой брат, Георг, недавно вернувшийся из Трептова, где он служил у герцога Евгения Вюртембергского. Узнав свет и набравшись жизненного опыта, он преуспел также и в знании литератур, немецкой и иностранных. Как и прежде, он любил писать на всех языках, но меня это не трогало, так как, решив всецело посвятить себя родному языку, я изучал другие лишь затем, чтобы быть в состоянии, пусть с грехом пополам, в оригинале читать лучших авторов. Шлоссер оставался все тем же честным человеком, я бы даже сказал, что знакомство со светом заставило его еще строже, еще с большим упорством придерживаться своих благонамеренных убеждений.
Через этих своих друзей я вскоре познакомился и с Мерком, которому Гердер благосклонно рекомендовал меня в письме из Страсбурга. Этот своеобразный человек, имевший огромное влияние на мою жизнь, был родом из Дармштадта. Об образовании, полученном им в свое время, мне мало что известно. Закончив учение, он повез в Швейцарию одного юношу, прожил там довольно долгое время и вернулся женатым человеком. В пору нашего знакомства он был военным казначеем в Дармштадте. Умный и талантливый от природы, Мерк приобрел обширные знания новейших литератур и хорошо ориентировался в истории всех времен и народов. Острота и меткость его суждений были поистине необычайны. Его ценили как добропорядочного, инициативного чиновника, а также как отличного математика. Он легко сходился с людьми и был приятнейшим собеседником для тех, кого не успел отпугнуть язвительностью своих речей. Фигура у него была тощая и долговязая, острый нос резко выдавался на лице, голубые, вернее — серые, непрестанно бегающие глаза сообщали его взгляду что-то тигриное. Лафатерова «Физиогномика» сохранила для нас его профиль. В характере Мерка было заложено удивительное несоответствие: от природы честный, благородный и надежный человек, он озлобился на весь мир и позволил настолько возобладать в себе этой ипохондрической черте, что почувствовал неодолимое влечение слыть хитрецом, даже плутом. Только что спокойный и разумный, он в следующую минуту мог, точно улитка, вдруг выставить рога и выкинуть какой-нибудь фортель, больно уязвлявший другого, обидный, иной раз даже вредоносный. Но так как человек склонен заигрывать с опасностью, будучи уверен, что его она не коснется, то я любил водиться с ним и радовался его хорошим качествам, ибо какое-то непреложное чувство мне подсказывало, что никогда он ко мне не повернется дурной своей стороной. Но если дух беспокойства, потребность быть коварным и язвительным портили его отношения с людьми, то собственному его душевному миру мешало беспокойство другого рода, которое он не менее старательно в себе вынашивал. Дело в том, что его снедала дилетантская страсть к писательству, и он предавался ей тем азартнее, что умел с изящной легкостью выражать свои мысли в стихах и прозе и, следовательно, мог претендовать на какую-то роль среди лучших умов того времени. У меня еще сохранились его поэтические послания, неимоверно смелые, дерзостные, по-свифтовски желчные, поражающие оригинальностью взглядов на людей и на вещи, но преисполненные такой жалящей силы, что я и теперь не решился бы их опубликовать; подобные документы надо либо уничтожать, либо хранить для потомков как характерные свидетельства тайной распри в нашей литературе. Дух отрицания и разрушения, свойственный его перу, был обременителен для него самого, и он нередко говорил, что завидует моей невинной тяге к изображению, равно проистекающей от любования предметом и от его воспроизведения.
Вообще-то литературный дилетантизм принес бы ему скорее пользу, чем вред, не ощути он насущной потребности попытать счастья еще в технике и в коммерции. Ни с того ни с сего он начинал неистовствовать, кляня свою разностороннюю одаренность, не позволяющую ему подняться до подлинных высот творчества, забрасывал сегодня поэзию, завтра пластические искусства и целиком отдавался мечтам о промышленно-коммерческих предприятиях, которые приносили бы ему доход и одновременно бы его забавляли.
Кстати сказать, в дармштадтском обществе встречались весьма образованные люди. Там жительствовали министр ландграфа, тайный советник фон Гесс, профессор Петерсен, ректор Венк и другие; к ним присоединялись многие лица из соседних городков, а также те, что бывали в Дармштадте проездом. Тайная советница фон Гесс и ее сестра, демуазель Флаксланд, отличались редкими достоинствами и недюжинными задатками; последняя, невеста Гердера, была вдвойне интересна высокими свойствами своего характера и своей любовью к этому выдающемуся человеку.
Трудно передать, как живительно на меня воздействовал, как поощрял меня этот круг. Все там любили слушать, когда я читал свои законченные или только еще начатые работы, меня ободряли, когда я откровенно и подробно рассказывал, о чем собираюсь сейчас писать, и бранили, если, увлекшись новой темой, я бросал то, что уже было начато. «Фауст» к тому времени изрядно продвинулся вперед, «Гец фон Берлихинген» мало-помалу складывался у меня в уме, покуда я занимался изучением XV и XVI столетий, а Страсбургский собор оставил во мне впечатление столь глубокое, что мог служить фоном для моих тогдашних произведений.
Я записал и свел воедино все свои мысли и соображения касательно этого великолепного собора. Во-первых, я настаивал, чтобы такое зодчество звалось немецким, а не готическим и почиталось бы не за чужеземное, а за отечественное; во-вторых, чтобы его не сравнивали с зодческим искусством греков и римлян, ибо последнее исходит из совсем иного принципа. Живя под более ясным небом, древние положили крышу на колонны, благодаря чему сама собой возникла прерывающаяся стена. Мы же, будучи вынуждены в первую очередь защищаться от непогоды и повсюду окружать себя сплошными стенами, должны преклоняться перед гением, нашедшим способ сообщить многообразие этим массивам путем создания видимости перерывов, тем самым даруя достойное занятие и радость нашему взору, скользящему по огромной поверхности. То же самое относится и к башням. Они не образуют, подобно куполам, замкнутое небо, но, устремившись ввысь, на все стороны возвещают о святыне, хранящейся на их каменном основании. Что касается нефа и притворов этих могучих зданий, то здесь я осмеливался лишь на поэтически-благоговейное созерцание.
Пожелай я изложить эти свои воззрения, известной ценности которых я и теперь не отрицаю, просто, ясно и всем понятным слогом, статья «О немецком зодчестве, D. М. Ervini a Steinbach» произвела бы большое впечатление уже тогда, когда она была опубликована, и отечественные любители искусства обратили бы на нее внимание многим раньше. Но, соблазненный примером Гердера и Гамана, я окутал простейшие мысли и наблюдения пыльным облаком выспренних слон и фраз и тем самым затемнил себе и другим свет, для меня воссиявший. И все же эта статейка встретила хороший прием и была вторично напечатана в Гердеровом труде «О немецком характере и искусстве».
Если я, отчасти по склонности, отчасти с поэтическими и прочими целями, охотно изучал немецкие древности, стараясь воссоздать в своем воображении картину прошлого, то время от времени меня все же отвлекали Библия и религиозные мотивы, ибо жизнь и деяния Лютера, так дивно озарившие XVI столетие, поневоле снова и снова принуждали меня обращаться к Священному писанию, к углубленному изучению религиозных чувств и убеждений. Мелкому моему тщеславию льстило рассматривать Библию как произведение составное, не сразу возникшее и в разные времена подвергавшееся переработке, ибо такое представление еще не стало господствующим и уж тем более не было принято в том кругу, в котором я жил. Что касается основного смысла, то я толковал его в согласии с Лютеровым переводом, в частностях же прибегал к дословному переводу Шмида, стараясь при этом использовать свои скудные познания в еврейском языке. Ныне никому не придет в голову отрицать, что в Библии встречаются противоречия, но в те времена еще пытались их устранить, принимая за основу наиболее ясные места и, так сказать, подтягивая к ним места туманные. Я же, напротив, тщился путем исследования установить, какое место больше соответствует сути Писания; им я руководствовался, другие же отвергал как подделку.
Уже тогда у меня выработалось одно основное убеждение, хоть я и не могу сказать, было ли оно мне кем-то внушено, возникло ли оно по какому-то поводу или же явилось плодом моих собственных домыслов. Убеждение это было следующим: во всем до нас дошедшем, тем более в письменном виде, главное — основа, смысл, внутреннее содержание, общая направленность. В этом-то и состоит исконное, божественное, действенное, неприкосновенное, неистребимое; и никакое время, никакие внешние влияния или причины не могут изменить внутреннюю прасущность или, по крайней мере, способны воздействовать на нее не больше, чем телесная болезнь способна нанести ущерб исконным достоинствам благородной души. Итак, будем считать язык, диалект, своеобразие, стиль и, наконец, письмена за тело духовного произведения; тесно связанное с тем, что живет внутри его, оно тем не менее подвержено порче и гибели. И так как ни одно предание в силу самой своей природы не доходит до нас в первозданном виде (а если и доходит, с течением времени неминуемо становится малопонятным — в иных случаях из-за несостоятельности посредствующих органов, осуществляющих эту передачу, в других — из-за своеобычности разных эпох и стран, но прежде всего из-за несходства человеческих способностей и человеческого мышления), то уже по этой причине толкователи никогда не могут прийти к согласному решению.
Мне думается поэтому, что каждому следует на свой лад вникать во внутреннюю суть и подлинный смысл произведения, однажды его поразившего, учитывая в первую очередь, в каком соотношении суть произведения состоит с его собственной внутренней сутью и в какой мере жизненная сила этого произведения пробуждает и оплодотворяет его жизненные силы. И напротив, все внешнее, не воздействующее на нас или представляющееся нам сомнительным, должно предоставлять критике, которая, даже если ей удастся расчленить и расколоть целое, все же никогда не лишит нас существеннейшего, ни на миг не даст нам усомниться в том, что мы однажды восприняли и усвоили.
Это живительное убеждение, зиждущееся на вере и неустанном созерцании, применимое ко всем наиважнейшим обстоятельствам, легло в основу моего формирования, нравственного и литературного, отчего я и стал расценивать его как некий выгодно помещенный капитал, который дает хороший прирост, несмотря на то что жизнь иной раз и толкает человека на неправильное его использование. Только такой способ восприятия Библии сделал ее для меня доступной. Мне приходилось не раз, как это принято у протестантов, пробегать ее глазами на уроках закона божия, да и потом я читал ее как придется, то с начала, то, напротив, с конца. Суровая первобытность Ветхого завета и трогательная наивность Нового в некоторых своих частностях привлекали меня; как нечто целое, Библия передо мной, собственно, никогда не представала, но разнобой в характере ее книг уже не сбивал меня с толку. Я научился живо воспринимать смысл каждой из них по порядку, да и вообще затратил слишком много душевных сил на эту книгу, чтобы когда-нибудь без нее обходиться. Эта затрата будет служить мне и впредь защитой от всякого рода насмешек, ибо я тотчас же обнаруживал их недобросовестность. Они не только внушали мне отвращение, но вызывали у меня приступы ярости. Как сейчас помню, что я, в своем ребяческо-фанатическом рвении, был бы готов удавить Вольтера, попадись он мне под руку, за его «Саула». Зато любое честное исследование страстно меня увлекало, я зачитывался различными научными трудами о восточных странах и костюмах, проливавшими все больше света на те давние времена, и продолжал напрягать все силы своего ума, читая бесценные библейские предания.
Я уже говорил о том, что и раньше пытался вжиться в образ первобытного мира, воссозданный в первой книге Моисея. Полагая, что мне следует продвигаться методически, шаг за шагом, я, после долгого перерыва, взялся за вторую книгу. Но, бог мой, какая разница! Подобно тому как ушла из моей жизни детская полнота восприятия, эта вторая книга показалась мне отделенной от первой головокружительной пропастью. Полнейшее забвение прошлого сказывается уже в немногих, но многозначительных словах: «Явился новый царь в Египте, ничего не ведавший об Иосифе». Но ведь и народ, неисчислимый, как звезды небесные, уже успел позабыть праотца, которому Иегова под звездным небом дал это ныне сбывшееся обещание. С несказанными усилиями, с помощью неудовлетворительных пособий, я прорывался через все пять книг Бытия, и при этом меня озаряли удивительнейшие мысли. Мне, как я полагал, открылось, что на скрижалях стояли другие, не наши, десять заповедей, что израильтяне блуждали в пустыне не сорок лет, а значительно меньше, и еще я вообразил, что докопался до совсем новых черт в характере Моисея.
Я и Новый завет не пощадил своими изысканиями, своим пристрастием к аналитическому разбору, но из любви к нему вторил целительному изречению: «Пусть спорят евангелисты, лишь бы Евангелие оставалось бесспорным». Я считал, что и в этой области сделал немало открытий. Надо сказать, что «одарение языками», во всем блеске и ясности свершившееся в троицын день, я толковал несколько темно и вряд ли мог завербовать себе много сторонников.
С одним из основных учений лютеранства, которое братская община заметно усугубляла, с учением о преобладании в человеке греховного начала, я попытался было примириться, но без особого успеха. Тем не менее я до известной степени усвоил терминологию сего учения и воспользовался ею в письме, которое мне вздумалось опубликовать под видом письма некоего сельского священника к своему новому собрату. Главной темой этого послания послужил, однако, тогдашний лозунг — он назывался терпимостью и был в ходу среди лучших людей того времени.
Такие вещицы я, по мере их возникновения, начал со следующего года печатать за свой счет, желая попытать счастья у публики, раздаривал их знакомым или же отдавал книготорговцу Эйхенбергу на предмет сбыта, не получая от того ни гроша прибыли. О них нет-нет да и вспоминала какая-нибудь рецензия, то положительная, то отрицательная, но вскоре они стерлись в людской памяти. Отец заботливо сохранил их в своем архиве, иначе у меня не осталось бы ни одного экземпляра. Я думаю включить некоторые из них, как и еще кое-что из ненапечатанного и впоследствии мною обнаруженного, в следующее собрание своих сочинений.
Поскольку «сивиллин» стиль этих вещиц, равно как и самая идея их напечатания, были мне внушены чтением Гамана, я считаю, что здесь будет уместно вспомнить этого достойного человека, имевшего большое влияние на своих современников и бывшего для нас такою же загадкой, какою он навсегда остался для своего отечества. Его «Достопримечательные мысли Сократа» возбудили внимание общества, но более всего пришлись по душе тем, кто не хотел смириться со слепящим рационализмом того времени. В нем видели основательно мыслящего человека, хорошо знакомого с «явным миром» и литературой, но знавшего еще что-то сокрытое, непостижимое, о чем он и возвещал на свой, совсем особый лад. Литераторы и тогдашние властители умов, разумеется, почитали его за мечтателя, но мятущуюся молодежь влекло к нему. Даже «тихие братья», как в шутку и всерьез называли этих благочестивцев, что, не примыкая ни к какой общине, образовывали некую «невидимую церковь», дарили его своим вниманием, да и для моей фрейлейн фон Клеттенберг, так же как и для ее друга Мозера, сей «северный маг» был весьма желанным явлением. Им заинтересовались еще больше, узнав, что он сумел сохранить свой высокий и прекрасный образ мыслей, несмотря на бедность и трудные семейные обстоятельства. При том влиянии, которым пользовался президент фон Мозер, нетрудно было устроить такому непритязательному человеку скромное и приличное существование. Первые шаги были сделаны, предварительные переговоры привели к соглашению, заставившему Гамана предпринять дальнее путешествие из Кенигсберга в Дармштадт. Но так как президента случайно не было в городе, этот чудак, неизвестно почему, тотчас же уехал обратно; дружеская переписка, однако, не прекратилась. У меня сохранились два письма кенигсбергского философа к своему покровителю, свидетельствующих об удивительном величии души и полной искренности их автора.
Но такому доброму взаимопониманию не суждено было долго длиться. Наши благочестивцы вообразили и его благочестивым на их манер; почтительно относясь к северному магу, они ждали и от него почтительнейшего поведения. Уже его «Облака» и эпилог к «Достопримечательным мыслям Сократа» несколько поколебали их доверие; когда же он выпустил в свет «Крестовые походы филолога», где на титульном листе не только красовался козлиный профиль Пана с рожками, но к тому же на одной из первых страниц была воспроизведена гравюра — петух, дирижирующий хором молодых петушков, которые с нотами в коготках толпятся вокруг него, — едко высмеивающая некоторые виды церковной музыки, немилые автору, то среди наших благо- и тонкомыслящих возникло неудовольствие; они не скрыли его от Гамака, и тот, в свою очередь недовольный, уклонился от дальнейшего сближения с ними. Зато Гердер в переписке с нами и со своей невестой постоянно разжигал наш интерес к Гаману, незамедлительно излагая все, что исходило от этого примечательного человека, в том числе его рецензии и заметки, помещенные в «Кенигсбергской газете» и носившие весьма оригинальный характер. У меня имеется почти полное собрание его сочинений, а также очень интересная рецензия на Гердеров конкурсный трактат о происхождении языка, в которой Гаман своеобразно и причудливо освещает этот литературный опыт.
Я не теряю надежды осуществить издание сочинений Гамана или хотя бы способствовать таковому, и, когда эти важные документы снова попадутся на глаза читающей публике, придет время подробнее поговорить и об их авторе, о его самобытной внутренней сущности. И все-таки я уже здесь хочу сказать о нем несколько слов, тем более что еще живы многие почтенные люди, его знававшие, чьи мнения и указания были бы для меня весьма полезны. Принцип, к которому восходят все высказывания Гамана, сводится к следующему: «Что бы человек ни задумал совершить — в действиях, в словах или как-нибудь еще, — должно проистекать из объединения всех сил; разрозненное — порочно». Великолепная максима, но руководствоваться ею нелегко. К жизни и к искусству она, конечно, применима, но при обращении к слову, не относящемуся к поэзии, вряд ли пригодна, ибо слово должно освободиться, обособиться, чтобы что-нибудь говорить и значить. Человек, желающий утвердить то или иное положение, в этот миг волей-неволей односторонен; нельзя что-либо утверждать, не расчленив и не разрознив. Но, раз навсегда восстав против такого расчленения, Гаман решил, что если его чувства и мысли слиты воедино, то так надлежит ему и говорить; это же требование он предъявлял и к другим, и в конце концов вступил в противоречие с собственным стилем и со всем, что делали другие. Стремясь совершить невозможное, он обращается к самым разным элементам; глубочайшие, сокровеннейшие воззрения, в которых природа и дух человеческий тайно встречаются друг с другом, молнии разума, сверкающие при такой встрече, многозначительные образы, витающие в этих сферах, отточенные речения из священных и мирских книг в сочетании со всевозможными остроумными юморесками — все это, вместе взятое, образует причудливый сплав его стиля, его высказываний. Поскольку нам нельзя сойти за ним в его глубины, нельзя вместе с ним парить в вышине, овладеть образами, которые ему являются, или сыскать в бесконечно обширной литературе смысл какого-то одного места, на которое он достаточно туманно намекает, то вокруг нас, чем больше мы будем его изучать, лишь сгустится сумрак; и с годами этот сумрак сделается еще непрогляднее, ибо Гаман преимущественно толкует о частных случаях в тогдашней жизни и литературе. В моем собрании имеется несколько отпечатанных листов его работы, где он на полях собственноручно цитирует пресловутые места. Стоит только заглянуть в эти листы, и вокруг нас опять разольется свет двойной и двусмысленный. Он покажется нам очень приятным — нужно только раз и навсегда поставить крест на том, что принято именовать пониманием. Такие произведения заслуживают названия «сивиллиных листов», потому что их нельзя рассматривать как нечто «в себе», и приходится дожидаться случая, дающего нам возможность прибегнуть к ним, как прибегают к оракулу. Правда, читая их, всякий раз находишь в них что-то новое, ибо смысл каждого отдельного отрывка взывает к разнообразнейшим чувствам.
Сам я никогда в глаза не видел Гамана и не переписывался с ним. Мне кажется, что в житейских делах и в общении с друзьями он был прост, ясен и всегда правильно чувствовал, как люди относятся к нему и друг к другу. Все его письма, которые мне довелось читать, были очень хороши и куда более понятны, чем сочинения, видимо, оттого, что здесь отчетливее выступало его отношение к своему времени, к его особенностям и к личным обстоятельствам отдельного человека. Тем не менее я понял из них, что, наивнейшим образом ощущая свое умственное превосходство, он всегда почитал себя несколько прозорливее и умнее своих корреспондентов, с которыми общался скорее иронически, чем сердечно. Даже если это были лишь частные случаи, мне представлялось, что такое отношение распространяется на большинство, и потому у меня никогда не возникало желания с ним сблизиться.
И напротив, между нами и Гердером усиленно продолжалось приятное литературное общение, жаль только, что оно не могло оставаться спокойным и неомраченным. Гердер ни в какую не желал отказаться от своей манеры дразнить и браниться, Мерка нетрудно было разозлить, а он, в свою очередь, умел и во мне пробудить нетерпение. Поскольку Гердер превыше всех писателей и людей чтил Свифта, мы прозвали его «Деканом», что опять-таки не раз служило поводом для всевозможных обид и недоразумений.
И все же мы были очень обрадованы, услыхав, что он получает место в Бюкебурге; оно являлось для него вдвойне почетным, так как новый его патрон слыл разумным и храбрым человеком, хотя и не без странностей. Томас Аббт приобрел на этой службе известность, даже славу; отечество скорбело о его кончине и радовалось памятнику, который ему поставил его покровитель. Теперь Гердеру предстояло, заняв пост безвременно погибшего, осуществить надежды, пробужденные его достойным предшественником.
Эпоха, в которую все это происходило, сообщала такому месту двойной блеск и особую ценность, ибо многие немецкие князья, следуя примеру графа фон дер Липпе, призывали к себе на службу людей не только ученых и дельных, но богато одаренных и многообещающих. Поговаривали, что Клопшток приглашен маркграфом Карлом Баденским не только для несения службы, но и затем, чтобы своим присутствием украсить высшее общество и способствовать его просвещению. Если это повысило уважение к достойному государю, неизменно дарившему своим вниманием все полезное и прекрасное, то, конечно, немало возросло и преклонение перед Клопштоком. Все, что от него исходило, теперь почиталось достойным и сугубо ценным; мы тщательно переписывали его оды и элегии, как только они у кого-нибудь оказывались. Поэтому мы были счастливы, когда ландграфиня Каролина Гессен-Дармштадтская велела их издать и один из немногих экземпляров достался нам, пополнив собою наши собственные рукописные собрания. Наверно, оттого первые редакции долго оставались для нас самыми любимыми, и мы частенько услаждали себя стихотворениями, которые сам автор в скором времени отверг. Таким образом, подтверждается истина, что жизнь, ключом бьющая из большого таланта, воздействует тем шире и свободнее, чем меньше поддается критике, старающейся сопричислить ее к тому или иному разделу искусства.
Клопшток, благодаря своему характеру и поведению, сумел снискать добрую славу себе и другим одаренным людям; отныне они были до некоторой степени обязаны ему еще и улучшением и укреплением своего материального положения. Книготорговля в прежнее время в основном опиралась на научные труды факультетов — постоянный и ходовой товар, за который платили весьма умеренные гонорары. Издание поэтических произведений рассматривалось как нечто священное: брать за них гонорары и тем более повышать таковые считалось чуть ли не симонией. Отношения между авторами и издателями были самые странные. И первые и вторые могли при желании сойти за патронов и за клиентов. Авторы, которых публика считала людьми не только талантливыми, но и высоконравственными, таким образом возводя их как бы в духовный сан, почитали вознаграждением уже самую радость своего труда. Издатели же охотно довольствовались второстепенным местом, радуясь солидному барышу. Но, с другой стороны, благосостояние возвышало книготорговцев над бедными поэтами, и все опять приходило в прекраснейшее равновесие. Взаимные великодушие и благодарность не были чем-то из ряда вон выходящим. Брейткопф и Готшед, например, всю жизнь прожили под одной крышей; о скаредности и низких уловках, особенно при перепечатках, тогда еще знать не знали.
Тем не менее в среде немецких писателей началось брожение. Они сравнивали свое скромное, чтобы не сказать бедственное, положение с богатством известных книготорговцев, отмечали, как велика слава какого-нибудь Геллерта или Рабенера и в сколь стесненных обстоятельствах живет всеми любимый немецкий писатель, если он не имеет побочного заработка. Писатели средней руки и даже более мелкие стремились облегчить свое положение, сделаться независимыми от издателей.
Тут выступил Клопшток со своей «Республикой ученых», выпущенной в свет по подписке. И хотя более поздние песни «Мессиады» вследствие своего содержания и обработки не могли произвести того впечатления, какое произвели первые, чистые и невинные, появившиеся в чистое и невинное время, уважение к поэту, расположившему к себе сердца, умы и души читателей своими одами, осталось непоколебленным. Многие благомыслящие, а среди них и весьма влиятельные люди, предложили внести вперед плату, определенную в один луидор, ибо считалось, что не так важно оплатить книгу, как, воспользовавшись случаем, вознаградить поэта за его заслуги перед родиной. И кто только к ним не присоединился, — даже малоимущие юноши и девушки опорожнили свои копилки, мужчины и женщины из высшего и среднего сословия спешили внести свою лепту в это святое дело, так что в конце концов собралось не менее тысячи подписчиков. Ожидание было напряженным, доверие безграничным.
После всего этого вышедшей в свет книге была суждена участь, страннее которой и не придумаешь: никому не пришло в голову умалять ее значение, но нашла она доступ отнюдь не ко всем сердцам. Мысли свои о поэзии и литературе Клопшток вложил в уста жителей древней немецкой республики друидов, максимы касательно истинного и ложного облек в форму лаконических изречений, причем в жертву этой затее было принесено много и вправду поучительного. Для писателей и литераторов его книга была и осталась бесценной, но только в их малом кругу она и могла быть действенной и полезной. Кто сам размышлял, тот следовал за мыслителем, кто умел искать и ценить истинное, тот многому научался у этого основательного и достойного человека, но читатель-любитель остался ни с чем, для него это была книга за семью печатями, и тем не менее она попала к нему в руки, и люди, ожидавшие получить нужное и полезное произведение, получили нечто весьма чуждое их вкусам. Все недоумевали, но таково было уважение к автору, что даже ропота не раздалось, лишь легкий шепоток пробежал по толпе. Щедрая и великодушная молодежь легко снесла потерю и принялась с шутками раздаривать экземпляры, так дорого ей доставшиеся. Я сам получил несколько от добрых своих подруг, но ни один у меня не сохранился.
Это предприятие, удачное для автора, но неудачное для читателей, возымело одно нехорошее последствие: некоторое время нельзя было и думать о подписке с уплатой вперед. И все-таки этот опыт успел получить такое распространение, что не мог не повториться. Повторить его, и в более широком масштабе, вызвалось Дессауское книгоиздательство. Теперь уже издатели и ученые в тесном союзе должны были поделить предполагаемую прибыль. Давно назревшая потребность в таком союзе вновь возбудила надежды и доверие, но, увы, они вскоре рассыпались прахом; участники, оставшись внакладе, после недолгих усилий разошлись в разные стороны.
Однако слух об этой попытке быстро распространился среди литераторов: «альманахи муз» объединили всех молодых поэтов, а журналы — поэтов с прочими писателями. Моя тяга творить была беспредельна; напротив, однажды сделанное оставляло меня равнодушным, любовь к этим произведениям вновь вспыхивала во мне лишь после того, как я их прочитывал друзьям, а значит, и себе. Вдобавок, многие принимали живое участие в моих крупных и мелких работах, ибо каждого, кто хоть сколько-нибудь чувствовал себя предрасположенным к поэтическому творчеству и к нему способным, я настойчиво побуждал творить на свой лад и по собственному своему разумению, а потом и сам заражался от него тем же побуждением. Такое взаимное подстрекательство и науськивание вливало в каждого из нас радость творчества, и из этого бурного коловращения, из этой взволнованной и до краев полной жизни, одаряющей жизнью других, дающей и принимающей, которую, дыша полной грудью и не ведая теоретического руководительства, вели юноши разной стати и разного характера, возникла та прославленная и ославленная литературная эпоха, когда множество молодых, богато одаренных людей со всей отвагой и дерзостью, возможными лишь в такое время, прорвались вперед без оглядки и, не щадя своих сил, создали много радостного и доброго, но — злоупотребив этими силами — также немало досадного и злого. Действия и противодействия, проистекшие из этого источника, как раз и должны составить основную тему этой книги.
Но что представляет наибольший интерес для молодых людей и как могут они возбудить интерес своих сверстников, если их не одушевляет любовь, если сердечные дела, каковы бы они ни были, целиком ими не владеют? Я втайне оплакивал утраченную любовь; это сделало меня кротким, уступчивым, более приятным в обществе, чем в ту светлую пору, когда меня еще не тревожили воспоминания о моих пороках и моем проступке и я только рвался вперед, бездумно и безудержно.
Ответ Фридерики на мое прощальное письмо растерзал мне сердце. Тот же почерк, тот же смысл, то же чувство, что взывало ко мне, что подле меня расцветало! Только сейчас я понял, какую утрату она понесла, и не находил способа возместить ее или хотя бы смягчить. Я постоянно видел Фридерику перед собой, постоянно чувствовал, как мне недостает ее, и, что самое худшее, не прощал себе собственного своего несчастья. Гретхен у меня отняли, Аннета меня покинула, сейчас я впервые был виноват и сам глубоко ранил прекраснейшее сердце; для меня настала пора мрачного раскаяния, при отсутствии привычной животворной любви до ужаса мучительная, более того — нестерпимая. Но человек хочет жить: я принимал искреннее участие в других, помогал им выпутываться из затруднений, связывал то, что распадалось, дабы их не постигла участь, постигшая меня. За это меня окрестили «поверенным», а за любовь бродяжничать в окрестностях еще и «странником». Душевному успокоению, нисходившему на меня под вольным небом, в долинах и на горах, в лесах и в поле, немало способствовало и местоположение Франкфурта, раскинувшегося между Гомбургом и Дармштадтом, двумя прелестными уголками, находившимися, благодаря родственным связям обоих дворов, в наилучших отношениях. Я привык жить на дорогах и, как почтальон, странствовал между равниной и горной местностью. Частенько один или в компании я бродил по родному городу, словно он был мне незнаком, обедал в одном из больших постоялых дворов у проезжей дороги и потом продолжал свой путь. Душа моя больше чем когда-либо была открыта миру и природе. В пути я пел диковинные дифирамбы и песни; из них сохранилась одна, названная мною «Песнь странника в бурю». Я со страстью распевал эту полубессмыслицу, идя навстречу уже разразившейся неистовой буре.
Мое сердце было нетронуто и незанято: я честно избегал сближения с женщинами, а потому и ведать не ведал, что вокруг меня, ничего не замечавшего и не подозревавшего, тайно парит любвеобильный гений. Одна прелестная и достойная женщина в тиши питала ко мне нежные чувства, о которых я даже не догадывался, отчего держался в ее милом обществе еще непринужденнее и веселее. Я узнал об этой сокрытой, небесной любви лишь много лет спустя после ее смерти и, узнав, долго не мог оправиться от потрясения. Но я был безвинен и мог чисто и честно оплакивать бедное безвинное существо, тем более что эта весть пришла ко мне в счастливую эпоху жизни без страстей, отданной себе самому и своим духовным потребностям.
Но в то время, когда меня мучила тревога о Фридерике, я, по старому своему обыкновению, обратился за помощью к поэзии и взялся за продолжение поэтической исповеди, чтобы путем этой мучительной епитимьи, добровольно на себя наложенной, стать достойным внутреннего отпущения грехов. Обе Марии в «Геце фон Берлихингене» и в «Клавиго», так же как отрицательные типы — их возлюбленные, явились результатом моих покаянных дум.
Но как в молодости быстро проходят ранения и болезни, ибо организм тут же поспешает на помощь пострадавшим участкам единой системы, давая ей время оправиться, так и для меня спасительными оказались физические упражнения, которыми я стал заниматься благодаря счастливой случайности. Я почувствовал себя бодрее, и вскоре во мне пробудилось былое желание радостей и наслаждений. Верховая езда мало-помалу вытеснила праздные меланхолические, трудные и в то же время медлительные и бесцельные пешие странствия; верхом на коне скорей, веселей и удобнее доберешься до цели. Младшие мои приятели опять ввели в моду фехтование; но подлинно новый мир открылся нам зимой, когда я пристрастился к катанию на коньках — занятию, мною еще не испробованному; благодаря своей настойчивости, понятливости и постоянным упражнениям, я в короткий срок добился того, что нужно для наслаждения ледяной дорожкой, если ты не стремишься особенно на ней отличиться.
Этой новой радостной деятельностью мы тоже были обязаны Клопштоку, его увлеченность стремительным движением подтверждалась не только словами друзей, но прежде всего его одами. Помнится, однажды в ясное морозное утро я вскочил с постели, выкликая его слова:
Уж весел ощущением здоровья,
Я вдаль гляжу — вдоль берега белеет
Рассыпанный кристалл…
Рождающийся зимний день так мягко
Все озеро нам озарил! И звездный иней
Лег ночью на его поверхность!
Мое поначалу робкое решение тотчас же утвердилось, и я прямиком помчался к месту, где и зрелый новичок мог, не нарушая приличий, испытывать свои силы. И правда, катание на коньках вполне заслуживало рекомендаций Клопштока: оно возвращает нам всю свежесть ощущений утраченного детства, дает юноше возможность показать свою ловкость и отдаляет от нас хилую старость. Мы без меры и устали предались этой страсти: провести на льду весь погожий день нам казалось мало — катание продолжалось до поздней ночи. Если большинство усилий утомляет тело, то бег на коньках лишь заряжает его все новой и новой энергией. Полная луна, из-за облаков освещающая луга под ледяным покровом, ночной ветер, свистящий нам навстречу, зловещий треск льда, оседающего при убыли воды, странный отзвук собственных наших движений — все это живо воскрешало в нашей фантазии сцены из Оссиана. То один, то другой из нас вдруг начинал нараспев декламировать оду Клопштока, когда, уже впотьмах, мы вновь оказывались вместе, и нелицеприятная хвала виновнику наших радостей оглашала ночную тишь:
Не должен ли бессмертным быть
Тот, кто здоровье нам и радость подарил,
Которых не давал и бодрый в беге конь,
Которых не дает и мяч?
Что ж, благодарности и вправду заслуживает человек, сумевший духовно облагородить простое земное занятие, тем самым содействуя его широкому и достойному распространению.
Как богато одаренные дети, чьи умственные способности чудесным образом развились раньше времени, при первой же возможности вновь обращаются к незамысловатым ребяческим играм, так и мы с непомерной легкостью позабыли о том, что призваны к делам более серьезным. С другой стороны, именно это скольжение, иной раз в полном одиночестве, этот беззаботный полет среди расплывчатых контуров природы, вновь пробудило те внутренние потребности, которые некоторое время дремали во мне: долгим часам катания на коньках я обязан быстрым созреванием моих прежних замыслов.
Темные столетия немецкой истории издавна занимали мое воображение и разжигали мою любознательность. Мысль изобразить в драматической форме Геца фон Берлихингена на фоне его времени была мне близка и дорога. Я усердно читал авторов, описывавших ту эпоху, и с особым вниманием «De pace publica»[31] Датта. Досконально изучив его, я попытался с полной очевидностью представить себе разные необычные детали. Эти старания, обращенные на поэтические и нравственные цели, должны были сослужить мне и другую службу: мне предстояла поездка в Вецлар, и теперь я был исторически достаточно к этому подготовлен. Дело в том, что имперский суд тоже возник по установлении имперского мира, и его история могла служить путеводной нитью по запутанным событиям немецкой истории. Ведь устройство судов и армий всегда позволяет нам лучше разобраться в общегосударственном устройстве. Даже финансы, которым придается столь большое значение, играют меньшую роль: когда государство в целом испытывает нужду, оно может взять у отдельного гражданина то, что он с трудом скопил и сохранил, а посему оно всегда остается богатым.
Ничего из ряду вон выходящего не ждало меня в Вецларе, но если проявить должный интерес к истории имперского суда, станет попятным, в сколь неблагоприятный момент я туда попал.
Властители мира достойны такого наименования, если они в военное время умеют собирать вокруг себя самых отважных и решительных, в мирное же — самых мудрых и справедливых. Мудрым и справедливым должен был почитаться суд, учрежденный при дворе германского императора и неизменно сопровождавший его в разъездах по империи. Но ни этот суд, ни швабское право, действовавшее в Южной Германии, ни саксонское, принятое в Северной, ни судьи, поставленные блюсти сии права, ни сословный суд, а также и третейские суды, действовавшие на основании особого статута, ни, наконец, примиряющее вмешательство духовенства — ничто не могло усмирить того духа распрей, который владел немецкими рыцарями, вошел в обычай, был порожден и вскормлен внутренними раздорами, иноземными вторжениями, но прежде всего, конечно, крестовыми походами и дурной судебной практикой. Императору и высшим сословиям, конечно, были не с руки нескончаемые свары, которыми изводили друг друга господа помельче, а не то, объединившись, досаждали господам покрупнее. Это парализовало силы государства, снижало его внешний престиж и нарушало внутренний порядок. К тому же на значительную часть нашего отечества распространялась власть суда Фемы, об ужасах которого можно составить себе представление, вспомнив, что с течением времени он выродился в тайную полицию и даже не раз попадал в руки частных лиц, не облеченных официальной властью.
Все попытки хоть отчасти противодействовать этим роковым непорядкам были тщетны, а потому сословия стали настаивать на учреждении собственного суда. Но такой суд, несмотря на самые благие намерения, все же означал бы расширение сословных привилегий и ограничение императорской власти. При Фридрихе Третьем дело это затянулось; его сын Максимилиан, теснимый извне, вынужден был уступить. Он назначает Верховного судью, сословия посылают своих представителей. Предполагалось, что их будет двадцать четыре, но поначалу удовольствовались двенадцатью.
Ошибка, в которую, как правило, впадают люди при всех своих начинаниях, стала первым и вечным изъяном имперского суда: великая цель не была обеспечена достаточными средствами. Число асессоров оказалось чрезмерно малым, им было не под силу справиться со своими тяжелыми и обширными обязанностями. Но кому было настаивать на более совершенном устройстве? Император не мог сочувствовать учреждению, призванному действовать не столько за, сколько против него; скорее у него имелись основания учредить свой собственный суд и собственный придворный совет. С другой стороны, ясно, что сословия хотели только остановить кровопролитие; затянется ли рана или нет, им было не столь важно, — а тут еще новые издержки! Видимо, они не вполне себе представляли, что такой суд увеличит число слуг каждого из владетельных князей, правда, нанятых для определенной цели, но кому охота давать деньги на необходимое! Ведь каждому приятно получать задаром что-нибудь полезное.
Поначалу предполагалось, что заседатели будут существовать за счет судебных пошлин, позднее им было назначено скромное жалованье от сословий; и то и другое вознаграждение было ничтожно. И все же нашлись дельные работящие люди, которые готовы были принять на себя всевозможные тяготы во имя этой великой и насущной потребности. Понимали ли они, что здесь речь идет лишь о смягчении, не об устранении зла, или, как это часто бывает в подобных случаях, тешили себя надеждой, мало сделав, достигнуть многого, — сказать трудно. Словом, суд должен был не столько выкорчевывать зло, сколько служить предлогом для наказания зачинщиков беспокойства. Но едва он собрался, как сила проросла из него самого: он ощутил высоту, на которую был вознесен, понял свое большое политическое значение. Отныне он тщится выдающейся деятельностью завоевать еще большее уважение; члены суда живо справляются с делами, которые могут и должны быть решены немедленно, то ли потому, что их значение скоропреходяще, то ли потому, что никакой сложности в них нет; по всей империи уже идет слава об этом достойном и полезном учреждении. Дела более серьезные, главным образом правовые тяжбы, залеживаются надолго, но большой беды в том нет. Государству важно, чтобы владение было сохранно и защищено, по праву ли оно принадлежит своему владельцу, для него не столь существенно. Посему постепенно накапливавшееся грандиозное количество дел, не дошедших до судебного разбирательства, никакого ущерба государству не причиняло. Против тех, кто прибегал к насильственным действиям, меры принимались быстрые и радикальные; остальным, на правовом основании тягавшимся из-за имущества, предоставлялось жить и наслаждаться или бедствовать; они умирали, гибли, мирились, но это было лишь счастьем или несчастьем отдельных семейств, в государстве же все мало-помалу успокаивалось. Имперскому суду было предоставлено узаконенное кулачное право для усмирения непокорных; если бы их предавали анафеме, это было бы и того лучше.
Итак, при то возрастающем, то убывающем числе асессоров, при многих отлагательствах и переводе суда с места на место залежи этих дел возрастали до бесконечности. Во время войны часть архива была перевезена из Шпейера в Ашаффенбург, часть — в Вормс, а часть попала в руки французов, ошибочно полагавших, что ими захвачен государственный архив; позднее они были бы рады избавиться от этого бумажного хлама, найдись где-нибудь свободные фуры.
Во время вестфальских мирных переговоров собравшиеся доблестные мужи наконец уразумели, какой надобен рычаг, чтобы сдвинуть с места сей сизифов камень. Теперь было постановлено увеличить число асессоров до пятидесяти, но пришлось снова удовольствоваться половиной этого числа, очень уж велики показались издержки. Если бы все заинтересованные лица поняли свою выгоду, с этим делом нетрудно было бы справиться. На оплату двадцати пяти асессоров требовалось около ста тысяч гульденов — и как легко могла Германия собрать даже вдвое больше! Предложение предоставить имперскому суду конфискованные церковные земли пройти не могло: как было сговориться представителям обеих религий о принесении такой жертвы? Католики больше ничего терять не желали, протестанты хотели употребить приобретенное на свои внутренние цели. Разделение империи на две религиозные партии и здесь возымело наихудшие последствия. Заинтересованность сословий в их же собственном суде ослабевала день ото дня: самые могущественные участники стремились и вовсе выйти из этого союза; все чаще испрашивались льготные грамоты, избавлявшие от подсудности верховной юридической инстанции; наиболее платежеспособные лица воздерживались от платежей, те, что помельче, полагая себя и без того возвышенными занесением в матрикул, тянули с платежами, сколько возможно.
Все это, затрудняя своевременную выплату жалований, создавало новую волокиту, новую потерю времени для имперского суда. Прежде финансовая сторона ежегодно улаживалась так называемыми «визитациями»: государи собственной персоной или же их ближайшие советники на несколько недель, а то и месяцев, приезжали туда, где находился суд, обследовали кассы, устанавливали недоимки и самолично участвовали во взимании таковых. В то же время, если вдруг застревал разбор правовых или уголовных дел или злоупотребление готово было закрасться в судопроизводство, они были уполномочены пресекать его. В их обязанности также входило вскрывать и устранять злоупотребления, допущенные судом, но право расследовать и карать преступления отдельных членов суда было дано им лишь позднее. Поскольку тяжущиеся всегда стремятся хоть на мгновение продлить надежду, а потому апеллируют к высшим инстанциям, то эти визитации стали походить на кассационный суд; в ясных и самоочевидных случаях туда обращались, чтобы добиться справедливого вердикта, но чаще искали лишь повода для новых проволочек и для затягивания судебного разбирательства на вечные времена, чему немало способствовала возможность кассационных апелляций в рейхстаг, равно как и стремление обеих религиозных партий добиться перевеса друг над другом или, на худой конец, хотя бы известного равновесия.
Если представить себе, чем был бы этот суд без подобных препон, без всех этих тормозящих и губительных влияний, право же, ничего лучшего бы и желать не приходилось. Будь ему с самого начала придано достаточное число людей, обеспеченных приличным содержанием, то, принимая во внимание деловитую добросовестность немцев, он оказывал бы огромное влияние на тогдашнее общество. Члены суда тогда на деле заслуживали бы почетного титула амфиктионов, который присуждался им на словах, более того — они могли бы возвыситься до посредствующей силы, одинаково почитаемой и верховной властью, и народом.
Но имперский суд, не посягая на такую роль, влачил жалкое существование, за исключением краткого периода в царствование Карла Пятого и перед Тридцатилетней войной. Иной раз только удивляешься, откуда брались люди, согласные на такое неблагодарное и безнадежное дело. Впрочем, человек привыкает к своим повседневным занятиям, если они хоть в какой-то мере ему по плечу, даже толком не зная, полезны ли они или вовсе бесполезны. Такой суровый стоицизм более всего свойствен немцам, и потому в продолжение трех столетий достойнейшие люди посвящали себя этому труду. Галерея их характерных портретов и ныне могла бы возбуждать участие и внушать мужество.
Ибо как раз в такие анархические времена всего решительнее может действовать достойный и дельный человек, а тот, кто стремится к добру, сохранит достоинство на любом месте. Так, например, времена, когда во главе суда стоял Фюрстенберг, и поныне почитаются благословенными, и напротив, смерть этого превосходного человека кладет начало целой эпохе губительных злоупотреблений.
Но все эти изначальные и позднейшие беды произошли из того же источника — недостаточного количества судейских. Существовало постановление, согласно которому заседатели должны были докладывать о делах в определенном порядке и с соблюдением строгой очередности. Каждому было известно, когда подойдет его очередь и какой из вверенных ему процессов будет рассматриваться судом, а потому каждый имел возможность подготовиться и изучить дело. Все так бы и шло, не будь этих злополучных залежей; тут же надо было решиться на отбор наиболее важных правовых дел и докладывать о них вне очереди. Однако нелегко определить, какое дело важнее, при скоплении одинаково серьезных случаев, и здесь легко может возникнуть произвольное благоприятствование. Но к этому присоединилось еще и другое немаловажное обстоятельство. Референт мучил себя и суд докладом о сложнейшем деле, а решение в конце концов никому не было нужно. За истекшее время стороны уже успевали помириться, самостоятельно разрешить спор, умереть или переменить точку зрения. Посему было постановлено заслушивать только те дела, о которых поступали напоминания, таким образом хотя бы становилось известно, что стороны продолжают настаивать на слушании дела, но тем самым был открыт путь страшнейшим злоупотреблениям. Тот, кто ходатайствует о слушании своего дела, должен ходатайствовать перед кем-то и, конечно, выбирает чиновника, у которого его дело находится. Скрыть это, как бы то полагалось, не представляется возможным при наличии мелких и хорошо осведомленных соглядатаев. Но если просишь поторопиться с делом, значит, ты уверен в своей правоте и можно попросить и о прямом содействии. Напрямик этого не сделаешь, а через подчиненное лицо — с легкостью, надо только склонить его на свою сторону. Так открывается путь к интригам и подкупам.
Император Иосиф, по собственному побуждению и в подражание Фридриху, прежде всего обратил внимание на армию и юстицию. Он стал присматриваться к имперскому суду; укоренившиеся несправедливости, новоявленные злоупотребления не остались для него секретом. Значит, и здесь надо было все перебудоражить и перетрясти, чтобы раз и навсегда со всем этим покончить. Не задумываясь, будет ли это выгодно для императорской власти, не зная заранее, возможно ли успешное осуществление его замысла, он выдвинул предложение о визитации и поторопился провести его в жизнь. Визитация не производилась уже сто шестьдесят лет, чудовищный ворох дел ежегодно разбухал еще и еще, ибо семнадцать асессоров не были в состоянии справиться даже с текущими делами. Скопилось уже двадцать тысяч процессов, в год можно было прослушать шестьдесят, а за это время поступало вдвое больше новых. Визитаторов ожидало также немалое число кассаций, — полагали, что их набралось уже тысяч пятьдесят. Вдобавок различные злоупотребления задерживали судопроизводство; но самое худшее было то, что начали всплывать преступления многих асессоров.
Когда я должен был отправляться в Вецлар, визитация продолжалась уже несколько лет, виновные были отстранены от дел, следствие изрядно продвинулось вперед, и так как ученые знатоки немецкого государственного права не могли пропустить случая показать свое знание дела и обратить его на общее благо, то появился ряд обстоятельных благонамеренных сочинений, из которых человек, обладавший хотя бы скромными предварительными знаниями, мог почерпнуть для себя весьма многое. Стоило в этой связи обратиться к проблеме государственного устройства, а также к сочинениям, трактующим эту проблему, как сразу же бросалось в глаза, что чудовищное состояние насквозь больного тела, в котором разве что чудом еще теплилась жизнь, всего более занимало ученых. Почтенное немецкое усердие, как правило устремленное на собирание и анализирование частностей, а не на реальные результаты, здесь находило неиссякаемый источник для всевозможных ученых изысканий: ведь разность интересов империи и императора, высших и низших сословий, католиков и протестантов неизменно приводила к разногласию во мнениях, каковое порождало все новые споры и раздоры.
По мере возможности живо представив себе все эти былые и нынешние обстоятельства, я не мог ждать большой радости от пребывания в Вецларе. Весьма мало привлекательной была перспектива встретить в красиво расположенном, но маленьком и плохо построенном городке двойственный мир: местный — старый и традиционный и другой — пришлый, новый, которому препоручено строго расследовать старый, — словом, суд судящий и судимый; видеть многих жителей в страхе и тревоге, как бы им не оказаться жертвами тайного расследования; видеть людей, доселе слывших почтенными гражданами и вдруг уличенных в позорнейших злодеяниях и преданных постыдному наказанию, — все это вместе составляло печальнейшую картину и не могло возбудить желания поглубже вникнуть в дела, сами по себе запутанные, да еще усложненные преступными злоупотреблениями.
Когда меня после недолгих колебаний повлекла в Вецлар не столько жажда знаний, сколько желание житейских перемен, я предвидел, что, кроме немецкого гражданского и государственного права, ничего имеющего научный интерес, меня здесь не ждет, более того — что я буду отобщен от поэзии. И как же я был удивлен, убедившись, что вместо кисло настроенного общества я в третий раз словно бы очутился в университетском кругу. За общим столом в гостинице я встретил чуть ли не всех младших служащих посольств, людей молодых и веселых. Они меня радушно приветствовали, и уже в первый день мне стало известно, что свои ежедневные застольные встречи они скрашивают некоей романтической фикцией, а именно: остроумной и веселой игрой в рыцарский стол. Во главе его сидел магистр рыцарского ордена, рядом с ним — канцлер, пониже — важнейшие государственные чины; засим — по старшинству — остальные рыцари. Ожидающим посвящения полагалось довольствоваться самыми нижними местами. Застольная беседа для них по большей части оставалась непонятной, ибо все восседавшие за трапезой не только пользовались рыцарскими оборотами речи, но и уснащали таковую множеством разных намеков. Каждому было присвоено рыцарское имя и прозвище. Меня нарекли Гецем фон Берлихингеном Верным. Первое имя я заслужил своим преданным интересом к достославному немцу, второе — искренней и верной симпатией к моим новым добрым знакомым. Большой благодарностью за время моего пребывания в Вецларе я обязан графу фон Кильмансегу. Этот надежный и весьма дельный человек был самым степенным изо всех. Фон Гуэ, человек трудно поддающийся разгадке и описанию, отличался молчаливой самоуглубленностью и являл собою истинно ганноверскую натуру — широкую и грубоватую. К тому же он был наделен разнообразнейшими талантами. Поговаривали, что он незаконный сын. Фон Гуэ питал пристрастие к таинственности и скрывал свои подлинные желания и намерения под всевозможными странностями; он был душою этого необычного рыцарского ордена, но занять место магистра отнюдь не стремился. Более того, когда случилось, что глава рыцарства уехал, он настоял на избрании другого и лишь через него осуществлял свое влияние. К тому же он обладал даром так оборачивать разные мелкие случайные события, что они казались весьма значительными, и умел облекать их в ореол сказочности. Во всем этом не замечалось никакой серьезной цели, просто ему хотелось разогнать скуку, которую неизбежно испытывали он и его коллеги от своих затянувшихся обязанностей, и чем-нибудь, хотя бы паутиной, заполнить пустоту. Впрочем, все эти комедии он разыгрывал внешне с полной серьезностью, так что никто не смел смеяться, когда соседняя мельница выдавалась за замок, а мельник — за его хозяина или «Четыре сына Гаймона» вдруг объявлялись канонической книгой и отрывки из нее благоговейно зачитывались во время рыцарских церемоний. Самое посвящение в рыцари совершалось согласно традиционным символическим обрядам, заимствованным у различных рыцарских орденов. Далее постоянным поводом к шуткам служил неписаный закон — объявлять тайной даже самое очевидное; делалось все в открытую, но говорить об этом запрещалось. Список рыцарей был отпечатан с не меньшей тщательностью, чем календарь рейхстага, а если близкие сих рыцарей осмеливались объявлять эту затею нелепой и смехотворной, то в наказание какого-нибудь почтенного отца семейства или ближайшего родича принуждали путем долгих интриг к посвящению в рыцари, и тогда вся компания злорадствовала над досадой родни.
В наш рыцарский обиход также затесалось и нечто от обрядности некоего философско-мимического ордена, не имевшего, впрочем, присвоенного ему точного наименования. Первая ступень здесь звалась «переходом», вторая — «переходом перехода», третья — «переходом к переходу перехода» и, наконец, четвертая — «переходом перехода к переходу перехода». На посвященных возлагалась обязанность разъяснять высокий смысл этой постепенности, что и делалось с помощью печатной книжечки, в которой сии странные слова объяснялись, точнее же — трактовались еще более странным образом. Ничего мы так не любили, как тратить время на эти занятия. В них словно бы объединились дурачества Бериша и сумасбродство Ленца; подчеркиваю еще раз, что за этой вычурной оболочкой никогда никакого глубокого смысла не крылось.
Хоть я и очень охотно принимал участие в этих проделках и даже первый ввел в порядок наших заседаний перикопы из «Четырех сыновей Гаймона», указав, как и когда их следует читать в дни празднеств и пиршеств, более того — сам же и декламировал их с большим пафосом, эти забавы мне вскоре все же прискучили. Я уже начал тосковать по франкфуртскому и дармштадтскому кругу своих друзей и знакомых, а потому очень обрадовался, встретив Готтера. Он отнесся ко мне с искренним чувством, на которое и я ответил самым сердечным расположением. Ум у него был изящный, ясный и живой, талант упорядоченный и уравновешенный; он многое усвоил от французской элегантности и любил заниматься той частью английской литературы, которая трактовала нравственные и житейские проблемы. Мы провели вдвоем много приятных часов, взаимно обмениваясь знаниями, намерениями и склонностями. Он побудил меня к некоторым небольшим работам и, поддерживая постоянные отношения с геттингенцами, попросил у меня некоторые стихотворения для альманаха Бойе.
Итак, через него я до некоторой степени соприкоснулся с тесным кругом молодых и талантливых людей, впоследствии заявивших о себе своей энергичной и разнообразной деятельностью. Оба графа Штольберга, Бюргер, Фосс, Гельти и другие с верой и воодушевлением группировались вокруг Клопштока, чье влияние распространялось вдаль и вширь. В этом кругу немецких поэтов, становившемся все более многочисленным, наряду с поэтическими успехами развивалась некая тенденция, которую я затрудняюсь точно наименовать. Пожалуй, ее можно обозначить как потребность в независимости, всегда возникающую в мирное время, то есть именно тогда, когда мы, собственно, не являемся зависимыми. В войну люди по мере сил сносят грубое насилие и чувствуют себя ущемленными физически и экономически, но не морально; принуждение никого не позорит, и служить времени не значит нести постылую службу. Привыкнув страдать от врагов и от друзей, мы мечтаем о лучшем, но не отстаиваем своих убеждений. И напротив, в мирное время свободолюбие все больше и больше завладевает человеком: чем он свободнее, тем больше жаждет свободы. Мы не хотим терпеть никакого гнета, никто не должен быть угнетен, и это изнеженное, более того — болезненное чувство, присущее прекрасным душам, принимает форму стремления к справедливости. Такой дух и такие убеждения в то время проявлялись повсюду, а так как угнетены были лишь немногие, то их тем более тщились освободить от всякого гнета. Так возникла своего рода нравственная распря — вмешательство отдельных лиц в дела государственные; явившаяся результатом похвальных начинаний, она привела к самым печальным последствиям.
Вольтер своей защитой семейства Каласов привлек всеобщее внимание европейского общества и возбудил к себе повсеместное уважение. Для Германии возымела, пожалуй, еще более важное значение борьба Лафатера против швейцарского ландфогта. Эстетическое чувство, объединившись с юношеской отвагой, рванулось вперед, и если совсем еще недавно молодые люди учились, чтобы добиться должностей, то теперь они стали своего рода надзирателями над должностными лицами: уже близилось время, когда драматурги и романисты стали отыскивать своих злодеев среди министров и важных чиновников. Отсюда зародился наполовину воображаемый, наполовину подлинный мир действий и противодействий, в котором нам позднее довелось столкнуться с самым беспардонным наушничеством и травлей со стороны газетных и журнальных писак, — они позволяли себе это под видом борьбы за справедливость, уверяя публику, что вершат истинный суд. Безумие и глупость, ибо публике не дана исполнительная власть, а общественное мнение в раздробленной Германии не приносило ни пользы, ни вреда.
Правда, нам, молодым людям, ничего подобного нельзя было поставить в укор. И все-таки похожие представления закрались и в наш круг; сливаясь воедино из поэзии, этики и благородных стремлений, они, разумеется, были безвредны, но в той же мере и бесплодны.
Клопшток своей «Битвой Германа» и посвящением ее Иосифу Второму посеял великое смятение в умах. Немцы, сбросившие иго римлян, были изображены там могучими и великолепными; поистине эта картина была способна пробудить самосознание нации. Но так как в мирное время патриотизм, собственно, выражается в том, что каждый метет перед своей дверью, дожидается своей должности и учит свой урок, дабы все у него в дому было исправно, то пробужденное Клопштоком национальное чувство не нашло для себя подходящего объекта. Фридрих отстоял достоинство известной части немцев перед лицом союзников; отныне любому немцу было дозволено почитать этого великого государя и восхищаться им, участвуя таким образом в его победе. К чему, спрашивается, можно было приложить свой воинственный задор? Какое направление должен был он принять, какое произвести действие? Поначалу он изливался лишь в поэтической форме, возникшие из этого порыва песни бардов, которые впоследствии так часто бранили и высмеивали, нагромождались целыми грудами. Внешнего врага в наличии не было; посему были сотворены тираны, и князья с их министрами и придворными служили прототипом таковых; сначала им придавались только общие черты, позднее ставшие более определенными и конкретными. Тем самым поэзия яростно примкнула к вышеупомянутому вмешательству в государственное право; читая стихотворения той поры, мы не можем не удивляться, что все они проникнуты единой тенденцией; стремлением ниспровергнуть любую власть, все равно — монархическую или аристократическую.
Что касается меня, то я продолжал пользоваться языком поэзии для выражения своих чувств и фантазий. Маленькие стихотворения, «Странник», например, относятся к той поре; они были помещены в геттингенском «Альманахе муз». От мании того времени, в какой-то мере захватившей и меня, я вскоре попытался избавиться, изобразив в «Геце фон Берлихингене» прекрасного, благомыслящего человека, который в смутное время решает подменить собою исполнительную власть и закон, но приходит в отчаяние, видя, что его поступок представляется императору, которого он любит и почитает, двусмысленным, даже изменническим.
Через оды Клопштока в немецкую поэзию проникла не столько нордическая мифология, сколько номенклатура ее божеств; и если я обычно с радостью пользовался тем, что мне предлагалось, то здесь я не мог превозмочь себя и начисто от нее отказался. А именно по следующим причинам: сказания Эдды были давно знакомы мне по «Введению в историю Дании» Малле, я успел сжиться с ними, более того — эти сказки я всего охотнее рассказывал в обществе, когда меня о том просили; Гердер дал мне в руки Резениуса, еще ближе приобщив меня к этим героическим сказаниям, по подобным откровениям, пусть высоко мною ценимым, я не мог открыть доступ в свой поэтический мир. Как ни сильно они будоражили мою фантазию, чувственному созерцанию они все же не поддавались, тогда как греческая мифология была превращена величайшими художниками мира в зримые, легко воспринимающиеся образы, которые и доныне толпятся перед нашими глазами. Боги вообще редко появлялись в моих стихах, они ведь обитали вне той природы, изображать которую я умел. Что же могло подвигнуть меня на то, чтобы заменить Юпитера — Вотаном или Марса — Тором и, вместо южных, четко очерченных фигур, ввести в свою поэзию туманные видения, а не то и вовсе пустые звукосочетания? Хотя, с одной стороны, Оссиановы бесформенные герои и походили на порождения мифотворческой фантазии эллинов, только что были более грубы и огромны, но с другой — они, как мне думалось, скорее подходили для веселых сказок; юмористические черты, проходящие через всю северную мифологию, казались мне весьма занятными и привлекательными. Эти мифы, видно, были единственными, которые сами подсмеивались над собой, диковинной династии богов здесь противопоставлены фантастические великаны, волшебники и чудовища, которые только и знают, что сбивать с толку высочайших особ во времена их царствования, потешаться над ними и пугать их позорной и неотвратимой гибелью.
Похожий, хотя все же меньший интерес внушили мне индийские сказания. Я впервые познакомился с ними по путевым запискам Даппера и тотчас же с радостью приобщил к своим сказочным запасам. «Алтарь Рамы» всего более удавался мне в пересказе, а обезьяна Ганеман, несмотря на большое многообразие действующих лиц, оставалась любимицей моих слушателей. И все же эти бесформенные или принявшие уж очень нелепую форму чудовища с точки зрения поэзии меня не удовлетворяли: они были далеки от правдивого, к которому неуклонно влеклась моя душа.
Против этих чуждых искусству призраков мое чувство прекрасного было защищено некой чудодейственной силой. Счастлива та литературная эпоха, в которую вдруг оттаивают великие творения прошлого и оказываются, так сказать, «в порядке дня», ибо заново производят самое свежее впечатление. Так засияло для нас и солнце Гомера в соответствии с духом времени, поощрившим его новый восход. Постоянные ссылки на природу привели к тому, что и творения древних стали рассматриваться с этой точки зрения. То, что многие путешественники сделали для толкований Священного писания, другие сделали для Гомера. Гюи положил начало этому делу, Вуд дал ему широкий размах. Геттингенская рецензия на редкое тогда издание оригинала познакомила нас с намерениями издателей и разъяснила, в какой мере тем удалось их осуществить. Отныне в этих поэмах мы видели уже не высокопарный, ходульный героизм, а отражение древнейшей действительности и старались приблизить ее к своим представлениям. Правда, сначала мы никак не могли взять в толк, почему говорят, что для лучшего понимания гомеровских характеров нам необходимо ознакомиться с дикими народами и их обычаями, описанными современными путешественниками. Ясно же, что как европейцы, так и азиаты в Гомеровых поэмах стоят на высокой ступени культуры, может быть, даже более высокой, чем та, что существовала в эпоху Троянской войны. Тем не менее эта максима согласовалась со всеобщим в ту пору стремлением к познанию природы, и в этом смысле мы охотно ее принимали.
Несмотря на наши занятия по изучению человека в высшем смысле этого слова, но прежде всего и с наибольшей любовью посвященные искусству поэзии, я всякий день помнил, что нахожусь в Вецларе. Вокруг меня непрестанно велись разговоры о положении дел с визитацией: о все большем количестве всевозможных препятствий и о все новых и новых изъянах, обнаруживаемых комиссией. Ведь здесь опять собралась Священная Римская империя, и уже не только для пышных торжеств, а для проникновения в самые глубины дел государственной важности. Но мне все-таки пришел на память полупустой зал во время коронационного пиршества, в который так и не вошли приглашенные гости, ибо сочли себя чрезмерно знатными. Здесь они, правда, не остались за дверью, но нам открылись еще худшие симптомы. Бессвязность целого, противодействия отдельных частей сразу же бросались в глаза; не осталось тайной и то, что отдельные владетельные князья доверительно говорили между собой: как знать, не удастся ли при этой оказии кое-что урвать для себя у главы империи?
Сколь скверное впечатление производили на юношу, стремившегося к добру и в этом смысле настроившего все свои чувства, бесчисленные анекдоты об упущениях, небрежности, несправедливости и подкупах, поймет каждый порядочный человек. Откуда же могло при таких обстоятельствах взяться почтение к закону и к сану судии? Но, даже питая полнейшее доверие к результатам визитации, даже полагая, что она выполнит свое высокое предназначение, жизнерадостный, устремленный вперед юноша все равно никакого толку для себя во всем этом не мог ни усмотреть, ни предвидеть. Все формальности этого процесса преследовали лишь одну цель — перманентную проволочку. Тот, кто стремился хоть как-то действовать и хоть что-то значить, непременно должен был служить несправедливому выгораживанию виновного и к тому же отлично владеть искусством фехтования, то есть умением уклоняться от ударов и ловко наносить таковые оппоненту.
Поскольку в этой рассеивающей внимание обстановке все эстетические работы валились у меня из рук, я углубился в эстетическое умозрение; ведь теоретизирование всегда свидетельствует о недостатке или застое творческих сил. Как раньше с Мерком, так теперь с Готтером я пытался установить принцип, который лег бы в основу творческого процесса. Но ни мне, ни им не удавалось это сделать. Мерк был скептик и эклектик, Готтер придерживался лишь тех примеров, которые были ему на руку. Большее признание завоевала теория Зульцера, но скорей у любителей, чем у художников. Зульцер прежде всего требовал нравственного воздействия, отчего тотчас же возникло разногласие между потребителями и созидателями искусства. Достойное произведение искусства может иметь и имеет моральные последствия, но требовать от художника моральных целей значит портить его ремесло.
Я уже несколько лет, пусть непоследовательно, но прилежно читал все, что говорили об этом древние: Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Лонгин, — никого из них я не оставил без внимания, но, увы, без толку, ибо предпосылкой для всех этих мужей служил опыт, а его-то у меня и не было. Они ввели меня в мир, бесконечно богатый произведениями искусства, раскрыли передо мною заслуги прекрасных поэтов и ораторов, большинство которых мы, в наше время, знали только по имени, и слишком живо меня убедили, что надо привыкнуть к великому множеству форм и понятий, прежде чем научиться размышлять о них, что надлежит самому что-либо сделать, более того — совершить ряд ошибок, чтобы узнать свои и чужие возможности. Мое знакомство с прекрасными творениями древности было не живым, а школярским, книжным, тогда как знаменитые мужи древности, и в первую очередь ораторы, — это не подлежало сомнению, — всецело формировались под воздействием окружающей жизни, так что даже о характере их искусства нельзя было говорить, не ссылаясь попутно на их душевный склад. С поэтами, пожалуй, дело обстояло иначе, но искусство и природа соприкасаются друг с другом лишь на жизненном поприще, а посему в результате всех дум и наблюдений в силе осталось лишь давнее мое намерение — изучать природу, внутреннюю и внешнюю, и путем любовного подражания предоставить ей действовать и властвовать над нами.
Благодаря этим впечатлениям, ни днем, ни ночью не оставлявшим меня в покое, передо мной стали маячить два больших, даже огромных, сюжета; мне надо было только в какой-то мере оценить их богатство и плодотворность, чтобы создать нечто значительное. Я имею в виду ту давнюю эпоху, в которой протекала жизнь Геца фон Берлихингена, и ту новейшую, печальный расцвет коей изображен в «Вертере».
Об исторической подготовке к первой работе я уже говорил, об этических предпосылках второй скажу сейчас.
Первоначальное намерение — предоставить моей внутренней природе развиваться согласно ее особенностям, а внешней — воздействовать на меня согласно ее свойствам — вовлекло меня и ту своеобразную стихию, в которой был задуман и написан «Вертер». Я стремился внутренне освободиться от всего чуждого, с любовью смотреть на то, что происходит вовне, и подвергнуть себя воздействию всех существ, каждого на его собственный лад, начиная с человеческого существа и далее — по нисходящей линии — в той мере, в какой они были для меня постижимы. Отсюда возникло чудесное родство с отдельными явлениями природы, внутреннее созвучие с нею, участие в хоре всеобъемлющего целого, так что любая перемена стран или местностей, времен дня или года — словом, все, чему суждено было свершиться, трогало меня до глубины души. Взгляд живописца слился со взглядом поэта, прекрасный сельский ландшафт, оживленный приветливой речкой, увеличивал мою склонность к уединению, благоприятствовал тихому и разностороннему созерцанию.
Но с тех пор как я покинул семейный круг в Зезенгейме и затем круг друзей во Франкфурте и Дармштадте, в груди моей оставалась пустота, которую я не в силах был заполнить. И вот я оказался в положении, когда чувство, если оно должно хоть сколько-нибудь быть скрываемо, нечаянно завладевает нами и грозит расправой всем нашим благим намерениям.
Меж тем автор, дойдя до этой страницы задуманной им книги, впервые почувствовал, что у него отлегло от сердца, ибо лишь с этого места его книга становится тем, чем она, собственно, должна быть. Автор не представлял ее себе как нечто самостоятельное; ее предназначение сводилось к тому, чтобы заполнить пробелы в его жизни, пополнить некоторые отрывочные сведения и сохранить память о смелых попытках, позднее утраченных или заброшенных, хотя то, что сделано однажды, собственно, не может и не должно повторяться. Впрочем, автор напрасно стал бы сейчас взывать к своим померкшим душевным движениям, напрасно стал бы понуждать их вновь оживить ту милую его сердцу обстановку, которая так украсила его пребывание в долине Лана. К счастью, добрый гений автора раньше позаботился об этом и еще в пору всемогущей юности побудил его закрепить недавнее прошлое, воссоздать его и, в благоприятный час, набравшись смелости, его опубликовать. Вряд ли надо добавлять, что здесь имеется в виду книжечка «Вертер». О людях, выведенных в ней, так же как о мыслях и убеждениях, я кое-что все-таки расскажу здесь.
Среди молодых людей, прикомандированных к посольству на предмет подготовки к будущей служебной карьере, был один, которого мы без всяких околичностей звали «женихом». Его отличали ровные и спокойные повадки, ясность взглядов, определенность действий и речей. Его бодрая деятельность, его упорное прилежание до такой степени пришлись по душе начальству, что ему в скором времени было обещано назначение. На этом основании он счел себя вправе обручиться с девушкой, которая полностью соответствовала его характеру и желаниям. После смерти матери она энергично возглавила многочисленную семью, воспитывала младших братьев и сестер, являясь единственной поддержкой отца в его вдовстве, так что будущий супруг мог на то же надеяться и для себя, для своего потомства, — словом, имел основание рассчитывать на полное семейное счастье. Все вокруг, даже не имея в виду подобных своекорыстных целей, твердили, что это очень и очень достойная девушка. Она была создана не для того, чтобы внушать отчаянные страсти, но чтобы привлекать к себе все сердца. Легкий, изящный облик, чистая, здоровая натура и отсюда проистекающая жизнерадостная энергия, непринужденное и непредвзятое выполнение ежедневных необходимых обязанностей — все это соединилось в ней. Подобные качества всегда прельщали меня, я льнул к тем, кто ими обладал. Если мне и не всегда удавалось быть полезным таким людям, то с ними я всего охотнее делил наслаждение невинными радостями, которые всегда оказываются под рукой у молодых людей, так что далеко их искать не приходится. Хотя известно, что женщины для женщин и наряжаются, без устали стараясь перещеголять одна другую, но мне, по правде говоря, всего больше нравились те, которые, соблюдая простую опрятность, внушают другу или жениху спокойную уверенность, что все это делается только для него и что его жизнь и впредь будет идти без особых издержек и хлопот.
Такие особы не слишком заняты собой; у них хватает времени приглядываться к внешнему миру, а также душевного спокойствия, чтобы к нему приноравливаться, идти с ним в ногу. Они умны и понятливы, не прилагая к тому особых усилий, и для своего формирования не нуждаются в большом числе книг. Такова была невеста. Жених, в силу своего честного и доверчивого характера, охотно знакомил с нею всех, кого он ценил и уважал, и так как он бо́льшую часть дня усердно занимался служебными делами, то любил, чтобы его нареченная, управившись с хозяйством, развлекалась, гуляла или ездила на пикники с друзьями и подругами. Лотта — это имя сохранится за ней и в романе — была скромна и непритязательна: во-первых, по самой своей природе она тяготела скорее ко всеобщей благожелательности, нежели к исключительным привязанностям, во-вторых, она обещалась человеку, ее достойному, который заявил, что готов на всю жизнь связать свою судьбу с ее судьбою. Свежим, радостным воздухом веяло вблизи от нее. Если утешительно смотреть, как родители непрестанно заботятся о ребенке, то есть что-то еще более волнующее в заботах старшей сестры. В первом случае мы усматриваем естественное влечение и бюргергский обычай, во втором — добровольный выбор и душевную склонность.
Новый пришелец, свободный от каких бы то ни было уз, беззаботно расточающий знаки внимания девушке — невесте другого, которая не считала их за волокитство и потому принимала тем более радостно и непринужденно, к тому же еще обласканный доверчивой молодой парой, вскоре был очарован и увлечен до полного самозабвения. Досужий мечтатель, ибо все вокруг ему постыло, он обрел то, чего ему недоставало, в подруге, казалось, умевшей, несмотря на бремя своих далеко идущих забот, жить только мгновением. Ей нравилось, что он повсюду сопровождает ее, а он вскоре уже не мог существовать без ее близости, она как бы посредничала между ним и обыденной жизнью; при ее обширном хозяйстве они стали неразлучными товарищами в поле и на лугах, в огороде и в саду. Жених, когда дела ему позволяли, присоединялся к ним, все трое привыкли друг к другу и вскоре, сами того не зная и не желая, уже не могли друг без друга обходиться. Так провели они дивно прекрасное лето; то была настоящая немецкая идиллия: прозаической ее частью являлся плодородный край, поэтической — невинная любовь. Бродя среди спелых хлебов, они наслаждались свежестью росистого утра; песнь жаворонка, крик перепела веселили их души; затем наступали жаркие часы, разражались страшные грозы, но они лишь теснее льнули друг к другу, и постоянство чувств мгновенно тушило мелкие семейные недоразумения. Так один за другим текли будние дни, и всем им подобало быть отмеченными красным в календаре. Тот, кто вспомнит, что сказано о счастливо несчастном друге новой Элоизы, поймет меня: «Сидя у ног возлюбленной, он будет мять коноплю, не зная другого желания, как мять коноплю, завтра, послезавтра — всю жизнь».
Теперь лишь несколько слов, впрочем, ровно столько, сколько необходимо, о другом молодом человеке, чье имя впоследствии стало упоминаться даже слишком часто. Я имею в виду Иерузалема, сына одного свободно и тонко мыслившего ученого богослова. Этот юноша тоже служил при посольстве; внешность у него была приятная, рост средний, сложение хорошее, лицо скорее округлое, чем продолговатое, с мягкими, спокойными чертами, — словом, все, что положено благообразному белокурому юноше; глаза у него были голубые, скорее приятные, чем выразительные. Одевался Иерузалем в нижненемецком стиле, принятом в подражание англичанам: синий фрак, желто-коричневый жилет, такие же панталоны и сапоги с коричневыми отворотами. Автор ни разу его не посетил и ни разу не видел у себя, только встречался с ним у друзей. Речи этого молодого человека отличались умеренностью и благожелательностью. Он занимался разными художествами, но больше всего любил рисунки и наброски, в которых был хорошо схвачен мирный характер уединенных ландшафтов. При этом он подробно распространялся о гравюрах Гесснера и уговаривал любителей попристальнее изучать их. В наших рыцарских забавах и маскарадах он почти не принимал участия, живя только собою и своими мыслями. Поговаривали, что он без памяти влюблен в жену своего друга. Но на людях их никто вместе не видел. О нем вообще мало что знали, известно было только, что он занимается английской литературой. Будучи сыном состоятельного человека, он не имел надобности с утра до вечера гнуть спину над делами или настойчиво хлопотать о скорейшем назначении.
Эти Гесснеровы гравюры еще усиливали в нас любовь и интерес к сельской идиллии, а небольшая поэма, с восторгом встреченная нашим тесным дружеским кругом, на первое время затмила для нас все остальное. «Deserted Village»[32] Гольдсмита не могла не волновать умы людей наших взглядов и убеждений. Не живым и живо воздействующим, а уже ушедшим, отзвучавшим предстает в этом произведении то, что мы так любили видеть своими глазами и так страстно искали в настоящем, к чему так жаждали приложить свои неистощимые юношеские силы. Деревенское гулянье, престольные праздники и ярмарки, собрание старейшин под деревенскою липою, потесненное охочей до плясок молодежью, и, наконец, лица высших сословий, принимающие живое участие в сельских утехах. Как радостны эти праздники и как уместно здесь присутствие бравого деревенского священника, который умеет вовремя вмешаться, когда веселье переходит границы дозволенного, умеет быстро уладить или прекратить все, что может привести к распрям и раздорам. Мы снова видели и нашего доброго Векфильда в его хорошо нам знакомом кругу, но он присутствовал здесь уже не во плоти, а лишь как тень, возвращенная к жизни тихой, элегической жалобой поэта. Счастливой можно назвать уже самую мысль воссоздать невинное прошлое, овеянное легкой печалью. А как прекрасно удалась англичанину эта милая затея! Восторг перед очаровательной поэмой я разделил с Готтером, которому лучше, чем мне, удался перевод, предпринятый нами обоими: я перестарался, воспроизводя тонкую значительность оригинала на родном языке, и потому справился разве что с отдельными местами, а не с целым.
Если высшее счастье, как говорят, заключается в стремлении и если стремиться можно лишь к недостижимому, то здесь все как будто сошлось, чтобы сделать юношу, которого мы сейчас сопровождаем в его блужданиях, счастливейшим из смертных. Любовь к нареченной невесте другого, старания приобщить к нашей литературе лучшие произведения, созданные на других языках, усилия, направленные на изображение природы не только словами, но также карандашом и кистью, хотя и без настоящего владения техникой, — все это и в отдельности могло бы наполнить сердце и стеснить грудь. Но, видно, затем, чтобы вырвать сладостно страдающего юношу из этой обстановки и создать для него новый источник тревог, должно было случиться следующее.
В Гисене проживал Гёпфнер, профессор правоведения. Мерк и Шлоссер почитали его недюжинным знатоком своего дела и к тому же мыслящим и достойным человеком. Я уже давно хотел с ним познакомиться, и теперь, когда оба моих друга собрались его навестить, желая побеседовать о разных литературных вопросах, было решено, что и я приеду в Гисен. Но так как молодой задор, расцветающий в мирное и доброе время, частенько сбивает нас с прямого пути и мы, точно дети, стараемся извлечь из будней какую-нибудь забавную шутку, то было решено, что я явлюсь туда незнакомцем и, таким образом, вновь потешу свою страсть скрываться под чужим обличьем. В погожее утро, еще до рассвета, я двинулся из Вецлара вдоль Лана по прелестной долине — такие странствия всегда доставляли мне неимоверное наслаждение. Я сочинял, связывал воедино, перерабатывал и в тиши, наедине с собою, был весел и счастлив: так мне было легче управиться с тем, что неумело и бессистемно навязывал мне наш вечно противоречивый мир. Добравшись до цели моего странствия, я разыскал квартиру Гёпфнера и постучал в двери его кабинета. Услышав «войдите», я со скромной миной предстал перед ним и отрекомендовался студентом, едущим домой из университета, который решил по пути представиться некоторым почтенным лицам. К его вопросам касательно моей жизни я был подготовлен и рассказал ему вполне правдоподобную сказку в прозе, которой он, видимо, остался доволен; назвавшись юристом, я тоже не ударил лицом в грязь, так как знал его заслуги на этом поприще и то, что сейчас он занимается натуральным правом. Тем не менее разговор несколько раз замирал, и Гёпфнер, казалось, ждал, что я вот-вот протяну ему свой памятный альбом или же поспешу откланяться. Но я тянул время, дожидаясь Шлоссера, как всегда, уверенный в его пунктуальности. Он вошел, радостно встреченный своим другом, покосился на меня и словно вовсе обо мне позабыл. Но Гёпфнер вовлек меня в разговор, выказав тем свою гуманность и доброжелательство. Наконец я откланялся и поспешил на постоялый двор, где обменялся несколькими словами с Мерком, уговариваясь о дальнейшем.
Мои друзья намеревались пригласить к обеду Гёпфнера и заодно Христиана Генриха Шмида, который играл известную, хотя и подчиненную роль в немецкой литературной жизни. Для него, собственно, и был затеян весь этот маскарад, так как нам хотелось подшутить над ним в наказание за разные его грешки. Когда все уже сели за стол, я велел кельнеру спросить, не разрешат ли мне господа отобедать вместе с ними. Шлоссер, к которому очень шла известная суровость, стал возражать, говоря, что посторонний помешает дружеской беседе. Однако, благодаря настояниям кельнера и заступничеству Гёпфнера, заверившего, что я вполне порядочный человек, меня пригласили, и я поначалу держал себя за столом весьма застенчиво и скромно. Шлоссер и Мерк, ничуть не стесняясь присутствия постороннего, о многом говорили начистоту. В разговоре о важнейших литературных событиях упоминались имена наиболее почтенных литераторов. Я несколько осмелел и не обращал внимания, когда Шлоссер не без суровости, а Мерк даже насмешливо меня осаживали; все мои стрелы метили в Шмида, а так как мне были хорошо известны его слабые стороны, то они безошибочно попадали в цель.
Я скромно попивал свое нёссельское столовое вино, остальные велели подать себе другое, получше, и не преминули налить его также и мне. После того как мы обсудили множество злободневных событий, разговор принял более общий характер и коснулся вопроса, который будет существовать, покуда существуют писатели: расцветает литература или сходит на нет, движется она вперед или назад? Этот вопрос, предмет извечных разногласий между старыми и молодыми, начинающими и уже отжившими свой литературный век, мы обсуждали весьма оживленно, впрочем не задаваясь целью прийти к какому-либо решению. Под конец я взял слово и сказал: «По-моему, в литературе, как и в природе, времена года сменяют друг друга, порождая определенные феномены. И мне кажется поэтому, что нельзя прославлять или хулить какую-нибудь литературную эпоху в целом. Но всего неприятнее, когда начинают на все лады превозносить таланты, выдвинутые временем, другие же бранить и принижать. Весна отзывается волнением в горлышке соловья, но ведь и в глотке кукушки. Мотыльки, эта утеха для взора, и комары, которые так нам досаждают, появляются на свет от того же солнечного тепла. Если бы люди пожелали это понять, мы не слышали бы через каждые десять лет те же самые жалобы и не тратили бы понапрасну столько усилий на искоренение того или другого нам неприятного явления». Все с удивлением на меня воззрились: где это я понабрался такой мудрости и терпимости? Между тем я, невозмутимо продолжая сравнивать литературные явления с порождениями природы, сам не знаю с чего вдруг заговорил о моллюсках и нарассказал о них всяких чудес. Нельзя, мол, отрицать, что эти создания имеют некое подобие тела и даже формы, но поскольку они лишены костей, то еще неизвестно, какой в них прок и не надо ли полагать, что они просто живая слизь, но в море, видно, должны быть и такие обитатели. Так как, желая охарактеризовать сидящего здесь Шмида, а заодно и других бесцветных литераторов, я хватил через край с этими сравнениями, мне резонно указали на то, что не в меру пространные сравнения, по существу, уже ничего не значат. «В таком случае вернемся на землю, — воскликнул я, — поговорим о плюще. Если моллюски не имеют костей, то плющ не имеет ствола, тем не менее, к чему бы он ни прильнул, он стремится играть главную роль. На старых стенах плющ вполне уместен, там уже нечего портить, но с новых строений его срывают — и правильно делают. Из деревьев он высасывает соки. Но всего невыносимее, по-моему, он становится тогда, когда, взобравшись на столб, старается нас уверить, что это живой ствол, ибо он прикрыл его своей листвою».
Не обращая внимания на то, что меня опять попрекнули за темноту и отвлеченность моих сравнений, я стал еще ретивее поносить разных паразитических тварей — и, насколько хватало моих тогдашних познаний в естественной истории, неплохо справился со своей задачей. Под конец я провозгласил здравицу всем самостоятельным людям и чуть ли не прокричал «долой» всем прихлебателям. После обеда я схватил руку Гёпфнера, что есть силы ее потряс, назвал его самым славным человеком в мире и от души его обнял, так же как и других. Мой новый друг думал, что ему все это привиделось во сне, покуда Шлоссер и Мерк не разъяснили ему загадки. Открывшаяся шутка вызвала всеобщее веселье. Шмид тоже принял в нем участие, поскольку мы его задобрили признанием его подлинных заслуг и интересом к тому, что составляло его пристрастия.
Это шутливое вступление не могло не способствовать успеху и оживлению литературного конгресса, для чего оно, собственно, и было затеяно. Мерк, занимавшийся то эстетикой, то литературой, то коммерцией, подстрекнул благомыслящего, образованного и сведущего в самых различных областях Шлоссера издавать в текущем году «Франкфуртский ученый вестник». Они обеспечили себе сотрудничество Гёпфнера и других профессоров университета в Гисене, почтенного дармштадтского педагога, ректора Венка, и еще разных выдающихся людей. Каждый из будущих сотрудников был вооружен значительными историческими и теоретическими знаниями по своей специальности, а дух времени заставлял всех их действовать заодно. Первые два года этого журнала (позднее он перешел в другие руки) убедительнейшим образом свидетельствуют о том, сколь обширные знания, сколь добрая воля и честные взгляды отличали тех, что его делали. Гуманность и космополитизм всячески поощрялись ими; достойных, по праву прославившихся людей они старались оградить от всех нападок и защитить от врагов, и прежде всего от студентов, которые нередко обращали во зло своим учителям полученные от них знания. Наиболее интересны во «Франкфуртском ученом вестнике» были рецензии на другие повременные издания — «Берлинскую библиотеку», например, или «Немецкий Меркурий»; эти рецензии удивляли поистине редкостной осведомленностью в самых разных отраслях знания, глубоким проникновением в предмет и беспристрастием.
Что касается меня, то они, конечно же, поняли, что для роли рецензента мне недостает решительно всего. Мои исторические знания были бессвязны: всемирная история, науки, литература привлекали меня далеко не во все эпохи, да и отдельные произведения, порожденные той или иной эпохой, либо вовсе меня не увлекали, либо же интересовали только частично. Способность к живому и точному представлению о вещах даже вне их связи помогла мне чувствовать себя как дома в том или ином столетии, в том или ином разделе науки, без какого бы то ни было знания о предшествующем и будущем. Точно так же развилось во мне некое теоретико-практическое чутье, благодаря которому я мог метко описывать вещи скорее такими, какими они должны были быть, чем такими, какими они были на деле, и притом безо всякой философской последовательности, скачкообразно и выборочно. К тому же я слишком охотно все принимал, слишком охотно прислушивался к любому мнению, лишь бы оно не стояло в прямом противоречии с моим собственным.
Нашему литературному кружку благоприятствовала также оживленная переписка и частое личное общение, возможное благодаря близости городов, где проживали его участники. Первый, прочитавший новую книгу, реферировал ее; случалось, находился и второй референт. Далее книгу обсуждали и сравнивали со сходными литературными явлениями, и, если результат обсуждения был положителен, кто-нибудь брал на себя функции редактора. Поэтому рецензии нередко получались дельными и живыми, увлекательными и приносившими удовлетворение читателю. На мою долю часто выпадала роль протоколиста; друзья позволяли мне вставлять разные шутки в их работы или выступать самостоятельно, когда я чувствовал, что предмет обсуждения мне по силам или по сердцу. Напрасно бы я нынче старался восстановить дух и смысл тех дней, если бы сам журнал за эти два года не явился для меня достовернейшим документом. Извлечения из мест, в которых я узнал свою руку, возможно, появятся в свое время вместе с другими статьями того же рода.
При таком живом обмене знаниями, мнениями и взглядами я ближе узнал и полюбил Гёпфнера. Оставаясь с глазу на глаз, мы с ним говорили о деталях его ремесла, которое должно было сделаться и моим ремеслом, и он всегда доходчиво и поучительно пояснял мне таковое в его естественных связях. В то время я еще недостаточно ясно осознал, что многому можно научиться из книг и бесед, а не только из последовательных лекций, услышанных с университетской кафедры. Книга позволяла мне задержаться на полюбившемся месте, даже заглянуть в предыдущие — роскошь, которую нам не может предоставить устное изложение лектора. Иной раз в самом начале лекции у меня являлась какая-нибудь мысль, от которой я уже не мог отвязаться: я пропускал мимо ушей последующее и в конце концов утрачивал все связи. То же самое происходило со мной и на занятиях юриспруденцией; поэтому-то мне о многом и хотелось подробнее расспросить Гёпфнера, который охотно рассеивал мои сомнения и пополнял многие пробелы в моем образовании, так что у меня даже возникло желание остаться в Гисене и учиться у него, не слишком удаляясь, конечно, при этом от моих вецларских привязанностей. С таким желанием вступили в борьбу оба моих друга — сначала бессознательно, а потом и вполне сознательно, так как они не только спешили отсюда уехать, но в их интересы входило и меня увезти с собою.
Шлоссер признался мне, что его отношения с моей сестрой, поначалу дружеские, стали более теплыми и что он дожидается только скорого получения должности, чтобы на ней жениться. Я несколько опешил от этого сообщения, хотя уже давно мог бы о нем догадаться по письмам сестры. Но мы обычно проходим мимо того, что может поколебать лестное мнение, составленное нами о себе, и я лишь сейчас понял, что ревную к нему сестру: я уже не мог скрывать от себя это чувство, тем паче что после моего возвращения из Страсбурга мы с нею еще больше сблизились. Сколько времени мы потратили, взаимно исповедуясь друг другу в разных сердечных волнениях, в любовных и прочих раздорах, случившихся за это время! А в области воображения разве не успел мне открыться новый мир, в который я собирался ее ввести? Мои собственные литературные поделки, необозримые просторы мировой поэзии — со всем этим я должен был ее познакомить. Я переводил ей с листа те места из Гомера, которые непременно должны были возбудить ее участие. Читал ей по-немецки подстрочный перевод Кларка, причем в этом чтении у меня появлялись метрические обороты и окончания, а живость, с которою я воспринимал Гомеровы образы, сила, с которою преподносил их, снимала нескладицу неестественной расстановки слов; она вдохновенно слушала мою вдохновенную интерпретацию. Долгие часы проводили мы за такими занятиями; когда же у нас собиралась ее компания, все единогласно требовали волка Фенриса и обезьяну Ганемана! И сколько же раз мне приходилось во всех подробностях рассказывать знаменитую историю о том, как Тора и его спутников дурачили волшебники-великаны! Оттого-то и сохранилось у меня такое приятное впечатление от всех этих сказок, что они и доныне принадлежат к наиболее дорогому из всего, что может вызвать к свету моя фантазия. В свои отношения с дармштадтцами я тоже вовлек сестру, а мои странствия и отлучки только больше скрепляли нашу связь, ибо в письмах я рассказывал ей обо всем, что меня занимало, немедленно пересылал любое самое мелкое стихотворение, пусть это был один восклицательный знак, а потом показывал ей все полученные мною письма и мои ответы на них. Столь живое общение прекратилось с моим отъездом из Франкфурта, мое пребывание в Вецларе не давало для него достаточной пищи, к тому же привязанность к Лотте, видимо, уменьшила мое внимание к сестре. Словом, она чувствовала себя одинокой, может быть, даже покинутой, и тем скорее вняла честным домогательствам уважаемого человека, по характеру серьезного и замкнутого, надежного и положительного, страстно к ней привязавшегося, несмотря на то что он никогда не был тороват на чувства. Мне оставалось только примириться с этим решением и порадоваться за друга, хотя в глубине души я самонадеянно полагал, что, если бы брат был дома, друг вряд ли бы преуспел в такой степени.
Мой друг и будущий зять очень хотел, конечно, чтобы я возвратился домой, ибо через мое посредство ему было бы обеспечено частое общение с сестрой, которого так жаждал этот нечаянно пораженный нежной любовью человек. Посему, уезжая, он взял с меня слово, что я вскоре последую за ним.
Теперь мне только оставалось надеяться, что Мерк, сейчас сравнительно свободный, продлит свое пребывание в Гисене и я смогу несколько часов в день проводить с моим милым Гёпфнером, покуда мой приятель будет заниматься делами «Франкфуртского ученого вестника». Но склонить его к этому мне не удалось. Как моего зятя любовь, так Мерка гнала от университета ненависть. Существуют врожденные антипатии: некоторые люди, например, не выносят кошек, других еще от чего-нибудь с души воротит; Мерк был заклятым врагом студентов. Гисенских студиозусов и вправду в те годы отличала грубость нравов. Я против них ничего не имел, они бы даже могли послужить масками для моих масленичных фарсов, но Мерку их вид в дневное время и их рев по ночам отравлял каждую минуту существования. Лучшие дни своей юности он провел во Французской Швейцарии, а затем вращался в кругу придворных, светских, деловых людей и образованных литераторов. Некоторые военные, повинуясь проснувшейся в них тяге к культуре, тоже искали его общества, — словом, вся его жизнь протекала среди высокообразованных людей. Не удивительно, что студенческие безобразия ему досаждали, тем не менее его отвращение к этим юнцам было, право же, чрезмерно для положительного человека, хотя он нередко и смешил меня до упаду, остроумно воспроизводя их вид и повадки. Ни усиленные приглашения Гёпфнера, ни мои уговоры ничему не помогли, и мне пришлось поскорее отправиться с ним в Вецлар.
Я насилу дождался минуты, когда введу Мерка в дом Лотты, однако радости от его знакомства с нею мне было немного; как Мефистофель, где бы он ни появлялся, не приносит с собой благословенья, так и его равнодушие к моей любимой если и не поколебало моих чувств, то все же не доставило мне удовольствия. Мне бы следовало это предугадать, вспомни я вовремя, что такие стройные, изящные девушки, сеявшие вокруг себя веселое оживление и лишенные каких бы то ни было претензий, были ему не по вкусу. Он предпочел Лотте одну из ее подруг, статью своей напоминавшую Юнону, но так как за недосугом не смог завязать с ней более близких отношений, то разбранил меня, как это я не приволокнулся за столь великолепной особой, которая к тому же была свободна и ни с кем не связана. Никогда-то я, мол, не понимаю своей выгоды, и ему остается только удивляться моей охоте попусту терять время.
Если опасно знакомить друга с достоинствами возлюбленной, потому что и он может найти ее прельстительной и начать ее домогаться, то не менее велика и противоположная опасность, что ему удастся сбить тебя с толку своим неодобрением. В моем случае этой опасности не было, слишком глубоко запечатлелся во мне ее милый образ, чтобы кто-нибудь мог с такой легкостью его стереть. Но присутствие Мерка и его настояния все же ускорили мое решение покинуть Вецлар. Он соблазнительнейшим образом обрисовал мне поездку по Рейну, которую собирался предпринять с женою и сыном, и пробудил во мне стремление увидеть наконец собственными глазами все, о чем я так часто с завистью слушал различные рассказы. Когда он уехал, пришла пора и мне разлучиться с Шарлоттой. Совесть моя теперь была чище, чем при расставании с Фридерикой, но печаль велика. Эти отношения, поощренные привычкой и попустительством, с моей стороны опять приняли непозволительно страстный характер. Напротив, она и ее жених держались так весело и непринужденно, что лучше и быть не могло, — уверенность, внушенная мне их поведением, заставила меня забыть об опасности. Тем не менее я не мог дальше таить от себя, что с этим приключением надо покончить: ожидавшееся назначение молодого человека должно было его соединить с достойной любви невестой. А так как человек, хоть в какой-то степени мужественный, принуждает себя идти навстречу неизбежному, то я решил уехать по доброй воле, прежде чем меня прогонят отсюда невыносимо сложившиеся обстоятельства.
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ
С Мерком мы уговорились летом встретиться в Кобленце у госпожи фон Ларош. Я отправил свой багаж во Франкфурт, а то, что мне могло понадобиться в пути, — со случайной оказией вниз по Лану, сам же двинулся пешком вдоль этой реки с ее очаровательными изгибами и удивительным разнообразием берегов, свободный в силу своего решения, но скованный любовью, в том душевном состоянии, когда близость живой и молчаливой природы становится истинно благотворной. Глаз мой, наметанный на распознании живописных, даже сверхживописных ландшафтов, блаженствовал, созерцая близи и дали, горы, поросшие кустарником, пронизанные солнечными лучами верхушки дерев, влажные долы, замки на каменистых престолах и горные цепи, заманчиво синеющие вдали.
Я шел по правому берегу реки, озаренные солнцем воды которой катились внизу, в небольшом отдалении, полускрытые от меня зарослями ивняка. Во мне вновь ожило давно знакомое желание — достойно воссоздать всю эту красоту. Случайно я держал в левой руке перочинный нож, и в это мгновение из самых глубин моей души вдруг повелительно, почти как приказ, поднялось: немедля швырни этот нож в воду! Если я увижу его падение — сбудется моя мечта; если ветви плакучих ив закроют от меня то, как он пошел ко дну, я должен поставить крест на своих усилиях и надеждах — стать художником. В мгновение ока явилась мне эта фантазия, и в мгновение же ока я претворил ее в жизнь. Не думая о том, что мне каждую минуту может понадобиться этот нож со множеством аксессуаров, я как держал его, так и швырнул изо всей силы левой рукой. Но здесь и мне пришлось столкнуться с обманчивой двусмысленностью оракула, вызывавшей горькие сетования древних. Как утонул нож, я не видел, его заслонили от меня нижние ветви ивы, но воду, фонтаном взметнувшуюся на месте его падения, видел отчетливо. Я истолковал это происшествие как дурное знамение и впоследствии из-за сомнений, которые оно заронило в меня, начал относиться к занятиям живописью спустя рукава, а там и вовсе пренебрегать ими и, таким образом, сам же способствовал исполнению оракула. Итак, внешний мир на короткий срок был омрачен для меня, я предался своим чувствам и фантазиям и мало-помалу оставил позади живописные замки и деревушки Вейльбурга, Лимбурга, Дица и Нассау; шел я по-прежнему в одиночку, лишь изредка и ненадолго сходясь с каким-нибудь случайным попутчиком.
После нескольких дней этого отрадного странствия я добрался до Эмса, раз-другой искупался в живительных водах тамошнего источника и затем отправился на лодке вниз по реке. Передо мной открылся старый Рейн. Прекрасное расположение Оберланштейна восхитило меня, но более всего потряс меня своим великолепием и величием замок Эренбрейтштейн, во всеоружии своей грозной мощи возвышавшийся над равниной. Очаровательный контраст с ним являл прилепившийся к его подножию красиво застроенный городок Таль, где я без труда разыскал квартиру тайного советника фон Лароша. Предупрежденные Мерком о моем прибытии, эти милые люди приветливо меня встретили, и, не успев опомниться, я уже сделался как бы членом их семьи. С матерью меня связывали мои беллетристические и сентиментальные устремления, с отцом — мирской непринужденный ум, с дочерьми — моя молодость.
Из их дома на невысоком берегу у самого края долины открывался широкий вид вниз по течению реки. Комнаты в доме были высоки и просторны, стены сплошь увешаны картинами, как в галерее. Каждое окно, куда бы оно ни выходило, являлось своего рода рамой для естественной картины, которая живо выступала в мягком блеске солнечных лучей. Никогда, кажется, я еще не видывал таких радостных восходов, таких великолепных вечеров.
Я недолго оставался единственным гостем в доме. На конгресс, который должен был здесь состояться, объединив под этим гостеприимным кровом людей, преданных искусствам, и просто адептов модного сентиментализма, прибыл из Дюссельдорфа также и господин Лейксенринг. Этот человек отлично знал новейшую литературу, приобрел много знакомств за время своих частых путешествий и многократных посещений Швейцарии, а так как характера он был приятного и вкрадчивого, то и расположение многих своих современников. Он возил с собою несколько шкатулок, в коих хранилась его доверительная переписка с друзьями. Тогда распространился среди людей такой избыток откровенности, что считалось почти невозможным говорить с кем-нибудь с глазу на глаз или обмениваться интимными письмами, не считая, что слова, сказанные тобою или тебе, предназначены и для многих других. Каждый шпионил за своим сердцем и за сердцем друга, и при полном равнодушии правительства к такого рода переписке, при быстроте и безотказности Таксисовой почты, неприкосновенности сургучной печати на почтовых отправлениях, а также относительно низкой оплате почтовых расходов этот вид морально-литературного общения вскоре получил довольно широкое распространение.
Переписка, особенно если ее вели выдающиеся лица, заботливо сохранялась, и выдержки из писем читались на дружеских встречах. Не питая особого интереса к политическим дискуссиям, мы тем охотнее знакомились при этой оказии с многоразличными явлениями нравственного миропорядка.
В шкатулках Лейксенринга хранилось немало такого рода сокровищ. В то время большим вниманием пользовались письма некоей Юлии Бондели, женщины недюжинного ума и талантов, широко известной уже тем, что она была подругой Руссо; ведь на всякого, кто состоял в каких-либо отношениях с этим исключительным человеком, падали лучи его славы, особливо в объединенной его именем молчаливой общине, повсеместно распространившейся в мире.
Я любил слушать эти чтения; они переносили меня в незнакомую среду и помогали уяснить себе внутренний смысл многих недавних событий. Разумеется, не все письма отличались интересным содержанием, и господин фон Ларош, человек светский, деловой и жизнерадостный, который, несмотря на принадлежность к католической церкви, немало потешался в своих писаниях над монахами и попами, в подобных чтениях усматривал новый вид братства, позволяющий ничтожным людям похваляться своей близостью с людьми выдающимися. Вывод напрашивался сам собой: пользу из этого братства извлекали первые, а отнюдь не вторые. Обычно сей достойный муж покидал общество, как только открывали шкатулки. Если же он иногда и прослушивал одно-другое письмо, то уж надо было ждать какой-нибудь лукавой реплики. Однажды он заметил, что прочтенные сейчас письма только укрепили его в давнишнем убеждении: женщинам можно отказаться от пользования сургучом и скреплять свои письма булавками, все равно они нераспечатанными дойдут по назначению. Так же он вышучивал все, что находилось вне круга его жизни и деятельности, следуя примеру своего патрона и учителя, графа Штадиона, министра Майнцского курфюршества, который в свое время явно не позаботился о том, чтобы внушить мальчику с умом холодным и светским благоговение перед чем-то таинственно-знаменательным.
Здесь, пожалуй, уместно будет рассказать анекдот о практической сметке графа. Полюбив осиротевшего Лароша, он взял его к себе на воспитание и тут же возложил на мальчика обязанности секретаря. Он поручил ему отвечать на письма, составлять депеши, исправлять таковые, переписывать их набело, а также шифровать, запечатывать и надписывать. Так продолжалось долгие годы. Когда мальчик превратился в юношу и мог уже по-настоящему выполнять обязанности, до сих пор только воображаемые, граф подвел его к большому письменному столу, в котором хранились не вскрытыми все письма и пакеты, будто бы им отправленные и на поверку оказавшиеся всего лишь учебным пособием.
Но граф вменял в обязанность своему питомцу еще и другой вид учебной практики, который вряд ли заслужит всеобщее одобрение. Ларош должен был в точности воспроизводить почерк своего патрона и учителя, дабы избавить его от докуки самому писать письма. Беда в том, что этот талант молодого человека находил применение не только в деловой переписке; он и в любовных интрижках иной раз заступал место своего наставника. Граф был страстно влюблен в одну высокопоставленную и очень умную даму. Покуда он проводил у нее время до глубокой ночи, Ларош, сидя дома, строчил пылкие любовные письма. Возвратись, граф выбирал наиболее подходящее и той же ночью отсылал своей возлюбленной, дабы она могла убедиться, что огонь в груди ее почитателя не угасает ни на мгновение. Этот ранний опыт вряд ли помог юноше составить себе наилучшее представление о письменных объяснениях в любви.
Непримиримая ненависть к ионам укоренилась в этом человеке, служившем двум духовным курфюрстам, — возможно, оттого, что он наблюдал грубую, пошлую, разлагающую душу жизнь, которую ведут монахи во многих германских землях, препятствуя развитию культуры или даже разрушая таковую. Его «Письма о монашестве», горячо встреченные всеми протестантами и многими католиками, произвели большое впечатление.
Несмотря на то что господин фон Ларош восставал против всего, что можно назвать чувствительностью, и решительно отрицал в себе хотя бы след таковой, он не скрывал своей отеческой нежности к старшей дочери, и вправду достойной самой горячей любви. Наружность у нее была прелестная и необычная: росту скорее маленького, сложения изящного, с черными-пречерными глазами, с лицом нежным, на диво чистым и цветущим. Она отвечала отцу такою же любовью и склонялась к его убеждениям. Энергичный и видный чиновник, он большую часть времени отдавал своим обязанностям; многочисленные гости, ездившие к ним главным образом из-за жены, видимо, доставляли ему мало радости. Впрочем, за столом он бывал весел и занимателен, стараясь хотя бы здесь обходиться без приправы чувствительности.
Тот, кто знает убеждения и образ мыслей госпожи фон Ларош, — а долгая жизнь и многочисленные сочинения сделали их известными каждому немцу, — пожалуй, подумает, что из этого могли проистечь семейные нелады. Отнюдь нет! Госпожа фон Ларош была удивительнейшей женщиной, и я не знаю ни одной, которую можно было бы сравнить с нею. Стройная и хрупкая, скорее высокая, чем маленькая, она сумела сохранить до глубокой старости элегантный облик и благородную изысканность манер аристократки, но в то же время и бюргерской матроны, что делало ее еще обаятельнее. Наряд ее в течение многих лет оставался одинаковым. Хорошенький чепчик с отворотами очень шел к ее маленькой головке и изящно очерченному лицу, а коричневое или серое платье сообщало ее облику спокойное достоинство. Она была красноречива, а глубокая прочувствованность делала ее слова вескими и значительными. Обхождение ее со всеми было неизменно одинаково. Но сказанное еще не передает ее сущности, определить которую очень трудно. Казалось, она принимает участие во всем, что происходило вокруг, но на самом деле ничто на нее не влияло. Она всегда была кроткой и умела все терпеть и сносить, не испытывая страданий. На шутки своего мужа, на дружескую нежность, на милые выходки своих детей она откликалась, постоянно оставаясь самой собою; ни добро, ни зло, ни хорошее или дурное в жизни и в литературе ее почти не затрагивало. Благодаря такому складу характера она до самых преклонных лет сохранила свою внутреннюю самостоятельность, хотя судьба и уготовила ей много жестоких и печальных испытаний. Желая, однако, быть справедливым, я должен заметить, что при взгляде на сыновей, в ту пору мальчиков ослепительной красоты, у нее порою вырывались слова и выражения, отличные от тех, к которым она обычно прибегала.
Итак, я продолжал жить в новом, удивительно приятном кругу, покуда не приехал Мерк со своим семейством. Тут сразу же установилось новое избирательное сродство: обе женщины сошлись между собой, а Мерк, будучи человеком светским и деловым и к тому же много повидавшим во время долгих своих путешествий, нашел общие интересы с господином Ларошем. Мальчик присоединился к мальчикам, дочери же достались на мою долю, и к старшей из них я вскоре почувствовал особое влечение. Нет чувства более приятного, чем зарождение новой страсти в то время, как старая еще не успела угаснуть. Так при заходе солнца мы с удовольствием видим луну на противоположном краю неба и радуемся двойному сиянию небесных светил.
К тому же и развлечений у нас было вдосталь как в доме, так и вне дома. Мы бродили по окрестностям, взбирались на Эренбрейтштейн на нашем берегу и на Картаузе — на противоположном. Город, мост через Мозель, паром, который перевозил нас на другой берег Рейна, — все доставляло нам радость и удовольствие. Нового дворца тогда еще не было, но нас сводили на площадь, где его должны были воздвигнуть, и познакомили с различными проектами.
Среди этой веселой суеты внутри нашего кружка стала образовываться материя неуживчивости, нежелательные воздействия которой, увы, одинаково сказываются на просвещенном и непросвещенном обществе. Мерк, человек холодный, хотя и беспокойный, несколько раз молча присутствовал при чтении пресловутых писем, но затем стал во всеуслышание высказывать язвительные мысли, касавшиеся их содержания, а также самих корреспондентов и их житейских обстоятельств, меня же с глазу на глаз посвящал в самые удивительные истории, будто бы крывшиеся за этими письмами. Ни о каких политических тайнах тут и речи не было, так же как и вообще о чем-либо связном. Он просто обратил мое внимание на тех, кто, не обладая большими талантами, добивается влияния и умеет посредством обширных связей, что называется, выйти в люди. После подобных разговоров с Мерком я и вправду стал замечать людей этого пошиба. А так как они часто меняют свое местопребывание и под видом путешественников появляются сегодня там, завтра здесь, то в руку им играет интерес, всегда вызываемый новоприбывшими. Последнее не должно возбуждать ни зависти, ни сожаления — это дело самое обыкновенное, и многим путешественникам оно приносило выгоду, домоседам же — всегда только вред.
Как бы то ни было, но мы с того времени стали с беспокойством, даже с некоторой долей зависти приглядываться к людям, которые на свой страх и риск переезжали с места на место и чуть ли не в каждом городе бросали якорь, стремясь приобрести влияние хотя бы в нескольких семействах. Одного мягкотелого и мягкосердечного представителя этих вечных странников я изобразил если и не снисходительно, то беззлобно в «Патере Брее», другого, более дельного и напористого, в масленичном фарсе «Сатир, или Обожествленный леший», который в недалеком времени будет мною опубликован.
До поры до времени пестрые элементы нашей маленькой компании еще неплохо взаимодействовали и уживались; в какой-то мере нас сдерживала воспитанность и светскость хозяйки дома, но главным образом особые свойства ее характера, — ничто не могло ее вывести из душевного равновесия и лишь еле-еле затрагивало все окружающее, так как жила она в мире идеальных представлений, делавших ее дружелюбной и благожелательной и сообщавших ей редкое умение смягчать резкости и сглаживать любые шероховатости.
Мерк как раз вовремя протрубил сигнал к отъезду, так что все мы расстались в наилучших отношениях. Я поехал с ним и с его семьей вверх по Рейну, на яхте, возвращавшейся в Майнц, и, хотя ход у нее и без того был медленный, мы часто просили шкипера не торопиться. На досуге мы наслаждались бесконечным разнообразием берегов, которые при стоявшей тогда великолепной погоде с часу на час становились все прекраснее и, меняясь, словно бы приобретали еще большее величие и прелесть. Называя имена, такие, как Рейнфельс, Сен-Гоар, Бахарах, Бинген, Эльфельд и Бибрих, я могу только пожелать, чтобы каждому из моих читателей дано было счастье вспоминать об этих краях.
Мы усердно делали зарисовки, чтобы хоть таким образом запечатлеть для себя тысячекратные превращения сих дивных берегов. Но и личные наши отношения стали настолько более сердечными из-за длительной совместной жизни и доверительных бесед на самые разные темы, что я подпал под влияние Мерка, а он стал видеть во мне доброго сотоварища, совершенно ему необходимого для приятного времяпрепровождения. Мой взор, искушенный картинами природы, вновь обратился к созерцанию произведений искусства; возможность эту мне предоставили прекрасные франкфуртские собрания картин и гравюр на меди, в этом смысле я очень многим обязан благосклонности господ Этлинга и Эренрейха, но прежде всего нашему доброму Нотнагелю. Видеть в искусстве природу было подлинной моей страстью, которая в минуты своего апогея даже самым заядлым любителям представлялась уже каким-то безумием. А что же могло лучше выпестовать такую любовь, как не длительное созерцание превосходных творений нидерландцев? Для того чтобы я мог действенно ознакомиться с этим искусством, Нотнагель освободил для меня кабинет, где я обнаружил все необходимое для работы масляными красками и вскоре написал несколько простых натюрмортов, в том числе черепаховую рукоятку ножа, инкрустированную серебром, которая так удивила моего учителя, ушедшего от меня всего за час перед тем, что он заподозрил, не побывал ли у меня за это время кто-нибудь из его подмастерьев.
Если бы я продолжал терпеливо упражняться на подобных предметах, занимаясь светотенью и разработкой поверхности, я бы приобрел известные навыки и, быть может, пробил бы себе дорогу к задачам более высоким, но я, впав в обычную ошибку дилетантов — начинать с труднейшего, более того — стремиться к невозможному, — вскоре запутался в непосильных начинаниях и уже не мог сдвинуться с места не только потому, что таковые превосходили мои технические возможности, но и потому, что я не умел поддержать в себе в девственной чистоте то любовное внимание и спокойное усердие, которые помогают добиться успехов даже начинающему.
Вдобавок меня опять вознесло в высокие сферы; началось с того, что я по случаю купил несколько отличных гипсовых слепков с античных голов. Приезжавшие на ярмарки итальянцы иногда привозили хорошие экземпляры таких слепков и, предварительно сняв с них форму, пускали в продажу. Таким путем я составил для себя маленький музей, в котором были слепки с голов Лаокоона, его сыновей, дочерей Ниобеи, равно как и уменьшенные копии значительнейших творений древности, приобретенные мною из наследства одного любителя искусств; так я по мере сил старался вновь оживить впечатления и чувства, некогда испытанные в Мангейме.
Прилагая усилия к тому, чтобы развивать, питать и поддерживать в себе зачатки таланта, любительства и какие там еще жили во мне добрые свойства, я большую часть дня, по желанию отца, посвящал занятиям адвокатурой, для каковых мне, кстати сказать, неожиданно представился благоприятный случай. После смерти деда мой дядюшка Текстор сделался членом совета и начал передавать мне разные дела помельче, — словом, те, которые были мне по плечу; его примеру последовали и братья Шлоссеры. Я знакомился с судебными делами, отец тоже прочитывал их с превеликим удовольствием, ибо через сына чувствовал себя вновь вовлеченным в деятельность, которой ему так давно недоставало. Мы с ним вместе обсуждали судебные дела, и затем я с легкостью составлял необходимые извлечения. У нас имелся превосходный переписчик, на которого вполне можно было положиться в смысле всех канцелярских формальностей. Эти занятия были мне тем приятнее, что они сблизили меня с отцом. Будучи доволен мной в этом пункте, он стал много снисходительнее и ко всем другим моим начинаниям, лелеял надежду, что вскоре моим уделом станет писательская слава.
Поскольку в каждую историческую эпоху все явления тесно связаны между собой, хотя господствующие мнения и взгляды разветвляются самым причудливым образом, то и в юриспруденцию мало-помалу проникли все те основные принципы, которые прилагались к религии и морали. Не только среди адвокатов, как более молодых, но даже среди судей распространился гуманизм, и все наперебой старались проявлять человечность в правовых вопросах. Тюремный режим изменился к лучшему. На многие преступления смотрели сквозь пальцы, наказания были смягчены, формальности сделались менее сложными, участились расторжения неудачных браков, и один из лучших наших адвокатов стяжал себе громкую славу тем, что добился доступа в коллегию врачей для сына палача. Напрасно оказывали сопротивление гильдии и корпорации, плотины прорывались одна за другою. Терпимость религиозных партий друг к другу, ранее существовавшая на словах, стала доподлинной, но еще большей угрозой для гражданского уложения сделалась попытка привить терпимость к евреям, проводившаяся со всей разумностью, остроумием и силой, свойственными тому благодушному времени. Новые объекты юридической практики, бывшие за пределами закона и традиции и претендовавшие лишь на справедливую оценку и душевное участие, разумеется, потребовали и нового, более естественного и живого стиля работы. Здесь нам, молодому поколению, открывалось поприще для Энергичной и радостной деятельности, и я до сих пор помню, что один из агентов имперского придворного совета прислал мне по этому поводу куртуазное поздравительное письмо. Французские plaidoyers[33] служили нам образцом и источником вдохновения.
Итак, мы были на пути к тому, чтобы сделаться не столько хорошими юристами, сколько хорошими ораторами, и это мне однажды даже поставил в вину солидный Георг Шлоссер. Я рассказал, что прочел своим подзащитным встречный иск, составленный мною в самых энергических выражениях и снискавший их полное одобрение. «Ты в этом случае показал себя скорее писателем, чем адвокатом, — возразил Шлоссер, — надо интересоваться тем, какое впечатление произведет твой встречный иск на судей, а не на клиентов».
Но так как любой из нас, какими бы важными и неотложными делами он ни занимался весь день напролет, вечером все же может выбрать время пойти в театр, то и я часто туда наведывался и, скорбя об отсутствии у нас хорошего театра, не переставал думать, нельзя ли эффективно вмешаться в дела немецкой сцены. Плачевное ее состояние во второй половине прошлого столетия достаточно известно, и каждый, кто пожелает подробнее в него вникнуть, найдет множество нужных ему источников. Поэтому я ограничусь здесь лишь несколькими общими замечаниями.
Успехи театра зиждились не на достоинстве пьесы, а на личности актера. Прежде всего это, конечно, относилось к пьесам, частично импровизировавшимся, где все зависело от чувства юмора и таланта комического актера. Сюжет таких пьес непременно должен быть заимствован из простонародной жизни и соответствовать нравам публики, перед которой его играют. Этой нераздельностью с жизнью и объясняется их неизменный успех. Всего больше такие спектакли, пожалуй, любят в Южной Германии, где они идут и по сей день, и разве что введение новых персонажей время от времени вносит разнообразие в характер комических масок. Однако немецкий театр, в согласии с серьезным характером нации, вскоре обратился к нравственным вопросам, для чего, впрочем, имелся еще и внешний повод. В среде правоверных христиан стал обсуждаться вопрос: относится ли театр к категории греховных, а потому во всех случаях недопустимых развлечений, или же к безразличным зрелищам, которые хороши для хорошего человека и могут обернуться злом для человека, расположенного ко злу. Суровые ревнители веры отрицали последнее и твердо стояли на том, что духовным лицам посещать театр не подобает. Решительно это оспаривать можно было, разве что объявив театр не только безвредным, а, напротив, полезным. Но чтобы быть полезным, театр должен быть нравственным. Такой театр и сложился в Северной Германии, тем более что в угоду так называемому хорошему вкусу с подмостков был изгнан шут. Как ни вставали на его защиту многие разумные люди, ему все же пришлось убраться, несмотря на то что грубоватый немецкий Ганс Вурст уже уступил свое место непринужденно грациозным Арлекинам, как итальянским, так и французским. Та же участь постигла Скапена и Криспена: Криспена я в последний раз видел в исполнении Коха, когда он был глубоким стариком.
Уже романы Ричардсона привлекли внимание бюргерского мира к менее строгой морали. Печальные и столь неизбежные последствия женской опрометчивости в «Клариссе» подверглись безжалостному анализу. В Лессинговой «Мисс Саре Сампсон» разрабатывалась та же тема. Потом «Лондонский купец» показал нам, в какую бездну может сорваться соблазненный юноша. Французские драмы преследовали сходную цель, но в более умеренной форме, и своей примирительной развязкой нравились зрителю. «Отец семейства» Дидро, «Честный преступник», «Торговец уксусом», «Философ, сам того не зная», «Евгения» и тому подобные пьесы угождали почтенным вкусам бюргерских семейств, которые все больше и больше брали верх в обществе. У нас этот путь проделали «Благодарный сын», «Дезертир из чадолюбия» и прочие пьесы такого же пошиба. «Министр» и «Клементина» Геблера, «Немецкий отец семейства» Геммингена — все они, приятно и задушевно выставляя достоинства среднего, даже низшего сословия, приводили в восторг широкую публику. Экгоф, человек большого благородства, сообщил известное достоинство актерскому сословию, доселе ему недостававшее, и поднял на неимоверную высоту главных действующих лиц подобных произведений; изображение добропорядочных людей на редкость ему удалось, видимо, в силу собственной его добропорядочности.
В то время как немецкий театр все решительнее склонялся к изнеженным чувствам, выступил писатель и актер Шредер. Подстрекаемый связями Гамбурга с Англией, он взялся за обработку английских комедий. Сюжеты последних он использовал лишь в самых общих чертах: оригиналы по большей части были бесформенны; сначала развивающиеся интересно и планомерно, они под конец тонули в нестерпимых длиннотах. Казалось, что единственной заботой их авторов было придумывать сцены, как можно более причудливые, и зритель, привыкший к сдержанным произведениям, с неудовольствием обнаруживал, что его загнали в бездонную трясину. Вдобавок эти пьесы носили столь необузданно безнравственный и пошло-беспорядочный характер, что изъять все безобразия из сюжета и поведения действующих лиц подчас было невозможно. То была пища грубая и опасная, воспринимать и переваривать каковую в определенное время могут разве лишь достаточно испорченные массы. Шредер поработал над ними основательнее, чем предполагают. Он в корне их перестраивал, приспосабливал к немецкому пониманию и всячески старался их смягчить. И все же порочное зерно в них осталось, поскольку свойственный им юмор главным образом сводился к третированию человека, безразлично, заслуживал он того или нет. Эти спектакли, широко распространившиеся в нашем театральном обиходе, являли собою как бы тайный противовес чрезмерно щепетильному репертуару, так что взаимодействие двух родов комедий все же счастливо избавило публику от неизбежной монотонности, в которую так легко было впасть немецкому театру.
Немец, по природе добрый и великодушный, не хочет видеть людских унижений. Но поскольку ни один человек, даже самый благомыслящий, не может быть уверен, что ему не подсунут нечто, противоречащее его склонностям, комедия же по самой своей сути предполагает, вернее — пробуждает в зрителе известное злорадство, вполне естественно, что у нас появилась потребность, доселе считавшаяся неестественной: всеми способами принижать или задевать высшее сословие. Сатира, прозаическая и поэтическая, до этих пор остерегалась трогать князей и дворянство. Рабенер воздерживался от насмешек над высшим сословием и в своей сатире не шел дальше низшего круга. Цахариэ, преимущественно занимаясь сельскими дворянами, изображал их пристрастия и чудачества в комическом виде, но без всякого неуважения. «Вильгельмина» Тюммеля, маленькая остроумная вещица, обаятельная и смелая, пользовалась необычайным успехом отчасти еще и потому, что автор, дворянин и придворный, довольно беспощадно расправлялся со своими товарищами по сословию. Но самый решительный шаг был сделан Лессингом в его «Эмилии Галотти», где резко и горько отображены хитросплетения интриг и страстей в высших сферах. Все это находилось в полном соответствии с духом времени, и люди значительно меньшего ума и таланта вообразили, что могут сделать то же самое, даже больше. Так, Гроссман в шести весьма неаппетитных «Блюдах» преподнес публике все изделия своей черной кухни. Честнейший человек, надворный советник Рейнхард в утешение и назидание собравшимся гостям играл во время этого безрадостного пиршества роль дворецкого. С той поры все театральные Злодеи обязательно принадлежали к высшим кругам; право же, чтобы удостоиться такого отличия, надо было быть камер-юнкером или, по крайней мере, доверенным секретарем значительного лица. Для создания роли самого отъявленного негодяя отыскивали по адрес-календарю высокое должностное лицо из придворных или чиновников; кстати сказать, в это избранное общество в качестве злодеев первейшего ранга допускались и юристы.
Поскольку мне приходится опасаться, что я уже перешел границы времени, о котором здесь должна идти речь, возвращусь к себе самому и расскажу об охватившем меня стремлении весь свой досуг отдавать мыслям о театре.
Неотступный интерес к произведениям Шекспира расширил мой духовный кругозор, так что тесное сценическое пространство и краткое, рассчитанное на один спектакль время были в моих глазах чрезмерно узки для того, чтобы вместить в себя доподлинно значительное содержание. Жизнь доблестного Геца фон Берлихингена, им самим описанная, подвигла меня на историческую обработку сюжета, и мое воображение приобрело столь широкий размах, что драматическая форма этого произведения, перейдя театральные границы, стала все больше приближаться к действительным событиям. Обдумывая свою работу, я обстоятельно беседовал с сестрой, всей душой участвовавшей в моих начинаниях, и всякий раз возобновлял эти беседы, вместо того чтобы перейти к делу, так что у нее лопнуло наконец терпение и она взмолилась: хватит растекаться в словах, пора уже закрепить на бумаге все, что так отчетливо представляется воображению. Вняв ее настояниям, я как-то утром засел за работу без всякого предварительного наброска или плана. Первые сцены были написаны, и вечером я прочитал их Корнелии. Она очень меня одобрила, но, так сказать, условно, ибо сомневалась, что я продолжу в том же духе; более того, выказала решительное неверие в мою настойчивость и терпение. Это меня еще больше раззадорило, назавтра я опять проработал весь день, послезавтра повторилось то же самое. После каждого чтения в сестре укреплялась надежда, да и для меня самого драматическое действие оживало день ото дня, ибо я уже успел освоиться с материалом. Итак, я прямиком шел к цели, не оглядываясь ни назад, ни вправо или влево, и через шесть недель уже с радостью держал в руках сброшюрованную рукопись. Я просил Мерка ее прочитать, и он дал о ней вдумчивый и благожелательный отзыв; послал я ее и Гердеру, но тот недружественно и жестоко на нее обрушился, не преминув заклеймить меня насмешливыми кличками в нескольких разносных стихотворениях. Но я не позволил сбить себя с толку, а только еще раз внимательно просмотрел свое творение; первый ход был сделан, теперь важно было, подумать, как лучше расположить фигуры на доске. Я отлично понимал, что и здесь у меня не найдется советчика, и по прошествии некоторого времени, когда я уже мог рассматривать свое произведение со стороны, словно чужое, мне уяснилось, что при попытке отказаться от единства времени и места я погрешил против высшего единства, в данной вещи тем более необходимого. Работая без плана и предварительных набросков, всецело положившись на фантазию и внутреннее влечение, я в первых актах еще не разбрасывался по сторонам, и потому они в какой-то мере соответствовали своему назначению, но в последующих, и особенно в конце, я, сам того не сознавая, поддался овладевшей мною своеобразной страсти. Стараясь изобразить Адельгейду достойной любви, я сам в нее влюбился, и с этого мгновения мое перо непроизвольно писало лишь о ней. Интерес к ее судьбе взял верх над всем остальным, а так как в конце пьесы Гец и без того оказывается вне деятельности и возвращается к таковой лишь для неудачного вмешательства в крестьянскую войну, то не диво, что прелестная женщина отвлекла от него внимание автора, сбросившего с себя оковы искусства, чтобы попытать счастья на новом поприще. Я вскоре заметил этот недостаток, вернее — этот порочный избыток, ибо самая природа моей поэзии все же заставляла меня стремиться к единству. Отныне я уже вынашивал в мыслях не жизнеописание Геца, не характерные черты немецкой старины, а собственное свое произведение, силясь внести в него как можно более исторического и национального содержания, изгнав все, что являлось линь плодом фантазии или избыточной страсти. Мне, разумеется, пришлось многим пожертвовать для того, чтобы художественное убеждение восторжествовало над человеческой пристрастностью. Так, например, я — теша свою душу — вывел Адельгейду в жуткой ночной сцене с цыганами, где ее красота совершает своего рода чудо. По пристальном рассмотрении я эту сцену исключил, а подробно разработанные любовные сцены между Францем и его госпожой сократил, свел лишь к нескольким основным моментам.
Итак, ничего не изменив в первоначальной рукописи (она и поныне хранится у меня в своем первозданном виде), я решил переписать все в целом и взялся за дело с такой энергией, что через несколько недель передо мною уже лежала обновленная пьеса. Я управился с нею так быстро еще и потому, что вовсе не собирался ее когда-либо печатать, а смотрел на нее лишь как на предварительное упражнение, которое собирался положить в основу более тщательно продуманной окончательной обработки.
Когда я поделился с Мерком этим моим намерением, он поднял меня на смех и спросил, кому, собственно, нужны эти вечные переделки. Моя пьеса станет другой, но лучше — навряд ли. Надо сначала посмотреть, какое она произведет впечатление, а потом взяться за что-нибудь новое. «Хочешь, чтобы пеленки высохли, так развесь их еще при солнце», — сказал он, перефразируя народную поговорку. От лишних проволочек и сомнений человек только теряет веру в себя. Я возразил, что мне было бы очень неприятно предложить книгопродавцам работу, на которую столько было затрачено любви и труда, и услышать вежливый отказ; да и как заставить их увлечься молодым, безвестным и к тому же дерзостным автором? Я, например, когда наконец избавился от страха перед опубликованием своих произведений, с удовольствием увидел бы напечатанными «Совиновников», которых считал отнюдь не плохой пьесой, но издателя для них так и не нашлось.
Тут в моем друге пробудился меркантильно-технический дух. Через «Франкфуртскую газету» он уже завязал отношения с учеными и книгопродавцами и посему решил, что нам надо издать это оригинальное и, как он полагал, замечательное произведение за свой счет, а уж прибыль от этого дела нам обеспечена. Мерк, так же как и многие другие, любил подсчитывать барыши книготорговцев; многие сочинения действительно приносили изрядный доход, если не принимать в расчет убытки от других сочинений и прочих превратностей коммерции. Словом, мы постановили, что я займусь приобретением бумаги, а он возьмет на себя хлопоты по печатанию. Мы бодро приступили к делу, и мне очень понравилось читать мой необузданный поэтический набросок в чистых корректурных листах: на них он и вправду выглядел завершеннее, чем я предполагал. Доведя дело до конца и запаковав готовые книги во множество пакетов, мы разослали их по разным местам. Вскоре сказался и результат: пьеса повсюду произвела впечатление. Но так как при весьма ограниченных средствах нам не удавалось достаточно быстро управляться с рассылкой, то нежданно-негаданно появилась перепечатка, да еще, на нашу беду, разосланные экземпляры и вообще-то оплачивались не сразу, а наличными и подавно. Живя на средства отца, я сколько-нибудь значительными деньгами, конечно, не располагал, вот и получилось, что в то время, когда со всех сторон до меня доносились похвалы и славословия, я пребывал в большом затруднении: как оплатить бумагу, на которой я познакомил мир с моим талантом? Мерк, обладавший большей практической сметкой, напротив, был полон радужных надежд на то, что вскоре все устроится, но я этих грядущих барышей так и не дождался.
Безымянно издавая мелкие свои сочинения, я на собственной шкуре узнал публику и рецензентов и теперь был достаточно подготовлен к хвале и хуле еще и потому, что в течение многих лет наблюдал, как обходятся с писателями, которые больше других привлекали мое внимание.
При всей моей неуверенности в себе я отчетливо видел, как много бросается на ветер произвольно высказанных, беспочвенных слов. Теперь и со мной происходило то же самое, и если бы к тому времени я уж довольно твердо не стоял на ногах, меня бы окончательно сбили с толку противоречивые мнения многих просвещенных умов. Так, например, в «Немецком Меркурии» появилась пространная и благожелательная рецензия, написанная каким-то весьма ограниченным человеком. Я не мог согласиться с его порицаниями и еще менее с его решительными советами, как надо было бы построить пьесу. Поэтому я очень обрадовался, когда сразу же, вслед за этой рецензией, был опубликован остроумный отзыв Виланда, в котором он, держа мою сторону и не вдаваясь в частности, возражал рецензенту. Однако свет увидела и та, другая рецензия — образец тупоумия, порой свойственного просвещенным и образованным людям: так как же должна была отнестись ко всему этому широкая публика?
Удовольствие обсуждать с Мерком все эти вопросы длилось недолго; умная и предусмотрительная ландграфиня Гессен-Дармштадтская увезла его в Петербург в составе своей свиты. Обстоятельные письма, которые он мне присылал, расширили мои представления о мире, тем паче что были написаны знакомой и дружеской рукой. Тем не менее я долгое время чувствовал себя одиноким, ибо в эту важную для меня эпоху более чем когда-либо нуждался в его просвещенной близости.
Решив стать солдатом и отправиться на войну, человек одновременно решает храбро сносить все опасности и трудности, ранения, боль, даже самую смерть; однако он не представляет себе тех особых обстоятельств, при которых эти в общем-то ясно предвидимые беды его настигнут. То же самое происходит с каждым, кто отваживается пуститься в широкий мир, и прежде всего с писателем; так было и со мной. Поскольку большую часть публики привлекает материал, а не его обработка, то молодые люди заинтересовались главным образом сюжетами моих пьес. Они вообразили, что это их знамя и что под ним может собраться все то бурное и необузданное, что присуще молодежи! И такой идеей, как на грех, увлеклись лучшие умы, в которых, надо думать, уже и раньше все это колобродило. У меня сохранилось письмо нашего несравненного, во многих отношениях единственного Бюргера, неизвестно кому адресованное; оно служит неопровержимым свидетельством того, как сильно в то время воздействовал и какое волнение вызывал мой «Гец». С другой стороны, солидные люди порицали меня за то, что я, мол, изобразил в благоприятном свете кулачное право, более того — приписывали мне желание возродить смутные времена. Иные сочли меня ученым мужем и требовали, чтобы я издал подлинный рассказ славного Геца, снабдив его примечаниями, к чему я никак не чувствовал себя способным; впрочем, я не протестовал, когда на титульном листе нового издания было упомянуто мое имя. Поскольку я сумел собрать цветы незаурядной жизни, меня сочли искусным садовником. Другие, напротив, сомневались в моей учености и доскональном знании истории. Мне нежданно наносит визит один видный чиновник. Я, естественно, чувствую себя польщенным, тем паче что разговор он начинает с похвал моему «Гецу фон Берлихингену», равно как и моему глубокому проникновению в немецкую историю. Но вскоре я понял, что привело его ко мне: он посетил меня лишь затем, чтобы указать мне, что Гец фон Берлихинген вовсе не был зятем Франца фон Зикингена и что я, следовательно, изрядно погрешил этой поэтической вольностью против исторических фактов. Я пытался оправдаться, говоря, что Гец сам так его называл, но мне возразили, что это не более как оборот речи, символизирующий близкие дружеские отношения; ведь и в наше время почтальона называют «зятьком» или «кумом», не будучи с ним ни в родстве, ни в каких-либо других отношениях. Я поблагодарил его за науку и выразил сожаление, что беде уже нельзя помочь. Он, со своей стороны, об этом пожалел и затем дружески посоветовал мне заняться дальнейшим изучением немецкой истории и государственности и для этой благой цели предложил воспользоваться его библиотекой, которая позднее и вправду сослужила мне добрую службу.
Но самым комическим из такого рода приключений был приход одного бойкого книгопродавца; он благодушно предложил мне написать еще дюжину таких же пьес, посулив хорошее вознаграждение. Само собой разумеется, что мы немало над этим предложением потешились, но, по существу, оно было не так уж глупо. В тиши я давно носился с мыслью, оттолкнувшись от этого поворотного пункта немецкой истории, двинуться вперед и вспять и в том же духе обработать главнейшие ее события — похвальное намерение, как и многие другие, оставшиеся неосуществленными в потоке быстротекущего времени.
Не одна только вышеупомянутая пьеса занимала автора; покуда он ее обдумывал, писал, переписывал, печатал и рассылал, перед ним вставали другие образы, другие планы роились в его воображении. Тем, которые подлежали драматургической обработке, он отдавал предпочтение и всего чаще размышлял над ними, стараясь приблизить их к осуществлению, но одновременно уже намечался переход к другому роду изложения, который не принято классифицировать как драматический, хотя он и сродни таковому. Переход этот свершился главным образом благодаря особой способности автора даже разговор с самим собою превращать в диалог.
Привыкнув и любя проводить время в обществе, он и одинокие свои думы претворял в беседу; делал он это таким способом: оставшись один, вызывал в воображении образ какого-нибудь из своих знакомых. Просил его присесть, прохаживался по комнате, потом останавливался перед ним и начинал обсуждать то, о чем сейчас думал. Иногда гость отвечал, а не то мимикой давал понять, согласен он или не согласен, — словом, каждый на свой манер. Хозяин продолжал развивать мысль, пришедшуюся по вкусу гостю, или оправдывать ту, которую тот не одобрил, подыскивая для нее более серьезные обоснования, и случалось, под конец из учтивости отказывался от своей тезы. Самое удивительное, что он никогда не выбирал для этой цели близких своих знакомых, а лишь тех, с кем виделся редко, в большинстве же случаев тех, что жили далеко и встречались с ним лишь мимолетно; почти всегда это были люди, способные не столько отдавать, сколько вбирать в себя, люди, готовые с чистым сердцем и спокойной заинтересованностью участвовать в беседе на любые темы, доступные их пониманию, впрочем, иной раз для сих диалектических упражнений вызывались и инакомыслящие собеседники. На эти роли годились лица обоего пола, любого возраста и положения в свете; они неизменно оказывались любезными и милыми собеседниками, ибо разговор шел лишь о доступных и приятных им предметах. И как же бы они удивились, узнав, что я вызывал их для этой идеальной беседы, тогда как многие навряд ли явились бы ко мне и для всамделишного разговора.
Сколь близок такой воображаемый разговор к обмену письмами, ясно всем, только что в письмах тебе отвечают привычным доверием, а в первом случае доверие всякий раз создается заново, вечно меняющееся и не нуждающееся в ответе. Посему, когда автору понадобилось изобразить мизантропическое отношение к жизни, которое овладевает людьми и без того, чтобы их теснили какие-то особые беды, ему тотчас же пришло на ум прибегнуть к эпистолярной форме, ибо любое неудовольствие порождается и пестуется одиночеством. Тот, кто ему предается, бежит всех противоречий, а что же находится с ним в наибольшем противоречии, как не веселая компания? Веселье других для такого угрюмца тяжкий укор, и то, что должно было бы отвлечь его от самого себя, напротив, сызнова загоняет его во внутренний мир. Если же он ощутил потребность высказаться, он сделает это в письме: письменным излияниям, радостным или печальным, никто не противостоит непосредственно, а ответ, даже полный возражений, дает одинокому человеку возможность укрепиться в своих выдумках, повод еще больше уйти в себя. Написанным в таком духе письмам Вертера, наверно, потому и свойственна многообразная прелесть, что их пестрое содержание возникло из идеальных диалогов со многими индивидами, тогда как в романе они адресованы лишь одному — другу и поверенному. Вряд ли стоит еще что-то говорить о том, как была сработана эта вещица, вызвавшая так много толков, но касательно ее содержания стоит, пожалуй, кое-что добавить.
Отвращение к жизни имеет свои физические и моральные причины; исследовать первые мы предоставим врачу, вторые — моралисту, сами же обратимся к главному пункту этой многажды обсуждавшейся материи, в которой наиболее ясно проступает такой феномен. Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. Смена дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов — словом, все, что через определенные промежутки времени возникает перед нами, дабы мы могли и должны были этим наслаждаться, — вот подлинная пружина земной жизни. Чем открытее наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая чреда явлений проходит пред нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права и жизнь представляется нам непосильным бременем. Рассказывают, что один англичанин повесился оттого, что ему наскучило ежедневно одеваться и раздеваться. Я знавал прекрасного усердного садовника, в чьем ведении находился парк; однажды он с досадой воскликнул: «Неужто же мне всю жизнь смотреть, как дождевые тучи плывут с запада на восток!» А об одном из наших выдающихся мужей я слышал такой рассказ: каждую весну он раздраженно наблюдал, как одеваются в зелень деревья, мечтая, чтобы для разнообразия они когда-нибудь оделись в красное. Это и есть симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству, и, пожалуй, чаще всего людей мыслящих и самоуглубленных.
Но ничто не возбуждает этих чувств больше, чем возвращение любви. Верно говорят, что первая любовь — единственная, ибо во второй и через вторую утрачивается высший смысл любви. Понятие бесконечного, вечного, то есть того, что ее возвышает и возносит, оказывается разрушенным: она становится преходящей, как все, что повторяется в нашей жизни, в мире. Обособление чувственного от нравственного в сложном культурном мире делит надвое любовь и вожделение, преувеличивая то и другое, что и ведет к самым печальным последствиям.
Молодой человек вскоре замечает — если не по себе, то по своим сверстникам, — что нравственные эпохи сменяются, подобно временам года. Милость великих мира сего, благоволение сильных, участливость деятельных, восторг толпы, любовь отдельных людей — все движется вверх и вниз, и нам не остановить этого движения, как не остановить движения Солнца, Луны и звезд; и все же это не просто явления природы: они ускользают от нас по нашей или по чужой вине, по вине случая или рока, но они сменяются, и мы никогда не можем быть в них уверены.
Но пуще всего юношу, взволнованного натиском чувств, страшит неудержимый возврат ошибок, ибо слишком поздно мы замечаем, что, стремясь развить добрые свои свойства, одновременно выращиваем и пороки. Первые зиждутся на последних, как на своих корнях, а корни под землей разветвляются столь мощно и многообразно, как кроны при свете дня. Хотя свои добрые свойства мы проявляем сознательно и преднамеренно, пороки же настигают нас неожиданно, но добродетели редко доставляют нам даже малую радость, и напротив, пороки всегда приносят горе и мучения. Это самый трудный пункт самопознания, делающий его почти невозможным. Стоит только представить себе кипучую молодую кровь, пылкое воображение, которое легко парализуется самыми разными обстоятельствами, да еще превратности каждого дня, и нетерпеливое стремление освободиться из этих тисков становится понятным, естественным.
Тем не менее эти мрачные размышления, уводящие в бесконечность того, кто им предается, не получили бы столь решительного развития в умах немецких юношей, если бы некий внешний повод не побудил их к сему печальному времяпрепровождению. Произошло же это под влиянием английской литературы, и прежде всего поэзии, большие достоинства которой проникнуты суровой печалью, неминуемо заражающей каждого, кто этой поэзией интересуется. Духовно одаренный британец с младых ногтей видит вокруг себя многозначащий мир, который пробуждает все его силы. Рано или поздно он научается понимать: для приятия этого мира ему необходимо напряжение всех сил разума. Многие английские поэты смолоду вели распущенную, хмельную жизнь и рано сочли себя вправе сетовать на земную суету. Многие испытывали себя в делах политических, играя главные или второстепенные роли в парламенте, при дворе, в министерствах, на посольских должностях; они деятельно участвовали во внутренних смутах, в государственных и правительственных переворотах, и многое познали если не на собственном опыте, то на опыте своих друзей и покровителей, чаще печальном, чем отрадном. Многие были высланы, изгнаны, сидели в тюрьмах, теряли все свое имущество!
Но человек, даже если он не более чем зритель таких больших событий, становится серьезен, и эта серьезность неминуемо приводит его к размышлениям о бренности и быстротечности всего земного. Немец тоже серьезен — поэтому английская поэзия и пришлась ему по вкусу, а поскольку у нее за плечами был богатейший опыт, то она еще и безмерно ему импонировала. В ней нам и вправду открывается недюжинный, дельный, умудренный разум, глубокие благородные чувства, великолепная воля, страстная энергия — качества, лучше которых и не ждешь от разумного и просвещенного человека, но все это, вместе взятое, еще не делает его поэтом. Истинная поэзия возвещает о себе тем, что она, как мирское Евангелие, освобождает нас внутренней своей радостью и внешней прелестью от тяжкого земного бремени. Точно воздушный шар, она поднимает нас вместе с нашим балластом в горние сферы, и тогда, с высоты птичьего полета, нам становится видна сеть путаных земных дорог. Самые веселые и самые суровые ее творения преследуют одну и ту же цель: удачным и остроумным воссозданием умерить боль и радость. Если мы попробуем взглянуть с этой точки зрения на английские, в большинстве случаев морально-дидактические стихотворения, то окажется, что они в основном воспевают мрачное пресыщение жизнью. Не только «Ночные думы» Юнга, едва ли не целиком посвященные этой теме, но и прочие созерцательные стихотворения в мгновение ока уносят нас в ту печальную сферу, где разуму задаются задачи, которые он не в силах решить, ибо даже религия, какою бы он ее ни измыслил, не в состоянии здесь помочь ему. Можно было бы набрать целые томы стихов, служащих комментарием к страшному тексту:
Then old Age and Experience, hand in hand,
Lead him to death, and make him understand,
After a search so painful and so long,
That all his life he has been in the wrong[34].
Но и еще одно обстоятельство, делая английских поэтов законченными человеконенавистниками, сообщает их творениям неприятную окраску враждебности ко всему на свете, а именно: при столь частом расколе в общественной жизни родной страны им приходится если не всю свою жизнь, то лучшую ее часть посвящать той или иной политической партии. Поскольку же им нельзя превозносить и воспевать «своих», иными словами, людей, коим они преданы, или дело, которому служат, не вызывая зависти и неприязни, то они упражняют свой талант, говоря о противниках так дурно и скверно, что хуже и не придумаешь; непрестанно точат они свое сатирическое оружие, более того — отравляют его. Поскольку это делается с той и с другой стороны, мир, лежащий между двумя враждующими партиями, оказывается разрушенным, сметенным с лица земли. В результате, в великом, разумном, деятельном содружестве народа мы, при самом мягком ко всему отношении, перестаем видеть что-либо, кроме глупости и безумия. Даже в любовных стихотворениях англичан преобладает печаль. Здесь умирает покинутая девушка, там тонет преданный любовник, или же его, спешащего вплавь добраться к любимой, пожирает акула. И если такой поэт, как Грей, забредя на деревенское кладбище, запевает эти знакомые мелодии, он может не сомневаться, что вокруг него соберутся все его друзья одержимые той же меланхолией и сплином. В «Allegro»[35] Мильтон яростными стихами разгоняет дурное настроение, прежде чем перейти к весьма умеренной веселости; и даже жизнерадостный Гольдсмит теряется в элегических чувствах, с очаровательной грустью изображая свою «Deserted Village», потерянный рай, который по всему свету разыскивает его traveller[36].
Не сомневаюсь, что в опровержение моих слов мне могут указать и на бодрые духом произведения, на песни, проникнутые радостью, но большая их часть и лучшие из них, конечно же, будут относиться к ушедшим временам, тогда как новейшие, которые можно причислить к лучшим, тяготеют к сатире, исполнены едкой горечи и обязательно клеймят презрением женщин.
Но хватит! Эти стихотворения, самым серьезным образом подрывающие человеческую природу, были нами особенно любимы. Мы их предпочитали всем другим: один соответственно своему умонастроению искал легкой элегической печали, другой — тяжкого, на всем поставившего крест отчаяния. И как ни странно, наш отец и учитель Шекспир, умеющий всех и вся заражать неумной веселостью, лишь укреплял нас в этой мрачной душевной настроенности. «Гамлет» и его монологи призраками блуждали в юных умах. Главные места трагедии все знали наизусть и любили их декламировать, причем каждый считал себя вправе быть не менее меланхоличным, чем принц Датский, хотя ему не являлась тень и не было у него надобности мстить за своего августейшего родителя.
Дабы сыскать вполне подходящее поприще для этой печали, Оссиан заманил нас в «дальнюю Фулу», где, бредя по бесконечной серой равнине, среди замшелых надгробий, мы видели вокруг себя лишь траву, колеблемую нездешним ветром, а над собою — небо в свинцовых тучах. Лунный свет превращал в день эту каледонскую ночь; погибшие герои и угасшие девы обступали нас, а под конец вырастал перед нами еще и призрак Лоды в грозном ее обличье.
В окружении такой стихии, предаваясь таким занятиям и увлечениям, мучась неудовлетворенными страстями, не получая извне ни малейшего побуждения к сколько-нибудь значительным поступкам, не видя перед собою ничего, кроме надежды как-нибудь продержаться в тягучей, безвдохновенной бюргерской жизни, молодые люди в мрачном своем высокомерии сроднились с мыслью: по собственной воле расстаться с жизнью, если она им уж слишком наскучит, и эта мысль помогала им кое-как справляться с невзгодами томительных будней. Подобные взгляды сделались едва ли не всеобщими, и «Вертер», надо думать, потому и произвел столь большое впечатление, что в нем наглядно и доступно была изображена внутренняя сущность болезненного юношеского безрассудства. Как хорошо знали эту беду англичане, доказывают следующие многозначительные строки, обнародованные еще до появления Вертера:
То griefs congenial prone,
More wounds than nature gave he knew,
While misery’s form his fancy drew
In dark ideal hues and horrors not its own[37].
Самоубийство — явление человеческой природы, и, что бы о нем ни говорили, как бы его ни оценивали, оно у каждого вызывает сострадание и в каждую эпоху должно рассматриваться сызнова. Монтескье закрепил за своими героями и великими мужами право по желанию кончать с собой, утверждая, что каждый-де волен заключить пятый акт своей трагедии там, где ему угодно. Но здесь речь идет не о людях, которые прожили деятельную и значительную жизнь, посвятив свои дни великому государству или борьбе за свободу; Этим не поставишь в упрек, что, скорбя об исчезновении с лица земли идеи, их воодушевлявшей, они стремятся продолжить служение ей в потустороннем мире. Здесь мы говорим о тех, кому в глубоко мирное время надоело жить из-за отсутствия настоящего дела и преувеличенных требований к самому себе. Поскольку и я был в том же самом положении и хорошо помню муки, которые претерпел, знаю, каких усилий мне стоило от них избавиться, то я не скрою от читателя, что основательно обдумывал, какой род самоубийства предпочтительнее выбрать.
Есть нечто до того уж противоестественное, когда человек отрывается от самого себя, не только наносит себе вред, но и себя уничтожает, что, осуществляя свое намерение, он большей частью прибегает к механическим средствам. Когда Аякс бросается на меч, тяжесть его тела служит ему последнюю службу. Когда воин приказывает оруженосцу убить его, чтобы не попасть в руки врагов, он тоже применяет внешнюю силу, в безотказности которой уверен, только сила эта моральная, а не физическая. Женщины остужают в воде свое отчаяние, а огнестрельное оружие, это безусловно механическое средство, обеспечивает быстрый конец при наименьшем усилии. К повешению прибегают значительно реже, ибо это считается неблагородной смертью. В Англии такой род самоубийства встречается чаще; там смолоду привыкают видеть казнь через повешение, и эта кара не считается позорной. Принимая яд или вскрывая себе вены, люди знают, что им предстоит медленная смерть, самая же утонченная, быстрая и безболезненная смерть от укуса змеи была облюбована царицей, в великолепии и наслаждениях прожившей свою жизнь. Но все это помощь, призванная извне, враги, с которыми человек заключает союз против себя самого.
Размышляя над всеми этими средствами и отыскивая примеры в истории, я понял, что среди всех, лишивших себя жизни, этот акт всего величественнее и с наибольшей свободой духа совершил император Отон. Потерпев поражение как полководец, но отнюдь еще не разбитый наголову, он решается — во имя блага империи, до некоторой степени уже ему подвластной, и для спасения тысяч других жизней — оставить этот мир. Пропировав всю ночь с друзьями, он наутро был найден с кинжалом в сердце, вонзенным его собственной рукой. Это деяние, единственное в своем роде, показалось мне достойным подражания, и в то же время я убедился: тот, кто не может поступить так, как Отон, не вправе позволить себе добровольно уйти из жизни. Это убеждение избавило меня не столько от зловещего намерения, сколько от вздорной идеи самоубийства, в те прекрасные мирные времена закравшейся в умы праздной молодежи. В имевшемся у меня солидном собрании оружия находился драгоценный, остро отточенный кинжал. Каждый вечер я клал его рядом со своей кроватью и, прежде чем потушить свечу, пробовал, не удастся ли мне вонзить его острие на дюйм-другой себе в грудь. Но так как это никогда не удавалось, я в конце концов сам над собой посмеялся, отбросил свою дурацкую ипохондрию и решил — надо жить. Чтобы с достаточной бодростью осуществить это намерение, мне, однако, нужно было справиться с некоей поэтической задачей: высказать все свои чувства, мысли и мечтания касательно упомянутого, отнюдь не маловажного предмета. Для этой цели я собрал воедино все элементы, уже несколько лет не дававшие мне покоя, и постарался с полной ясностью представить себе случаи, более других меня угнетавшие и тревожившие; но все они упорно не отливались в форму: мне недоставало события — фабулы, в которой я мог бы их воплотить.
Внезапно я услышал о смерти Иерузалема, и сразу за первой вестью пришло точнейшее и подробнейшее описание рокового события. В это же самое мгновение созрел план «Вертера»; составные части целого устремились со всех сторон, чтобы слиться в плотную массу. Так вода в сосуде, уже близкая к точке замерзания, от малейшего сотрясения превращается в крепкий лед. Удержать редкостную добычу, отчетливо увидеть перед собою произведение со столь значительным и многообразным содержанием, разработать его во всех частях мне было тем важнее, что я опять попал в весьма досадное и еще более безнадежное, чем в Вецларе, положение, не сулившее ничего, кроме огорчений и неудовольствия.
В новой, непривычной среде завязывать новые отношения — сущая беда. Вопреки своей воле, мы нередко оказываемся привлеченными к неоправданному участию в чужих делах; нас мучит половинчатость такого положения, и тем не менее мы не видим возможности ни сделать его более цельным, ни попросту от него отказаться.
Госпожа фон Ларош выдала старшую свою дочь замуж во Франкфурт, часто ее навещала и никак не могла примириться с этим новым положением, которое сама же и создала. Вместо того чтобы радоваться ему или, напротив, что-нибудь предпринимать для изменения такового, она исходила в ламентациях, словно ее дочь и вправду была несчастна, хотя оставалось непонятным, в чем состоит это несчастье, так как она всем была ублаготворена и муж решительно во всем ей потворствовал. Я был радушно принят в их доме и там встретил довольно обширный круг людей, способствовавших этому браку или искренне желавших счастья хозяевам. Настоятель церкви святого Леонгарда Думейц удостоил меня доверия, даже дружбы. Это был первый католический священнослужитель, которого я близко узнал; человек светлого ума, он прекрасно и проникновенно рассказал мне о вере, обрядах, о всех внешних и внутренних обстоятельствах этой старейшей из церквей. Далее мне вспоминается отлично сложенная, хотя уже немолодая женщина, госпожа Сервьер. Познакомился я также и с другими семействами, в том числе с семейством Алезина-Швейцер; с сыновьями всех этих семейств я вступил в доброприятельские отношения, продолжавшиеся долгое время, — словом, как-то вдруг сроднился с чужим мне кругом и уже не мог не принимать участия в развлечениях и занятиях, ему свойственных, включая чтение религиозных трактатов католических богословов. Мои прежние отношения к молодой хозяйке дома, собственно говоря, братские, продолжались и после ее замужества; я был ее ровесником и вдобавок единственным из всех ее окружавших, в ком ей слышались отголоски привычных с юных лет умонастроении. Между нами парило взаимное доверие, и, хотя никакие страстные чувства нас не связывали, эти отношения принесли с собою немало тягостного, ибо она тоже не умела свыкнуться с новой средой и, несмотря на все житейские блага в этом мрачном купеческом доме, где на нее легли обязанности мачехи нескольких детей, тосковала по солнечной долине Эренбрейтштейна и своей беспечной юности. Я оказался запутанным в семейные отношения, не будучи заинтересованной стороной и без возможности что-либо в них изменить. Когда в доме царил мир, все это казалось само собой разумеющимся, но стоило случиться какой-нибудь размолвке, как ее участники начинали взывать к моему сочувствию, — я же своим отзывчивым вмешательством скорее ухудшал, чем улучшал дело. Прошло еще немного времени, и такое положение сделалось невыносимым; все житейские дрязги, проистекающие из половинчатых отношений, ложились на меня двойным, тройным бременем, и мне снова понадобилось совершить насилие над собой, чтобы от всего этого отойти.
Смерть Иерузалема, бывшая следствием, его несчастной любви к жене друга, стряхнула с меня оцепенение, а так как я не просто созерцательно отнесся к тому, что происходило с ним и со мною, и был до глубины души взбудоражен тем, что творилось во мне сейчас, то я неизбежно вдохнул в начатую вещь весь пыл моей души, не делая различия между вымыслом и действительностью. Я полностью отгородился от внешнего мира, запретил даже друзьям посещать меня, да и внутренне отбросил все, что не имело прямого касательства к моей работе. И напротив, сконцентрировал все, что относилось к моему замыслу, пересмотрев под этим углом недавнюю мою жизнь, содержание которой еще не получило поэтического применения. В таких условиях, после длительной и тайной подготовки, я за четыре недели написал «Вертера», не имея даже предварительной схемы целого или хотя бы разработки какой-нибудь одной части.
И вот передо мной лежала уже готовая черновая рукопись с немногими помарками и поправками. Я немедленно отдал ее сброшюровать и переплести, ибо переплет для книги то же, что рама для картины: так виднее, являет ли она собою законченное целое. Вещицу эту я написал почти бессознательно, точно лунатик, и теперь, прочитав ее для того, чтобы внести кое-какие изменения и поправки, сам изумился. И все же, полагая, что со временем, рассмотрев ее как бы с известного расстояния, я смогу внести еще ряд исправлений, кои послужат ей на пользу, я дал ее читать моим младшим друзьям. На них она произвела тем большее впечатление, что, против обыкновения, я заранее ничего им о ней не рассказывал и даже не упоминал об этом своем замысле. Разумеется, их тоже в первую очередь поразил самый сюжет, и, таким образом, настроение у моих друзей создалось прямо противоположное моему. Мне эта вещь, более чем какая-либо другая, дала возможность вырваться из разбушевавшейся стихии, — по моей или чужой вине, в силу житейских ли случайностей или вольного выбора, преднамеренности или поспешности, упорства или уступчивости — своенравно и грозно бросавшей меня то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал себя, точно после исповеди: радостным, свободным, получившим право на новую жизнь. Старое домашнее средство на сей раз оказалось для меня на диво целительным. Но если я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться. Итак, то, что вначале было заблуждением немногих, позднее получило широкое распространение, и эта книжечка, для меня столь полезная, заслужила славу в высшей степени вредоносной.
Однако все зло и все бедствия, будто бы ею учиненные, могли быть предотвращены по чистой случайности, ибо вскоре после ее возникновения ей уже грозила опасность быть уничтоженной. Вот как это произошло. Мерк незадолго до того возвратился из Петербурга. Поскольку он вечно был занят, я и вообще-то мало говорил с ним, о «Вертере» же, переполнявшем мое сердце, и вовсе ничего ему не сказал. Однажды он явился ко мне в самом что ни на есть неразговорчивом настроении; посему я предложил ему меня послушать. Он уселся на канапе, а я, письмо за письмом, начал читать ему свой роман. Читал я довольно долго, не выманив у него ни малейшего знака одобрения, потом стал читать патетично и с нажимом, но каково же было у меня на душе, когда он, воспользовавшись мгновенной паузой, воскликнул: «Что ж, очень мило!» — и, ни слова более не сказав, удалился, оставив меня в полнейшем отчаянии. Я был вне себя: мои произведения, конечно, доставляли мне радость, но в первое время я не имел о них суждения и сейчас проникся уверенностью, что погрешил против сюжета, тона и стиля, и вправду довольно сомнительных, — словом, написал нечто несуразное. Если бы в камине горел огонь, я бы тотчас же бросил в него мою рукопись. Но я взял себя в руки и провел несколько мучительных дней, покуда Мерк наконец не признался мне, что в тот момент находился в самом страшном положении, в каком только может находиться человек; поэтому он ничего не видел и не слышал и даже не знает, о чем шла речь в моей рукописи. За это время его дела более или менее уладились. Надо сказать, что Мерк, когда на него находил приступ энергии, умел справляться с самыми невероятными трудностями; юмор его к нему вернулся и стал только еще более едким. Он разбранил меня в самых грубых выражениях за намерение переработать «Вертера» и потребовал, чтобы я его печатал как есть. Я велел изготовить чистую рукопись, но она недолго оставалась у меня в руках. Случилось так, что в день свадьбы моей сестры и Георга Шлоссера, когда наш дом был полон радостной суеты и сиял огнями, пришло письмо от Вейганда из Лейпцига с просьбою прислать ему какую-нибудь рукопись, буде у меня таковая имеется. Это совпадение я счел за счастливый знак, отослал ему «Вертера» и был очень доволен, что полученный за него гонорар не весь ушел на уплату долгов, понаделанных мною из-за «Геца фон Берлихингена».
Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно — главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочка тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую мину, так и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик потому, что юный мир сам уже подкопался под свои устои, потрясение же было таким большим потому, что у каждого скопился избыток взрывчатого материала — преувеличенных требований, неудовлетворенных страстей и воображаемых страданий. Нельзя спрашивать с публики, чтобы она творение духа воспринимала столь же духовно. В сущности, внимание ее было привлечено только содержанием «Вертера», его материей, в чем я мог уже убедиться на примере своих друзей, а наряду с этим снова всплыл старый предрассудок, основанный на уважении к печатному слову: каждая книга, мол, непременно задается дидактической целью. Но художественное отображение жизни этой цели не преследует. Оно не оправдывает, не порицает, а лишь последовательно воссоздает людские помыслы и действия, тем самым проясняя их и просвещая читателей.
На рецензии я особого внимания не обращал. Мое дело было сделано, теперь пусть уважаемые господа справляются со своим. Между тем мои друзья не преминули все их собрать и, будучи посвящены в мои замыслы, немало над ними потешались. «Радости юного Вертера», с которыми выступил Николаи, дали нам повод для разнообразных шуток. Этот в общем-то достойный и знающий человек, за которым числилось немало заслуг, с давних пор тщился низводить и устранять все, что не совпадало с его образом мыслей, каковой он, в силу своей умственной ограниченности, почитал за единственно правильный. Теперь он обрушился на меня, и его полемическая брошюрка вскоре попала в наши руки. Изящнейшая виньетка Ходовецкого доставила мне искреннее удовольствие, я и раньше преклонялся перед этим художником. Литературная же поделка Николаи была скроена из небеленого домотканого холста, делать который погрубее и попрочнее давно уже исхитрился человеческий разум. Не понимая, что здесь ничему уже нельзя помочь, ибо цвет Вертеровой юности с самого начала подточен могильным червем, автор до страницы 214 оставляет мой текст в покое, когда же отчаявшийся человек готовится к последнему шагу, предусмотрительный врач-психиатр умудряется подсунуть своему пациенту пистолет, заряженный куриной кровью; тут разыгрывается довольно грязный спектакль, но беды не случается. Лотта выходит за Вертера, и, к общему удовольствию, наступает счастливый конец.
Вот все, что сохранилось в моей памяти, больше мне эта книжонка на глаза не попадалась. Виньетку я вырезал и положил к любимым моим гравюрам. Затем в качестве тихой, но коварной мести я написал небольшое стихотворение «Николаи на могиле Вертера», которое воспроизвести здесь, впрочем, не решаюсь. При этом во мне опять проснулась страсть к драматизации. Я сочинил прозаический диалог между Лоттой и Вертером, получившийся довольно задорным. Вертер горько жалуется на то, что его спасение посредством куриной крови так неудачно закончилось. Он остался жив, но выбил себе оба глаза. Теперь он в отчаянии: быть супругом Лотты и ее не видеть, тогда как ее прелестный облик во всей его совокупности ему, пожалуй, дороже тех сладостных подробностей, которые он может познать на ощупь. Лотте, такой, какою мы ее знаем, слепой муж тоже не очень-то с руки, поэтому оба они на все лады бранят Николаи за то, что он без спросу вмешался в чужие дела. В этом юмористическом диалоге, словно бы предчувствии будущего, говорилось о злосчастном самомнении Николаи, понуждавшем его заниматься вещами, в которых он ничего не смыслил и умел только понаделать неприятностей себе и другим, отчего в конце концов, несмотря на свои несомненные заслуги, вовсе утратил почетное положение в литературе. Оригинал веселой шутки не был переписан и с годами затерялся. Я с особой нежностью относился к этой безделке. Чистая и страстная любовь обоих молодых героев была скорее возвышена, чем ослаблена трагическим положением, в котором они оказались. Вся вещица была проникнута большой мягкостью, и даже противник в ней изображался с беззлобным юмором. Не совсем учтиво выражалась только сама книжка, в подражание старинным виршам говорившая:
Опасной я кажусь давно
Чванливому их сброду;
Чурбан, когда идет на дно,
Бранит за глупость воду.
К чертям берлинский хор попов
И к бесу отлученье!
А кто моих не понял слов —
Начни сначала чтенье.
Готовый к любым возражениям против «Вертера», я уже не огорчался из-за многочисленных нападок; но вот чего я никак не предполагал, так это что меня будут нестерпимо мучить мои благожелатели. Вместо того чтобы сказать несколько добрых слов о моей книжке, такой, какою она лежала перед ними, они настойчиво допытывались: как же все обстояло в действительности? Я злился и по большей части давал весьма неучтивые ответы. Ведь для того чтобы удовлетворить их любопытство, я бы должен был растерзать свое твореньице, над которым я столько времени размышлял, стремясь придать поэтическое единство разноречивым его элементам, сызнова разрушить его форму, и если не уничтожить составные его части, то уж всенепременно расчленить их, а тем самым и растерять. Впрочем, если вдуматься хорошенько, публике нельзя было ставить в вину это требование. Судьба Иерузалема возбудила всеобщее участие. Просвещенный, достойный, ничем не запятнанный юноша, сын писателя, одного из лучших наших богословов, здоровый, состоятельный, вдруг безо всякого видимого повода оставляет этот мир. Каждый поневоле задавался вопросом: как сие могло случиться? Когда прошел слух о его несчастной любви, всполошилась вся молодежь, когда же заговорили о мелких неприятностях, испытанных Иерузалемом в высшем обществе, восстало все среднее сословие, и каждый жаждал подробностей. Но вот появился «Вертер», и читатели усматривали в нем рассказ о жизни и умонастроении этого юноши. Город, главное действующее лицо — все совпадало, и, принимая во внимание натуральность изображения, публика наконец-то почувствовала себя осведомленной и успокоенной. Однако при ближайшем рассмотрении многое опять-таки не совпадало, и тем, кто доискивался правды, хлопот стало не обобраться, так как критический анализ не может не возбуждать нескончаемых сомнений. До сути же дела докопаться все равно было невозможно: то, что я вложил в эту книжку из пережитого и выстраданного мною, расшифровке не поддавалось, ибо, никому не известный юноша, я пережил все это если не втайне, то, уж во всяком случае, без огласки.
Уже во время работы над «Вертером» я понимал, как был облагодетельствован художник, которому предоставили право и возможность выискивать подходящие черты для его Венеры у многих красавиц; посему и я позволил себе создать свою Лотту из обличий и свойств многих прелестниц, хотя главные черты и были мной позаимствованы у любимейшей. Итак, любопытствующая публика открывала в ней сходство со многими женщинами, да и сами женщины не были вполне равнодушны к вопросу: кто из них настоящая? Эти многоразличные Лотты причиняли мне бесконечные мучения, потому что каждый, едва взглянув на меня, требовал решительного ответа: где проживает настоящая? Подобно Натану, я пытался выйти из положения с помощью трех колец, но этот способ, может быть, и подобающий высшим существам, не мог удовлетворить ни верующих, ни читающую публику. Я надеялся, что через некоторое время избавлюсь от назойливых расспросов, но меня донимали ими всю мою жизнь. Чтобы спастись от них, я путешествовал инкогнито, но и это не всегда помогало. Итак, если автор пресловутой книжечки и совершил нечто неправедное и недоброе, то он был за это достаточно, даже чрезмерно наказан неотступной назойливостью публики.
Теснимый и преследуемый, он убедился, что писатели и публика разделены бездонной пропастью, хотя, к счастью, ни те, ни другие об этом не подозревают. Отсюда он сделал вывод, что все предисловия бесполезны, ибо чем больше ты стараешься прояснить свои намерения, тем больше сумятицы производишь. Далее: о чем бы автор ни распространялся в предисловии, публика все равно будет предъявлять ему те самые требования, которые он как раз и пытался отклонить. С другим подобным же свойством читателей, особенно комичным в тех, что печатают свои отзывы, мне тоже рано довелось познакомиться. Им представляется, будто писатель, создав свое произведение, становится их должником, при этом изрядно поотставшим от того, о чем им мечталось и думалось, хотя они, еще совсем недавно, даже понятия не имели, что нечто подобное где-либо существует или может существовать. Так или иначе, но величайшим счастьем или несчастьем было то, что каждый стремился побольше узнать об этом оригинальном молодом сочинителе, выступившем столь смело и неожиданно. Всем хотелось его видеть, говорить с ним, что-нибудь — пусть из третьих рук — о нем разузнать. Изо дня в день он должен был терпеть наплыв посетителей, иногда приятных, иногда его раздражавших, но всегда и во всех случаях отрывавших его от работы. А работы был у него непочатый край. На несколько лет хватило бы у него дела, если бы он мог предаться ему с прежней любовью; но из тиши и сумерек, благоприятствующих созданию чистых произведений искусства, он был выведен на дневной свет, где человек теряется в шумной толпе, где сочувствие сбивает с толку не меньше, чем равнодушие, хвала не меньше, чем хула, ибо внешние связи никогда не совпадают с эпохами нашего внутреннего роста и потому, не споспешествуя нам, не могут нам не вредить.
Но еще больше, чем дневная суета, автора отдаляла от обработки и завершения больших замыслов страсть, охватившая тогдашнее общество: драматизировать все сколько-нибудь значительное из того, что случалось в жизни. Здесь надо было бы, пожалуй, разобраться, что означал этот термин «драматизировать», сделавшийся в нашем кругу столь обиходным. В оживленном общении, развеселясь, мы привыкли в коротких импровизированных пьесках растрачивать все, что в другое время сберегли бы для более крупных композиций. Какое-нибудь мелкое происшествие, удачное или наивно-нелепое словцо, забавное недоразумение, кем-то брошенный парадокс, остроумное замечание, особенности или привычки кого-нибудь из нас, даже кем-то состроенная многозначительная мина, — словом, все, что на каждом шагу встречается в пестрой и шумной жизни, катехизировалось, превращалось в диалог, в подвижное действие, в зрелище, разыгранное в прозе, но чаще в стихах.
Эти остроумные и темпераментные выходки свидетельствовали о присущей нам драматической жилке и театральном мышлении. События, лица, предметы оставались для нас такими, какими они были во всех своих взаимосвязях, мы только старались ясно понять их и живо изобразить. Любое суждение, одобрительное или неодобрительное, должно было в подвижной форме проходить перед глазами зрителя. Эти наши творения можно было бы назвать живыми эпиграммами — не столько колкими и язвительными, сколько изобиловавшими меткими и точными черточками. «Ярмарка» является своего рода сборником подобных эпиграмм. Маски, действующие в ней, — все члены нашего тогдашнего общества или лица, до некоторой степени с нами связанные и достаточно нам знакомые, но кто при этом имелся в виду, для большинства оставалось загадкой: смеялись все, но лишь немногие знали, что смеются над собственными характерами и недостатками. «Пролог к новейшим откровениям Бардта» — это уже нечто иное; самые мелкие вещицы, написанные в этом роде, помещены в моих смешанных стихотворениях, другие забыты и потеряны, некоторые из сохранившихся не очень-то пригодны для печати. Но и то, что было мною тогда обнародовано, достаточно взбудоражило публику и еще больше возбудило любопытство по отношению к автору; те же из сочиненных тогда вещиц, что распространялись в списках, оживили наш тесный круг, кстати сказать, все расширявшийся. Доктор Бардт, в то же время живший в Гисене, посетил меня, был внешне весьма учтив и простодушен, сам шутил над «Прологом» и выразил желание завязать со мною дружеские отношения. Но мы, молодежь, не угомонились и на каждой пирушке продолжали злорадно высмеивать слабости наших современников, которые навострились подмечать и пародировать.
Если молодому автору и льстило, что на него дивятся, как на литературный метеор, он тем не менее был рад со всею скромностью заявить о своем почтении к лучшим людям отечества; среди них первым я назову Юстуса Мёзера. Небольшие статейки на государственно-политические темы, выходившие из-под пера этого несравненного человека, уже несколько лет печатались в «Оснабрюкских ученых записках»; мне указал на них Гердер, не упускавший ни одного сколько-нибудь значительного явления своего времени и, уж конечно, того, что появлялось в печати. Дочь Мёзера, госпожа фон Фойгтс, занималась собиранием этих разрозненных статей. Мы нетерпеливо дожидались их издания, и я постарался познакомиться с нею, дабы от всего сердца ее заверить, что эти статьи, рассчитанные на определенный круг читателей, как по своему материалу, так и по форме всем решительно пойдут на пользу и на благо. Она и ее отец весьма доброжелательно отнеслись к заявлению не вовсе им неизвестного молодого человека, ибо оно как бы заранее снимало тревожившие их опасения.
Эти небольшие статьи, проникнутые единой тенденцией и потому представляющие собою доподлинно единое целое, отличались удивительно глубоким знанием гражданской жизни. В них описывается государственное устройство, корнями своими уходящее в прошлое, но существующее и поныне. С одной стороны, оно крепко держится старины, с другой — ничто уже не в силах воспрепятствовать движению и изменению вещей. Здесь страшатся полезного нововведения, там приветствуют новое и радуются ему, даже если оно бесполезно, более того — вредно. А как свободно, как беспредрассудочно трактует автор взаимоотношения сословий, взаимосвязи городов, округов и деревень. Нас знакомят с их правами, а заодно с юридической обоснованностью этих прав; мы узнаем, что составляет основной капитал государства и какие доходы можно из него извлечь, подробно знакомимся с существом собственности, с ее преимуществами, но и со всякого рода издержками, а также многообразными способами наживы. И здесь тоже противопоставляется друг другу давно прошедшее и новейшие времена.
Оснабрюк, некогда принадлежавший к Ганзейскому союзу, в старину развивал энергичную торговую деятельность. По тем временам его расположение было на редкость удачно, оно благоприятствовало ввозу сельскохозяйственных продуктов и одновременно позволяло вести морскую торговлю. Позднее Оснабрюк, все же слишком далеко отстоящий от берега, был мало-помалу вытеснен из морской торговли. Всесторонне рассматривая этот процесс, Мёзер говорит о конфликтах Англии с побережьем, гаваней — с глубинными землями; при этом он подчеркивает выгоды, достающиеся на долю жителей прибрежной полосы, и размышляет над тем, как надлежало бы приобщиться к этим выгодам также и жителям внутренних земель. Далее нам даются обширные сведения об отдельных промыслах и ремеслах, о том, как фабрики отодвинули их на задний план и как их подорвали махинации барышников; вместе с автором мы рассматриваем упадок как причину преуспевания различных отраслей, и это же преуспевание как причину нового упадка, — словом, весь извечный и таинственный круговорот, хотя наш бравый государственный муж рисует его так ясно и подробно, что начинаешь верить: не все еще потеряно. К тому же он предоставляет нам возможность основательно ознакомиться с особыми обстоятельствами всех этих явлений. Его предложения и советы никогда не берутся с потолка, и все же они зачастую невыполнимы, отчего автор и называет собрание своих статей «Патриотическими фантазиями» — несмотря на то, что все в них изложенное ему представляется действительным и возможным.
Поскольку общественная жизнь всегда основывается на жизни семейной, Мёзер и ее не обходит пристальным своим вниманием. Предметом его серьезных и шутливых рассуждений становится изменение обычаев и привычек, одежды, пищи, домашней жизни, воспитания детей. Нам пришлось бы разбить на рубрики все происходящее в бюргерском и нравственном мире, пожелай мы перечислить явления, которые рассматриваются в этой книге. Ибо изложение материала в ней поистине достойно восхищения. Просвещенный государственный деятель обращается к народу со страниц еженедельного листка, стремясь правильно и доступно растолковать действия и начинания разумного и благожелательного правительства, и притом без сухой назидательности, а в самых разнообразных формах, которые заслуживают названия поэтических или, скажем, риторических в наилучшем смысле этого слова. Автор всегда возвышается над своей темой и умеет придать удивительную легкость весьма серьезным рассуждениям, скрываясь то под одной, то под другой маскою, иной раз говоря и прямо от своего лица, но всегда стремясь до конца исчерпать затронутую тему, и притом занимательно, более или менее иронично, без обиняков и до крайности дельно, обычно доброжелательно, иногда пылко и грубовато, но всё — так точно и метко, что восхищаешься прежде всего духом, талантом, легким подвижным умом, вкусом и самим характером этого писателя. С точки зрения выбора общеполезных предметов обсуждения, глубины проникновения в них, широты взгляда на вещи, удачной обработки, юмора столь же основательного, сколь и блестящего, я могу сравнить его разве что с Франклином.
Этот человек безмерно нам импонировал и мощно воздействовал на всю молодежь, стремившуюся к достойным и дельным целям и уже бывшую на пути к их достижению. Нам думалось, что форму его изложения мы с грехом пополам сумеем усвоить, но кто из нас смел бы надеяться овладеть таким обширным содержанием и так свободно трактовать темы, столь трудно поддающиеся разработке?
С другой стороны — не можем же мы отказаться от самой прекрасной и сладостной своей мечты, сколько бы она ни причиняла нам страданий, — мечты, что нам когда-нибудь удастся усвоить, более того — самим создать нечто подобное тому, что мы любим и перед чем преклоняемся.
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Заодно с движением, начавшимся тогда в публике, обозначилось другое, для автора этой книги, пожалуй, еще более важное, ибо оно возникло в окружавшей его среде. Старые друзья, которые прочитали вещи, производившие сейчас столь большое впечатление, еще в рукописи и потому смотрели на них почти как на свои собственные, торжествовали успех, заранее и достаточно смело ими предсказанный. К ним примкнули новые доброжелатели из тех, что ощущали в себе творческие силы или надеялись пробудить и выпестовать их.
Среди первых живостью и своеобразием своей натуры более всего выделялся Ленц. Внешность этого удивительного человека в общих чертах уже описана, с симпатией был упомянут и его юмористический талант; сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов о его характере, вернее — о проявлениях его характера, ибо говорить о нем описательно, распространяться о врожденных особенностях Ленца, прослеживая его извилистый жизненный путь, здесь было бы неуместно.
Читатель уже знает о вошедшем тогда в моду самомучительстве без нужды и каких-либо внешних поводов, тревожившем лучшие умы. То, что лишь мимолетно мучит заурядных людей, не привыкших наблюдать за собой, что они стараются поскорее от себя отогнать, более тонкими натурами, напротив, тотчас же бралось на заметку, тщательно сохранялось в их произведениях, письмах и дневниках. Но вот строжайшие нравственные требования к себе и другим стали странным образом сочетаться с крайней беспорядочностью в поступках и поведении, и разные самомнения — прямые следствия половинчатого самопознания — многих толкали на самые эксцентрические выходки. Это неустанное, весьма изнурительное самонаблюдение поощрялось и оправдывалось широко распространившейся эмпирической психологией, которая, хоть и не объявляла недостойным и предосудительным решительно все, что повергало нас в тревогу, но не могла и всего одобрить. Так возник непрерывный и неразрешимый спор; и надо сказать, Ленц был великим мастером вести и разжигать его. По этой части он превосходил всех бездельников и полубездельников, подрывавших свое душевное здоровье, и потому больше других страдал от веяний времени, якобы сосредоточившихся в «Вертере»; при этом своеобразный душевный склад заметно отличал его от тех, кого можно было назвать людьми безусловно честных стремлении. Он был одержим страстью к интриге как таковой. Интригуя, он не преследовал никакой разумной, достижимой эгоистической цели, а затевал очередную нелепицу просто для развлечения. Таким образом, он всю свою жизнь оставался воображаемым плутом, его любовь и ненависть были тоже всего лишь плодами воображения; он обходился со своими чувствами и представлениями вполне произвольно, лишь бы всегда иметь занятие и развлечение. Он прибегал к самым дурацким способам, чтобы придать реальность своим симпатиям и антипатиям, и сам всякий раз разрушал здание, им же построенное; посему он никогда не приносил пользы тем, кого любил, и никогда не причинял вреда тем, кого ненавидел. Казалось, он грешит только затем, чтобы себя покарать, интригует лишь для того, чтобы умудриться в старую песню втиснуть новый припев.
Из подлинной глубины, из неисчерпаемой продуктивности возник его поэтический дар, в котором соревновались между собой нежность, подвижность и находчивость, но при всей красоте этого дара было в нем что-то болезненное, а о такого рода таланте всего труднее судить. В работах Ленца невозможно не видеть черты подлинного вдохновения; прелестная нежность то там, то сям проглядывает из-за нелепейших, грубо карикатурных причуд, вряд ли простительных даже обладателю столь неподдельно веселого юмора, прирожденного комического дарования. Дни Ленца сводились к одним пустячным занятиям, которым он придавал какую-то Значимость своей юркой подвижностью; впрочем, он мог попусту растрачивать многие часы, поскольку время, употреблявшееся им на чтение, благодаря его счастливой памяти, оказывалось неизменно плодотворным и обогащало его оригинальное мышление разнообразнейшим материалом.
Его послали в Страсбург сопровождать молодых лифляндских дворян, и надо сказать, что трудно было подыскать худшего ментора. Старший барон уехал на некоторое время к себе на родину, оставив здесь свою возлюбленную, к которой очень привязался. Ленц, чтобы отвадить младшего брата, тоже домогавшегося этой дамы, а заодно и других поклонников и сохранить для отлучившегося друга сие драгоценное сердце, решил сам притвориться влюбленным в красотку, или, вернее, просто в нее влюбился. Эту свою линию он проводил в жизнь с невероятным упорством, держась за идеальное представление, составленное им о молодой даме, не понимая, что он и все прочие для нее не более как забава и развлечение. И слава богу! Ибо и для него все это было игрою, которая могла продолжаться, покуда и она в нее играла, то привлекая его, то отталкивая, то призывая к себе, то опять от себя отгоняя. Можно с уверенностью сказать, что, очнувшись, а иногда это с ним все-таки случалось, он, конечно же, мог поздравить себя со столь редкостной находкой.
Вообще-то он, как и его питомцы, вращался главным образом в обществе гарнизонных офицеров, и здесь у него, надо думать, и сложились те странные взгляды, которые он позднее высказал в своей комедии «Солдаты». Это раннее знакомство с военной средой возымело для него весьма своеобразное следствие — он стал считать себя великим знатоком по этой части. Постепенно он и вправду так детально изучил военное дело, что несколькими годами позже составил солидный мемориал на имя военного министра Франции, надеясь на незаурядный успех своего начинания. Недостатки гарнизонного быта он подметил более или менее зорко, но средства, предложенные им к их устранению, были смехотворны и неприменимы. Убежденный, однако, что этот мемориал сделает его влиятельным лицом при дворе, Ленц гневался на друзей, которые не только уговорами, но и действенным сопротивлением сначала удержали его от посылки этого фантастического документа, — уже переписанного набело и вместе с сопроводительным письмом вложенного в конверт с выведенным по всей форме адресом, — а впоследствии даже побудили его предать таковой огню.
На словах, а потом и в письмах он посвятил меня во все сложнейшие перипетии своих отношений с упомянутой дамой. Поэзия, которую он ухитрялся вкладывать даже в самые прозаические обстоятельства, часто приводила меня в изумление, и я не раз настоятельно просил его оплодотворить зерно этого запутанного приключения своей остроумной фантазией и сделать из него маленький роман. Но куда там! Все, что не позволяло ему растекаться в безграничных подробностях и прясть без цели и роздыха бесконечную нить, его не вдохновляло. Может быть, со временем станет возможным на основе этих предпосылок рассказать историю его жизни до того момента, когда он впал в безумие; пока что я ограничусь тем, что имеет непосредственное касательство к моей книге.
Едва только вышел из печати «Гец фон Берлихинген», как Ленц прислал мне пространное сочинение на низкосортной бумаге для черновиков, которою он обычно пользовался, без каких бы то ни было полей снизу, сверху или сбоку. Листки эти были озаглавлены «О нашем браке»; сохранись они доныне, многое уяснилось бы мне лучше, чем тогда, когда я еще блуждал в потемках касательно его характера и духовной сути. Основной задачей этого пространного послания являлось сопоставление его и моего таланта. Он то ставил себя ниже меня, то наравне со мной, но все это с помощью оборотов, столь изящных и юмористических, что я охотно принял его точку зрения, тем более что действительно ценил его дарование и только всегда просил его прекратить бесцельные метания, сосредоточиться и с достойным искусства самообладанием использовать свой врожденный творческий дар. На его доверие я ответил по-дружески, а так как в своих писаниях он настаивал на тесной связи (об этом свидетельствовал уже и причудливый заголовок), то отныне я стал делиться с ним не только всем, что было мною сделано, но и своими замыслами. Он, в свою очередь, мало-помалу переслал мне рукописи «Гувернера», «Нового Менозы», «Солдат», свои подражания Плавту и упомянутый выше перевод английской пьесы в качестве приложения к «Заметкам о театре».
Последние меня несколько удивили тем, что в лаконическом предисловии Ленца говорилось, будто эта статья, яростно ополчившаяся на театр трех единств, была прочитана в Обществе друзей литературы несколько лет назад, то есть в пору, когда еще не был написан «Гец». Принимая во внимание страсбургские литературные связи Ленца, самое существование этого литературного кружка, о котором я ничего не знал, показалось мне несколько подозрительным; однако я не стал доискиваться истины и вскоре сосватал Ленцу издателя как для этой статьи, так и для других его сочинений, нимало не подозревая, что я явлюсь для него первейшим объектом воображаемой ненависти и взбалмошного, авантюристического преследования.
Здесь я мимоходом и ради последовательности изложения упомяну еще об одном добром малом; не будучи особенно одаренным, он тем не менее считался одним из наших. Звали его Вагнер. Сначала он был членом страсбургского кружка, затем франкфуртского. Человек неглупый, способный и довольно образованный, он к тому же был полон благих стремлений, и мы его не чурались. Мне он был очень предан, и я, никогда не делая тайны из своих замыслов, рассказал ему о некоторых наметках для «Фауста», в первую очередь о трагедии Гретхен. Он запомнил сюжет и воспользовался им для своей пьесы «Детоубийца». Это был первый случай, когда у меня из-под носу похитили мой замысел. Я рассердился, но долго зла ему не помнил. Впоследствии мне не раз приходилось сносить такие хищения замыслов и наметок, но при моей медлительности и склонности выбалтывать свои планы и намерения я не считал себя вправе на это обижаться.
Ораторы и писатели, с целью усилить впечатление, охотно используют контрасты, даже если их надо сначала отыскать и приспособить к задуманному действию; посему автору этой книги особенно приятно, когда сам собою напрашивается резкий контраст, — в данном случае переход от рассказа о Ленце к Клингеру. Они были ровесники и смолоду боролись и действовали заодно. Но Ленц лишь метеором промелькнул на горизонте немецкой литературы и погас, не оставив следа, тогда как Клингер, писатель, влиявший на современников, и деятельный государственный муж, сохранил свое значение и поныне. О нем я и буду говорить, поскольку это здесь необходимо, уже не прибегая к самоочевидным сравнениям, ибо совершенное им совершено не втихомолку, а в достаточно широком кругу, как, впрочем, и в более узком, и все мы почтительно храним добрую память о его деяниях.
Наружность у Клингера — с этого я всегда люблю начинать — была самая располагающая. Природа одарила его высокой, стройной, пропорциональной фигурой и правильными чертами лица. Он следил за собой, хорошо одевался и по праву мог считаться самым красивым из всей нашей небольшой компании. Манеры его, не предупредительные, но и не высокомерные, были сдержанны, покуда в нем не начинала бушевать буря.
Девушку мы любим за то, что она такая, как есть, юношу за то, что он обещает в будущем; поэтому, едва познакомившись с Клингером, я стал его другом. Он подкупал своим благодушием, а его ярко выраженный характер внушал к нему доверие. С ранней юности ему пришлось вести серьезную, степенную жизнь; вместе со своей сестрой, столь же красивой и энергичной, он должен был заботиться о матери, вдове, нуждавшейся именно в таких детях, чтобы окончательно не пасть духом. Все, что было в нем, он приобрел и создал сам; уже поэтому нельзя было сердиться на гордую независимость, постоянно сквозившую в его поведении. Природные данные, общие для всех даровитых людей, — умение многое схватывать на лету, способность к языкам, отличная память, — все это у него имелось и даже в превосходной степени. Но сам он выше всего ценил в себе настойчивость и твердость — свойства, дарованные ему природой и закаленные житейскими обстоятельствами.
Такого юношу неминуемо должны были увлечь произведения Руссо: «Эмиль» был его настольной книгой, взгляды, там высказанные и покорившие весь образованный мир, для него оказались тем более плодотворными. Ведь и он был дитя природы, и он начал с низов. Никогда он не владел тем, от чего другим предлагалось отречься; житейские обстоятельства, из которых другие должны были искать выхода, никогда его не теснили, и потому он мог почитаться чистейшим апостолом этого евангелия природы. Принимая во внимание свои серьезные помыслы, свое поведение образцового человека и сына, он был бы в полном праве воскликнуть: «Все хорошо таким, каким оно выходит из рук природы!» Но и возглас: «Все становится хуже в руках человека!» — мог бы вырваться у него, навязанный горьким житейским опытом. Бороться ему пришлось не с собой, но с внешним миром, с миром традиции, из оков которой нас стремился освободить гражданин Женевы. А так как в положении нашего юноши вести эту борьбу подчас бывало горько и трудно, то он волей-неволей все глубже замыкался в себе, что, разумеется, не могло в нем развить ни жизнерадостности, ни легкости характера. Ничто само не давалось ему в руки, все приходилось брать бурным натиском. Так закрался в его душу оттенок горечи; впоследствии он иногда питал и пестовал эту горечь, но чаще боролся с нею и ее побеждал.
В его произведениях, насколько они мне известны, мы сталкиваемся с суровым разумом, со здравым смыслом, с живым воображением, острой наблюдательностью по отношению к человеческой разноприродности и характерным изображением типических различий. Его девочки и мальчики милы и непринужденны, юноши исполнены страсти, мужчины разумны и прямодушны; отрицательные образы не окрашены сплошной черной краской. Ему присущи веселость и благодушие, остроумие и иной раз на редкость счастливые озарения; искусно пользуясь аллегориями и символами, он умеет забавлять и радовать читателя, однако это наслаждение было бы еще чище, не сдабривай он там и сям свои веселые и весомые шутки горечью мизантропии. Но это-то и делает его тем, что он есть, и потому, вероятно, так многообразны люди, живущие и пишущие, что каждый из них в теории непрестанно колеблется между познаниями и заблуждением, на практике же — между одушевлением и изничтожением.
Клингер принадлежал к тем людям, которые идут к миру от своего внутреннего «я», от своего разума и своей души. Таких, как он, было немало, и все они во взаимном общении пользовались понятным, сильным и выразительным языком, порожденным как бы самой природой и народной самобытностью, а потому им, рано или поздно, неминуемо должны были опротиветь все школьные правила, и в первую очередь те, что, оторвавшись от вечно живого первоисточника, вылились в пустую риторику, тем самым утратив свою свежесть, изначальное значение. Такие люди обычно восстают не только против новых мнений, взглядов, систем, но и против новых свершений и выдающихся деятелей, провозвестников или организаторов больших исторических перемен: этот образ действия нельзя им поставить в вину, ибо они отчетливо видят угрозу, гибельно нависшую надо всем, чему они обязаны своим становлением и существованием.
Такой стойкий и целеустремленный характер тем более заслуживает уважения, если он сохраняется среди превратностей светской и деловой жизни и если действенное отношение к происходящему, которое кое-кому, возможно, покажется резким и жестоким, своевременно проявленное, будет способствовать достижению цели. Так было и с Клингером; не будучи гибким от природы (гибкость никогда не принадлежала к добродетелям уроженцев и граждан имперского города), но зато тем более деловитый, непреклонный и честный, он возвысился до весьма значительных должностей, сумел удержаться на них и продолжал свою деятельность, пользуясь одобрением и милостями своих высоких покровителей. Но при этом он никогда не забывал ни своих старых друзей, ни пройденного им нелегкого пути. Более того, он стремился сохранить память о былом вопреки продолжительности разлук и дальности расстояний; не могу не упомянуть, что он, как другой Виллигис, не погнушался увековечить в своем гербе, украшенном орденскими знаками, предметы, указывающие на его прежнее гражданское состояние.
В скором времени я свел знакомство еще и с Лафатером. Некоторые места из «Письма пастора своему коллеге» очень его заинтересовали, ибо многое в них полностью совпадало с его убеждениями. При его неустанной деятельности наша переписка быстро сделалась весьма оживленной. В это время он как раз занимался собиранием материалов для своей большой «Физиогномики», с введением в каковую еще раньше ознакомил публику. Он всех заклинал посылать ему рисунки, силуэты, но в первую очередь изображения Христа, и хотя я ничем не мог быть ему полезен, он все же требовал, чтобы и я нарисовал для него Спасителя таким, каким он мне представлялся. Эти требования невозможного послужили мне поводом для разных шуток; не зная, как защититься от его чудачеств, я счел за благо противопоставить им свои собственные.
Большинство не верило в физиогномику или, по крайней мере, считало ее штукой ненадежной и обманчивой, но и те, кто с доверием относился к Лафатеру, любили его поддразнить или сыграть с ним какую-нибудь шутку. Лафатер заказал одному франкфуртскому очень недурному художнику профильные портреты нескольких известных людей. Тот позволил себе подшутить над своим заказчиком и вместо моего портрета отправил ему портрет Бардта; вскоре во Франкфурт прибыло бодрое, хотя и разносное послание — Лафатер шел прямо с козырей, доказывая, что это не мой портрет, далее приводилось решительно все, что можно было привести при такой оказии для возвеличения физиогномики. Мой настоящий портрет, посланный вслед за упомянутым, он принял снисходительнее, хотя и в этом случае не обошлось без пререканий, в которые он обычно вступал не только с художником, но и с оригиналом. Первые, по его мнению, работали недостаточно точно и правдиво, вторые, при всех достоинствах, которые у них иной раз были, все же оказывались намного ниже идеи, составленной им о человечестве и человеке, и потому не удивительно, что характерное в них, — другими словами, то, что делает отдельного индивидуума личностью, — в какой-то мере отталкивало его.
Понятие о человечестве, сложившееся у Лафатера в соответствии с его собственной человеческой сутью, было так родственно его живому представлению о Христе, что ему казалось непостижимым, как может человек жить и дышать, не будучи христианином. Я же воспринимал христианскую религию только мыслью и чувством, о физическом же родстве с нею, которое так живо ощущал Лафатер, я и понятия не имел. Поэтому я досадовал на ту назойливую страстность, с которой этот умный и сердечный человек нападал на меня, на Мендельсона и многих других, утверждая, что надо либо быть христианином, таким, как он, либо уж переманить его на свою сторону — иными словами, убедить его в том, что является умиротворением для душ его противников. Это требование, стоявшее в прямом противоречии с теми либеральными воззрениями, которые я мало-помалу усвоил, произвело на меня довольно неприятное впечатление. Все потерпевшие неудачу попытки обращения делают избранного на роль прозелита только более упорным и замкнутым. Так было и со мной, тем паче когда Лафатер стал подступаться ко мне с жесткой дилеммой: «Либо христианин, либо атеист». В ответ я заявил, что если ему не угодно оставить меня при моем христианстве (как я доселе его понимал), то я, пожалуй, склоняюсь в сторону атеизма, тем более что никто, видно, толком не понимает, что подразумевается под тем и под другим.
Эта оживленная переписка, несмотря на всю свою горячность, не нарушила добрых отношений между нами. Лафатер обладал невероятным упорством, терпением и выдержкой; он веровал в свое учение и, задавшись целью распространить его по всему миру, готов был лаской и кротостью добиваться того, чего нельзя было добиться силой. Он принадлежал к тем немногим счастливцам, чье внешнее призвание полностью совпадало с внутренним, к тому же и начальное его обучение, оказавшись неразрывно связанным с последующим, способствовало естественному развитию всех его задатков. От природы одаренный тончайшим нравственным чутьем, Лафатер остановил свой выбор на духовном поприще. Он получил необходимое образование и выказал много различных способностей, не стремясь, однако, к тому, что называется ученой карьерой. Ибо и он, родившийся много раньше нас, был охвачен духом нашего времени, духом свободы и возврата к природе, льстиво нашептывавшим всем и каждому: в тебе и без внешних вспомогательных средств довольно материала и содержания, все сводится лишь к тому, чтобы надлежащим образом развить заложенные в тебя задатки. Долг священнослужителя оказывать влияние на человека: в обыденном смысле — нравственное, в высшем же — религиозное — вполне соответствовал его образу мыслей. Делиться с людьми своими честными благочестивыми убеждениями, к тому же глубоко прочувствованными, прививать им таковые было неодолимой потребностью юноши; наблюдать за собой и другими — любимым его занятием. Первое облегчалось, даже неизбежно навязывалось ему его большой внутренней чуткостью, второе — острым видением внешнего мира. Тем не менее он, собственно, не был рожден для созерцания и не обладал даром воссоздавать действительность в точном смысле этого слова; напротив, он был одержим страстной тягой к действию и воздействию — я не знал никого другого, кто бы действовал так неустанно. Поскольку, однако, наша внутренняя нравственная сущность воплощена во внешних условиях, будь то принадлежность к семье, к сословию, гильдии, к определенному городу или государству, то ему, раз уж он непременно желал действовать, приходилось соприкасаться со всеми этими условиями, приводить их в движение, из чего, конечно, возникали разные осложнения и трудности, тем более что община, в которой он родился, пользовалась похвальной и традиционной свободой в своих точно установленных границах. В республике даже мальчик привыкает наравне со взрослыми думать и говорить об общественной жизни. Юноше еще не в полном цвете лет, члену того или иного цеха, уже представляется случай подать свой голос или отказать в нем при голосовании. Ежели он хочет иметь справедливое и самостоятельное суждение, он прежде всего должен убедиться в достоинствах своих сограждан, должен внимательно к ним присмотреться, узнать их убеждения и возможности, и, таким образом, желая изучать других, он все время возвращается к себе самому.
В таких условиях смолоду действовал Лафатер, и эта деятельность, видимо, занимала его больше, чем изучение языков и аналитическая критика текстов, являющаяся основой и целью такового. В позднейшие годы, когда его знания, его горизонт бесконечно расширился, он нередко в шутку и всерьез говаривал: я человек неученый. По-моему, этим недостатком основательного обучения и следует объяснить то, что он держался буквы Библии, даже буквы перевода библейских текстов, находя в них довольно пищи и вспомогательных средств для всего, что он искал и к чему стремился.
Но вскоре малоподвижная деятельность в замкнутом кругу стала нестерпима для его живой натуры. Быть справедливым нетрудно юноше, ибо чистой душе отвратительны несправедливости, которыми она себя еще не замарала. Притеснения некоего ландфогта были очевидны гражданам, но притянуть его к суду оказалось делом нелегким. Тогда Лафатер и один из его друзей, которого он берет на подмогу, не называя себя, начинают угрожать преступному ланфогту. Эта история получает огласку, волей-неволей приходится начать расследование. Виновный наказан, однако зачинщиков справедливого дела бранят и поносят на все лады: в благоустроенном государстве и правое дело не должно проводиться ценою нарушения установленного порядка.
Путешествуя по Германии, Лафатер знакомится с учеными и благомыслящими людьми, но при этом только еще больше укрепляется в своих мыслях и убеждениях. По возвращении домой он действует все свободнее, считаясь только со своею совестью. Благородный и добрый человек, он взлелеял в себе высокое понятие о человечестве, а если жизненный опыт и противоречил таковому, то разве нельзя было сгладить все эти несомненные недостатки, отдаляющие каждого из нас от совершенства, прибегнув к понятию божества, способного в любой день и час проникнуть в природу человека, дабы снова полностью приблизить его к своему образу и подобию.
Вот и все о первых шагах этого замечательного человека, а теперь я попробую весело пересказать нашу первую встречу и совместное пребывание. Переписка наша длилась недолго, когда он оповестил меня и других, что вскоре предпримет поездку по Рейну и посетит Франкфурт. Город тотчас же пришел в волнение, всех разбирало любопытство взглянуть на такого замечательного человека. Кое-кто надеялся многое у него почерпнуть для своего нравственного и религиозного формирования, скептики же решили блеснуть глубокомысленными возражениями, самонадеянно рассчитывая сбить его с толку и посрамить аргументами, которые убедили их самих Словом, его ждало то, что ждет каждого примечательного человека, вознамерившегося войти в соприкосновение с пестрым и многообразным миром.
Наша первая встреча была радостна и сердечна; мы обнялись самым дружеским образом, я даже удивился, до чего же он схож со своими портретами. Индивидуум, единственный, ни на кого не похожий, совсем особой стати, какого мы никогда не видывали и никогда не увидим, живой и полный энергии, стоял передо мной. Напротив, он, восклицая что-то нечленораздельное, дал мне понять, что я не таков, каким он меня себе представлял. На это я отвечал, со свойственным мне врожденным и благоприобретенным реализмом, что раз уж богу и природе было угодно сделать меня таким, каков я есть, то надо с этим как-нибудь примириться. И мы тут же заговорили о своих весьма существенных разногласиях, которые нам не удавалось до конца обсудить в наших письмах; но и на сей раз нам не было суждено подробно на них остановиться напротив, мне довелось испытать то, чего еще ни разу со мной не случалось.
Мы, прочие, однажды заведя беседу об уме и сердце, старались скрыться от толпы, даже от привычного общества, ибо — при несхожем образе мыслей и разном уровне образования — не немногими-то трудновато договориться. Лафатер был настроен иначе: он любил распространять свое влияние вдаль и вширь, всего лучше он чувствовал себя только в общине, наставлять и поучать каковую был призван, призвание же это зиждилось на его недюжинном физиогномическом даровании. Ему было дано безошибочно определять душевный и умственный склад человека; по лицу собеседника он тотчас же мог сказать, что у того на душе. А если к этому еще прибавлялось откровенное признание или простодушный вопрос, то Лафатер на основании своего огромного душевного и житейского опыта, ко всеобщему удовлетворению, давал подобающий ответ. Глубина и кротость его взора, мягкие, хотя и очень определенные очертания губ, даже простодушный швейцарский диалект, неожиданно сквозивший в его высоколитературной немецкой речи, и многое другое, его отличавшее, умиротворяюще действовали на собеседника. Самая его фигура, всегда чуть-чуть склоненная из-за впалой груди, до некоторой степени уравнивала этого могучего человека с остальными. Самонадеянность и высокомерие он умел пресекать искусно и спокойно. Словно бы уклоняясь от ответа, он вдруг, как алмазный щит, выдвигал воззрения такой широты, что ограниченному противнику и постигнуть-то их было трудно, но умел тут же смягчить свет своей пронзительной мысли, так что поучаемый, по крайней мере в его присутствии, чувствовал себя убежденным и набравшимся опыта. Возможно, что для некоторых это впечатление и позднее не утрачивало своего действия; ведь случается, что себялюбивые люди бывают и добры, важно только, чтобы постороннее влияние смягчающе воздействовало на твердую скорлупу вокруг плодоносного ядрышка.
Зато сущим мучением для него были встречи с людьми, отталкивающая внешность которых неминуемо должна была сделать их заклятыми врагами его учения о значимости внешнего облика. Как правило, они, горя страстной ненавистью и одновременно терзаясь мелочными сомнениями, использовали свой ум, свои таланты и дарования на то, чтобы ослабить обидное для них учение, ибо мало есть людей подобных Сократу, который даже свое сходство с Фавном умел обратить в пользу новоприобретенной нравственности. Тупая ожесточенность этого рода противников его угнетала, он яростно сопротивлялся: так огонь плавильного горна шипит и пышет злобным жаром на еще не покорившуюся руду.
Принимая все это во внимание, нечего было и думать о доверительной беседе между нами, касающейся его и меня; впрочем, наблюдая его манеру общения с людьми, я чувствовал, что многое в нем постигаю, хотя и не могу что-либо у него перенять: слишком отлично было мое положение от положения нашего гостя. Тот, кто воздействует нравственно, не даром тратит свои усилия, и всходы его богаче, чем те, которые так скромно сулит евангельская притча о сеятеле. Но тот, кто стремится к художественному воздействию, все теряет, если его произведение не признается истинно художественным. Я выше уже говорил, в какое нетерпение приводили меня мои доброжелательные читатели и из каких соображений я ни в коем случае не хотел вступать с ними в никчемные объяснения. Сейчас мне вдруг уяснилось различие между моим и Лафатеровым воздействием: он влиял своей личностью, я — заглазно. Тот, кто вдали был им недоволен, узнав его, начинал испытывать к нему дружеские чувства; тот же, кто по моим произведениям считал меня достойным уважения и любви, увидев перед собою упрямого, несговорчивого человека, поневоле бывал разочарован.
Мерк, немедленно прибывший из Дармштадта, разыгрывал из себя Мефистофеля. Он издевался в первую очередь над дамочками, устремлявшимися в комнаты, приготовленные для пророка, и, заметив, что они с особым вниманием разглядывают спальню, по-мефистофельски заявил, что, дескать, праведниц влечет к месту, где почиет учитель. Как бы там ни было, но и ему пришлось послужить материалом для Лафатеровой ворожбы: Липс, сопровождавший Лафатера, нарисовал его профиль так же добросовестно и четко, как рисовал портреты всех выдающихся и невыдающихся людей, которые в свое время должны были быть воспроизведены в большой «Физиогномике».
Для меня общение с Лафатером было крайне важно и поучительно. Его кипучая активность привела в движение мою спокойную, художественно-созерцательную натуру; правда, поначалу это отнюдь не пошло мне на пользу, ибо рассредоточенность, уже овладевшая мною, таким образом еще увеличилась. Тем не менее между нами столько было уже сказано, что я ощутил непреодолимую потребность продолжить эти беседы. Посему я решил сопровождать Лафатера в его поездке в Эмс и по пути в карете, а следовательно, в полной отрешенности от мира, свободно обсудить волнующие нас обоих вопросы.
Примечательны и чреваты последствиями были для меня также разговоры Лафатера с фрейлейн фон Клеттенберг. Здесь лицом к лицу столкнулись два истинных христианина, и я воочию увидел, как одна и та же вера видоизменяется в соответствии с образом мыслей различных людей. В те веротерпимые времена любили говорить, что каждый человек исповедует свою собственную религию и на свой лад чтит господа бога. Я не утверждал этого так решительно, но по данному случаю заметил, что мужчины и женщины испытывают потребность не в одном и том же Спасителе. Фрейлейн фон Клеттенберг к своему относилась как к возлюбленному, которому предаются без размышлений, все чаяния радостей, все упования возлагают только на него и без колебаний и раздумий вверяют ему свою участь. Лафатер, в противоположность ей, видел в своем Спасителе друга, с которым вступают в беззаветное и любовное соревнование, чьи заслуги ценят, прославляют и потому жаждут ему подражать, более того — ему уподобиться. До чего же различны эти устремления и как ясно в них выражены духовные потребности обоих полов! Этим отчасти объясняется и то, что мужчины с чувствительным сердцем обращаются к богоматери и ей, высшему воплощению женственной красоты и добродетели, посвящают, наподобие Саннацаро, свои жизни и свои таланты, лишь изредка забавляясь ее божественным младенцем.
Каковы были взаимоотношения обоих моих друзей и что они думали друг о друге, я узнал не только из разговоров, которые велись в моем присутствии, но также из тайных признаний каждого из них в отдельности. Ни того, ни другого я не мог полностью одобрить, ибо у моего Христа опять-таки был иной облик, соответствовавший моим чувствам и представлениям. Но так как моего Христа они ни за что признать не хотели, я мучил их всевозможными парадоксами, когда же они выходили из себя, спешил удалиться, отпустив на прощание какую-нибудь шутку.
Спор между знанием и верой еще не был тогда злобою дня, однако оба эти слова, равно как и понятия, с ними связанные, иной раз уже мелькали в тогдашних разговорах, и завзятые мизантропы твердили, что и то и другое одинаково ненадежно. Поэтому мне однажды вздумалось высказаться и за то и за другое, что отнюдь не было одобрено моими друзьями. В вере, сказал я, все сводится к тому, чтобы верить, во что верить — это уже дело десятое. Вера дарит нас прочной уверенностью в настоящем и будущем, которая порождается доверием к сверхвеликому, сверхмогучему и неисповедимому высшему существу. В неколебимость этого доверия все и упирается; каким же мы представляем себе высшее существо, зависит от прочих наших способностей, даже от сложившихся обстоятельств, и никого интересовать не может. Вера — священный сосуд, и каждый, совершая жертвоприношение, готов наполнить его тем, что у него имеется: своими чувствами, своим разумом, своей фантазией. Со знанием же все обстоит как раз наоборот: дело здесь — не в том, чтобы знать, а в том, что именно ты знаешь, велико ли и досконально ли твое знание. О знании можно спорить хотя бы уже потому, что его нам дано произвольно направлять, расширять или сужать. Знание начинается с единичного, оно беспредельно и бесформенно, воссоединить его можно разве что в мечтах, а посему оно вечно пребудет противоположностью вере.
Такие полуправды и заблуждения, ими порождаемые, в поэтической обработке могут предстать волнующими и занимательными, но в жизни они только мешают и вносят путаницу в наши беседы. Посему я предоставил Лафатеру общаться с теми, кто стремился получать духовные наслаждения через него и вместе с ним, и за это самопожертвование был щедро вознагражден поездкой в Эмс, которую мы с ним предприняли. Нам сопутствовала прекрасная летняя погода, Лафатер был мил и жизнерадостен. Несмотря на религиозную и нравственную направленность своего ума, отнюдь не робкого, он не оставался нечувствителен к всевозможным веселящим и радующим душу житейским случайностям. Он был участлив, остроумен, находчив, да и в других любил те же качества, лишь бы все оставалось в границах, которые были для него установлены его деликатными воззрениями. Ежели кто-нибудь эти границы преступал, он, похлопав смельчака по плечу, добродушным: «Будет уж, ладно!» — призывал его к порядку. Эта поездка была для меня и поучительна и занимательна, но скорее в смысле познания его характера, чем обуздания и упорядочения моего. В Эмсе он снова оказался в окружении весьма пестрого общества, и я поспешил вернуться во Франкфурт, где у меня намечались кое-какие дела, пренебречь которыми я не хотел.
Но обрести покой мне не было суждено и там, вскоре во Франкфурт приехал Базедов, на свой лад взволновавший и захвативший меня. Невозможно себе представить более резкий контраст, чем тот, что существовал между этими двумя людьми. Самая наружность Базедова была полной противоположностью Лафатеровой. Если лицо Лафатера поражало своей открытостью, то черты Базедова были, казалось, сведены судорогой и странным образом обращены вовнутрь. Глаза Лафатера, ясные и кроткие, прикрывались очень широкими веками, у Базедова глубоко сидящие, маленькие, черные, пронзительные глазки выглядывали из-под мохнатых бровей, тогда как у Лафатера лоб прочерчивали шелковистые каштановые дуги. Громкий и грубый голос Базедова, его быстрые и резкие высказывания, насмешливый хохот, молниеносные перескоки в разговоре и прочие особенности — все было прямой противоположностью свойствам и манерам, которыми избаловал нас Лафатер. Базедов тоже был окружен искательством во Франкфурте, его ум и высокая одаренность вызывали восхищение, но он не был человеком, способным услаждать людей и направлять их. Его интересовало только одно: как получше возделать обширное поле, которое он себе выбрал, дабы в будущем люди могли удобнее и в большем согласии с природой пользоваться его плодами; к этой цели он шел напролом.
Его планы оставались мне чужды, его намерений я не мог толком себе уяснить. Мысль, настойчиво им проводимая, что преподавание должно вестись живо и в согласии с природой, мне, конечно, нравилась; идея о применении древних языков в наше время представлялась мне похвальной, охотно признавал я и все то, что, по его замыслу, должно было поощрять энергичную деятельность и более свободное мировоззрение, но мне было не по вкусу, что рисунки в его «Элементарном труде» рассеивали внимание еще больше, чем сами предметы, на них изображенные, тогда как в действительном мире объединяется только то, что может объединиться, отчего этот мир, несмотря на всю свою пестроту и кажущуюся неразбериху, во всех своих частях до известной степени строен и гармоничен. «Элементарный труд», напротив, везде расщепляет его, поскольку то, что в созерцаемом мире отнюдь не связано между собою, здесь из-за родственности понятий поставлено рядом, почему этот труд и лишен тех наглядно методических преимуществ, которые мы не можем отрицать в сходных работах Амоса Коменского.
Но еще удивительнее и непонятнее, чем его учение, было поведение Базедова. Это путешествие Базедов предпринял с целью личными качествами завоевать публику для своего филантропического предприятия и заставить ее раскрыть если не души, то кошельки. Он умел так величаво и убедительно говорить о своих замыслах, что каждый охотно соглашался с его утверждениями. Но каким-то непостижимым образом он оскорблял чувства тех людей, которых хотел заставить тряхнуть мошной, оскорблял понапрасну, от неумения держать про себя свои чудаческие взгляды на целый ряд религиозных вопросов. Базедов и в этом был прямой противоположностью Лафатера. Если последний воспринимал Библию буквально и всю ее, от первого до последнего слова, считал и поныне полезной и нужной, то Базедов был одержим каким-то зудом обновления, перекройки всех догматов веры, равно как и внешних церковных обрядов на свой, раз и навсегда им усвоенный, чудаческий манер. Но уж совсем немилосердно и крайне неосторожно обходился он с представлениями, берущими начало не из самой Библии, а из ее толкований, с теми оборотами, философскими терминами или разнообразными иносказаниями, к которым отцы церкви и соборы прибегали для уяснения себе неуяснимого, а также для борьбы с еретиками. Не стесняясь ничьим присутствием, он прямолинейно и безответственно объявлял себя заклятым врагом триединства и начинал без устали аргументировать против этого общепризнанного догмата. Беседуя с ним с глазу на глаз и слушая бесконечные рассуждения об ипостаси, усии и просопоне, я тоже вытерпел немало. В этих спорах я хватался за оружие парадоксов, доводил его мнения до крайности, стремясь отважное побороть еще более отважным. Это также упражняло мой ум, а так как Базедов был много начитаннее меня и увертливее в фехтовальном искусстве диспута, нежели я, простодушное дитя природы, то мне приходилось тем более напрягаться, чем важнее были всплывавшие в споре вопросы.
Упустить столь благоприятный случай, и если уж не набраться чужого ума, то хотя бы не поупражнять собственный, я не мог. Упросив отца и кое-кого из друзей взять на себя наиболее неотложные дела, я решил сопровождать Базедова и вместе с ним вновь уехал из Франкфурта. Но бог мой, как мне недоставало в этой поездке обаяния, исходившего от Лафатера! Человек необычайной чистоплотности, он распространял вокруг себя атмосферу чистоты. Боясь чем-нибудь загрязнить его чувства, каждый становился рядом с ним девственно чистым. Базедову же, вечно углубленному в себя, недосуг было обращать внимание на свою внешность и повадки. Он непрестанно курил скверный табак, что уже само по себе было пренеприятно. Вдобавок, едва выкурив одну трубку, он немедленно зажигал другую — с помощью небрежно сделанного и, правда, хоть и легко воспламенявшегося, но омерзительно чадящего трута, чем всякий раз отравлял воздух. Я называл эту штуку «базедовским вонючим грибом» и под таким наименованием предлагал ввести его в естественную историю; Базедов покатывался со смеху, посвящал меня во все отвратительные подробности его изготовления и злорадно наслаждался моей брезгливостью. Дело в том, что злорадство прочно укоренилось в этом очень и очень одаренном человеке, наряду со страстью насмешничать и, так сказать, коварно нападать из-за угла. Он никому не давал ни отдыха, ни срока — раздражал своими ухмылками и хриплым насмешливым голосом, приводил в смущение неожиданными вопросами, горько усмехался, достигнув цели, впрочем не обижаясь, когда его остроумно осаживали.
Тем более тосковал я по Лафатеру. Да и он, видимо, обрадовался нашей повторной встрече и поспешил поделиться со мной новыми впечатлениями, в первую очередь касавшимися других приезжих, среди которых он уже сумел приобрести много друзей и почитателей. Я и сам здесь встретил кое-кого из старых знакомых, годами мною не виденных, и сделал одно наблюдение, в юности нам недоступное, а именно: что мужчины стареют, а женщины меняются. Общество с каждым днем становилось многочисленнее. Танцевали до упаду, а так как в обеих курортных гостиницах постояльцы жили довольно тесно и потому быстро завязывали знакомства, всяких забавных проделок было хоть отбавляй. Как-то раз я нарядился деревенским священником, а один мой именитый приятель — его супругою. Своей церемонной учтивостью мы поначалу досаждали благородному обществу, но, узнав нас, все пришли в наилучшее расположение духа. По вечерам, в полночь и на утренней заре то там, то здесь звучали серенады, и мы, молодежь, иной раз едва успевали вздремнуть.
Несмотря на все эти забавы, я часть ночи неизменно проводил с Базедовым. Он не ложился в постель, а диктовал и диктовал без передышки. Изредка он бросался на кровать и дремал, покуда его Тирон, не шевелясь, сидел с пером в руке, готовый незамедлительно писать дальше, как только тот, еще не совсем проснувшись, снова даст свободу течению своих мыслей. Все это происходило в занавешенной комнате, наполненной чадом табака и трута. Оттанцевав какой-нибудь танец, я мчался наверх, к Базедову, который в любую минуту готов был затеять дискуссию о любой проблеме; через некоторое время я снова убегал танцевать, и, едва за мной затворялась дверь, он уже, как ни в чем не бывало, продолжал диктовку с того места, на котором ее прервал.
Мы с ним также не раз совершали поездки в окрестные имения, посещали замки, в первую очередь те, которыми владели знатные дворянки, ибо женщины в значительно большей мере, чем мужчины, склонны к духовному и к духовникам. В Нассау у госпожи фон Штейн, весьма почтенной дамы, пользовавшейся всеобщим уважением, мы застали множество гостей, среди них находилась и госпожа фон Ларош, молодых девушек и детей тоже было полным-полно. Лафатера здесь решили подвергнуть физиогномическому искусу, то есть заставить его случайности в строении лица принять за основную форму, но он был достаточно зорок и не дал себя обмануть. С меня снова требовали подтверждения правдивости «Страданий Вертера» и точных описаний местожительства Лотты, от чего я открещивался, даже не совсем учтиво, предпочитая собирать вокруг себя детей и рассказывать им диковинные сказки, в которых речь, однако, шла о самых обыкновенных и привычных вещах. При этом я наслаждался тем, что никто из слушателей не донимал меня вопросами, что́ здесь правда, а что́ поэтический вымысел.
Базедов, как всегда, знал только одну песню: юношество должно получать лучшее воспитание, а следовательно, пусть богатые и знатные раскошеливаются на это святое дело. Но когда казалось, что он уже если и не склонил на свою сторону, то, во всяком случае, пронял многие сердца, как злой дух в нем начинал бунт против триединства и он, окончательно позабыв, где находится, разражался самыми неподобающими речами, по его мнению высоко религиозными, по мнению же остальных — святотатственными. Лафатер тщился укротить его своей проникновенной серьезностью, я — придумыванием разных шуток, женщины — прогулками, отвлекающими внимание от разговоров такого рода, но дурное впечатление уже ничем нельзя было изгладить.
Христианских наставлений ждали от Лафатера, педагогических — от Базедова, к сентиментальным рассуждениям должен был быть готов я, и вдруг все эти ожидания рухнули. На обратном пути Лафатер осыпал Базедова упреками, я же покарал его более забавным способом. Погода стояла жаркая, от табачного дыма нёбо Базедова еще больше пересохло, он мечтал выпить кружку пива и, наконец-то заметив издалека придорожный трактир, велел кучеру остановиться. Тот только что собрался осадить лошадей, как я повелительно и громко крикнул, чтобы он ехал дальше. Базедов опешил и едва выдавил из себя повторный и хриплый приказ остановиться. Я еще настойчивее и громче повторил свое требование, кучер мне повиновался. Базедов стал ругаться на чем свет стоит и едва не набросился на меня с кулаками, но я с полным самообладанием произнес: «Отец, успокойтесь! Вы должны быть только благодарны и счастливы, что я не дал вам разглядеть трактирной вывески. На ней изображены два скрещенных треугольника. Вас и один-то повергает в ярость, а заметь вы оба, нам пришлось бы заковать вас в цепи». Он расхохотался, но тут же снова принялся ругать и проклинать меня; Лафатер хранил спокойствие, слушая обоих дураков — старого и молодого.
В середине июля Лафатер собрался уезжать, Базедов счел за благо к нему присоединиться, я же успел так привыкнуть к обоим, что не пожелал от них отстать. Мы совершили радостную для души и для глаза поездку вниз по Лану. При виде удивительных руин какого-то замка я написал в альбом Липса песнь: «На старой башне, в вышине…», а так как она была одобрительно принята, то, по скверной своей привычке, поспешил испортить впечатление, изукрасив следующие страницы шуточными ломаными стихами. Я был счастлив, вновь любуясь величавым течением Рейна и наблюдая за восторгом своих спутников, впервые его узревших. Мы сошли на берег в Кобленце. Повсюду, куда бы мы ни приходили, было полно народу, причем каждый из нас троих возбуждал внимание и любопытство. Базедов и я словно бы вступили в соревнование по части сумасбродного поведения. Лафатер держался умно и сдержанно, только что не умел скрыть своих заветных убеждений и потому при самых лучших намерениях, как всегда, привлекал к себе внимание скопища посредственностей.
Память об оригинальной застольной беседе на постоялом дворе в Кобленце я сберег в ломаных стихах, которые, заодно с прочими им подобными, займут свое место в новом издании моих сочинений. Я сидел между Лафатером и Базедовым; первый поучал некоего сельского священника касательно темных мест откровения Иоанна, второй тщетно силился доказать некоему тугодуму-танцмейстеру, что крещение — обычай устарелый и в наше время смехотворный. Когда мы переехали в Кельн, я написал кому-то в альбом:
Шли, как в Эммаус, без дорог,
В огне и в буре — трое,
Один пророк, другой пророк,
Меж них — дитя земное[38].
По счастью, земное дитя одной своею стороною было обращено к небесному, и этой стороны судьба вдруг коснулась неожиданным образом. Еще в Эмсе я радовался, узнав, что в Кельне нас ждет встреча с братьями Якоби, которые вместе с другими выдающимися и любопытствующими людьми едут навстречу обоим прославленным путникам. Я, со своей стороны, надеялся получить от них прощение за озорство, спровоцированное злым юмором Гердера. Письмо и стихотворения, в которых Глейм и Георг Якоби публично восхищались друг другом, явились для нас поводом к различным шуткам, причем нам и в голову не пришло, что причинять боль людям, пребывающим в безмятежном расположении духа, не менее глупо и самонадеянно, чем излишне возвеличивать себя и своих друзей. Из-за этого между Верхним и Нижним Рейном возник раздор, правда, весьма незначительный, который легко можно было бы погасить, особенно при содействии женщин. Уже Софи Ларош в разговорах с нами наилучшим образом отзывалась об обоих достойных братьях. Демуазель Фальмер, переселившаяся из Дюссельдорфа во Франкфурт и близкая к их кругу, удивительной тонкостью своей души и исключительно развитым умом свидетельствовала о незаурядности того общества, в котором она выросла. Мало-помалу она устыдила нас своим долготерпением к нашей верхненемецкой неотесанности и научила щадить других, деликатно дав понять, что мы и сами нуждаемся в пощаде. Простодушие младшей сестры Якоби, веселость и остроумие супруги Фрица Якоби все больше и больше влекли наши чувства и мысли в те края. Госпожа Якоби была как будто создана для того, чтобы всецело покорить меня: наделенная здравыми чувствами без какого бы то ни было следа сентиментальности и острая на язык, эта прекрасная фламандка, внешне чуждая всякой чувственности, здоровой своей натурой напоминала рубенсовских женщин. Упомянутые дамы, посещая Франкфурт то на долгий, то на короткий срок, завязали тесную дружбу с моей сестрой и сумели расшевелить и развеселить суровую, замкнутую, я бы даже сказал, по натуре безлюбую Корнелию. Итак, нам во Франкфурте суждено было приобщиться к духу и мыслям, зародившимся в Дюссельдорфе и Пемпельфорте.
Отсюда следует, что наша первая встреча в Кельне сразу же сделалась откровенной и доверительной: доброе мнение о нас, составившееся у вышеупомянутых дам, дошло и до этих мест. Меня уже не рассматривали как туманный хвост двух странствующих светил, но обращались именно ко мне, стремясь сказать мне много хорошего и, видимо, ожидая много хорошего услышать от меня. Мне наскучили мои прежние глупости и дерзкие выходки, за которыми я, в сущности, лишь скрывал досаду на то, что так мало радости дало это путешествие моему уму и сердцу; все, что накопилось в глубине моей души, сейчас с силою прорвалось наружу, и потому, вероятно, я плохо помню отдельные события. То, что мы думаем, и то, что мы видим, можно позднее вызвать в памяти и воображении, но сердце не так услужливо, оно не спешит повторить прекрасные чувства, и уж совсем не удается нам воскресить в памяти мгновения восторга: они нежданно настигают нас, и предаемся мы им безотчетно. Те, кто в эти мгновения наблюдает за нами со стороны, яснее видят и понимают нас, чем мы сами.
До сих пор я всегда старался мягко отклонять религиозные разговоры и на вполне разумные вопросы редко отвечал с должной скромностью, ибо по сравнению с тем, чего я искал, все это казалось мне очень уж ограниченным. Когда кто-то старался навязать мне свои чувства, свои взгляды на мои произведения и, в особенности, когда меня мучили требованиями трезвого разума и с чрезвычайной решительностью указывали, что́ мне следовало сделать и от чего отказаться, нить моего терпения рвалась, и разговор прекращался или дробился на мелочи, так что никто не мог унести с собою особо хорошего впечатления обо мне. Для меня куда естественнее было бы выказать дружелюбие и деликатность, но душа моя, готовая открыться подлинному доброжелательству и преданностью заплатить за истинное участие, не терпела педантических наставлений. К тому же я всецело был во власти ощущения, принимавшего порою самые странные формы: прошлое и настоящее сливались для меня воедино, и это слияние вносило какую-то призрачность в настоящее. Это ощущение сказалось во множестве моих больших и малых работ, и в стихах всегда производило благоприятное действие, тогда как применительно к жизни или просто в жизни всем представлялось странным, необъяснимым, даже неприятным.
Кельн был именно тем местом, где старина производила на меня такого рода безотчетное впечатление. Руины собора (ибо незаконченное строение подобно разрушенному) пробудили во мне чувства, знакомые еще со времен Страсбурга. На творческое созерцание этого произведения искусства я, правда, был неспособен, мне было дано слишком много и одновременно слишком мало, а рядом не было никого, кто помог бы мне выбраться из лабиринта свершений и намерений, законченного и лишь намеченного, как это теперь делают мои усердные и рачительные друзья. На людях я, конечно, выражал свое восхищение этими удивительными сводами и пилястрами, но в одиночестве всегда не без досады созерцал всемирно прославленный собор, незавершенный и застывший еще в процессе созидания. Здесь снова была титаническая мысль, не доведенная до воплощения! Казалось, зодчество лишь затем и существует, чтобы убеждать нас: усилия разных людей, работающих в разные времена, ни к чему не приводят, ибо в искусстве, равно как и в деянии, осуществленным почитается лишь то, что, подобно Минерве, во всеоружии и зрелости выходит из головы творца.
В эти скорее удручающие, чем возвышающие душу мгновения я и не подозревал, что меня уже вот-вот поджидает большая и светлая радость. Мы посетили дом Ябаха, где то, что я всегда лишь мысленно рисовал себе, предстало передо мною чувственно и зримо. Семья Ябахов, вероятно, давно уже вымерла, но в нижнем этаже, примыкающем к саду, мы нашли все таким, каким оно было при жизни хозяев. Пол, выложенный красно-бурыми кирпичными ромбами, высокие резные кресла с вышитыми сиденьями и спинками, искусно инкрустированные столы на массивных ножках, висячие металлические светильники, гигантский камин и рядом такие же гигантские щипцы, кочерга и прочие принадлежности — всё в духе былых времен, ничего нового, ничего современного, кроме нас. Фамильный портрет над камином еще больше взбудоражил наши и без того взбудораженные чувства. Изображенный на нем богатый владелец дома сего сидел рядом с женою, вокруг них толпились дети: все как живые, точно вчера или сегодня запечатленные на холсте и тем не менее давно состарившиеся и ушедшие из жизни. Ведь от этих румяных толстощеких детей не осталось бы и следа, если бы не сей многофигурный портрет. Как я вел себя и что творил под напором чувств, я сейчас и сказать не сумею. Бесконечное сердечное волнение до самого дна разверзло пучину моих дремлющих человеческих сил и поэтических способностей. Все доброе в моей душе, весь запас любви, казалось, сейчас изольется наружу, и с той минуты без дальних размышлений и вопрошаний я проникся любовью и доверием к превосходным людям, лишь недавно вошедшим в мою жизнь.
В этом союзе душ и умов, где самые сокровенные мысли и чувства претворялись в слова, я вызвался прочитать свои последние и наиболее мною любимые баллады. «Фульский король» и «Любовник дерзкий как-то жил…» произвели хорошее впечатление, да и читал я их тем более проникновенно, что они еще не оторвались от моего сердца и лишь редко были у меня на устах. Меня часто останавливало присутствие тех, кого могли задеть мои не в меру обостренные чувства, поэтому я сбивался, читая, и, сбившись, не сразу собирался с мыслями. А как часто мне из-за этого приписывали своенравие и капризные чудачества!
Несмотря на то что всего больше меня занимали и волновали способы поэтического изложения, я много размышлял и о вещах совсем другого рода, и оригинальное, вполне соответствующее его натуре отношение Якоби к неисповедимому было мне в высшей степени по душе. Между нами не обнаруживалось разногласий на почве понимания христианства, как с Лафатером, или на почве дидактики, как с Базедовым. Мысли, которыми делился со мною Якоби, возникали непосредственно из его чувств, и как же я был поражен и растроган, когда он с безусловным доверием открыл мне глубочайшие запросы своей души. Из этого своеобразного сочетания идей, потребности и страсти для меня могли возникнуть лишь предчувствия того, что обещало приобрести большую ясность в будущем. По счастью, я и с этой стороны уже был если не достаточно просвещен, то хоть как-то подготовлен тем, что воспринял сущность и образ мыслей удивительного человека, правда — воспринял не основательно, а, так сказать, на живую нитку, но его воздействие на себя уже успел почувствовать. Этот великий ум, так решительно на меня воздействовавший и оказавший такое влияние на весь строй моего мышления, был Спиноза. После того как я везде и всюду тщетно искал средство, которое помогло бы формированию моей неучтимой и прихотливой сути, я напал наконец на его «Этику». Что я вынес из трактата Спинозы и что, напротив, в него привнес, в этом я не сумел бы дать себе отчета. Как бы то ни было, он успокоил мои разбушевавшиеся страсти, и словно бы в свободной и необъятной перспективе передо мной открылся весь чувственный и весь нравственный мир. Но прежде всего захватило меня в этом мыслителе полнейшее бескорыстие, светившееся в каждом из его положений. Удивительное речение: «Кто доподлинно возлюбил бога, не станет требовать, чтобы бог отвечал ему тем же», со всеми предпосылками, на которых оно основывается, со всеми следствиями, которые из него вытекают, заполонило все мои мысли. Быть бескорыстным во всем, и всего бескорыстнее в любви и дружбе, стало заветным моим желанием, моим девизом, моим житейским правилом, и потому дерзкое слово, позднее мною сказанное: «Если я и люблю тебя, так что тебе до того», было сказано от чистого сердца. Впрочем, и здесь не надо упускать из виду, что наиболее пылкие и прочные отношения обычно устанавливаются между людьми, прямо друг другу противоположными. Все уравнивающее спокойствие Спинозы резко контрастировало с моей все будоражащей душевной смутой, его математическая метода была как бы зеркальным отражением моего образно-поэтического мышления, и его строго теоретическая метода истолкования, которая многими считалась недопустимой в применении к нравственным проблемам, как раз сделала меня его верным учеником и страстным почитателем. Ум и сердце, рассудок и чувство искали друг друга по непреложному избирательному сродству, и благодаря ему-то и осуществился союз двух полярно противоположных натур.
Но все было еще в стадии первоначальных взаимных воздействий; все еще только бродило и закипало. Фриц Якоби, первый, кому я позволил заглянуть в этот хаос, ибо и в нем совершалась глубокая внутренняя работа, был искренне тронут моим доверием, ответил мне тем же и постепенно ввел меня в круг своих мыслей и представлений. И его томила неизъяснимая духовная жажда, и он хотел утолить ее не с чужой помощью, а из себя, работою собственных сил. Я не мог понять того, что он толковал мне о своем душевном состоянии, тем более что плохо представлял себе и мое собственное. Но он, далеко опередивший меня в философском мышлении, даже в изучении Спинозы, старался руководить моими смутными стремлениями и прояснять их. Такое чисто духовное родство было ново для меня и пробуждало страстную жажду дальнейшего общения. Ночью, когда мы уже разошлись по своим спальням, я все-таки еще раз заглянул к нему. Лунный свет трепетал на необъятной шири Рейна, и мы, стоя у окна, наслаждались полнотой взаимно поверяемых чувств и мыслей, которые ключом бьют в те дивные мгновения, когда раскрываются души.
Но сейчас я уже не в состоянии поведать обо всем, что словами выразить невозможно, много лучше мне памятна поездка в охотничий дворец Бенсберг, на правом берегу Рейна, откуда открывался великолепнейший вид. Во внутреннем убранстве Бенсберга меня безмерно восхитила фресковая живопись Веникса. По четырем стенам в строгом порядке лежали все звери, на которых охотился человек, словно бы покоясь на цоколе большой колонной залы; позади них открывался широкий ландшафт. Стремясь оживить этих неживых тварей, сей бесподобный художник, казалось, до дна исчерпал свой талант и в изображении их разнообразнейших внешних признаков — щетины, волос, перьев, рогов, когтей — не только сумел поставить себя вровень с природой, но по силе впечатления ее превзошел. Вдосталь налюбовавшись его произведениями, каждый невольно задавался вопросом: какими средствами создавались эти картины, в равной мере одухотворенные и технически совершенные? Невозможно было поверить, что они дело рук человеческих, и каким же в таком случае инструментом орудовали эти руки? Кистью? Но разве могла это сделать кисть? Чтобы создать такое многообразие, нужны были особые приспособления. Мы разглядывали картины совсем близко, потом отходили от них как можно дальше, и всё с одинаковым изумлением: причина здесь была не менее достойна удивления, чем следствие.
Дальнейшее путешествие вниз по Рейну проходило весело и счастливо. Речной простор манил душу расправить крылья и устремиться вдаль. Мы прибыли в Дюссельдорф и оттуда отправились в Пемпельфорт, приятнейший уголок, где в большом доме, среди обширных и заботливо ухоженных садов собиралось интеллигентное и благовоспитанное общество. Не говоря уже о многочисленном семействе Якоби, этот радушный дом всегда привлекал множество гостей.
В Дюссельдорфской галерее моя любовь к нидерландской школе нашла для себя обильную пищу. Целые залы отличных, блистающих всею полнотой жизни картин если и не углубили моего понимания искусства, то все же обогатили меня новыми знаниями и еще больше укрепили в пристрастии к этого рода живописи.
Прекрасное спокойствие, мир и нерушимые устои, то есть все характерное для семьи Якоби, оживали на глазах гостя, так как вскоре он заметил, что влияние этой семьи распространяется вдаль и вширь. Многосторонняя деятельность соседних зажиточных городов и местечек немало способствовала ощущению внутреннего довольства. Мы съездили в Эльберфельд и с удовлетворением наблюдали за оживленной работой многих превосходно оборудованных фабрик. Здесь мы вновь повстречали нашего Юнга, по прозванию Штиллинг, с которым свиделись уже в Кобленце; с ним, как всегда, были неразлучны его драгоценные качества: вера в бога и неизменная верность людям. Впервые Юнг предстал перед нами в своем кругу, и мы не могли не порадоваться доверию, которым его дарили сограждане; занятые вполне земными хлопотами, они не упускали из виду и благ небесных. Этот край работящих людей производил успокаивающее впечатление, ибо все здесь дышало чистотой и разумным порядком. Мы провели несколько приятных дней, радуясь всему, что видели и наблюдали.
Вернувшись обратно к своему другу Якоби, я испытал восхитительное чувство, вызываемое истинным душевным союзом. Обоих нас вдохновляла надежда на совместную деятельность: я настойчиво побуждал его облечь в какую-либо образную форму все, что всходило и прорастало в нем. Для меня это всегда было наилучшим средством выбираться из затруднений, и я полагал, что это будет благом и для него. Мужественно последовав моему совету, сколько же он создал доброго, прекрасного и радующего сердце! Итак, мы в конце концов расстались с блаженным чувством вечного единения, нимало не подозревая, что наши устремления примут прямо противоположный характер, как это слишком ясно обозначилось впоследствии.
Все, встретившееся мне на обратном пути вверх по Рейну, начисто стерлось из моей памяти, может быть, оттого, что вторичное впечатление в воспоминании сливается с первым, а может быть, также и оттого, что я был углублен в себя, силясь осмыслить и переработать то, что воспринял и что так сильно на меня подействовало. Теперь я хотел бы еще рассказать об одном важном результате этой поездки, о возникновении мысли, которая долго занимала меня и побуждала к творческой работе.
При моих более чем свободных взглядах, при том, что я жил, не стремясь к какой-нибудь определенной цели и не строя планов на будущее, от меня не могло укрыться, что Лафатер и Базедов использовали духовные, даже религиозно-духовные средства для сугубо земных целей. Мне, бессмысленно расточавшему и талант и время, довольно скоро бросилось в глаза, что оба они, каждый на свой лад, стараясь учить, поучать и убеждать, имели еще какие-то тайные намерения, осуществление которых было для них крайне важно. Лафатер делал свое дело деликатно и умно, Базедов — топорно, кощунственно: он, что называется, рубил с плеча; при этом оба так были убеждены в достоинстве всей своей деятельности, своих пристрастий и начинаний, что их нельзя было не считать добропорядочными людьми, нельзя было не уважать и не любить. К чести Лафатера надо сказать, что он преследовал доподлинно высокие цели, и если подчас и действовал слишком расчетливо, то полагал, что цель оправдывает средства. Когда я, приглядевшись к обоим, откровенно высказал им свое мнение и в ответ выслушал, что думают они, я понял, что, конечно же, значительный человек хочет распространять на других то божественное начало, которое в нем укрепилось. Но здесь он сталкивается с грубой мирской жизнью и, чтобы воздействовать на нее, должен стать с нею вровень, а тогда он поневоле начинает поступаться своими высокими достоинствами и в конце концов вовсе жертвует ими. Небесное, вечное, облекшись в плоть земных устремлений, заодно с ними приобщается к судьбе всего бренного и преходящего. Когда я стал рассматривать жизненный путь сих мужей с такой позиции, они мне показались столь же почтенными, сколь и достойными сожаления, ибо я заранее знал, что они окажутся вынужденными высокое принести в жертву низменному. Неустанно продолжая эти наблюдения и не довольствуясь своим личным опытом, я пытался разыскать похожие случаи в истории и вскоре принял решение на примере Магомета — а я никогда не считал его за обманщика — в драматической форме показать те дороги, которые мне так недавно довелось наблюдать в жизни: дороги, ведущие не к благу, а к погибели. Незадолго до того я с величайшим интересом штудировал жизнеописание восточного пророка и, следовательно, когда у меня родилась эта мысль, был уже достаточно подготовлен к своей задаче. Целое должно было иметь форму скорее правильную, которая вновь стала привлекать меня, хотя в какой-то степени я все же умеренно пользовался свободой, завоеванной театром, произвольно распоряжаясь временем и местом действия. Пьеса открывалась гимном, который Магомет в одиночестве поет под звездным небом. Сначала он, как богов, славит бесчисленные ночные светила, затем восходит приветливая звезда Гад (наш Юпитер), и ей, царице звезд, он воздает совсем особую хвалу. Вскоре выплывающая луна покоряет взор и сердце молящегося, но затем взошедшее солнце дарит ему отраду и свежие силы, призывая его к новому песнопению. В этих сменах, сколько бы радости они ни несли с собой, заключена тревога, душа ощущает потребность вознестись еще выше; она и возносится к богу, единственному, вечному, беспредельному, которому обязаны своим бытием все эти дивные создания. Этот гимн я писал с большой любовью. Он потерялся, но, думается мне, его стоило бы восстановить в виде текста для кантаты, так как разнообразие его выразительных средств могло бы заинтересовать музыканта. Надо только представить Магомета, как я и намеревался сделать тогда, предводителем каравана, с семьей и со всем племенем, это позволило бы ввести чередование голосов и мощные хоры.
Обретя свою новую веру, Магомет хочет поделиться всеми чувствами и мыслями с близкими ему людьми, жена и Али безоговорочно становятся его последователями. Во втором действии он, но еще более страстно Али, пытается насадить новую веру в своем племени. Здесь мы видим сочувствующих и противящихся, в зависимости от характера каждого. Начинается распря, она становится неукротимой, и Магомет вынужден бежать. В третьем акте он одолевает врагов, провозглашает свою религию всеобщей и удаляет идолов из Каабы. Но не всего можно добиться силою, и он вынужден прибегнуть еще и к коварству. Земное начало растет, ширится, божественное отступает, застилается мраком. В четвертом действии Магомет по-прежнему завоеватель, его учение теперь скорее предлог, чем цель: все средства, которые можно измыслить, пускаются в ход, в том числе и жестокость. Женщина, мужа которой он повелел казнить, дает ему отравленное питье. В пятом акте он чувствует, что отравлен. Величайшее самообладание, возвращение к самому себе, к высшему смыслу делают его достойным восхищения. Он очищает свою веру, укрепляет свое царство и умирает.
Таков был план работы, которая долгое время занимала мои мысли, ибо, прежде чем приступить к выполнению задуманного, я обычно должен был сосредоточить в уме весь материал. Мне хотелось наглядно изобразить, как гений силой своего характера и духа получает власть над людьми, чем он при этом обогащается и что теряет. Многие песни, которые я намеревался вставить в пьесу, были мною уже написаны. Из них сохранилась лишь одна, под названием «Песнь о Магомете», она помещена в собрании моих стихотворений. В пьесе этот гимн должен был петь Али во славу своего учителя, в миг наивысшего успеха и незадолго до рокового поворота событий — отравления Магомета. Я еще помню наметки отдельных мест, но их изложение завело бы меня здесь слишком далеко.
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ
После всех этих рассеяний и отлучек, часто, впрочем, служивших мне поводом для углубленных, более того — религиозных размышлений, я всякий раз с радостью возвращался к своей достойной подруге фон Клеттенберг, чья близость, хотя бы на краткий миг, смягчала мои бурные, разбросанные страсти и внезапные увлечения, не говоря уж о том, что ни с кем, если не считать моей сестры, я не делился так охотно своими замыслами. Я должен был бы заметить, что ее здоровье постепенно ухудшалось, но закрывал на это глаза; оправданьем мне служит лишь то, что ясность ее души возрастала вместе с болезнью. Изящно и тщательно одетая, она обычно сидела у окна в своем кресле, благосклонно внимая моим рассказам или чтению. Иной раз я даже рисовал, чтобы дать ей лучшее представление о краях, которые мне довелось увидеть. Однажды вечером, когда я вызвал перед ее внутренним взором целый ряд разнообразных картин, она сама и все ее окружавшее, в свете заходящего солнца, вдруг явилось мне как бы просветленным, и я не мог удержаться, чтобы по мере своих скудных способностей не набросать картинку, на которой все это было изображено: думается, что, сделанная кистью более искусного художника, — Керстинга, например, — эта картинка выглядела бы прелестно. Я послал ее одной приятельнице, жившей в другом городе, приложив к ней такой стишок в качестве комментария и дополнения:
Видишь под крылами бога
Сон в магическом стекле —
Нашу кроткую подругу
С смертной мукой на челе.
Видишь, как с волнами жизни
Ей борьба трудна была,
Видишь образ твой и бога,
Что страдал, не помня зла.
Чувствуй, что мне в этих красках
Воздух неба говорил
В час, когда мою картину
Я стремительно творил[39].
Хотя в этих строфах, как то нередко со мной случалось, я выказал себя вроде бы посторонним, чужим, чуть ли не язычником, фрейлейн Клеттенберг не только на это не посетовала, но, напротив заверила меня, что теперь я ей милее, чем прежде, когда я пользовался христианской терминологией, с которой не умел должным образом управляться. Она заметила еще по моему чтению миссионерских отчетов, которые очень любила слушать, что я всегда держал сторону не миссионеров, а народов, и прежнее их состояние предпочитал новейшему. Она была со мною неизменно кротка и ласкова и, видимо, нисколько не тревожилась обо мне и о спасении моей души.
Мой постепенный отход от христианского вероучения объясняется тем, что я чрезмерно серьезно, со страстной увлеченностью старался постичь его. С тех пор как я сблизился с братской общиной, мое тяготение к этим людям, собиравшимся под победоносным Христовым знаменем, час от часу возрастало. Любая позитивная религия всего обаятельнее, когда она находится в становлении; приятно переноситься мыслью во времена апостолов, в пору, когда все было еще так свежо и поистине духовно. Братская община имела в себе нечто магически привлекательное именно потому, что она продолжала и как бы увековечивала это первичное состояние. Возникнув в самые ранние времена, она окончательно так никогда и не сложилась, а лишь, как скромное вьющееся растеньице, пробивалась сквозь густую и грубую чащу мира; но вот одинокий его росток под защитой некоего религиозного и значительного человека пустил корни, чтобы, в спою очередь, из неприметного побега разрастись по всему миру. Важнейшим было то, что религиозная жизнь сплеталась здесь в единое и неразрывное целое с жизнью гражданской, что учитель одновременно являлся повелителем, отец — судией. Более того: глава этой общины, которого в делах духовных дарили безусловным доверием, был также призван вершить дела земные; вынесенные им решения в делах, касающихся всех или только отдельных лиц, воспринимались со смирением, как приговор божественной воли. Благодатный покой, на первый взгляд повсюду здесь царивший, был очень привлекателен, хотя, с другой стороны, миссионерская работа требовала напряжения всех сил, заложенных в человеке. Многие из этих высокодостойных людей, которых я узнал на синоде в Мариенборне, куда меня взял с собой советник посольства Мориц, поверенный в делах графа фон Изенбурга, внушили мне глубочайшее уважение, и, пожелай они того, я бы стал их единоверцем. Я изучал их историю, их учение, его истоки и развитие, мог все это изложить и радовался случаю побеседовать со сведущими людьми. Должен, однако, заметить: сии братья, так же как фрейлейн фон Клеттенберг, не желали считать меня христианином, что поначалу меня тревожило, а потом несколько остудило мой пыл. Долго я не мог взять в толк, в чем, собственно, состоит различие между ними и мною, хотя оно лежало более или менее на поверхности, покуда все не уяснилось мне скорее случайно, чем в результате моих размышлений. От общинных братьев, так же как от прочих достойных христианских душ, меня отличало то, что уже неоднократно приводило к расколу церкви. Одна часть верующих утверждала, что человек до мозга костей испорчен грехопадением и ни одной капли доброго начала в нем уже не осталось, а потому он не вправе полагаться на свои собственные силы, а только на благодать господню и ее воздействие. Другие, правда, охотно признавали наследственные пороки человека, но все же не отрицали наличия во внутренней его природе ростка, который, ежели его осенит благодать, сможет вырасти в радостное древо духовного блаженства. Последнего убеждения искренне придерживался и я, сам того не сознавая, хотя письменно и устно ратовал за противоположное; впрочем, все это представлялось мне настолько смутно, что, по существу, я ни разу не поставил перед собою подобной дилеммы. Из этого тумана я нежданно-негаданно оказался вырванным, когда однажды в разговоре о религии простодушно высказал свое, как мне казалось, весьма невинное мнение и должен был выслушать длинную и суровую отповедь. Это-де чистое пелагианство, возражали мне, гибельное учение, на беду вновь распространившееся в наше время. Меня это удивило, даже испугало. Я опять с головой ушел в историю церкви, заново перечитал житие Пелагия, ближе познакомился с его учением и уразумел, что в течение многих столетий верх одерживала то одна, то другая из двух несоединимых доктрин, ибо люди воспринимали таковые в зависимости от своего внутреннего склада — деятельного или, напротив, пассивного.
В последние годы я ощущал потребность в беспрестанном упражнении своих сил, неутомимая энергия заодно с волей к нравственному самоусовершенствованию побуждала меня к действию. Внешний мир требовал, чтобы эта энергия была отрегулирована я направлена на пользу другим, и я был обязан соответственно переработать в себе его великое требование. Все вокруг указывало мне на природу, природа являлась мне во всем своем великолепии, я знал множество хороших, честных людей, которые, не щадя себя, выполняли свой долг просто из чувства долга; отречься от них, а значит, и от себя самого, казалось мне невозможным. Пропасть, отделявшая меня от вышеупомянутого учения, открылась моему взору до самого дна, посему мне надо было порвать с этими людьми, а так как у меня нельзя было отнять любви к Священному писанию, равно как к основателю христианского учения и первым его последователям, то я создал себе религию для личного употребления, стараясь обосновать и укрепить ее прилежным изучением истории и тщательным проникновением в авторов, склонявшихся к моему образу мыслей.
Но так как все, что я воспринимал с любовью, немедленно отливалось в поэтическую форму, то мне пришла на ум занятная мысль эпически обработать историю Вечного Жида, которая запомнилась мне еще с детства по народным книгам, и, следуя за этой путеводной нитью, изобразить выбранные по моему усмотрению наиболее значительные моменты из истории религии и церкви. Сейчас я расскажу, как сложилась у меня фабула этой вещи и какой смысл я в нее вложил.
В Иерусалиме жил башмачник, которому легенда присвоила имя Агасфера. Основные черты для его характера я позаимствовал у своего дрезденского башмачника. Щедрой рукою я придал ему ум и юмор еще одного башмачника, Ганса Сакса, и облагородил его любовью к Христу. Мастерская у Агасфера была под открытым небом, и он любил вступать в разговор с прохожими, поддразнивать их и, подобно Сократу, каждого умел вовлечь в беседу; соседи и другие простолюдины охотно вкруг него собирались, иной раз наведывались фарисеи и саддукеи, возможно, что и Спаситель со своими учениками останавливался поговорить с ним. Башмачник, помышлявший только о житейском, все же проникся особой любовью к господу нашему Иисусу Христу, и любовь эта выразилась в том, что он старался приобщить великого мужа, помыслы которого оставались ему темны, к своему пониманию жизни. Посему он настойчиво уговаривал Христа выйти наконец из созерцательного состояния, не бродить по стране со всякими бездельниками, не соблазнять народ тоже предаваться безделью, не увлекать его за собой в пустыню. Толпа всегда, мол, пребывает в возбуждении, и ничего доброго это сулить не может.
Иисус Христос, со своей стороны, пытался иносказаниями поучать его своим высоким воззрениям и целям, но на упрямца никакие увещания не действовали. Когда же Христос мало-помалу сделался известен всей стране, доброжелатель-башмачник стал еще пуще его донимать: если-де так будет продолжаться, непременно возникнут беспорядки и мятежи, да и сам Христос волей-неволей станет во главе партии, что, конечно же, не входит в его намерения. Когда события принимают всем известный оборот, Христос схвачен и приговорен, Агасфер вне себя от волнения, но его волнение еще возрастает, после того как Иуда, по-видимому, предавший Спасителя, в полном отчаянии является к нему в мастерскую и, плача, рассказывает о злосчастном исходе своего замысла. Дело в том, что он, Иуда, как и другие из умнейших апостолов Христа, был твердо убежден, что Христос объявит себя правителем и главой народа, и решил силою сломить доселе непреодолимую нерешительность Спасителя, принудить его к действию; с этой целью он и побудил священников к применению грубой силы, на что они до сей поры не отваживались. Апостолы тоже были не безоружны, и все бы, наверно, обошлось, если бы Христос сам не предал себя в руки врагов, оставив своих присных в печальнейшем положении. Агасфер, которого этот рассказ отнюдь не настроил на кроткий лад, еще усугубил горе бедняги экс-апостола, и тому только и осталось, что второпях повеситься.
Когда Иисуса ведут на казнь мимо мастерской башмачника, разыгрывается пресловутая сцена: страдалец падает под бременем креста, и далее крест вынужден нести Симон из Кирены. Агасфер, этот упорный разумник, выходит из толпы зевак и, видя, что кто-то несчастен по собственной вине, не только не испытывает сострадания, но в порыве неуместной справедливости упреками усугубляет беду. Он азартно повторяет прежние свои увещания, они становятся грозными обвинениями, на которые, как ему кажется, он имеет право благодаря своей любви к страстотерпцу. Спаситель не отвечает, но в это мгновение любящая Вероника накидывает плат на его лицо, когда же она его снимает и держит в высоко поднятых руках, Агасфер видит на нем лик Спасителя, но не мученический лик того, кто страждет здесь, рядом, а дивно просветленный и причастившийся славе небесной. Ослепленный этим видением, Агасфер отводит взор и слышит: «Ты будешь странствовать по земле, покуда вновь не узришь меня в этом образе». Пораженный, он лишь через некоторое время приходит в себя и видит, что улицы Иерусалима пустынны, ибо весь народ устремился к месту казни. Тревога и тоска гонять его прочь, и он начинает свое странствие.
Об этом, так же как и о событии, которым заканчивается поэма, хотя оно отнюдь не завершает ее, я, пожалуй, скажу в другой раз. Начало, отдельные сцены и конец были написаны, но мне недоставало сосредоточенности, недоставало времени на изучение материала, необходимого, чтобы вложить в поэму содержание, мною задуманное, и эти немногие листки остались лежать еще и потому, что для меня началась тогда новая эпоха, которая неизбежно должна была начаться, еще когда я писал «Вертера» и затем видел действие, им произведенное.
Обычная людская участь, выпадающая на долю каждого из нас, наиболее тяжким бременем ложится на тех, чьи умственные силы получили более раннее и более широкое развитие. Пусть мы вырастаем под покровительством родителей и близких, пусть служат нам опорой братья, сестры и друзья, пусть развлекают нас знакомые и дарят счастье те, кого мы любим, в конце концов человеку все же остается рассчитывать лишь на свои силы, ведь даже бог так поставил себя по отношению к человеку, что не всегда в трудный час может ответить на его благоговение, доверие и любовь. Я уже с ранних лет по опыту узнал, что в миг жгучей нужды нам говорят: «Врачу, исцелися сам!» Не раз приходилось мне с глубоким вздохом восклицать: «Я топтал точило один!» И вот, намереваясь утвердить свою самостоятельность, я понял, что наинадежнейшей ее базой может стать мой творящий талант. За последние годы он ни на мгновенье не изменял мне; впечатления дня ночью нередко превращались в стройные сновидения, а едва только я открывал глаза, как мне являлось либо новое и причудливое целое, либо часть чего-то уже существующего. Обычно я писал ранним утром, но и вечером, даже глубокой ночью, когда силы мои были возбуждены вином или веселой компанией, с меня можно было спросить что угодно; найдись лишь мало-мальски стоящий повод, за иной бы дело не стало. Поразмыслив над таким даром природы, я решил, что он — моя полная, неотъемлемая собственность, и ничто постороннее не может ни поощрить его, ни ему помешать, — иными словами, я мысленно уже основывал на нем всю свою жизнь. Это представление мало-помалу воплотилось в образ: мне вспомнилась древняя мифологическая фигура Прометея, который, отъединясь и отпав от богов, населил весь мир людским племенем, сотворенным его руками. Я теперь ясно чувствовал, что создать нечто значительное можно только вдали от общества. Мои произведения, пользовавшиеся столь большим успехом, были плодами одиночества, а с тех пор как мои связи с миром стали широкими и разнообразными, у меня хоть и не было недостатка в творческой силе и до вымысла я был охоч по-прежнему, но с выполнением дело обстояло сложнее, так как ни в прозе, ни в стихах я не выработал собственного стиля и, садясь за новую работу, в зависимости от ее содержания, всякий раз вынужден был пробираться ощупью и пробовать то одно, то другое. А так как при этом я решил отклонять, более того — исключать чью бы то ни было помощь, то, наподобие Прометея, также отдалился от богов, и это далось мне тем естественнее, что при моем характере и образе мыслей одно умонастроение вытесняло и отталкивало все другие.
Миф о Прометее ожил во мне. Старое одеяние титана я перекроил на свой рост и без дальнейших размышлений принялся писать пьесу о разладе Прометея с Зевсом и прочими новыми богами, возникшем из-за того, что Прометей собственноручно создавал людей, при содействии Минервы оживлял их и, наконец, основал третью династию. У правящих в ту пору богов были веские причины гневаться на него, ведь выходило, что они некие неправомочные существа, всунутые между титанами и людьми. В эту причудливую композицию в качестве монолога вошло стихотворение, которому суждено было сыграть значительную роль в немецкой литературе, потому что оно дало Лессингу повод высказаться в беседе с Якоби о важнейших пунктах мышления и чувствования. Это явилось искрой для взрыва, обнажившего самые потайные отношения между достойнейшими людьми, отношения, ими даже не осознанные, но все же дремавшие в этом высокопросвещенном обществе. Трещина оказалась столь глубокой, что из-за нее и ряда последовавших засим случайностей мы потеряли одного из достойнейших наших мужей — Мендельсона.
Хотя этот предмет требует скорее философской или даже религиозной трактовки, да так его и трактовали, по сути своей он всецело принадлежит поэзии. Титаны — обратная сторона политеизма, так же как черт — монотеизма; но черт, равно как и единый бог, которому он противостоит, — фигура не поэтическая. Сатана Мильтона, предерзостно им изображенный, всегда остается внакладе из-за подчиненности своего положения: ведь он тщится только разрушить дивное творение верховного существа. Прометей же, напротив, в выигрыше, ибо он формует и творит назло небожителям. Прекрасная, истинно поэтическая мысль — сотворение людского племени не вседержителем, но титаном, отпрыском старейшей династии и потому достойным сего великого деяния. Так греческая мифология являет нам неисчерпаемое богатство символов божественных и человеческих.
Тем не менее эта титанически гигантская, богоборческая идея не была подходящим материалом для моего поэтического дара. Мне скорей бы далось изображение мирного, пластического и долготерпеливого сопротивления, которое хоть и признает верховное начало, но стремится поставить себя с ним наравне. Правда, и смельчаки из этой породы: Тантал, Иксион, Сизиф — были для меня святы. Сотрапезники богов, они были недостаточно смиренны и как предерзостные гости навлекли на себя гнев божественного хозяина и печальное изгнание. Я сострадал им, трагизм их участи признавался еще в древнем мире, и я знаю, что, выведя их в качестве представителей величайшей из оппозиций на заднем плане моей «Ифигении», я им обязан значительной частью того успеха, который выпал на долю этой пьесы.
Но в те времена поэзия и изобразительное искусство для меня были неразрывны. Я рисовал портреты своих друзей в профиль на серой бумаге белым и черным мелком. Диктуя или слушая, как мне читают, я старался запечатлеть характерные позы пишущего или читающего, а также все, что его окружало; сходство было очевидным, и мои рисунки неизменно встречали хороший прием. Это преимущество всегда остается за дилетантами: они ведь отдают свою работу задаром. Чувствуя, однако, все несовершенство такого портретирования, я снова обратился к языку и ритму, которые давались мне легче. О том, как бодро, радостно и живо взялся я за дело, свидетельствуют многие стихотворения во славу искусства природы и природы искусства, с самого момента своего возникновения они вселяли мужество в меня и моих друзей.
Когда однажды, с головой уйдя в работу, я сидел в своей комнате, которая была похожа на мастерскую художника, к тому же весьма плодовитого, благодаря отраженному свету и развешанным и приколотым на стенах незаконченным картинам, ко мне вдруг вошел статный и стройный человек, которого я в полумраке сначала принял за Фрица Якоби, но, тотчас же поняв свою ошибку, приветствовал как незнакомца. Несмотря на свободное и приятное обхождение, в нем чувствовалась военная выправка. Он назвал себя: фон Кнебель. После того как мы обменялись несколькими безразличными словами, я узнал, что он, находясь на прусской службе и прожив довольно долгое время в Берлине и Потсдаме, завязал дружеские отношения с тамошними литераторами, более того — с немецкой литературой вообще. Всего ближе он сошелся с Рамлером и даже перенял его манеру читать стихи. Ему было знакомо и все написанное Гетцем, в те годы еще не пользовавшимся известностью среди немцев. По его настойчивым представлениям, в Потсдаме был напечатан «Девичий остров» этого поэта, позднее попавший в руки короля, который благосклонно о нем отозвался.
Едва мы успели в общих чертах обсудить наиболее острые проблемы немецкой литературы, как я, к большому своему удовольствию, узнал, что фон Кнебель в настоящее время служит в Веймаре воспитателем принца Константина. До меня уже доходили благоприятнейшие вести о веймарской жизни. Многие из побывавших в Веймаре приезжали к нам; они были живыми свидетелями того, что герцогиня Амалия для воспитания своих сыновей избирает людей наиболее достойных, что Йенский университет через лучших своих профессоров тоже содействует этой благородной цели, что вышепоименованная государыня не только покровительствует искусствам, но сама ревностно и успешно занимается ими. Дошел до нас слух и о том, что Виланд пользуется особой милостью двора, а «Немецкий Меркурий», печатающий работы ученых из разных земель, немало приумножает славу города, в котором он издается. Там находится один из лучших немецких театров, знаменитый не только своими актерами, но и авторами, работающими для него. Увы, всем этим прекрасным учреждениям и начинаниям теперь грозила если не опасность, то долгий застой из-за страшного пожара, уничтожившего дворец в мае этого года. Однако веймарцы верили в своего наследного принца и были убеждены, что не только эта беда будет исправлена, но, несмотря на нее, и все другие их упования сбудутся в недалеком времени. Когда я, почти как старый знакомый, стал расспрашивать Кнебеля о всех этих лицах и учреждениях и потом сказал, что хотел бы поближе ознакомиться с тамошними обстоятельствами, мой гость любезно ответил, что ничего не может быть легче, так как наследный принц со своим братом, принцем Константином, только что прибыли во Франкфурт и желают меня видеть. Я тут же заявил о готовности засвидетельствовать им свое почтение, и мой новый друг заметил, что это надо сделать незамедлительно, так как пребывание принцев во Франкфурте рассчитано на краткий срок. Чтобы поскорей приготовиться к визиту, я свел его вниз к своим родителям; удивленные его прибытием и поручением, на него возложенным, они с удовольствием вступили с ним в беседу. Затем я поспешил вместе с ним к молодым принцам, которые приняли меня весьма непринужденно и дружелюбно; граф Гёрц, воспитатель наследного принца, кажется, тоже рад был со мною познакомиться. Разговор тотчас же зашел на литературные темы, и случай дал ему благоприятный оборот, так что вскоре он сделался значительным и плодотворным.
Дело в том, что на столе лежали «Патриотические фантазии» Мёзера, вернее — их первая часть, только что сброшюрованная и еще не разрезанная. Мне эти «Фантазии» были хорошо известны, остальные же их почти не знали; воспользовавшись своим преимуществом, я сделал подробную о них реляцию, что послужило отличным поводом для беседы с молодым герцогом, твердо решившим творить добро на своем высоком посту. Эта вещь Мёзера как по содержанию, так и по своей направленности не может не представлять величайшего интереса для каждого немца. Если Германской империи ставили в упрек раздробленность, анархию и бессилие, то с точки зрения Мёзера множество мелких государств как нельзя лучше способствовало распространению и развитию культуры в соответствии с географическим положением и прочими особенностями отдельных земель. Мёзер, взяв за основу город и епископат Оснабрюк и далее включив в сферу своих наблюдений Вестфальский округ, сумел не только отобразить их взаимосвязь со всей империей, но, рассматривая их положение, увязать прошлое с настоящим, вывести одно из другого и таким образом убедительно показать читателю, какое из нововведений достойно похвалы и какое — порицания. Это давало возможность любому правителю применить теории Мёзера к своей местности и, основательно изучив политическую ситуацию своего государства, а также его связи с соседями и с империей в целом, составить себе наилучшее суждение о настоящем и будущем такового.
Далее разговор зашел о различии между верхне- и нижнесаксонскими государствами, где и натуральные продукты, и нравы, и обычаи, и законы с давних времен носили самый разный характер, видоизменяясь в зависимости от формы правления и религии. Мы пытались поточнее разобраться в существующих различиях, при этом выявилось, сколь важно иметь перед глазами достойный образец, который, если не вникать в частности, а обращать внимание лишь на метод, положенный в его основу, может быть применен к самым разнообразным случаям и потому чрезвычайно плодотворен для выработки собственного суждения.
За столом мы продолжали этот разговор, и похоже, что у моих хозяев сложилось обо мне даже лучшее мнение, чем я заслуживал. Вместо того чтобы стараться свести беседу к работам, которые мне удалось осуществить, и привлечь нераздельное внимание к роману и пьесе, я, в лице Мёзера, казалось, отдал предпочтение тем писателям, чей талант, исходя из практической жизни, тут же благотворно на нее воздействует, тогда как собственно поэтические творения, парящие над областью нравственного и чувственного, лишь косвенно и как бы случайно приносят нам пользу. В этой застольной беседе, как в «Тысяче и одной ночи», одна значительная тема вдруг вплеталась в другую и брала верх над нею, а другая, едва зазвучав, растворялась в небытии. Проследить за ней уже было невозможно. Итак, поскольку пребывание принцев во Франкфурте было кратковременным, с меня взяли слово, что я буду сопровождать их до Майнца и там проведу несколько дней. Я охотно принял это предложение и поспешил домой поделиться радостной вестью с родителями.
Моему отцу она, однако, пришлась не по вкусу. Неуклонно следуя своим убеждениям имперского бюргера, он всегда сторонился сильных мира сего, и несмотря на то, что ему приходилось поддерживать деловые связи с управляющими соседних князей и помещиков, с их патронами он ни в какие личные отношения не вступал. Напротив, придворная жизнь всегда давала ему материал для насмешек, хотя он даже любил, чтобы ему воззражали, требуя лишь, чтобы возражения были остроумные и меткие. Мы не оспаривали его «Procul a Jove procul a fulmine»[40], но уверяли, что важно, не откуда бьет молния, а куда она бьет, он же в ответ приводил старинную пословицу: «С господами не ешь вишен, не то косточками закидают». Мы возражали: «Еще того хуже есть из одной корзины со сладкоежками». Отец этого не отрицал, но и тут не лез в карман за пословицей, долженствующей поставить нас в тупик. Пословицы и поговорки исходят, как известно, от народа, — будучи подневольным, он, по крайней мере, не хочет держать язык за зубами, — тогда как в высших слоях общества себя тешат не разговорами, а делами. И далее, поскольку чуть ли не вся поэзия XVI столетия проникнута довольно крутой дидактикой, то в нашем языке нет недостатка в серьезных и шутливых речениях, нацеленных, так сказать, снизу вверх. Но мы, молодежь, упражнялись в обратном и, невесть что вообразив о себе, принимали сторону высших и метили уже сверху вниз. Здесь я приведу несколько таких опровергающих друг друга речений.
А.
Не все ль равно, что двор, что ад!
Б.
Там греется много славных ребят!
А.
Себе хозяин я сполна,
Ничья мне милость не нужна.
Б.
А разве милость так обидна:
Коль сам даешь, так брать не стыдно.
А.
Ведь при дворе житье — могила:
Не смей чесать, где укусило!
Б.
Оратор всяк народу брешет,
Где не кусало, там он чешет.
А.
Кто рабство выбрал, тот пропал,
Полжизни даром потерял.
Так будь что будет — он считает,
И весь остаток в трубу вылетает.
Б.
Кто действует князьям в угоду,
Тот процветает год от году.
Кто сделал ставку на народ —
Зачахнет ровно через год.
А.
Коль рожь на поле поднялась,
Смотри: беда бы не стряслась.
Начнешь доходы считать до жнитва —
Пропала, брат, твоя голова.
Б.
Коль рожь цветет, то и нальется,
Уж так от старины ведется;
А если град ее побьет,
Другая через год взойдет.
А.
Хочешь дома быть царем —
Не пускай чужого в дом.
Детей воспитывай с женою,
Расти отменный виноград —
И много обретешь отрад
Такою скромною ценою.
Б.
Тебе хозяин невтерпеж —
Глупец, куда ж ты удерешь?
Оставь напрасные потуги!
Ведь ты — на поводу супруги,
А та боится сыновей —
Вот ты и раб семьи своей.
Когда я сейчас по старым памятным запискам собирал эти стишки, мне в руки попались и другие наши веселые упражнения в том же роде: к любой старинной немецкой поговорке мы придумывали свою, утверждавшую обратное, но не менее справедливую. Небольшая подборка этих поговорок могла бы со временем, в качестве веселого эпилога кукольной комедии, заставить зрителей пораскинуть мозгами.
Но все эти возражения не могли изменить взглядов отца. Сильнейший свой аргумент он обычно приберегал к концу разговора и тогда начинал яркими красками расписывать историю о Вольтере и Фридрихе Великом: как от непомерных милостей, фамильярности, взаимных любезностей в один прекрасный день не осталось и следа, и все мы стали зрителями удивительнейшего спектакля — великий поэт и писатель по ходатайству резидента Фрейтага и согласно приказу бургомистра Фихарда был арестован солдатами вольного города Франкфурта и некоторое время содержался под стражей в гостинице «Роза» на Цейле. На это многое можно было бы возразить, в частности, что Вольтер и сам тут был не без греха, но из почтительности к старшему мы каждый раз признавали себя побежденными.
Поскольку и в данном случае были выдвинуты те же самые аргументы, я знал, как поступить. В конце концов отец стал уже напрямки предостерегать меня, уверяя, что приглашение сделано лишь для того, чтобы заманить меня в ловушку и отомстить за мою выходку против осыпанного милостями Виланда. Как ни был я убежден в противном, как ни ясно я видел, что этот достойный человек напуган давним своим предубеждением и своей ипохондрической фантазией, я не хотел идти ему наперекор, но, с другой стороны, не мог сыскать предлога, который позволил бы мне, не выказав себя неучтивым и неблагодарным, взять назад свое обещание. На беду, флейлейн фон Клеттенберг, к которой мы всегда прибегали в подобных запутанных случаях, была больна и не поднималась с постели. Она и моя мать всегда были верными моими союзницами, и я прозвал их «Совет да Любовь». Первая светло и проникновенно взирала на земные дела, и для нее легко распутывалось то, что нам, простым смертным, казалось безнадежно запутанным: как правило, она умела указать верный путь именно потому, что смотрела сверху на лабиринт и сама не блуждала в нем. Но если решение уже было принято, мне можно было во всем положиться на готовность и энергию матери. Так же, как ее подруге прозорливость, — ей на помощь приходила вера, и поскольку веселие души никогда ей не изменяло, она умела изыскивать средства для осуществления желаемого и намеченного. Я и на этот раз упросил ее отправиться к больной подруге за советом и поучением, и, поскольку та высказалась в мою пользу, матери оставалось лишь добиться согласия отца, который в конце концов уступил ей, правда, скрепя сердце.
Итак, холодным зимним днем в условленный час я прибыл в Майнц, где меня радушно встретили молодые принцы и сопутствующие им кавалеры. Нам вспомнилась наша франкфуртская беседа, мы стали договаривать недоговоренное, а когда речь зашла о новейшей немецкой литературе и дерзких выступлениях некоторых литераторов, естественно, был упомянут и пресловутый фарс «Боги, герои и Виланд», причем я сразу же с радостью отметил, что все к нему относятся весело и просто. Меня, понятно, заставили рассказать, как, собственно, возникла эта шутка, привлекшая к себе столь большое внимание, и я волей-неволей должен был признаться, что мы, истые жители Верхнерейнской области, не знаем меры в своих симпатиях и антипатиях. На Шекспира у нас молятся. Виланд же, при его решительной склонности охлаждать восторги, да и вообще портить игру себе и читателям, в примечаниях к своему переводу из Шекспира за многое хулил великого писателя, и притом в словах, очень нас рассердивших, не говоря о том, что эта хула в наших глазах умаляла достоинства его работы. С тех пор Виланд, высоко почитаемый нами поэт и переводчик, которому мы столь многим были обязаны, стал считаться у нас капризным, односторонним и предвзятым критиком. Ко всему, он еще ополчился на наших кумиров, греков, и этим пуще разжег нашу неприязнь. Известно ведь, что греческим богам и героям присущи не столько нравственные, сколько просветленные физические свойства, отчего они и служат великолепнейшими прообразами для художников. Виланд же в своей «Альцесте» придал героям и полубогам вполне современный характер, и против этого ничего нельзя было бы возразить, ибо каждый волен приноравливать поэтическое наследие к своим целям, к своему образу мыслей, однако в письмах по поводу этой оперы, опубликованных им в «Меркурии», он, по нашему мнению, слишком пристрастно превозносил такую трактовку и, не желая признавать грубоватую здоровую естественность, лежавшую в основе древних произведений, безответственно погрешил против превосходного стиля их авторов. Не успели мы с горячностью обсудить в нашем маленьком кружке обвинения, нами же ему предъявленные, как уже привычная страсть все драматизировать вновь напала на меня, и в воскресный вечер за бутылкой доброго бургундского вина я в один присест написал эту пьеску от начала до конца. Мои приятели, при сем присутствовавшие, пришли от нее в неописуемый восторг, и я тотчас же отослал рукопись Ленцу в Страсбург, который, в свою очередь, видимо, ею восхитился и заявил, что надо немедленно ее печатать. После недолгой переписки я дал свое согласие, и он поспешил отдать ее типографщику. Лишь много позднее я узнал, что это был первый его шаг во вред мне, первая попытка очернить меня в глазах читающей публики, но в то время мне это даже в голову не приходило.
Так простодушно и обстоятельно поведал я новым своим покровителям о невинном происхождении этой пьесы и, желая вполне убедить их, что ни о какой злонамеренности здесь и речи не было, рассказал им еще об укоренившейся в нашем кружке манере весело и дерзко друг над другом подтрунивать и подсмеиваться. Мои собеседники от души веселились и восторгались тем, что мы не давали друг другу почить на лаврах. По этому поводу они вспомнили обычаи флибустьеров, которые так страшились изнеженности, что в часы затишья после грабежей и кровопролитных схваток их предводитель разряжал пистолет под пиршественным столом, дабы и в мирное время они не забывали о боли и ранах. Мы так и эдак прикидывали злополучную историю с Виландом, и под конец мне посоветовали написать ему дружественное письмо, я же с тем большим удовольствием воспользовался представившимся случаем, что Виланд в «Меркурии» весьма либерально отозвался о моей мальчишеской выходке и, как всегда это делал, умело и остроумно положил конец литературной междоусобице.
Немногие дни моего пребывания в Майнце протекали приятнейшим образом. Когда мои новые покровители отправлялись с визитами или на парадные обеды, я оставался со свитскими, писал портреты или катался на коньках по замерзшим крепостным рвам. Переполненный всем тем добрым, что мне встретилось в этой поездке, я вернулся домой с намерением в подробном рассказе излить свою душу, но меня встретили растерянные, огорченные лица: скончалась наша подруга, фрейлейн фон Клеттенберг. Я был потрясен, ибо в настоящем моем положении нуждался в ней более, чем когда-либо. Меня успокаивали, заверяя, что ее святую жизнь завершила благочестивая кончина и что ясность этой верующей души не омрачилась до смертного часа. Но еще и другое препятствие встало на пути моего откровенного рассказа о днях в Майнце. Отец, вместо того чтобы радоваться счастливому исходу этой маленькой авантюры, упорно стоял на своем и твердил, что все это со стороны веймарцев сплошное притворство и что мне надо держать ухо востро, как бы не воспоследовало чего-нибудь похуже. Итак, мне осталось рассказывать о Майнце только своим молодым друзьям, и тут уж я не поскупился на подробности. Но вышло так, что их дружеские чувства и самые добрые намерения привели к весьма нежелательным последствиям: вскоре появился памфлет «Прометей и его рецензенты», тоже в драматической форме. В нем автору вздумалось проставлять в диалогах вместо имен действующих лиц маленькие фигурки, гравированные на дереве, клеймя этими сатирическими изображениями тех критиков, которые высказывались в печати о моих работах и обо всем, что имело отношение к таковым. Здесь Альтонский почтальон без головы трубил в свой рог, сидя на лошади, там рычал медведь, здесь гоготал гусь, Меркурий тоже не был забыт; эти дикие и ручные твари, вторгшиеся в мастерскую скульптора, тщились сбить его с толку, но он не слишком-то обращал на них внимание и ретиво продолжал свою работу, отнюдь не скрывая того, что он задумал. Эта нежданно-негаданно всплывшая шутка больше всего поразила меня тем, что, судя по стилю и тону, несомненно, должна была принадлежать кому-нибудь из нашего кружка, более того — пьеску вполне можно было принять за мое собственное произведение. Но всего неприятнее было то, что Прометей сделал достоянием гласности кое-что, относившееся к моему пребыванию в Майнце и к тамошним разговорам, иными словами — то, что мог знать только я один. Это меня убедило, что автор принадлежит к самому близкому мне кругу и собственными ушами слышал мои пространные рассказы о событиях и приключениях в Майнце. Каждый из нас пристально вглядывался в другого, и каждый подозревал всех остальных; неведомый автор, как видно, сумел хорошо замаскироваться. Я ругал его на чем свет стоит, очень уж мне было досадно после столь милостивого приема и столь серьезных бесед, после моего доверительного письма Виланду снова подать повод к недоверию и нажить себе новые неприятности. Впрочем, неизвестность длилась недолго: однажды, когда я, расхаживая из угла в угол по своей комнате, вслух читал эту книжонку, мне вдруг послышался в ее оборотах и в самом ходе мысли голос Вагнера. Так оно и было. Я тотчас же ринулся к матери — сообщить ей о своем открытии, но она призналась, что ей уже все известно. Автор, испугавшись злополучного успеха своего, как он полагал, доброго и похвального намерения, открылся ей, чтобы просить о заступничестве, если я и впрямь вздумаю исполнить угрозу, которая сорвалась у меня с языка: прекратить всякое общение с человеком, злоупотребившим моим доверием. Ему на пользу пошло то, что я сам это обнаружил и, испытывая приятное чувство, всегда сопровождающее подтвердившуюся догадку, был расположен к примирению. Словом, грех послужил доказательством моего чутья и уже потому заслуживал прощенья. Между тем публику не так-то легко было убедить, что я не приложил руки к этому делу и что автор пьесы Вагнер. Все считали, что ему не по плечу такая разносторонность, и никто почему-то не подумал, что все в течение долгого времени бывшее предметом обсуждения и шуток в острой на язык компании он мог подметить, усвоить и затем в общепринятой манере преподнести читателю, не будучи даже особенно одаренным человеком. Так мне пришлось сейчас и еще чаще приходилось впоследствии расплачиваться не только за собственные глупости, но и за легкомыслие и чрезмерную торопливость моих друзей.
Совпадение различных обстоятельств заставляет меня вспомнить здесь еще о некоторых весьма значительных людях, которые в разное время проездом бывали во Франкфурте и пользовались широким гостеприимством в нашем доме или даже у нас останавливались. Первым я, по справедливости, опять упомяну Клопштока. Я уже довольно долго состоял с ним в переписке, когда он известил меня, что собирается ехать в Карлсруэ, куда приглашен на постоянное жительство. Означив точное время своего прибытия во Фридберг, он выразил желание, чтобы я его там встретил. Разумеется, я приехал вовремя, но он случайно задержался в дороге, и я, несколько дней тщетно прождав его, воротился домой. Вскоре и он прибыл к нам, извинился за свою невольную неаккуратность и с удовлетворением отметил мою готовность его встретить. Клопшток был мал ростом, но неплохо сложен, манеры его отличались размеренной серьезностью без всякой чопорности, речь была приятной и определенной. В целом он напоминал дипломата, то есть человека, взявшего на себя тяжкий урок — блюсти свое достоинство и одновременно достоинство того высокого лица, перед коим он обязан отчитываться, блюсти свою выгоду, наряду со значительно более важной выгодой государя, более того — целого государства, и в этом нелегком положении еще быть неизменно приятным для окружающих. Клопшток и вел себя как достойный муж и носитель высоких понятий: религии, нравственности, свободы. Он усвоил и другую повадку светских людей: не скоро начинать разговор, которого нетерпеливо ждут от него. Мы почти никогда не слышали, чтобы он говорил на темы поэтические и литературные. Зато, встретив во мне и в моих друзьях страстных конькобежцев, он пространно беседовал с нами об этом благородном искусстве, о котором много размышлял и даже составил себе теорию, к чему в нем следует стремиться и чего избегать. Но прежде чем удостоить нас благосклонного наставления, он сделал нам выговор за самое слово «коньки», неправильно нами употребляемое. Кони тут ни при чем, утверждал Клопшток, речь идет не о езде, а о лёте, паренье на крылатых подошвах; подобно Гомеровым богам, несемся мы на них над хлябью, ставшей твердью. Далее речь зашла о коньках как таковых; он слышать не хотел о высоких и вогнутых, предпочитал им низенькие, широкие, плоско отшлифованные, фрисландские коньки, считая их наиболее пригодными для быстрого бега. Всякое фокусничанье на катке ему претило. По его рекомендации я приобрел такие плоские коньки с длинными носами и много лет на них катался, хотя удобными их никогда не считал. Клопшток знал толк также в искусстве верховой езды, даже сам объезжал лошадей и любил об этом поговорить. Мне думается, он нарочито отводил всякий разговор о своем стихотворстве, чтобы тем свободнее распространяться об искусствах, которыми занимался как любитель. Я мог бы еще многое рассказать и о прочих странностях этого выдающегося человека, если бы те, что дольше жили рядом с ним, уже достаточно нам о них не поведали. Но одно наблюдение я все же не могу не высказать, а именно: что люди, которых судьба наделила из ряда вон выходящими дарованиями, но заставила вращаться в тесном или хотя бы не подобающем им круге, обычно впадают в странности и, не находя прямого приложения своим талантам, выявляют их самым чудаческим образом.
Некоторое время у нас гостил и Циммерман. Этот плотный крупный человек, от природы вспыльчивый и прямолинейный, отлично владея собой как внутренне, так и внешне, производил впечатление искусного светского врача и свободу своему необузданному характеру давал только в своих писаниях и в кругу самых близких ему людей. Беседа его касалась самых разных предметов и всегда была поучительна, и если смотреть сквозь пальцы на его непомерно пылкое отношение к своей особе и к своим заслугам, то трудно было найти человека более интересного в общении. Поскольку меня никогда не оскорбляло то, что называется тщеславием, и я, в свою очередь, позволял себе быть тщеславным, то есть не скрывал того, что радовало меня во мне самом, то нам с ним удалось наилучшим образом столковаться; мы воздавали друг другу должное, хотя и бранили друг друга, а так как он был со мною откровенен и сообщителен, то я за краткий срок многому у него научился.
Теперь, когда я с теплой благодарностью вспоминаю об этом человеке и получше в него вдумываюсь, я даже не решаюсь сказать, что он был тщеславен. Мы, немцы, часто злоупотребляем словом «тщеславный»; в нем ведь заключено понятие пустоты, и по справедливости оно должно служить для обозначения человека, не умеющего скрыть упоения собственным ничтожеством, довольства пустым своим существованием. С Циммерманом дело обстояло как раз наоборот, у него было множество заслуг и не было самодовольства, а тот, кто не радуется в тиши своим природным дарам, кто не видит себе награды лишь в них самих, но ждет и надеется, что другие признают им содеянное и воздадут ему должное, оказывается в пренеприятном положении, ибо хорошо известно, что люди скупы на одобрение и любят не столько хвалить, сколько хулить ближнего.
Тот, кто выступает публично, должен быть к этому готов, иначе его не ждет ничего, кроме огорчений: ведь если даже он и не переоценивает того, что от него исходит, то все же ценит, и ценит безусловно, тогда как прием, который нам оказывают в свете, всегда условен; и еще: к хвалам и одобрениям надо быть восприимчивым не более, чем ко всем прочим радостям. Отнеся все вышесказанное к Циммерману, мы и здесь должны будем признать: чего человек не приносит с собой, того ему и не получить.
Не согласившись с такого рода оправданием, мы тем менее сумеем оправдать остальные прегрешения этого примечательного человека, за которые другим пришлось поплатиться не только счастьем, но и самой жизнью. Я говорю об его отношении к собственным детям. Дочь, сопровождавшая его в путешествии, оставалась у нас, покуда он ездил по окрестностям. На этой шестнадцатилетней девушке, стройной и рослой, лежала печать какой-то безжизненности. Ее правильное лицо было бы даже приятно, промелькни на нем хоть изредка слабый отклик на окружающую жизнь. Но нет, она всегда была недвижна, как статуя, и редко роняла слово-другое, в присутствии же своего отца — никогда. Но, прожив у нас несколько дней без него, она так преобразилась под влиянием близости с моей матерью, женщиной любвеобильной, жизнерадостной и участливой, что решилась открыть ей свое сердце. Она упала к ее ногам, умоляя позволить ей навсегда остаться у нас. Обливаясь слезами, бедняжка заверяла, что готова до конца своей жизни быть служанкой, рабой, лишь бы не возвращаться к отцу, жестокости и тиранства которого и вообразить невозможно. Брат ее от такого обращения сошел с ума, она же все терпеливо сносила, думая, что так или лишь немногим лучше бывает во всех семьях, но теперь, узнав доброе, ровное и непринужденное обохожденье, поняла, что дома у нее — сущий ад. Моя мать с глубокой растроганностью пересказала мне ее излияния, более того — пошла дальше в своем сострадании и довольно недвусмысленно дала мне понять, что с радостью оставила бы девушку у нас в доме, если бы я захотел на ней жениться. «Будь она сиротой, — отвечал я, — об этом еще можно было бы думать, но боже упаси меня от тестя, который зарекомендовал себя таким отцом!» Моя мать еще долго старалась вдохнуть бодрость в бедную девочку, но та от ее стараний становилась только несчастнее. Наконец выход нашелся — ее поместили в пансион. Но, увы, ей не была суждена долгая жизнь.
Я бы не упомянул об этом свойстве, порочащем весьма почтенного человека, если бы оно уже не сделалось достоянием гласности после его смерти, когда многие вспомнили о злосчастной ипохондрии, терзавшей его в последние часы и заставлявшей терзать других. Жестокость к собственным детям также была проявлением этой ипохондрии, частичным безумием, медленным моральным убийством. Безумие заставило его принести в жертву своих детей, под конец оно обратилось против него самого. Но здесь мы обязаны вспомнить, что этот крепкий с виду человек, этот искусный врач, лечивший и вылечивший много больных, в лучшие свои годы страдал от неизлечимого физического недуга. Да, несмотря на видное положение в обществе, славу, почести, высокие должности и богатство, он принужден был вести самую печальную жизнь, и тот, кто захочет ближе узнать о ней из имеющихся печатных материалов, не станет проклинать его, а скорее о нем пожалеет.
Если читатель ждет более подробного рассказа о влиянии, которое оказал на меня этот выдающийся человек, то я должен буду в общих чертах снова упомянуть о тогдашнем времени. Эпоху, в которую мы жили, я бы назвал требовательной, ибо от себя и от других мы требовали того, чего еще никогда не совершал человек. Людям выдающимся, мыслящим и чувствующим в ту пору открылось, что собственное непосредственное наблюдение природы и основанные на этом действия — лучшее из всего, что может себе пожелать человек, и притом сравнительно легко достижимо. Опыт — вот что сделалось всеобщим лозунгом, и каждый теперь силился пошире открывать глаза. Но, пожалуй, в первую очередь на этом лозунге настаивали врачи, да и возможностей действовать в соответствии с таковым они имели больше, чем другие. До них из глубокой древности доходило сияние светила, отождествлявшего собою все, к чему следует стремиться. Сочинения, приписываемые Гиппократу, давали нам образец того, как должно смотреть на мир и как, оставаясь сторонним наблюдателем, передавать увиденное другими поколениям. Но при этом никто не подумал, что мы не можем видеть, как греки, и никогда в жизни не будем петь, ваять и лечить, как они. Если даже допустить, что мы можем у них учиться, то ведь за истекшее время мы приобрели бесконечно большой опыт и не всегда одинаково чистый, не говоря уж о том, что наш опыт часто складывался в зависимости от наших воззрений. Все это надо было узнать, рассмотреть и профильтровать — опять-таки неимоверное требование. Далее, надо было, вглядываясь во все кругом, самому действенно изучать здоровую природу, и притом так, словно она впервые стала объектом изучения и познания, это и был бы единственно возможный и правильный путь. Но поскольку ученость вообще немыслима без всезнайства и педантизма, а практика — без эмпиризма и шарлатанства, то возник грандиозный конфликт, и при этом нам надлежало отличать злоупотребление от употребления и зерну отдавать предпочтение перед скорлупой. Перейдя к выполнению задуманного, все вдруг поняли, что быстро выпутаться из этой путаницы можно, только призвав на помощь гения, который магическим своим даром уладит спор и удовлетворит все требования. Тем временем в дело вмешался еще и разум; отныне все должно было излагаться в логической форме и находить свое выражение в ясных понятиях во имя изничтожения суеверий и устранения всяческих предрассудков. А так как некоторые выдающиеся люди, например, Бургаве и Галлер, и вправду совершили невероятное, то был сделан вывод, что с их учеников и последователей можно требовать еще большего. Пошли разговоры о том, что путь проложен, хотя в земных делах вряд ли стоит говорить о проложенном пути: как вода, вытесненная кораблем, тотчас же смыкается за его кормой, так и заблуждения, на время оттесненные великими мыслителями, искавшими необходимое поле действия, вновь естественно и быстро смыкаются за ними.
Но об этом наш почтенный Циммерман раз и навсегда ничего знать не хотел; не мог он признать, что мир, в сущности говоря, до краев наполнен абсурдным. Нетерпимый до ярости, он набрасывался на все, что полагал неправильным. С кем затевать борьбу: с больничным служителем или Парацельсом, со знахарем или алхимиком — ему было все равно. Всякий раз он рубил с плеча и, изнемогши в схватке, удивлялся, что все головы гидры, которую он, казалось, растоптал ногами, живехоньки и скалятся на него с бесчисленных шей.
Кто прочтет его сочинения, и прежде всего отличную книгу «Об опыте», сумеет достаточно ясно представить себе мои беседы и споры с этим замечательным человеком, которые тем сильнее влияли на меня, что он был на двадцать лет меня старше. Знаменитый врач, он практиковал главным образом в высшем кругу, где ему то и дело приходилось наблюдать испорченность века, сказывавшуюся в изнеженности и чрезмерной тяге к наслаждениям. Итак, его врачебные монологи, равно как и речи философов и моих собратьев поэтов, настойчиво отзывали меня назад к самой природе. Яростного стремления Циммермана исправлять всех и вся я полностью разделить не мог. Расставшись с ним, я быстро возвратился к диковинному своему ремеслу, стараясь не перенапрягать отпущенные мне природою способности и в веселой борьбе со всем, что мне было не по душе, оставить за собою известную свободу действия, не заботясь о том, многого ли я добьюсь и куда заведут меня мои поиски.
Фон Салис, основавший в Маршлинсе большой пансион, тоже гащивал у нас. Этот серьезный, рассудительный человек в глубине души, вероятно, немало дивился распущенно-сумасбродному образу жизни нашей маленькой компании. Те же впечатления, по-видимому, вынес и Зульцер, по пути в Южную Францию ненадолго к нам заглянувший; об этом до известной степени свидетельствует то место в его путевых записках, где он упоминает обо мне.
Эти столь же интересные, сколь и приятные посещения перемежались, однако, такими, которых лучше бы и вовсе не было. Многие бессовестные и бесстыдные искатели приключений обращались к доверчивому юноше, подкрепляя свои настойчивые домогательства ссылкой на действительное или мнимое родство и трудные обстоятельства. Они брали у меня взаймы деньги, таким образом вынуждая меня, в свою очередь, прибегать к займам и нередко оказываться в пренеприятном положении перед моими отзывчивыми и зажиточными друзьями. Если я иной раз готов был послать ко всем чертям этих назойливых посетителей, то отец мой чувствовал себя почти как ученик чародея, который хотел, чтобы дом был чисто вымыт, но ужаснулся, когда вода, взбежав на крыльцо, неудержимо хлынула через порог. Дело в том, что из-за всех этих наездов и гостеваний выполнение умеренно-разумного плана жизни, придуманного для меня отцом, откладывалось со дня на день, не говоря уж о том, что и самый план со дня на день видоизменялся. На намерении пожить в Регенсбурге и Вене был уже поставлен крест, однако по пути в Италию я должен был проехать через эти города, чтобы получить о них хотя бы самое общее представление. Между тем многие из друзей весьма неодобрительно относились к моему вступлению в деятельную жизнь таким кружным путем и полагали, что мне лучше было бы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, создавшимися сейчас, и подумать о прочном жизненном устройстве в родном городе. Пусть из-за деда, а потом из-за дяди мне нельзя было сделаться членом городского совета, имелось ведь еще немало гражданских должностей, на которые я имел право претендовать, пора-де остепениться и подумать о будущем, в разных агентствах непочатый край работы, можно также устроиться на почетную должность резидента. Я позволял внушать себе эти мысли, не испытав себя и потому не зная, подойдут ли мне занятия и образ жизни, требующие целесообразных действий, главным образом в развлечениях. А теперь ко всем этим предложениям и предположениям присоединилось еще и нежное чувство, до некоторой степени побуждавшее меня стремиться к семейному очагу и к скорейшему жизнеустройству.
Ранее упомянутый круг молодых людей и девиц, если и не возникший по почину моей сестры, то напрочно скрепленный ею, не распался и после ее замужества и отъезда. Все в него входившие привязались друг к другу и не представляли себе, как можно хотя бы один вечер в неделю не провести вместе. Тот чудак-оратор, с которым мы познакомились в шестой книге, испытав различные превратности судьбы, вернулся к нам еще более экстравагантным умником и стал играть роль законодателя в нашем маленьком государстве. В духе прежних своих затей он изобрел нечто новое: нам было предложено каждые восемь дней бросать жребий, но уже для того, чтобы играть роль не просто влюбленных, а как бы доподлинных супругов. Как-де ведут себя влюбленные, нам хорошо известно, но как должны вести себя в обществе муж и жена, мы не знаем, и, входя в возраст, все непременно должны этому научиться. Он тотчас же провозгласил необходимые правила поведения, которые, как известно, состоят в том, что супруги должны делать вид, будто никакого касательства друг к другу не имеют: им нельзя сидеть рядом, нельзя много между собою разговаривать и тем паче нельзя позволять себе какие бы то ни было нежности. При этом необходимо избегать всего, что могло бы привести к взаимным подозрениям и сценам, напротив, величайших похвал удостоится тот, кто сумеет самым непринужденным образом заслужить расположение своей половины.
Жребий был немедленно брошен; мы вдосталь посмеялись над некоторыми курьезными парами, и так, ко всеобщему удовольствию, началась комедия браков, чтобы всякий раз возобновляться по прошествии восьми дней.
По странному стечению обстоятельств, жребий два раза подряд судил мне одну и ту же девицу, премилое создание, которую действительно можно было пожелать себе в жены. Фигура у нее была статная и красивая, лицо приятное, в ее манерах сквозило спокойствие, свидетельствовавшее о здоровье тела и духа. Днем и вечером, в будни и в праздник она была одинакова. О ее домовитости рассказывали чудеса. Молчаливая от природы, она если уж говорила, то всегда разумно и тактично. С такой девушкой нетрудно было обходиться дружелюбно и почтительно; я, как все прочие, и раньше выказывал ей уважение, теперь эта привычка превратилась в мой долг перед обществом. Когда жребий в третий раз соединил нас, наш острый на язык законодатель торжественно заявил: сие есть глас божий, и ничто вас более не разлучит! Мы с ней остались довольны этим приговором и так хорошо играли свои супружеские роли, что могли служить образцом для остальных. А так как согласно нашему установлению все пары, соединенные на данный вечер, должны были говорить друг другу «ты», то мы за несколько недель до такой степени привыкли к этому сердечному обращению, что «ты» запросто соскакивало у нас с языка и при обычных встречах, так сказать — пне игры. Удивительная штука — привычка! Мало-помалу мы оба стали находить это вполне естественным; она делалась мне все дороже, а ее отношение ко мне свидетельствовало о чистом и спокойном доверии, так что, окажись под рукой священник, мы бы и впрямь обвенчались.
На каждом собрании кружка у нас было принято прочитывать что-нибудь новое, и так, однажды вечером, я принес с собою в качестве последней новинки еще не переведенные мемуары Бомарше, направленные против Клавиго. Успех они имели огромный, но были, конечно, высказаны и замечания по существу; после того как мы все их обсудили, моя милая партнерша заметила:
— Будь я твоей повелительницей, а не женой, я бы попросила тебя сделать из этих мемуаров пьесу; мне думается, они отлично для этого подойдут.
— Да будет тебе известно, дорогая, — отвечал я, — что повелительница и жена могут быть соединены в одном лице; посему я обещаю тебе ровно через восемь дней прочитать эту вещь уже в виде пьесы.
Многие подивились моему смелому обещанию, но я не замедлил его исполнить, ибо то, что в подобных случаях зовется вдохновением, тотчас же низошло на меня. Провожая домой мою названую жену, я сделался молчалив, она спросила, что со мной.
— Я обдумываю пьесу, — ответил я, — и уже дошел до середины. Мне хочется, чтобы ты видела, как я спешу угодить тебе. — Она пожала мне руку, в ответ на что я нежно прильнул к ее руке.
— Не выходи из роли, — услышал я. — Люди говорят, что супругам не пристали нежности.
— Пусть их, — отвечал я, — а мы будем поступать, как нам заблагорассудится.
Прежде чем я пришел домой, правда, сделав немалый крюк, пьеса была уже почти целиком обдумана, но чтобы это не прозвучало слишком пышно, замечу, что при первом, не говоря уж о повторном чтении, сюжет мемуаров представился мне в драматической, даже театрализованной форме. Впрочем, если бы не побуждение, о котором я сказал выше, этот замысел, как и множество других, остался бы неосуществленным. Что у меня из этого получилось, достаточно известно. Наскучив злодеями, которые из мести, из ненависти или из каких-либо меркантильных побуждений вступают в борьбу с благородным героем и губят его, я хотел, чтобы в Карлосе здравый смысл, сочетаясь с истинной дружбой, ополчился на страсть, на чувство и на гнет взятых на себя обязательств, чтобы хоть однажды трагедия получила и такую мотивировку. Окрыленный примером нашего праотца Шекспира, я, ни минуты не колеблясь, дословно перевел главную сцену, точно воспроизвел драматическое развитие, концовку же взял из английской баллады; таким образом, пьеса была готова еще до наступления пятницы. Я думаю, мне поверят, что в чтении она произвела наилучшее впечатление. Моя супруга и повелительница была счастлива. Нам обоим казалось, что сей духовный плод еще теснее скрепил и упрочил наш союз.
Но Мефистофель-Мерк в связи с этой пьесой впервые подал мне негодный совет. Когда я ему ее прочитал, он воскликнул: «Не смей больше писать такую дребедень, предоставь это другим». Как-никак он был неправ. Не может же все быть лучше лучшего и превышать однажды достигнутый уровень; невелика беда, если что-нибудь и угождает разумению вполне заурядному. Напиши я тогда дюжину подобных пьес, что при некотором поощрении далось бы мне без труда, то три или четыре из них, возможно, удержались бы на сцене. А любая понимающая театральная дирекция подтвердит, сколь это ценно.
Благодаря этой и другим остроумным шуткам наша игра в супружество стала притчей во языцех если не всего города, то целого ряда семейств, кстати сказать приятно ласкавшей слух матерей наших красавиц. Да и моей матери она пришлась по душе: она и раньше была весьма расположена к девушке, с которой у меня завязались столь необычные отношения, и полагала, что та будет одинаково хорошей женой и невесткой. Не нравилась ей суматоха, с некоторого времени вокруг меня поднявшаяся и для нее сопряженная с неустанными хлопотами. Ей приходилось щедро потчевать гостей, толпившихся в нашем доме, в награду довольствуясь лишь честью, которую оказывали ее сыну, объедая его. Кроме того, ей было ясно, что это множество молодых людей, в большинстве своем без средств к существованию, собирается здесь не столько ради ученых разговоров и поэзии, сколько для веселого времяпрепровождения и что в конце концов это приведет к беде и горестям не их одних, но и меня, чья легкомысленная щедрость и страсть к поручительству были ей слишком хорошо известны.
Поэтому давно задуманное итальянское путешествие, о котором сейчас снова заговорил отец, представлялось ей надежнейшим средством для того, чтобы одним махом разрубить этот узел. Но, боясь, чтобы в обширном мире меня не подстерегла новая опасность, она хотела закрепить отношения уже существующие, дабы возвращение на родину сделалось для меня желаннее и я наконец определил бы свой жизненный путь. Возможно, я только вообразил, что она замыслила такой план, а возможно, она и вправду разработала его вместе со своей покойной подругой — решать не берусь; во всяком случае, было похоже, что ее действия основаны на заранее обдуманном намерении. Мне часто доводилось слышать, что после выхода замуж Корнелии пусто стало у нас в доме, что вполне понятно, как мне недостает сестры, матери — помощницы и отцу — ученицы. Но одними разговорами дело не ограничивалось. Как-то раз мои родители, встретив на прогулке упомянутую девицу, зазвали ее в сад и долго с нею беседовали. За ужином по этому поводу было отпущено немало шуток и не без удовлетворения сказано, что девушка пришлась по вкусу отцу, так как обладает всеми качествами, которых он, будучи знатоком в этом вопросе, требовал от женщин.
После этого случая в первом этаже то и дело учинялась какая-то возня, словно в ожидании гостей. Проверка белья, например, а не то срочно закупалась разная хозяйственная утварь, о которой раньше даже и вспомнить не удосуживались. Однажды я застал мать на чердаке, рассматривающей старые колыбели. В одной из них, весьма поместительной, из орехового дерева, инкрустированной черным деревом и слоновой костью, когда-то укачивали меня. Мать, казалось, была недовольна моим замечанием, что, дескать, эти люльки вышли из моды и что детей теперь пеленают без свивальников и носят в изящной корзинке на перевязи через плечо, как галантерейный товар.
Короче говоря, предвестники семейного обновления обнаруживались все чаще, а так как я предпочитал отмалчиваться, то мысль о прочной, на всю жизнь, перемене в нашем доме внесла в него и в сердца его обитателей умиротворение, коего мы давно уж не знали.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Nemo contra deum nisi deus ipse.[41]
ПРЕДВАРЕНИЕ
При изложении своей жизни, неустанно продвигающейся многоразличными путями, нам не раз приходилось разобщать события, протекавшие одновременно, дабы придать им должную наглядность, и, напротив, воссоединять другие, смысл которых проясняется лишь при сведении их воедино, то есть воссоздавать целое из разрозненных частей, поддающихся обозрению и оценке, тем самым облегчая восприятие такового.
Этим рассуждением мы открываем настоящий том, в надежде что оно оправдает наш способ действия, и просим читателя не полагать, что возобновленный нами рассказ является прямым продолжением предыдущей книги; мы ставим себе целью мало-помалу подобрать главные нити повествования и с продуманной последовательностью вновь свести читателя со знакомыми ему персонажами, а также поступками и помыслами.
КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Говорят, беда никогда не приходит одна, но, пожалуй, так же обстоит дело со счастьем, да и вообще с житейскими обстоятельствами, гармонически нас обступающими, потому ли, что их нам навязала судьба, или потому, что человеку дарована способность притягивать то, что объединено внутренней связью.
Так или иначе, но на этот раз я имел случай убедиться, что все слилось воедино для того, чтобы воцарился мир, внешний и внутренний. Внешний мир был сужден мне, ибо я спокойно дожидался того, что другие для меня задумали и уготовили, к миру же внутреннему я должен был прийти сам, набираясь новых знаний.
Я давно не думал о Спинозе, но нападки, которым он подвергался, снова меня к нему толкнули. В нашей библиотеке я обнаружил книжонку, автор которой яростно восставал на этого своеобразного мыслителя и, для пущей доказательности, поместил рядом с титульным листом портрет Спинозы с подписью: «Signum reprobationis in vultu gerens»;[42] иными словами, он утверждал, что даже внешний облик Спинозы свидетельствует о нечистоте помыслов и развращенности. При взгляде на портрет с этим утверждением спорить не приходилось, так как гравюра была сделана из рук вон плохо и смахивала скорее на карикатуру. Я невольно подумал о тех спорщиках, которые сначала искажают облик того, кто им не по душе, а потом ратоборствуют с ним, как с драконом.
Впрочем, эта книжонка впечатления на меня не произвела; я вообще-то был не охотник до контроверз и всегда предпочитал узнавать, что́ думает человек, а не слышать от другого, что́ он должен был бы думать. Тем не менее любопытство заставило меня прочитать статью о Спинозе в словаре Бэйля, книге столь же ценной и полезной своей ученостью и остроумием, сколь комичной и вредной своим сплетническим и шарлатанским характером.
Статья «Спиноза» возбудила во мне не только неприятное чувство, но и недоверие. Вначале Спиноза объявляется атеистом, а мысли его в высшей степени предосудительными, однако затем сам автор признает его за спокойно мыслящего, всецело погруженного в свою науку, общительного человека, притом хорошего и мирного гражданина. Евангельское речение: «По их плодам узнаете вы их», видимо, забыто, ибо как может жизнь, угодная богу и людям, возникнуть на порочной основе?
Я еще хорошо помнил, какое спокойствие и ясность низошли на меня, когда я в свое время бегло просмотрел труды этого замечательного человека. Впечатление, которое они на меня произвели, помнилось мне отчетливо, хотя частности к тому времени уже изгладились из моей памяти. Посему я и поспешил вторично обратиться к произведениям, которым был столь многим обязан, и на меня вновь повеяло тем же благостным воздухом. Я предался этому чтению и, заглядывая себе в душу, убеждался, что никогда еще мир не представал передо мною в такой отчетливости.
Так как учение Спинозы вызывало много споров и в новейшие времена, то для ясности я считаю необходимым сказать здесь несколько слов о его мировоззрении, многим внушавшем не только страх, но и отвращение.
Наша физическая, равно как и общественная жизнь, наши обычаи, привычки, житейская мудрость, философия, религия, даже многие случайные события — все призывает нас к самоотречению. Многое из того, что внутренне от нас неотъемлемо, нам возбраняется обнаруживать вовне; то же, в чем мы нуждаемся извне для пополнения своей внутренней сущности, у нас отнимается; взамен нам навязывают многое, нам чуждое, даже тягостное. У нас крадут то, что было добыто с великим трудом, и то, что нам было благосклонно даровано, и прежде чем мы успеваем отдать себе отчет в этом хищении, как уже оказываемся вынужденными поступиться своей личностью, сперва частично, а затем и полностью. При этом еще вошло в обычай пренебрежительно относиться к тем, кто позволяет себе артачиться. Словом, чем горше питье, тем более сладкая мина требуется от тебя, чтобы, боже упаси, не обидеть спокойного наблюдателя какой-нибудь неподобающей гримасой.
Однако природа для разрешения сей трудной задачи щедро одарила человека силой, энергией и упорством, хотя скорей всего ему приходит на помощь легкомыслие, в полной мере ему отпущенное. Оно-то позволяет в любую минуту поступаться какой-нибудь частностью для того, чтобы в следующий же миг схватиться за новую; так мы всю жизнь бессознательно сами себя восстанавливаем. Одну страсть мы подменяем другой; всевозможные занятия, увлечения, любопытство, прихоти — чего только мы не пробуем, и лишь затем, чтобы под конец воскликнуть: «Все суета сует!» Никого не ужасает это лживое, более того — святотатственное речение: некоторым оно даже представляется мудрым и неопровержимым. Немного есть на свете людей, предвидящих всю невыносимость такого положения и, дабы уклониться от частичных отречений, раз и навсегда ото всего отрекающихся.
Им ведомо вечное, необходимое, законное, и они силятся составить себе нерушимые понятия, которые не только не развалятся от созерцания бренного, а скорее найдут в нем опору. Но поскольку в таких людях и впрямь есть нечто сверхчеловеческое, то другие видят в них выродков, безбожных и бездушных, и уж не знают, какие им присочинить рога и когти.
Мое доверие к Спинозе зиждилось на том умиротворяющем воздействии, которое он на меня оказывал, и лишь упрочилось, когда я узнал, что и моих почтенных мистиков обвиняют в спинозианстве, что даже Лейбниц не избег этого упрека, а Бургаве, заподозренный в подобных убеждениях, вынужден был забросить богословие и заняться медициной.
Но пусть читатель не думает, что я мог бы поставить свое имя под сочинениями Спинозы и безоговорочно принять все им высказанное. Мне уже давно уяснилось, что ни один человек до конца не понимает другого, что одни и те же слова люди воспринимают различно, что беседы или книги в разных людях пробуждают разное течение мысли. Надеюсь, автору «Вертера» и «Фауста» поверят, что он, достаточно глубоко прочувствовав такое непонимание, не был настолько самонадеян, чтобы претендовать на полное понимание человека, бывшего учеником Декарта и благодаря математической и древней раввинской культуре поднявшегося на вершину мышления, которая и доныне является целью всех спекулятивных устремлений.
О том, что́ я усвоил из Спинозы, достаточно ясно свидетельствовала бы сцена посещения его Вечным Жидом; она представлялась мне весьма ценным ингредиентом моей поэмы, я ее придумал, но не записал. Мне так нравился мой замысел, он так долго занимал меня в тиши, что я никак не мог решиться хоть что-то из него записать. Таким образом, эта находка, которая, обернись она мимолетной шуткой, не лишена была бы известных достоинств, не в меру разрослась, утратила свое обаяние, и я выбросил ее из головы, как нечто вполне ненужное. Но так как главное, в чем я соприкасался со Спинозой, навсегда памятно мне, ибо это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, я постараюсь здесь как можно короче и убедительнее об этом рассказать.
Природа действует согласно вечным, необходимым и до того божественным законам, что даже бог, казалось бы, ничего не может изменить в них. С этим, сами того не сознавая, согласны все люди. Трудно себе представить, в какое изумление, более того — ужас, повергло бы нас явление природы, свершающееся по воле разума, рассудка или хотя бы произвола.
Когда в животных проявляется нечто вроде разума, мы долго не можем прийти в себя от удивления. Как ни близко стоят они к нам, все же, сосланные в царство необходимости, они отделены от нас бездонной пропастью. Посему не следует упрекать некоторых мыслителей за то, что они бесконечно искусную, но строго ограниченную технику этих существ считали чисто механической.
Обратимся к миру растений, и наша точка зрения получит еще более убедительное подтверждение. Надо только отдать себе отчет в чувстве, которое нас охватывает, когда под нашим прикосновением мимоза попарно складывает свои перистые листочки, а потом наклоняется и стебель падает, словно согнувшись в суставе. Это чувство, которому я не подыщу названия, становится еще напряженнее при наблюдении за Hedysarum gyrans: ведь оно без всякого видимого повода то опускает, то поднимает свои листочки, словно играя самим собою и нашими понятиями. Попробуйте представить себе банановое дерево, наделенное этим свойством, оно то вздымало бы вверх, то клонило книзу свои гигантские зонтичные листья: каждый, впервые это увидевший, ужаснувшись, отпрянул бы от растения. В нас так глубоко укоренилось сознание наших преимуществ, что мы раз и навсегда отвергаем право внешнего мира на обладание таковыми, более того — охотно отказываем в этом праве даже существам, нам подобным.
И тем не менее сходный ужас охватывает нас, когда мы видим, что человек неразумно попирает общепринятые нравственные законы, безрассудно действует вопреки своей и чужой пользе. Чтобы спастись от этого ужаса, мы спешим превратить его в порицание или в отвращение, и такого человека стараемся изъять если уж не из жизни, то хотя бы из своих мыслей.
Это противоречие, с такою силой показанное Спинозой, я достаточно причудливо применил к собственной своей особе, и потому все сказанное выше служит лишь для пояснения последующего.
В конце концов я стал рассматривать свой врожденный поэтический талант как природу, тем паче что внешнюю природу отныне почитал за объект поэзии. Проявление поэтического дара, правда, могло быть вызвано и определено каким-нибудь поводом, но всего радостнее, всего ярче он проявлялся непроизвольно, более того — против моей воли.
Лугами, чащей леса
Иду, лихой повеса.
Пою средь бела дня…[43]
Ночью, когда я просыпался, начиналось то же самое, и меня частенько одолевал соблазн, заказав себе кожаную фуфайку по примеру одного из моих предшественников, впотьмах, ощупью, записывать на ней то, что непроизвольно рвалось из моей души. Я так привык нашептывать какой-нибудь стишок, тотчас же выветривавшийся из памяти, что случалось, опрометью бросался к своей конторке и, не давая себе времени повернуть косо лежавший лист бумаги, по диагонали, торопливо и не разгибая спины записывал стихотворение от начала до конца. Карандаш был мне пригоднее в этих случаях, ибо скрип и брызганье пера пробуждали меня от моего лунатического творчества и грозили задушить едва родившуюся на свет песню. К этим песням я относился с подлинным благоговением. Для меня они были как цыплята для курицы, которых она высидела и теперь слышит, как они пищат вокруг. Я охотно читал их в дружеском кругу; продавать же их за деньги мне претило.
Здесь я хочу упомянуть об одном случае, правда имевшем место позднее. Когда спрос на мои работы стал возрастать и даже оказалось желательным издать собрание моих сочинений, убеждения же, о которых я говорил выше, не позволяли мне самому взяться за это дело, некий Гимбург поспешил воспользоваться моей нерешительностью, и я нежданно-негаданно получил от него несколько экземпляров собрания моих сочинений. У непрошеного издателя достало наглости хвалиться передо мной услугой, которую он оказал публике, мне же, если я того пожелаю, он предлагал прислать сколько-нибудь берлинского фарфора. Мне сразу вспомнилось, что берлинских евреев обязывали при вступлении в брак приобретать определенное количество фарфора с целью обеспечить сбыт берлинскому фарфоровому заводу. Презрение, которым я заклеймил бесстыжего издателя, помогло мне снести досаду — неизбежное следствие такого ограбления. Я ни слова ему не ответил и, покуда он наживался на моей собственности, втихомолку отомстил ему следующими стихами:
Всех свидетелей моей мечты ушедшей —
Блеклый локон и цветок отцветший,
Потускневший бант, вуаль измятый,
Что любовь дала в залог когда-то,—
Все, что я давно обрек сожженью,
Наглый Созий выкрал без стесненья,
Словно он наследует по праву
Гений мой, и честь мою, и славу.
Что же мне, живому покориться
И спокойно кофею напиться?
Нет, фарфор и сладкий хлебец прочь —
Жить для Гимбургов невмочь!
Но поскольку природа, непрошено, по собственной воле создававшая во мне подобные большие и малые произведения, иной раз подолгу отдыхала и тогда я, при всем желании, ничего не мог из себя выжать и частенько скучал, то резкое различие между этими двумя состояниями заставило меня подумать: нельзя ли все, что было во мне человечного, разумного и рассудительного, обратить на пользу себе и другим, и это промежуточное время, что я уже делал неоднократно и к чему меня сейчас побуждали все настойчивее, посвятить житейским делам, дабы и прочие силы, во мне заложенные, не пропали втуне. Я считал, что все, отсюда вытекавшее, до такой степени соответствует моей натуре и моему теперешнему положению, что решил немедленно действовать именно так и тем самым положить конец прежним колебаниям и сомнениям; меня тешила мысль, что реальное вознаграждение я стану получать с людей за реальные же услуги, а милый и священный дар природы буду вправе расточать бескорыстно. Эта мысль спасла меня от горького чувства, которое неизбежно бы во мне возникло, осознай я, что талант, столь необходимый и будоражащий сердца, в Германии оказывается вроде как вне закона. Дело в том, что не только в Берлине самовольное издание сочли допустимым и, пожалуй, забавным, но даже почтенный и прославленный своими регентскими достоинствами маркграф Баденский и император Иосиф, при котором сбылось столько упований, покровительствовали: один — некоему Маклоту, другой — фон Тратнеру, признав, таким образом, что права и собственность гения могут быть выданы на произвол фабриканта и ремесленника.
Когда однажды в разговоре с приезжим баденцем мы на это посетовали, он рассказал нам следующую историю: госпожа маркграфиня, дама весьма предприимчивая, среди прочего основала бумажную фабрику, продукция которой оказалась настолько скверной, что нигде не имела сбыта. Тут-то книготорговец Маклот и предложил печатать на этой бумаге немецких поэтов и прозаиков, чтобы тем самым несколько повысить ее достоинство. За это предложение ухватились обеими руками.
Мы решили, что его рассказ не более как злая сплетня, и весело посмеялись. Имя Маклот сделалось у нас бранным словом и применялось при самых некрасивых оказиях. Так беспечные юноши, иной раз вынужденные пользоваться услугами заимодавцев, в то время как подлецы наживались на их талантах, находили утешение в остроумных шутках.
Счастливые дети и юноши живут словно бы в опьянении, прежде всего сказывающемся в том, что, добродушные и безобидные, они не замечают условий, в данный момент их окружающих и не способны трезво оценить таковые. На мир они смотрят как на материал, поддающийся преобразованию, как на достояние, которое они вправе себе присвоить. Все принадлежит им, все кажется покорным их воле, потому-то многие из этих молодых людей и погрязают в безделье и беспутстве. У лучших из них такой образ мыслей развивается в нравственный энтузиазм, который, разумеется, в зависимости от сложившихся обстоятельств, толкает юношу к добру, подлинному или мнимому, но нередко такой энтузиазм подпадает чужому влиянию, позволяет указывать себе путь или сбивать себя с такового.
Юноша, о котором мы ведем речь, находился именно в таком положении, и если одним он казался странен, то другие, напротив, искали его дружбы. С первой же встречи он обнаруживал безусловное свободомыслие, веселую общительность в разговоре и нередко способность к поступкам порывистым и необдуманным. Об этом несколько забавных историек.
На тесно застроенной еврейской улице вспыхнул большой пожар. Моя благожелательность к людям, а следовательно, и охота к деятельной помощи, заставили меня броситься туда. На мне было хорошее платье, какое я обычно носил, когда я заметил огонь. В стене, со стороны улицы Всех Святых находился пролом, к нему-то я и ринулся. Там народ уже таскал воду, поспешая с полными ведрами в одну сторону и с пустыми — в другую. Я быстро сообразил, что если люди образуют две цепочки и будут из рук в руки передавать полные и пустые ведра, то помощь будет вдвойне действенной. Схватив два полных ведра, я остановился как вкопанный, подозвал других, мы стали брать ведра у тех, кто их приносил и передавать дальше, возвращающиеся за водой, в свою очередь, образовали цепочку. Такое распределение сил было всеми одобрено, мои увещания и мое деятельное участие не пропали даром, и очень скоро два сплошных ряда людей выстроились от самого пролома до места пожара. Но не успела бодрая слаженность, с которой работала эта живая и целеустремленная машина, привести людей в хорошее, даже веселое настроение, как оно уступило место озорству и злорадству. Несчастные погорельцы, тащившие на себе свой убогий скарб, попав в узкое пространство между двух людских рядов, должны были до конца пройти его; тут-то и началась потеха. Озорники-подростки брызгали на них водой и усугубляли несчастье непозволительными выкриками и насмешками. Вскоре, однако, порицания и достаточно красноречивые угрозы приостановили это безобразие, в чем, вероятно, сыграло роль и мое нарядное платье, которого я не пощадил.
Любопытство привело к месту бедствия кое-кого из моих друзей, они были удивлены, застав меня в туфлях и шелковых чулках — иначе тогда не ходили — за столь мокрыми хлопотами. Двух или трех из них мне, правда, удалось привлечь к делу, но остальные только смеялись и покачивали головой. Мы проработали долго, ибо многие уходили, но многие к нам и присоединялись. Толпа любопытных все прибывала, и, таким образом, моя простодушная смелость получила огласку; вскоре в городе только и было разговоров о моей чудаческой затее.
Такое легкомысленное поведение, такие порывы доброты и резвости — следствие счастливого расположения духа, — в которых люди часто видят тщеславие, сделало нашего друга известным еще и своими странностями.
Суровая зима сковала Манн, и поверхность его превратилась в доподлинную твердь. На льду началась веселая и шумная суматоха. Нескончаемые катки на замерзших гладких пространствах так и кишели оживленной молодежью. Я с самого утра был на Майне, и к тому времени, когда подъехала моя мать, чтобы полюбоваться этим зрелищем, я в своей легкой одежде изрядно продрог. Сидя в карете в красной бархатной шубке, на груди скрепленной золотой шнуровкой с кистями, она выглядела весьма авантажно. «Дайте мне вашу шубу, матушка, я весь продрог!» — вдруг крикнул я, не успев ни о чем подумать. Она тоже не стала раздумывать, и в мгновенье ока на моих плечах оказалась шуба, пурпурная, отороченная соболем и отделанная золотыми шнурами, она доходила мне до голеней и весьма удачно сочеталась с коричневой меховой шапкой, которая была на мне. Я беззаботно носился по льду, а давка на катке была такая, что мой странный вид не очень бросался в глаза, хотя кое-кто все же обратил на него внимание, и позднее, то всерьез, то в шутку, мне его припоминали, как пример моего чудачества.
Но перейдем от воспоминаний о беспечном житье и бездумных поступках к тому, что, собственно, является нитью нашего рассказа.
Один остроумный француз заметил: если одаренный человек достойным творением привлечет к себе вниманье публики, будет сделано все, чтобы помешать ему еще раз создать нечто подобное.
Так оно и есть: в тиши и самоуединении юности человек создает доброе и умное, успех завоеван, но утрачена независимость. Концентрированный талант увлекают в рассеянность, ибо люди хотят что-то урвать от него и присвоить себе.
Из этих же соображений меня наперебой приглашали, вернее — то один, то другой из моих друзей или знакомых с превеликой настойчивостью предлагал ввести меня в тот или другой дом.
Вроде как чужестранец, да еще ославленный медведем из-за частых нелюбезных отказов от приглашений, а не то и Вольтеровым Гуроном или Камберлендовым индейцем, дитя природы при столь многих талантах, я возбуждал любопытство, и в различных домах строились планы, как бы меня залучить.
Однажды вечером мой приятель стал меня упрашивать пойти с ним на небольшой концерт, дававшийся в одном реформатском патрицианском доме. Час был поздний, но я любил неожиданные решения и последовал за ним, одетый, как всегда, вполне благоприлично. Мы вошли в просторную гостиную на первом этаже. Общество там собралось многолюдное; посредине стоял рояль, за него тотчас же села единственная дочь хозяев и начала играть умело и грациозно. Я встал у нижнего конца рояля, чтобы получше ее видеть. В ее манерах было что-то детское, движения рук за игрой поражали непринужденностью и легкостью.
Окончив сонату, она приблизилась к тому месту, где я стоял; мы поздоровались, но разговор не завязался, так как начал играть квартет. Когда музыка смолкла, я подошел к ней и сказал несколько любезных слов: как мне приятно, что при первом же знакомстве я познакомился и с ее талантом. Она премило мне ответила и осталась на месте, я тоже. Я заметил, что она внимательно ко мне приглядывается, а я словно выставлен напоказ, — впрочем, мне это не было неприятно, так как и моему взору открывалось нечто весьма привлекательное. Между тем наши взгляды встретились, и, не буду запираться, я ощутил силу, меня притягивавшую, хотя и весьма деликатного свойства. Оживление, царившее вокруг, и участие гостей в музыкальных номерах препятствовали нашему более близкому знакомству в тот вечер. И все же мне было очень приятно, когда хозяйка дома выразила желание вскоре вновь увидеть меня, и к этим словам дружелюбно присоединилась и ее дочь. Выждав приличествующее время, я, разумеется, не преминул повторить свой визит, и у нас завязался веселый и разумный разговор, казалось бы, не предвещавший любовной смуты.
Между тем вошедшее в обычай гостеприимство нашего дома стало причинять известные неудобства мне и моим добрым родителям. Оно стояло поперек дороги моему постоянному стремлению приобщиться к высокому, его познать, способствовать его претворению в жизнь и, по мере возможности, в образы. Люди, слывшие добрыми, были обычно благочестивы, люди, слывшие деятельными, чаще не отличались умом и светской обходительностью. Первые ничем не могли быть мне полезны, вторые сбивали меня с толку. Потому я и записал один примечательный случай.
В начале 1775 года Юнг, впоследствии прозванный Штиллингом, сообщил нам с Нижнего Рейна, что его просят приехать во Франкфурт и сделать глазную операцию одному из наших сограждан. Для меня и моих родителей он был желанным гостем, и мы предложили ему у нас остановиться.
Господин фон Лерснер, почтенный человек уже в летах, снискавший всеобщее уважение как воспитатель княжеских детей, разумный придворный и путешественник, уже долгое время был слеп, но продолжал страстно уповать на исцеление. Между тем Юнг в течение нескольких лет с мужеством и благочестивым дерзновением оперировал катаракты, так что слава его вышла далеко за пределы Нижнего Рейна. Чистота его души, положительность характера и нелицеприятная богобоязнь внушали людям полное к нему доверие, быстро распространившееся, благодаря оживленным торговым сношениям, вверх по течению Рейна. Господин фон Лерснер и его семейство, по совету одного умного врача, решились вызвать удачливого глазного оператора, хотя некий франкфуртский купец, понапрасну подвергшийся такой операции, усиленно отговаривал их от этой мысли. Но много ли значит один-единственный случай по сравнению со столь частыми удачами? И Юнг прибыл, привлеченный небывало крупным для него вознаграждением, прибыл, оживленный и радостный, чтобы приумножить свою славу; нам оставалось только пожелать счастья нашему доброму и веселому сотрапезнику.
После долгих врачебных приготовлений катаракта была наконец удалена на обоих глазах. Все мы с нетерпением ждали исхода, рассказывали, что пациент прозрел сразу же после операции, покуда повязка не скрыла от него дневной свет. Юнг, однако, был невесел, что-то, видимо, камнем лежало у него на сердце. На мои расспросы он отвечал, что тревожится за исход операции. Обычно казалось, — я сам не раз бывал тому свидетелем в Страсбурге, — что проще этой операции нет ничего на свете; так же легко она сотни раз удавалась и Штиллингу. После безболезненного разреза нечувствительной роговицы при легчайшем нажиме помутневший хрусталик выскакивал, пациент сразу начинал различать предметы, и ему оставалось только дожидаться с завязанными глазами, покуда закончится лечение и он станет пользоваться сим драгоценным органом. И сколько же бедных людей, которых осчастливил Юнг, призывали на него благословение всевышнего и молили даровать их благодетелю достойное вознаграждение, которое ему теперь предстояло получить от своего богатого пациента.
Юнг признался, что на этот раз все свершалось не столь легко и удачно: хрусталик не вышел сам собою, он прирос, и оператору пришлось не без усилия его отодрать. Теперь он упрекал себя за то, что прооперировал и второй глаз. Так, однако, было договорено заранее, подобной случайности никто не предвидел, а Юнг во время операции не сумел собраться с мыслями. Со вторым хрусталиком дело обстояло не лучше, и с ним пришлось проделать то же самое.
Как худо было в этих обстоятельствах на душе у добросердечного, благомыслящего, богобоязненного человека, описать невозможно. Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько общих слов о его образе мыслей.
Нет ничего проще и доступнее для человека, чем попечение о своем собственном нравственном воспитании. Стремление к этому заложено в нем с малолетства, разум и любовь ведут его, более того — принуждают к этому и в гражданской жизни.
Штиллинг жил нравственно-религиозным чувством любви. Без общения с людьми, без доброго с ними взаимодействия он не мог существовать. Он нуждался во взаимной симпатии; там, где его не знали, он был тих, где его не любили — печален. Лучше всего он себя чувствовал в среде благомыслящих, в тесном профессиональном кругу людей, усердно занятых самоусовершенствованием.
Таким людям удается подавлять в себе тщеславие, ставить крест на стремлении к внешним почестям, усвоить осмотрительность в разговоре, неизменно проявлять ровное, дружелюбное отношение к коллегам и соседям.
Нередко в основе такого поведения лежит известная смутность духа, модифицированная индивидуальностью. Люди этого склада, внезапно выведенные из душевного равновесия, придают большое значение своему жизненному опыту, уверенные, что бог непосредственно руководит их жизнью, и во всем усматривают сверхъестественное предопределение.
При этом в человеке намечается известная склонность застывать в данном душевном состоянии, одновременно со склонностью быть ведомым и подталкиваемым, так как действовать самостоятельно он не решается. Его нерешительность усиливается как при крушении разумных планов, так и при случайной удаче — следствии стечения непредвиденных обстоятельств.
Если такой образ жизни не способствует подобающей мужчине сосредоточенности, то интересно все же рассмотреть, каким образом человек доходит до подобного состояния.
Излюбленная тема бесед у людей этого толка — так называемые «пробуждения» и «преображения строя мыслей», известную психологическую ценность которых мы не вправе отрицать. Собственно говоря, это то самое, что в науке, да и в поэзии, называется «apergçu»[44], осознание какого-либо великого этического принципа, что уже само по себе является гениальным прозрением духа; к нему мы приходим интуитивно, а не путем размышлений, приобретенных знаний или традиции. Здесь речь идет об осознании нравственной силы, которая бросила якорь в вере и потому чувствует себя горделиво и независимо среди накатывающихся валов.
Подобное apergçu дарит великой радостью того, кто его открыл, ибо оригинальнейшим образом напоминает о бесконечности: оно не нуждается во времени, чтобы стать убедительным, возникая мгновенно во всей своей полноте и завершенности. Отсюда и добродушный старофранцузский стишок:
En peu d’heure
Dieu labeure[45].
Внешние поводы иной раз способствуют этому внезапному «преображению сознания»: кажется, что видишь чудеса и знамения.
Доверие и любовь связывали меня со Штиллингом; я имел положительное и доброе влияние на его жизнь, он же, в силу своей натуры, хранил в благодарном и чувствительном сердце память обо всем, что для него делалось. Однако общение с ним в ту пору моей жизни не было для меня ни радостным, ни полезным. Разумеется, я считал правильным, чтобы каждый по-своему разгадывал и толковал загадки своей жизни, но манера все доброе и разумное, что нам встречается на извилистом жизненном пути, приписывать непосредственному божественному вмешательству казалась мне слишком дерзновенной; идея выдавать за божественную педагогику тяжкие последствия нашего легкомыслия, поспешности, самоуверенности или небрежности в моей голове никак не укладывалась. Итак, мне оставалось разве что выслушивать доброго моего друга, но ничего утешительного я не мог ему сказать; тем не менее я давал ему выговориться, как и многим другим, защищал его теперь, как и прежде, от тех, кто своим чрезмерно мирским образом мыслей не боялся ранить его чувствительную душу. Поэтому я сделал все возможное, чтобы до него не дошли слова одного шутника, однажды вполне серьезно заявившего: «Честное слово, будь я, как Юнг, с богом на дружеской ноге, я бы просил у него не денег, а разума и доброго совета, чтобы не делать столько глупостей, которые дорого обходятся и втравляют тебя в долги на многие годы!»
К тому же сейчас было не время для кощунственных шуток. Дни проходили в страхе и надежде; страх все возрастал, а надежда угасала и вскоре угасла совсем: глаза нашего многотерпеливого страдальца воспалились, и всем уже было ясно, что операция не удалась.
Невозможно описать глубину отчаяния, в которое впал наш друг; он тщился обороть полный упадок душевных сил! Ибо чего он только не утратил из-за этой неудачи! Прежде всего горячую благодарность человека, возвращенного к свету, то есть лучшую награду для врача; утратил доверие множества других людей, нуждающихся в его помощи; утратил кредит, в то время как прерванная практика ставила под угрозу даже благополучие его семьи. Короче говоря, у нас от начала и до конца разыгралась прискорбная драма Иова, причем честный Юнг взял на себя еще и роль друзей, порицающих Иова. Он рассматривал этот печальный случай как наказание за содеянные грехи; ему казалось, что отдельные удавшиеся операции он кощунственно принял за дарованное ему богом призвание, упрекал себя в том, что недостаточно изучил эту в высшей степени важную специальность, а действовал, так сказать, наугад; ему вспоминались перешептыванья его недоброжелателей, и он терзался сомнениями: а что, если они правы? Это мучило его тем больше, что он винил себя в легкомыслии и, увы, еще в самоуверенности и суетности, не подобающих религиозным людям. В такие минуты он бывал сам не свой, и, несмотря на все наши старания его образумить, мы пришли всего-навсего к разумно-неизбежному выводу, что пути господни неисповедимы.
Мое преимущественно жизнерадостное расположение духа было бы вконец испорчено, если бы я, по старому своему обыкновению, всерьез не задумался над душевным состоянием моего друга и полностью его себе не уяснил. Меня только огорчало, что моя добрая матушка была так плохо вознаграждена за свои попечения и хозяйственные заботы; впрочем, при своем вечно деятельном и ровном характере она этого и не почувствовала. Всех более мне было жаль отца. Ради меня он достойным образом расширил замкнутый семейный круг и любил наши бойкие, даже парадоксальные разговоры, которые обычно велись за столом, так как в наш дом стекалось много приезжих гостей, а их присутствие, в свою очередь, привлекало здешних моих приятелей. Он удовлетворенно улыбался, прислушиваясь к моим диалектическим выпадам, ибо я был упорным, отчаянным спорщиком и, все на свете оспаривая, нередко ставил в смешное положение собеседника, даже если он был кругом прав. В последние недели о застольных спорах нечего было и думать, ибо события, даже радостные и светлые, вроде отдельных врачебных удач нашего друга, не могли загладить впечатление от большой неудачи, его постигшей, и сколько-нибудь рассеять всеобщее уныние.
Развеселить нас однажды удалось только старому, слепому и нищему еврею из изенбургских земель. Он попал во Франкфурт без гроша за душой, едва ли имея здесь постоянный кров и пищу, хотя бы скудную, не говоря уж о каком-либо уходе; но столь цепкой оказалась его восточная натура, что в скором времени он уже ходил по городу исцеленный и ликующий. Когда его спросили, очень ли болезненна была операция, он отвечал неистовой гиперболой: «Будь у меня миллион глаз, я бы дал все их прооперировать по полчервонцу за каждый!» Уезжая, он вел себя на улице не менее эксцентрично: на старозаветный манер возносил хвалы господу и кудеснику-врачу, его посланцу. Так он шаг за шагом подвигался к мосту по длинной торговой улице. Торговцы и покупатели выбегали из лавок, удивленные сим благочестивым восторгом, который он выражал перед всем народом. Он возбуждал в людях такое участие, что, ничего не требуя и не выклянчивая, ушел из города обремененный щедрыми дарами.
Но об этом забавном случае мы в нашем кругу даже говорить не решались, ибо бедняк, вернувшийся на свою песчаную родину за Манном, мог почитаться счастливым, несмотря на нищету, его окружавшую, тогда как богатый и достойный человек по эту сторону Майна был лишен счастья, на которое у него уже брезжила надежда.
С болью в сердце принял поэтому наш добрый Юнг тысячу гульденов, которые должен был в любом случае заплатить ему великодушный пациент. Эти деньги по возвращении Юнга домой могли покрыть часть долгов, отягощавших и без того глубоко несчастного и подавленного человека.
Итак, он печально простился с нами, предвидя встречу с озабоченной женой и сухой прием, который ему окажут ее родители, не раз поручавшиеся за своего надежного зятя, когда ему приходилось делать долги, и теперь, возможно, полагавшие, что неправильно выбрали спутника жизни для своей дочери. Он страшился, что насмешки людей, и в хорошие времена бывших его недоброжелателями, будут сыпаться на него из многих окон и дверей, что практика, прерванная его отъездом, теперь в самом корне будет подсечена неудачей, его постигшей.
И все же в нас теплилась какая-то надежда, когда мы отпускали его. Деятельная натура Юнга, подкрепленная верой в помощь сверхъестественных сил, не могла не внушать его друзьям уверенности в скромном и достойном будущем, ему сужденном.
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ
Возвращаясь к истории моих отношений с Лили, не могу не вспомнить о приятнейших часах, проведенных с нею наедине или в присутствии ее матери. Судя по моим сочинениям, меня считали сердцеведом, как это тогда называлось, и, может быть, потому все наши разговоры касались человека, его нравов и его сердца.
Но как прикажете беседовать о внутреннем мире человека без взаимной откровенности? Посему прошло немного времени, и Лили, выбрав спокойный часок, рассказала мне историю своего детства. Она росла среди всех удовольствий и преимуществ большого света. Лили говорила мне о своих братьях, родне, обо всем, что ее окружало; только о матери почтительно умалчивала.
Она не скрыла от меня своих маленьких слабостей и, следовательно, должна была признаться, что есть у нее известный дар завлекать людей и одновременно свойство — вычеркивать их из своей жизни. Так, в долгих разговорах мы затронули опасную тему, а именно: что она пыталась и на мне испытать силу своего дара, но была наказана тем, что и я, в свою очередь, завлек ее.
Сии признания свидетельствовали о такой детской чистоте души, что я был покорен и очарован.
Взаимное влечение, привычка видеться вступили в свои права. И как же мучительны были мне дни и долгие вечера, когда я не решался пойти к ней, вторгнуться в ее круг! Немало горя проистекало для меня из этого.
Как она была мне дорога, эта красивая, прелестная, образованная девушка, все как будто напоминало мои прежние увлечения, но чувства к ней были более высокого свойства. О внешних обстоятельствах, о постороннем вмешательстве, о роли общества и ее положении в нем я тогда и не помышлял. Мое влечение сделалось неодолимым: я не мог обходиться без нее, как и она без меня. Но люди, которые ее окружали, влияние кое-кого из них, — о, боже, сколько пустых часов, сколько горьких дней они мне уготовили!
Истории увеселительных поездок с отнюдь не веселым исходом; задержавшийся брат, с которым мне предстояло догонять остальных, с нарочитой медлительностью, возможно из злорадства, заканчивающий свои дела, чтобы таким образом разрушить тщательно продуманный мною план. О многих радостных или несостоявшихся встречах, о нетерпении и попытках самообуздания, о разнообразных горестях, которые, будь они поподробнее рассказаны в каком-нибудь романе, несомненно вызвали бы живое участие читателей, я вынужден здесь умолчать. Но чтобы придать наглядность всему сказанному и пробудить сочувствие в молодых сердцах, я приведу две песни, пусть уже известные, но мне думается, что, вставленные здесь, они будут особенно выразительны.
Сердце, сердце, что случилось,
Что смутило жизнь твою?
Жизнью новой ты забилось,
Я тебя не узнаю.
Все прошло, чем ты пылало,
Что любило и желало,
Весь покой, любовь к труду.
Как попало ты в беду?
Беспредельной, мощной силой
Этой юной красоты,
Этой женственностью милой
Пленено до гроба ты.
И возможна ли измена?
Как бежать, уйти из плена,
Волю, крылья обрести?
К ней приводят все пути
Ах, смотрите, ах, спасите, —
Вкруг плутовки, сам не свой,
На чудесной, тонкой нити
Я пляшу, едва живой.
Жить в плену, в волшебной клетке,
Быть под башмачком кокетки,—
Как такой позор снести?
Ах, смотрите, ах, спасите,—
__________
О, зачем влечешь меня в веселье,
В роскошь людных зал?
Я ли в скромной юношеской келье
Радостей не знал?
Как любил я лунными ночами,
В мирной тишине,
Грезить под скользящими лучами,
Точно в полусне!
Сном о счастье, чистом и глубоком,
Были все мечты.
И во тьме пред умиленным оком
Возникала ты.
Я ли тот, кто в шуме света вздорном,
С чуждою толпой,
Рад сидеть хоть за столом игорным,
Лишь бы быть с тобой!
Нет, весна не в блеске небосвода,
Не в полях она.
Там, где ты, мой ангел, там природа,
Там, где ты, — весна[46].
Тот, кто со вниманием прочтет эти песни, а еще лучше — с чувством пропоет их, наверно, ощутит дуновение радости, наполнявшей те счастливые дни.
Но не будем спешить расстаться с многолюдным и блестящим обществом, а присовокупим еще несколько замечаний, прежде всего разъясняющих заключительные строки второго стихотворения.
Та, которую я привык видеть в простом, редко сменяемом домашнем платьице, теперь, блистая передо мною элегантными и модными нарядами, все равно оставалась той же самою. Ее прелесть, ее приветливость были неизменны, очарование же еще возросло, может быть, оттого, что разные люди толпились вокруг нее и она живее обнаруживала свою суть, многообразнее являлась нам, принимая то одно, то другое обличив, в зависимости от того, кто к ней приближался. Словом, я понимал, что эти чужие люди хоть и мешали мне, но я ни за какие блага не поступился бы радостной возможностью оценивать ее светские таланты, дававшие мне понять, что ей по плечу сферы более высокие и значительные.
Ведь все равно это было то же сердце, только прикрытое пышным нарядом, сердце, которое открыло мне всё таившееся в его глубине и в котором я читал, как в своем собственном; те же уста, что поспешили поведать мне о том, как она росла и что ее окружало в детстве. Каждый взгляд, которым мы с нею обменивались, каждая улыбка, его сопровождавшая, красноречиво свидетельствовали о тайном и сдержанном взаимопонимании, и здесь, в толпе, я невольно дивился, что так естественно, так по-человечески возник между нами тайный и невинный сговор.
И все-таки с наступлением весны нашим отношениям суждено было еще больше укрепиться благодаря сельской непринужденности. В Оффенбахе на Майне уже тогда стали заметны начатки города, которым он и сделался впоследствии. Кое-где уже высились прекрасные, а по тем временам даже роскошные дома. Дядюшка Бернар, так его всегда называли семейные, занимал самый из них просторный, к которому примыкали обширные фабричные строения. Д’Орвиль, человек еще молодой и приятный, жил насупротив. Сады, окружавшие эти дома, террасы, которые спускались до самого Майна, открытый вид на прекрасные окрестности — все это услаждало и радовало как приезжих гостей, так и тамошних жителей. Влюбленный едва ли мог сыскать место, лучше отвечающее его чувствам.
Я квартировал у Иоганна Андре. Упомянув об этом человеке, впоследствии снискавшем себе широкую известность, я вынужден позволить себе небольшое отступление и ознакомить читателя с положением тогдашней оперы.
Во Франкфурте в то время театром руководил Маршан, старавшийся самолично сделать все, что было в его силах. Это был видный, красивый и хорошо сложенный человек в цвете лет, характера мягкого и обходительного, отчего его присутствие в театре всем доставляло радость. Он обладал голосом, по тогдашним понятиям достаточным для исполнения оперных партий, и потому хлопотал о постановках мелких и более крупных французских опер.
Лучше всего, пожалуй, ему удавалась партия отца в опере Гретри «Красавица и чудовище», где он, скрытый за полупрозрачной завесой, весьма выразительно изображал призрак.
Эта в своем роде вполне удавшаяся опера приближалась к так называемому благородному стилю и пробуждала и слушателях самые нежные чувства. Но оперным театром уже завладел демон реализма; в моду вошли оперы из жизни различных сословий, в том числе и ремесленников. На сцене уже побывали «Охотники», «Бочар» и прочие; Андре облюбовал «Горшечника». Он сам написал либретто, употребив весь свой талант на создание музыки к таковому.
Я жил у него и здесь упомяну об этом умелом поэте и композиторе лишь в той мере, в какой этого требует мой рассказ.
Человек, от природы одаренный живым талантом, собственно, техник и фабрикант в Оффенбахе, он был чем-то средним между капельмейстером и дилетантом. В надежде закрепить за собой репутацию музыканта, Андре тратил немало усилий, чтобы утвердиться в этом искусстве, и способен был бесконечно варьировать свои композиции.
Среди тех, кто тогда составлял наш кружок и вносил в него свою долю оживления, надо назвать пастора Эвальда. Остроумный и веселый в обществе, он не пренебрегал занятиями, подобающими его сану и положению, и впоследствии приобрел почетную известность как богослов. Нашу тогдашнюю компанию невозможно представить себе без этого всегда восприимчивого и деятельного человека.
Игра Лили на фортепьяно привязала к нам добродушного Андре, он поучал, сочинял, исполнял и, можно сказать, днем и ночью участвовал в жизни семьи и всего нашего кружка.
Он положил на музыку Бюргерову «Ленору», которая была в ту пору новинкой, с восторгом встреченной немцами, и не ленился многократно ее проигрывать.
Я, любя читать вслух, тоже готов был в любую минуту ее декламировать; в те времена частое повторение одного и того же еще не наводило скуку. Когда обществу предлагали решить, кого из нас слушать, выбор нередко склонялся в мою сторону.
Впрочем, все это служит влюбленным одну только службу — длит их совместное пребывание. Они хотят, чтобы ему конца не было, а славного Иоганна Андре так легко усадить за фортепьяно и заставить играть до полуночи. И его музыка обеспечивает влюбленным вожделенную близость друг друга.
Ранним утром, выйдя из дому, ты оказываешься на вольном воздухе, хотя местность вокруг сельской и не назовешь. Солидные здания, в те времена сделавшие бы честь любому городу; сады, расположенные террасами и потому далеко обозримые, с плоскими цветниками; вид на реку и на противоположный берег, а по реке уже спозаранку снуют плоты, верткие лодчонки и баржи — живой, неслышно скользящий мир созвучен любовным и нежным чувствам. Даже медлительное течение чуть тронутого рябью потока и шорох камыша своим умиротворяющим волшебством обволакивают раннего путника. И надо всем этим радостное летнее небо и радостное сознание, что все мы снова сойдемся поутру среди этой красоты!
Если кому-нибудь из серьезных читателей подобный образ жизни покажется слишком беспорядочным и легкомысленным, то пусть он вспомнит, что все, купно изложенное здесь для связности повествования, чередовалось с днями, неделями разлуки, с другими занятиями и делами, иной раз даже с нестерпимой тоскою.
Мужчины и женщины рачительно выполняли свои обязанности. Я тоже не упускал случая, имея в виду столько же настоящее, сколько и будущее, работать над положенным мне, да еще выбирал время на то, к чему меня неудержимо влекли талант и страсть.
Ранние утренние часы я отдавал поэзии; день посвящался житейским делам, с которыми я справлялся достаточно своеобразно. Мой отец, основательный, я бы даже сказал — элегантный юрист, сам вел дела по управлению своим имуществом, а также те, что были ему доверены его почтенными друзьями. Титул имперского советника хотя и возбранял ему практику, но он являлся правовым консультантом некоторых доверителей, и бумаги, им составленные, только подписывались практикующим юристом, для которого такая подпись служила источником легкого заработка.
Деятельность отца стала еще оживленнее, когда я к нему присоединился, правда, вскоре я понял, что мой дар он ценит выше, чем мою юридическую практику, ибо он делал все от него зависящее, чтобы предоставить мне вдосталь свободного времени для поэтических занятий. При большой основательности и деловитости он, однако, был человеком замедленного восприятия и действия. В качестве тайного референдария отец изучал дела, а когда мы сходились вместе, вкратце излагал мне суть таковых, я же столь быстро их довершал, что отец не мог на меня нарадоваться и однажды, не удержавшись, заметил, что, будь я ему чужой, он бы мне позавидовал.
Чтобы облегчить себе делопроизводство, мы пригласили писца, — его характер и внутренний склад, если бы их должным образом разработать, стали бы украшением любого романа. За годы учения он отлично овладел латынью и приобрел множество других основательных знаний, но слишком легкомысленное студенческое времяпрепровождение изменило весь ход его последующей жизни; он захирел, некоторое время влачил жалкое существование, но потом сумел выйти из него благодаря хорошему почерку и знанию счетоводства. Пользуясь поддержкой некоторых наших адвокатов, он постепенно освоился с многочисленными формальностями судопроизводства и снискал благоволение и покровительство всех, кому служил честно и пунктуально. Он сделался незаменим и в нашем доме, участвуя во всех юридических и счетоводческих делах.
А дел этих становилось все больше, так как к юридической практике добавились еще различные поручения, заказы, почтовые отправления. В ратуше ему были известны все ходы и выходы; его терпели и на обоих бургомистерских аудиенциях, а так как многих новых советников, которые впоследствии становились старшинами, он знал с их первого, часто неуверенного вступления в должность, то и завоевал у них известное доверие, даже своего рода влияние. Все это он умел обратить на пользу своих покровителей, а поскольку слабое здоровье дозволяло ему лишь умеренную деятельность, он всегда был готов выполнить любое поручение, любой заказ.
Внешность его была не лишена приятности: фигура стройная, черты лица правильные; поведения он был неназойливого, но в нем всегда сквозила уверенность, что кто-кто, а уж он-то знает, что делать и как устранить любое препятствие. Ему было уже сильно за сорок, и я до сих пор сожалею (позволю себе повторить вышесказанное), что не вставил его в качестве махового колеса в механизм какой-нибудь новеллы.
В надежде, что вышеизложенным я до некоторой степени удовлетворил серьезных моих читателей, я считаю себя вправе вновь возвратиться к тем часам, когда дружба и любовь являлись мне в своем сиянии.
Как всегда в таких компаниях, как наша, дни рождения справлялись продуманно, весело и разнообразно; в честь дня рождения пастора Эвальда была сочинена песня:
В хороший час, согреты
Любовью и вином,
Друзья! Мы песню эту
О дружестве споем!
Пусть здесь пирует с нами
Веселья щедрый бог,
Возобновляя пламя,
Что он в сердцах возжег![47]
Поскольку эта песня сохранилась доныне и веселое общество, собравшееся за праздничным столом, редко без нее обходится, то мы, рекомендуя ее нашим потомкам, от души желаем, чтобы всем, кто будет ее декламировать или петь, было даровано то же веселие сердца, каким наслаждались мы, позабыв о внешнем мире и узкий свой круг принимая за вселенную.
А теперь скажем, что день рождения Лили, 23 июня 1775 года, повторившийся в семнадцатый раз, должен был быть отпразднован с особой торжественностью. Она обещала к полудню приехать в Оффенбах, и надо признаться, что друзья с редкостным согласием решили на сей раз отказаться от всех традиционно витиеватых поздравлений и стали готовиться к достойной ее радушной и радостной встрече.
Среди всех этих приятных хлопот я смотрел на закат, предвещающий солнце, которому предстояло осветить наш завтрашний праздник, как вдруг брат Лили, Георг, мальчик весьма непосредственный, не чинясь, вбежал в комнату и беспощадно объявил нам, что завтрашний праздник отменяется; он-де сам не знает, почему и отчего, но сестра велела сказать, что никак не может приехать к полудню и принять участие в предполагаемом торжестве, ей удастся быть разве что вечером. Она прекрасно знает, как горько будет это известие мне и нашим друзьям, и очень, очень просит меня, которому она поручает передать эту весть остальным, по мере возможности ее смягчить, за что она будет мне бесконечно признательна.
Я помолчал минуту-другую, потом меня словно осенило свыше. «Живо, — крикнул я, — отправляйся к ней, Георг, и скажи, чтобы она не тревожилась, но непременно постаралась быть к вечеру; я обещаю, что эта неприятность послужит поводом для празднества». Мальчика разобрало любопытство: «Как так?» — но я ни слова ему не сказал, хотя он хитростью и даже силой старался у меня что-нибудь выпытать, пользуясь правами брата любимой.
Не успел он уйти, как я не без самодовольства стал прохаживаться взад и вперед по комнате, радуясь, что мне предоставляется случай выгоднейшим образом показать, сколь усердно я служу ей. Я взял несколько листов бумаги, сшил их красивыми шелковыми нитками, словно для поздравительного стихотворения, и торопливо вывел заглавие:
«ОНА НЕ ПРИЕДЕТ!
Жалостная семейная драма, которая, увы, натуральнейшим образом будет разыграна 23 июня 1775 года в Оффенбахе-на-Майне. Действие продолжается с утра до вечера».
От этой шутки ни у меня, ни у кого-либо из моих друзей не сохранилось ни списка, ни даже наброска; поэтому мне придется вроде как заново сочинить ее, что, впрочем, я сделаю без особого труда.
Место действия: дом и сад д’Орвиля в Оффенбахе; открывают действие слуги, причем каждый играет свою особую роль, давая понять зрителю, что идут приготовления к празднику. Дети, списанные с натуры, участвуют в их хлопотах: затем появляются хозяин и хозяйка дома, тоже что-то делают и отдают распоряжения; среди этой спешки и суматохи вдруг входит неутомимый сосед, композитор Ганс Андре; он садится за фортепьяно и всех скликает прослушать только что законченную им праздничную песнь и прорепетировать ее. Он было собрал вокруг себя всех домашних, но они снова расходятся, ибо дела их не терпят отлагательства; один отзывает другого, другой не может обойтись без третьего; появление садовника привлекает внимание зрителя к сценам в саду и на воде; венки, ленты с надписями изящнейшего содержания — ничто не позабыто.
Когда действующие лица собираются в саду, входит вестник; этому веселому переносчику вестей между влюбленными подобает характерная роль: неумеренные чаевые давно помогли ему сообразить, в чем здесь дело. Он решает извлечь пользу от передачи порученного ему пакета, надеется на стакан вина с булочкой и, немного поломавшись, отдает депешу. У хозяина дома опускаются руки, бумаги падают на пол, он восклицает: «Пустите меня к столу! Пустите к комоду, я должен что-нибудь смахнуть!»
В молодом и жизнерадостном обществе нередко бывают в ходу символические выражения и жесты; своего рода воровской жаргон, доставляющий огромное удовольствие посвященным, неуловимый для посторонних или же, в противном случае, достаточно для них неприятный.
То, что мы здесь словом и листом обозначаем как «смахнуть», намекало на одну из очаровательных выходок Лили; словцо это всплывало всякий раз, когда кому-нибудь, сидевшему за столом или перед другой гладкой поверхностью, случалось обронить неуместное замечание или затеять бестактный разговор.
Началось все с премилой шалости Лили, которую она себе позволила, когда малознакомый гость, сидя рядом с нею за столом, совершил какую-то неподобающую оплошность. Глазом не моргнув, она грациозно провела правой рукой по скатерти и спокойно смахнула на пол все, чего коснулась: нож, вилку, хлеб, солонку, даже что-то из прибора своего соседа. Все перепугались, подбежали слуги, никто не знал, как это понять, кроме ближайших очевидцев, радовавшихся, что ей удалось столь изящно и мило замять неловкость.
Так это происшествие сделалось символом устранения различных неловкостей, всегда могущих иметь место в почтенном, благомыслящем и достойном, но не одинаково благовоспитанном обществе. Отстраняющий жест правой рукой мы все позволяли себе; смахивать предметы считалось прерогативой Лили, которой она, впрочем, пользовалась более чем умеренно и тактично.
Когда сочинитель в своей пьесе навязал хозяину страсть все «смахивать» в качестве пантомимического движения, это не могло не произвести эффекта: он угрожает смахнуть все и отовсюду, остальные хлопочут вокруг него, стараясь его удержать, покуда он в изнеможении не падает в кресла.
«Что случилось? — спрашивают его. — Она больна? Умер у нее кто-нибудь?» — «Читайте! Читайте! — кричит д’Орвиль. — Вон она лежит на полу, эта депеша!» Ее поднимают, прочитывают, стонут: «Она не приедет!»
Первый испуг подготовлял еще бо́льший — но ведь она в полном здравии, с нею ничего не случилось! В семье тоже все благополучно, значит, остается надежда на вечер.
Наконец появляется Андре, все это время неустанно игравший на фортепьяно, старается всех утешить и утешается сам. Явление пастора Эвальда с супругой тоже достаточно характерно: они огорчены, но, как всегда, благоразумны, от удовольствия отказываются неохотно, но со смирением. Между тем суматоха продолжается вплоть до прихода дядюшки Бернара — образчика сдержанности; он рассчитывает на хороший завтрак, а потом и на отличный праздничный обед. Дядюшка Бернар единственный, кто трезво оценивает происходящее, произносит умиротворяющие разумные речи и, словно бог в греческой трагедии, немногими словами разрешает смятение героев.
Все это было торопливо набросано за несколько ночных часов и вручено посыльному с тем, чтобы к десяти часам утра рукопись была доставлена в Оффенбах.
Проснулся я солнечным и ясным утром, с твердым намерением к полудню, в свою очередь, быть в Оффенбахе.
Я был встречен целым кошачьим концертом возражений и неудовольствий: о несостоявшемся празднике никто и не упоминал; меня бранили и поносили на все лады за то, что я так метко всех изобразил. Слуги были довольны, что их вывели вместе с господами, и только дети, неисправимые и неподкупные реалисты, упрямо твердили, что ничего подобного они не делали и вообще все было совсем не так. Я угомонил их преждевременным десертом, и они как были, так и остались моими друзьями. Веселый и скромный обед навел нас на мысль встретить Лили без особой торжественности, но зато тем сердечнее и милее. Она приехала и, увидев вокруг оживленные, радостные лица, была даже несколько уязвлена тем, что в ее отсутствие мы могли так беспечно веселиться. Ей все рассказали, во все ее посвятили, и она, с ей одной свойственной мягкой и очаровательной манерой, меня поблагодарила.
Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что ее отсутствие на празднике, ей посвященном, было не случайно, а вызвано бесконечными пересудами о наших отношениях. Надо заметить, что это не повлияло ни на наши чувства, ни на наше расположение духа и поведение.
Множество гостей съезжалось в то время года из города. Я нередко приходил лишь поздно вечером и заставал Лили по видимости оживленно их занимавшей. Появляясь у них лишь на час-другой, я старался быть ей полезен, оказывать услуги, выполнять ее поручения. Служить любимой — может ли быть что-нибудь приятней? Об этом достаточно сильно, хотя и примитивно повествуют старинные рыцарские романы. Невозможно было не видеть, что Лили властвует надо мной, и она могла себе позволить этого не скрывать и этим гордиться; в подобных случаях одинаково торжествуют победитель и побежденный, и оба испытывают гордость.
Во время этих частых, хотя и кратких посещений мое воздействие на общество становилось все сильнее. У Иоганна Андре всегда была в запасе музыка; я тоже приносил новинки, свои и чужие; дождем сыпались цветы поэзии и музыки. То было поистине блистательное время; общество пребывало в состоянии экзальтации, минуты отрезвления почти не наступали. Не сомневаюсь, что так влияли на него наши с Лили отношения. Ибо любовь и страсть, выступая смело и свободно, сообщают мужество и робким душам, которые вскоре уже не понимают, что ж они-то таятся и не пользуются своими правами. Теперь стали выступать на свет, худо ли, хорошо ли, но доселе скрытые отношения, утратившие свой прежний робкий характер: другие, все еще не обнаруженные, неприметно текли по общему руслу.
Если всё множившиеся труды и заботы мешали мне проводить с нею дни, то летние вечера предоставляли нам возможность долгих прогулок на вольном воздухе. Любящим, вероятно, придется по душе следующий рассказ.
Это было состояние, о котором сказано: «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Сутки не делились на светлые и темные часы; дневной свет не мог пересилить света любви, а ночь, озаренная ее сиянием, становилась ясным днем.
Под вызвездившим небом мы однажды до поздней ночи гуляли по полям и лугам; потом я от дома к дому ходил провожать всю компанию и, наконец простившись и с Лили, почувствовал, что сна у меня нет, что называется, ни в одном глазу, и решил в одиночестве совершить еще одну прогулку. Я двинулся вперед по франкфуртской дороге, всецело предавшись своим мечтам и надеждам, потом присел на скамью, окруженную глубокой тишиной ночи, чтобы под ослепительно звездным небом принадлежать только Лили и себе.
Мое внимание привлек какой-то необъяснимый звук, совсем близко от меня, не шорох и не шелест; прислушавшись, я понял, что это под землею трудится зверек — еж, или хорь, или другое создание, работающее в ночи.
Я снова пустился в путь по направлению к городу и дошел до Редерберга; мне бросился в глаза белый известковый блеск ступеней, ведущих к виноградникам. Поднявшись наверх, я присел и уснул.
Проснулся я уже в предрассветных сумерках; рядом высилась насыпь, в давние времена сооруженная для защиты от горных обвалов. Саксенгаузен простирался внизу, подо мной, легкая дымка тумана обозначала извивы реки; воздух был прохладным и бодрящим.
Я продолжал сидеть, покуда солнце, мало-помалу встававшее за моей спиной, не осветило местность, лежавшую напротив. Там предстояло мне вновь увидеть любимую, и я вернулся в рай, в котором она обитала, в этот час еще спящая.
Чем больше я старался из любви к ней расширить круг своих дел и утвердить свое влияние, тем реже становились мои наезды в Оффенбах, что, конечно, не могло не вызывать досадливого недоумения, и тем больше мне уяснялось, что во имя будущего я отодвигаю на задний план настоящее и ставлю его под угрозу.
Поскольку мои виды на будущее постепенно приобретали надежный характер, я счел их благоприятнее, чем они были на самом деле, и стал думать о решительном шаге, тем более что нескрываемые отношения такого рода не могли уже продолжаться без различных неудовольствий. Как это часто бывает в подобных случаях, мы друг с другом напрямик о планах на будущее не говорили, но чувство безусловного взаимного тяготения, полная убежденность в невозможности разрыва, непоколебимое взаимное доверие — все это было так серьезно, что я, несмотря на твердое решение избегать затяжных любовных историй, запутался в оной даже без уверенности в ее удачном исходе и впал в полное отупение, спасаясь от которого только глубже увязал в трясине безразличных мне житейских дел, опять-таки надеясь извлечь из них пользу и довольство для моей возлюбленной.
В этом странном душевном состоянии, мучившем, вероятно, многих влюбленных, нам на помощь пришла одна знакомая, некая демуазель Дельф, как свои пять пальцев знавшая взаимоотношения и обстоятельства лиц нашего круга. Вместе со старшей сестрой она владела небольшим торговым домом в Гейдельберге и при значительном товарообмене с Франкфуртом в ряде случаев заслужила благодарность тамошних граждан. Она знала и любила Лили с детства. Это была особа весьма своеобразная, с суровой, мужеподобной внешностью, с быстрой, но размеренной и печатающий шаг походкой. Ей нужно было втираться в свет, и потому она, в известном смысле, знала его. Интриганкой ее нельзя было назвать; она обычно долго приглядывалась к отношениям между людьми, тая про себя свои намерения; зато у нее был талант улучать подходящий момент, и если те, кому она покровительствовала, начинали выказывать сомнения или нерешительность там, где надо было уже переходить к решительным действиям, она проявляла такую энергию, что ей без труда удавалось осуществлять свои замыслы. Эгоистических целей она, собственно говоря, не преследовала; наградой ей служило сознание, что она чего-то добилась, что-то устроила, в особенности когда речь шла о свадьбе. Наше состояние она давно разгадала, проверила его во время своих многочисленных посещений и пришла к выводу, что эту любовь надо поощрить, эти намерения, честные, но недостаточно настойчивые, поддержать и поскорее завершить наш маленький роман.
В течение многих лет она была доверенной матери Лили. Я ввел ее в наш дом, и она сумела заслужить расположение моих родителей. Дело в том, что такой крутой характер при наличии разума и здравого смысла в имперских городах не только никого не отвращает, но, напротив, весьма почитается. Ей были досконально известны наши желания и надежды; ее деятельная натура усмотрела в этом особую задачу — словом, она вступила в переговоры с семьями той и другой стороны. Как она их начала, как устранила препятствия, которые неизбежно должны были возникнуть, не знаю; так или иначе, но однажды вечером она вошла к нам и объявила, что родители согласны. «Подайте друг другу руки!» — воскликнула она патетически и повелительно. Стоя напротив Лили, я протянул ей руку; она вложила в нее свою, не колеблясь, но медленно. Мы перевели дыхание и, растроганные, заключили друг друга в объятия.
Удивительно было предначертанье всевышнего — в течение необычной моей жизни заставить меня испытать и то, что происходит в душе жениха.
Считаю себя вправе сказать, что у человека нравственного не может быть воспоминания приятнее. Как радостно вновь испытывать чувства, с трудом высказываемые и едва объяснимые. Прежнее твое состояние изменилось до неузнаваемости; наиболее резкие противоречия устранены, упорные раздоры сглажены, властный голос природы, вечно предостерегающий разум, тиранящие тебя влечения и разумные законы — все сходится в дружественном согласии, и в эти всеми празднуемые, исполненные благочестия дни запретное становится обязательным, недозволенное — долгом.
Читатель, вероятно, в душе одобрит известную перемену в моем душевном состоянии. Если раньше моя любезная представлялась мне прекрасной, обворожительной и влекущей, то теперь она была в моих глазах достойной и значительной. Двойственным сделался ее облик; ее прелесть, ее очарование принадлежали мне, и я ощущал их как прежде, но высокие свойства ее характера, ее уверенность в себе, ее положительность, — этим сна владела одна. Я все это видел, понимал и радовался, словно капиталу, с которого всю жизнь буду пользоваться процентами.
Давно уже небеспричинно и небезосновательно сказано: на вершине благополучия долго не продержишься. Согласие родителей той и другой стороны, столь своеобразно добытое девицей Дельф, всеми было принято как нечто само собой разумеющееся и обсуждению не подлежащее. Однако едва нечто идеальное, а так по справедливости можно было назвать нашу помолвку, вступает в жизнь и все трудности, казалось бы, остаются позади, возникает кризис. Внешний мир беспощаден, и по праву, ибо ему надлежит раз и навсегда себя утвердить; велика надежность любви, но и она не раз разбивалась о противостоящую ей действительность. Молодые супруги, особенно в более зрелом возрасте, если они не располагают достаточными денежными средствами, вряд ли могут надеяться на счастливые медовые месяцы; внешний мир предъявляет им жесточайшие требования, и молодая чета, не имея возможности удовлетворить таковые, оказывается в тяжелом и нелепом положении.
В несостоятельности средств, к которым я добросовестно прибег для достижения своей цели, я не мог убедиться своевременно, ибо до известного момента они мне казались удовлетворительными. Теперь, когда я был близок к цели, то тут, то там стали обнаруживаться прорехи.
Самообман, которым так утешается любовь, мало-помалу раскрывался мне во всей своей несообразности. Я был обязан трезвым взглядом окинуть свой дом, мое положение в нем и некоторые особенности нашей семьи. Разумеется, я знал, что все готово к приему невестки, — но какою представлялась моим родителям эта будущая невестка?
В конце третьей части мы познакомились с девушкой, выдержанной, милой, разумной, красивой и домовитой; уравновешенная, исполненная любви, но чуждая страстей, она могла бы стать ключевым камнем уже возведенного свода. Теперь же, если вдуматься серьезно и беспристрастно, приходилось признать, что для новой избранницы свод надо было бы возводить заново.
Между тем ни я, ни она еще не уяснили себе этого. Присматриваясь к своему дому и думая, что мне предстоит ввести Лили в него, я начинал понимать, что она не подходит к нашей семье. Ведь и мне, бывая в ее обществе, приходилось чаще, чем обычно, обновлять свой гардероб, чтобы не выделяться среди молодых людей, одетых по последней моде. Но ведь уклад недавно перестроенного солидного бюргерского дома, чья устарелая пышность, казалось, отодвигала его в далекие времена, так просто не обновишь!
Вдобавок между моими родителями и ее матерью, несмотря на данное ими согласие, семейной близости так и не установилось. Иная религия, иные нравы! И если бы моя любезная пожелала хоть до некоторой степени продолжать свой прежний образ жизни, то в нашем просторном доме она не нашла бы достаточно места и ни в ком бы не встретила одобрения.
Если до сих пор все это мало меня тревожило, то, верно, оттого, что спокойствие и нравственное подкрепление я черпал вовне, не без оснований надеясь на выгодную должность. Дух деятельный и неутомимый укореняется на любой почве; способности, талант внушают доверие; каждый думает: все дело в том, в какую сторону эти способности повернуть. Настойчивая юность повсюду встречает благосклонное отношение: от гения ждут всего, что угодно, если ему удалось хотя бы что-то создать.
Немецкую духовно-литературную почву той поры следовало рассматривать как новину. Среди дельцов тогда уже находились умные люди, искавшие для этой новины усердных пахарей и дельных землеуправителей. Даже почтенная и разумно устроенная массонская ложа, со знатнейшими членами которой я познакомился в доме Лили, предприняла некоторые дипломатические шаги, чтобы привлечь меня. Я же, из чувства независимости, впоследствии представлявшегося мне безумием, отказался от более тесного сближения, не понимая, что эти люди, объединившиеся для высших целей, могли бы способствовать осуществлению моих намерений, по духу им столь близких.
Но возвратимся к некоторым частностям. В таких городах, как Франкфурт, существовали компании на паях, как-то различные представительства и агентства, которые, по мере развития своей деятельности, могли расширяться до бесконечности. Место в одной из таких компаний было предложено и мне, — на первый взгляд весьма выгодное и почетное. Считалось, что я, безусловно, для него подойду, да так бы оно и было, сохранись наше пресловутое канцелярское трио. О своих сомнениях люди обычно сами перед собой умалчивают, колебания же преодолевают усиленной деятельностью. Какая-то фальшь просачивается в существование человека, но любовь от этого меньше не становится.
В мирное время для людей нет чтения более приятного, нежели газеты, поспешно сообщающие о всех событиях в мире. Спокойный, благополучный бюргер невинно упражняет на них свой партийный дух, от которого мы в своей ограниченности не можем избавиться, да, впрочем, и не должны. Каждый довольный собою гражданин, словно на пари, выдумывает для себя какой-нибудь интерес, незначительный выигрыш или проигрыш и, таким образом, как в театре, принимает живое, хотя и воображаемое участие в чужой удаче или в чужой беде. Подобное участие, хоть и кажется произвольным, на деле имеет под собою нравственную основу. Ибо мы то рукоплещем похвальным намерениям, то, увлеченные блестящим успехом, примыкаем к тому, чьи планы безусловно бы осудили раньше. Для всего этого тогдашнее время поставляло обильный материал.
Фридрих Второй, опираясь на свою силу, казалось, все еще вершит судьбы Европы и остального мира. Екатерина, великая женщина, сама признавшая себя достойной престола, предоставляла высокоодаренным людям полный простор для расширения могущества их властительницы, — а так как происходило это за счет турок, которым мы за презрение к нам щедро платили тою же монетой, то даже когда эти нехристи гибли тысячами, считалось, что человеческих жертв не было. Пылающий флот в Чесменской бухте стал поводом для ликования всего цивилизованного мира; каждый ощущал себя причастным к торжеству победителей, когда на Ливорнском рейде был взорван военный корабль, дабы художник мог увековечить на холсте великую победу под Чесмой. Через недолгое время молодой северный король столь же самовластно захватывает бразды правления. Аристократы, у которых он отнял власть, ни в ком не возбуждают сожаления, аристократия вообще не пользуется благоволением масс, ибо по самой своей природе действует в тиши и чувствует себя тем увереннее, чем меньше о ней говорят. Посему молодой король лишь возвысился в общем мнении оттого, что, желая ослабить высшие сословия, всемерно поощрял низшие, чем и привлек их на свою сторону.
Но еще более живой интерес пробудился в мире, когда целый народ возмечтал было отвоевать себе свободу. Подобный спектакль, лишь в уменьшенном масштабе, и раньше смотрелся с удовольствием: все взгляды были устремлены на Корсику; Паоли, убедившись, что не сможет довести до конца свое патриотическое предприятие, поехал в Англию через Германию и привлек к себе все сердца. Это был красивый стройный блондин, обаятельный и приветливый. Я виделся с ним у Бетмана, в доме которого он некоторое время жил, любезно и даже весело встречая стекавшихся к нему любопытных. Теперь на другом полушарии повторились сходные события. Пожелания счастья американцам были у всех на устах; имена Франклина и Вашингтона яркими звездами засияли на политическом и военном небосводе. Многое было сделано для облегчения жизни человечества, а когда новый, благожелательный французский король вознамерился, ограничив свою власть, достигнуть высоких целей — устранить многочисленные злоупотребления и ввести разумное государственное управление, а также покончить с произволом и отныне управлять лишь посредством порядка и права, — то самые радужные надежды забрезжили для человечества, а доверчивая юность уже полагала, что ее и все поколение современников ждет прекрасное, светлое будущее.
Всеми этими событиями я интересовался лишь постольку, поскольку интересовались ими широкие круги общества. Сам я и узкий круг, в котором я вращался, ни за газетами, ни за новостями пристально не следили: нам важно было познать человека, о познании человечества мы не заботились.
Умиротворенное состояние немецкого отечества, в котором уже более ста лет пребывал и мой родной город, несмотря на войны и потрясения, позволило ему полностью сохранить свой облик. Мирному его духу способствовало то, что от самого верха и до низа, от императора до еврея, многоступенчатая сословная лестница, казалось, не разделяла, а, напротив, объединяла людей. Если короли и подчинялись императору, то право избрания, за ними закрепившееся, а также завоеванные и утвержденные привилегии вполне это уравновешивали. К тому же высшая знать теперь стояла в одном ряду с королями и в сознании своих преимуществ могла почитать себя равной им, а в известном смысле даже стоящей выше, поскольку духовные курфюрсты, как отпрыски высшей иерархии, занимали первенствующее и незыблемое положение.
Если принять во внимание чрезвычайные выгоды, которыми, помимо всего прочего, старинные роды пользовались в епископствах, рыцарских орденах, в духовных коллегиях, во всевозможных обществах и братствах, то нетрудно будет себе представить, что это множество знатных людей, чувствовавших себя одновременно и субординированными, и уравненными в правах, проживало свою жизнь в величайшем довольстве, предаваясь упорядоченной мирской деятельности и без особого труда подготовляя столь же беспечное и обеспеченное существование для своих потомков. Этот класс был не лишен и умственной культуры, ибо уже целое столетие высшее военное и гражданское образование считалось необходимым в знатных и дипломатических кругах, не говоря уже о том, что литература и философия становились властительницами умов и возводили их на высоту, едва ли даже соответствовавшую современному положению вещей.
В Германии никому еще не приходило в голову завидовать этой огромной привилегированной массе или посягать на ее преимущества. Среднее сословие, невозбранно занимаясь торговлей и науками, да еще родственной этим занятиям техникой, вскоре стало весьма значительным противовесом знати; свободные и полусвободные города тем более поощряли эту деятельность, и люди занимались ею в спокойствии и довольстве. Тот, кто умножал свое богатство и расширял круг знаний, прежде всего в юриспруденции и в государственных делах, повсюду обеспечивал себе влияние. Недаром в высших имперских судах против дворянской скамьи ставили скамью для ученых. Более широкие горизонты, открывавшиеся первым, прекрасно сочетались с проникновенными знаниями вторых; и вне стен суда это никакого соперничества не порождало. Знать была уверена в своих недостижимых, освященных временем привилегиях, бюргер же считал ниже своего достоинства стремиться к видимости таковых путем приставки «фон» к своей фамилии. Купцу и технику приходилось немало трудиться, чтобы как-то конкурировать с более развитыми странами. Если не задерживаться на обычных и будничных отклонениях, то можно смело сказать, что то было время чистых устремлений, ранее неведомых и недолго просуществовавших в силу обострившихся внутренних и внешних противоречий.
В ту пору мое положение относительно высших сословий было вполне благоприятным. Если в «Вертере» и говорилось с нетерпеливым негодованием об оскорбительных недоразумениях, возникавших на рубеже двух сословий, то это вязалось со страстным тоном всей книги, и каждому было ясно, что автор не призывает своих сограждан к прямому непокорству.
«Гец фон Берлихинген» тем более сблизил меня с высшими сословиями. В нем хоть и нарушены каноны предшествующей литературы, но зато на основе долгого изучения тщательно воссоздан старонемецкий уклад с неуязвимым императором во главе, с многоразличными ступенями государственного устройства и рыцарем, единственным из всех, кто в ту беззаконную эпоху решился на свой страх и риск действовать, руководствуясь если не законом, то правом, отчего он и попал в столь трудное, запутанное положение. Комплекс этот был взят не из воздуха, а почерпнут из самой жизни, и потому местами несколько модернизован, но всегда с соблюдением духа и смысла рассказа доблестного Геца о себе, а значит, чуть-чуть пристрастно.
Его род все еще процветал; неизменным осталось в этом роду и отношение к франконскому рыцарству, пусть в какой-то мере поблекшее и под воздействием времени утратившее былую страстность. Речушка Якст и замок Якстгаузен внезапно обрели поэтическую значимость и стали местом паломничества, как и ратуша в Гейльбронне.
Многим было известно, что я лелеял мысль воссоздать и другие события из истории тех времен, и некоторые родовитые семьи надеялись, что мне удастся как бы вновь возродить их предков.
Нация всегда испытывает удовлетворение, если ей умело напоминают об ее истории; она радуется добродетелям предков и посмеивается над их недостатками, полагая, что давно их преодолела. Посему историческому произведению, как правило, сопутствует успех и сердечное участие публики, в чем я имел случай неоднократно убедиться на примере своей пьесы.
Примечательно, что среди множества молодых людей, теперь меня окружавших, не было ни одного из знатного дворянского рода; зато многим из тех, что разыскали меня и стали частыми посетителями нашего дома, было уже под тридцать, и во всех их устремлениях и мечтах сквозила радостная надежда на то, что они сумеют здесь пополнить свое образование как по части истории своего отечества, так и в общечеловеческом смысле.
В то время вообще наметился и быстро возрос интерес к эпохе между XV и XVI столетием. Мне попались сочинения Ульриха фон Гуттена, и я был поражен, что в наше время на поверхность вновь всплыло нечто сходное с тем, что происходило тогда.
Поэтому мне кажется уместным привести здесь письмо Ульриха фон Гуттена Вилибальду Пиркгеймеру.
«То, что дало нам счастье, снова его у нас отнимает, да и все прочее, извне прилепившееся к человеку, как мы видим, подвластно случаю. Вот я стремлюсь к почестям и хочу, не злобствуя, их добиться, все равно как, ибо неутомимая жажда славы одолевает меня и благородства я хочу не меньше. Плохо было бы мое дело, любезный Вилибальд, если б я уже теперь мнил себя благородным, хоть я и родился в непростой семье, в благородном сословии, от благородных отца и матери. Все равно облагородить себя мне должно собственными стараниями. Видишь, какой высокий замысел я лелею. Да что там, подымай выше! Не то чтобы я хотел возвыситься до сословия более знатного и блестящего — не там я ищу источник, из коего можно почерпнуть особое благородство, а не просто быть сопричисленным к высокомерной знати; я довольствуюсь тем, что досталось мне от предков, к этим благам я хочу прибавить малую толику и от себя, что перешло бы от меня к моему потомству.
Вот на что устремляю я свои труды и усилия, наперекор мнению тех, которые сущее считают достаточным; мне же этого мало, ведь я изложил тебе смысл моего честолюбия. Признаюсь еще, я не питаю зависти к тем, что, поднявшись из низов, превзошли меня; никак не согласен я с мужами моего сословия, поносящими простолюдинов, кои возвысились по своим заслугам. Ибо по праву можно считать предпочтенными тех, что прибрали к рукам материю для славы, нами оставленную в небрежении, пусть то будут сыновья суконщиков или кожевников; они одолели больше трудностей, чем потребовалось бы нам на достижение того же самого. Неученого, который завидует славному своими знаниями, следует назвать не только глупцом, но жалким из жалких. А ведь этим пороком страдает наша знать, и такие украшения ей не по вкусу. Бог мой, можно ли завидовать тому, кто владеет, чем мы пренебрегли? Почему мы сами прилежно не изучали законов? Почему не проникли в тайны учености и изящных искусств? Суконщики, сапожники и каретники нас опередили. Почему мы уступили им место, почему свободное учение предоставили слугам, а сами довольствуемся их темнотой? Наследием людей высокородных, которым мы пренебрегли, может завладеть каждый, кто ловок и усерден, чтобы потом в своей деятельности им пользоваться. А нам, злосчастным, предавшим забвению то, что возвышает над нами любого простолюдина, пора перестать завидовать, пора попытаться достигнуть того, на что, к вящему нашему посрамлению, посягают другие.
Стремление к славе всегда почетно, борьба за дельную цель — похвальна. Пусть же у каждого сословия будет своя честь, своя краса! Я не хочу с презрением смотреть на портреты предков и красиво разрисованные родословные. Но каково бы ни было их достоинство, негоже нам его присваивать, ибо только собственные заслуги могут даровать его нам. И так же не может сохраниться это достоинство, если знать не усвоит приличествующих ей нравов. Напрасно будет дородный отец семейства хвалиться перед тобою портретами предков, в то время как сам он сидит чурбан чурбаном и нисколько не похож на тех, что своими делами завоевали себе почет и уважение.
Вот все, что я мог столь же пространно, сколь и чистосердечно сказать тебе о сути моего честолюбия».
Разумеется, не в таком последовательном изложении, но я не раз слышал от моих знатных друзей и знакомых такие же дельные, серьезные соображения, результат которых сказывался в их честной деятельности. Тогдашним кредо сделалось: благородство нужно приобрести самому, — и если в ту прекрасную пору и наблюдалось какое-нибудь соперничество, то шло оно сверху вниз.
Мы, прочие, имели то, чего желали: свободное и поощряемое применение данных нам природой талантов, поскольку таковое было совместно с нашим положением бюргеров.
Что касается моего родного города, то он находился в особенно выгодном положении, недостаточно всеми осознававшемся. Если жизнь северных свободных имперских городов зиждилась на широкой торговле, в южных же, где условия для нее были менее благоприятны, — на искусстве и технике, то во Франкфурте-на-Майне существовал некий комплекс: торговля, капитал, владение землей и домами, наука и коллекционирование.
Всем заправляли лютеране: сородичи и сонаследники старинного дома Лимпургов, а также дом Фрауенштейнов, поначалу просто клуб, позднее, при потрясениях, вызванных низшими сословиями, сохранявший разумное спокойствие; юристы и прочие зажиточные и благомыслящие люди — все могли теперь избираться в магистрат; даже ремесленники из цехов, не примкнувших в смутное время к повстанцам, были представлены в совете Франкфурта, хотя и без права занимать высшие должности. Другие учреждения, не противоречившие конституции, но отчасти служившие противовесом совету, давали многим горожанам полный простор для деятельности, тем паче что, при счастливом местоположении Франкфурта, торговля и техника могли расширяться сколько угодно.
Высшая знать держалась замкнуто и неприметно, ни в ком не возбуждая зависти. Второе, ближайшее к ней сословие, обеспеченное унаследованными состояниями, должно было действовать уже энергичнее, стараясь выдвинуться своей ученостью на поприще права и судопроизводства.
Так называемые реформаты, подобно refugiés[48] в других местах, составляли обособленный класс, и когда они по воскресеньям выезжали в роскошных экипажах к своей обедне в Бокенгейм, это всякий раз носило характер открытого триумфа над бюргерами, каковые пользовались привилегией при солнце и в дождь пешком отправляться в церковь.
Католики пребывали в тени, но и они постепенно приобщались к выгодам, предоставленным лютеранам и реформатам.
КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Возвращаясь к делам литературным, я вынужден подробнее остановиться на одном обстоятельстве, оказавшем большое влияние на немецкую поэзию той поры, тем более что оно продолжает воздействовать на ее развитие и поныне и навряд ли утратит свое значение в будущем.
Немцы с давних времен привыкли к рифме; стихотворцу она облегчала его работу, сводя ее к наивному подсчету слогов. Позднее, изощряясь в искусстве стихосложения, поэты инстинктивно старались в большей или меньшей степени сообщать должный смысл и выразительность этим слогам, что многим из них удавалось. Рифма обозначала конец или же, в более коротких строках, смысловое членение поэтического периода, а неустанно развивающийся слух заботился об изяществе и разнообразии стиха. И вдруг от рифмы отказались, не подумав о том, что в вопросе о достоинстве слогов еще никто толком не разобрался, да и не так просто было это сделать. Клопшток первым вступил на эту стезю. Сколь многого он достиг — общеизвестно. Все чувствовали рискованность его предприятия, никто не решался следовать за ним, и, подчиняясь новым влияниям, стихотворцы обратились к поэтической прозе. Очаровательные идиллии Гесснера здесь открыли бескрайние возможности. Клопшток написал ритмической прозой диалог в «Битве Германа», а также «Смерть Адама». Благодаря мещанским трагедиям и драмам в театре возобладал высокий, чувствительный стиль, и, напротив, пятистопный ямб, распространившийся у нас под влиянием англичан, приблизил поэзию к прозе; и все же большинство стихотворцев не хотело поступаться ритмом и рифмой. Взыскательный к собственным творениям Рамлер столь же взыскательно относился к творениям других поэтов. Руководствуясь достаточно зыбкими принципами, он претворял прозу в стихи, исправлял и изменял чужие произведения, не сыскав ничьей благодарности, и лишь усложнил без того запутанную ситуацию. Лучше всех удавались стихи тем, кто остался верен рифме и в то же время сообщал благозвучие слогам, полагаясь на собственный вкус и придерживаясь никем не писанных законов, как то делал Виланд, неподражаемое мастерство которого долго служило образцом для менее даровитых поэтов.
Неуверенность владела всеми, и даже среди лучших не было никого, кто бы подчас не сбивался с толку. Этим объясняется тот печальный факт, что так называемая гениальная Эпоха нашей поэзии породила лишь очень немного произведений, которые могут быть названы истинно совершенными в своем роде; время и здесь скорее требовало, побуждало, устремляло вдаль, нежели призывало к сосредоточенности и плодотворному самоограничению.
Для того чтобы поэзия вступила на твердую почву, обрела стихию, в которой можно свободно дышать и творить, пришлось податься вспять, отступить на несколько столетий — в эпоху, когда из хаоса событий внезапно воспрянул блистательный строй могучих дарований; это-то и сроднило нас с поэзией тех далеких времен. От миннезингеров нас отделяла чрезмерная давность; здесь пришлось бы начать с изучения их языка, а это нас не прельщало: нам хотелось жить, а не учиться.
Всех ближе был для нас Ганс Сакс, истинный мастер поэзии, бесспорный талант, правда, не рыцарь и не придворный, как те песнопевцы, а — нам под стать — всего лишь честный бюргер. Его дидактический реализм пришелся нам по вкусу, и мы при случае охотно прибегали к его подвижному ритму и доходчивой рифме. Его бесхитростный лад, как нам казалось, вполне отвечал насущным потребностям дня; в такой-то именно поэзии мы и нуждались.
Коль скоро даже значительнейшие произведения, на создание которых потребны были труды и раздумья многих лет, а то и всей жизни, тогда воздвигались на столь сомнительной почве и по столь легкомысленно-случайным поводам, то тем легче будет себе представить, как дерзостно иной раз слагались другие, преходящие сочинения, к примеру — стихотворные эпистолы, параболы и всякого рода инвективы, посредством которых мы воевали друг с другом и вступали в схватку с внешним миром.
Из этих произведений, частично уже обнародованных, иные пока оставлены под спудом, но пусть и они сохранятся для потомства. Краткие мои заметки помогут внимательным читателям уяснить себе их истоки и назначение. Более проницательные умы, которым доведется с ними ознакомиться, быть может, благосклонно заметят, что в основе всех этих эксцентричностей лежали честные намерения. В них чистые помыслы борются с ложными притязаниями, природа — с рутиной, талант — с условностью форм, гений — сам с собой, сила — с дряблостью, неразвитые способности — с велеречивой посредственностью, — словом, на все это можно взглянуть как на перестрелку форпостов, последовавшую за формальным объявлением войны, как на начало ожесточенной схватки. Этот бой, собственно, длится вот уже пятьдесят лет, только что — в более высокой сфере.
Я задумал написать по образу и подобию старонемецких балаганных кукольных комедий озорную вещицу под названием «Свадьба Гансвурста». Ее сюжет сводится к следующему: Гансвурст, богатый крестьянский парень, давно лишившийся родителей, достиг совершеннолетия и возымел желание взять себе в жены богатую девушку, по имени Урсель Бландина. Его опекун Килиан Брустфлек, мать Урсель, да и все прочие вполне одобряют его выбор. Их давние планы, их лучшие надежды близки к осуществлению. С этой стороны не предвидится каких-либо препятствий, горячее желание молодых людей обладать друг другом отсрочено лишь предстоящей свадьбой и неизбежными хлопотами, связанными с нею. В прологе выступает Килиан; он произносит предусмотренную обычаем речь и заканчивает ее стишком:
В трактире «Золотая вошь»
Почет и яства ты найдешь[49].
Во избежание упреков в нарушении единства места в глубине сцены высится ярко освещенный трактир с броской вывеской; он поставлен на вертлюг, чтобы можно было видеть все четыре его стороны при соответствующей смене передних кулис.
В первом действии трактир повернут к улице фасадом, на котором сверкает золотая надпись, искусно наведенная посредством солнечного микроскопа; во втором действии зритель видит его сторону, обращенную к саду, в третьем — к рощице, в четвертом — к близлежащему озеру, в расчете на то, что декоратору не будет стоить особого труда заполнить водной рябью всю сцену до самой суфлерской будки.
Но к сказанному, конечно, не «водится занимательность пьесы. В ней безудержный разгул веселья не остановился и перед дерзкой затеей присвоить всем действующим лицам прозвища, сплошь состоящие из исконно немецких бранных и непристойных слов, которые сразу определяют сущность и взаимоотношения персонажей.
Питая надежду, что предлагаемое сочинение будет читаться в хорошем обществе, а также в скромном семейном кругу, мы даже не позволили себе огласить здесь список действующих лиц, как то принято делать на театральных афишах, равно как и выдержки из текста, доказывающие оправданность всех прозвищ, хоть это и дало бы нам возможность ознакомить читателей с веселыми, забавными и озорными положениями и остроумными шутками. В виде опыта прилагаем листок, предоставляя нашим издателям судить о возможности его здесь поместить.
Племянник Плут, как близкий родственник, конечно, вправе присутствовать на семейном празднике, тут и говорить не о чем. Хоть в жизни он ни к чему не пригоден, но он — родня, а коли так — от него не отречешься. Вдобавок в столь торжественный день негоже припоминать ему былые проступки.
С господином Гнусом дело обстояло уже не так просто: он не раз бывал полезен их семейству. Правда, лишь в тех случаях, когда и сам мог чем-нибудь попользоваться, но он был не прочь и напакостить, то ли ради своей выгоды, то ли просто так, ради забавы. Те, что были поумнее, высказались за него, возражавшие оказались в меньшинстве.
Имелось еще одно лицо, насчет которого трудно было столковаться, в обществе он вел семя не хуже других, был вообще-то человеком уступчивым, любезным и обязательным, но за ним числился один порок: он не терпел своего прозвища; стоило только кому-нибудь его произнести, как им мгновенно овладевало героическое неистовство, в северных сагах: зовущееся яростью берсеркеров, — он грозился всех перебить, увечил других и сам получал увечья; по его вине второе действие кончается всеобщей потасовкой.
Нельзя было отказать себе в удовольствии покарать заодно и злодея Маклота. Он приходит в деревню торговать «маклотурой» и, прослышав о предстоящем пиршестве, поддается всегдашнему искушению — за чужой счет потешить свою изголодавшуюся утробу: он-де тоже хочет погулять на свадьбе. Килиан Брустфлек проверяет обоснованность его притязания и признает таковое несостоятельным, ибо все гости — люди как-никак с немалым общественным весом, чего не скажешь о новом претенденте. Маклот и так и эдак силится доказать, что и он человек ничуть не менее почтенный. Ревностный церемониймейстер Килиан Брустфлек не слушает его резонов. Но тут красноречиво вступается за нашего перепечатника его свояк, тот самый неназванный господин с зело непечатным прозвищем, едва пришедший в себя после буйного припадка берсеркеровой ярости в конце второго действия, и Маклота волей-неволей приходится включить в число приглашенных.
Приблизительно в это же время графы Штольберги известили нас о своем желании проездом в Швейцарию задержаться во Франкфурте и непременно с нами свидеться. Дело в том, что после первого появления моих ранних поэтических опытов в геттингенском «Альманахе муз» у меня завязались с ними, как, впрочем, и со многими молодыми людьми, имена и деятельность которых хорошо известны, самые лучшие отношения. В те годы сложились довольно странные понятия о любви и о дружбе. Пылкая младость всегда готова пооткровенничать — обнажить при первом же знакомстве свою талантливую, но необузданную душу. Такого рода общение, правда предполагавшее взаимное доверие, тогда принимали за любовь, за сердечную склонность; подобно другим, и я поддался этому самообману и потом еще долгие годы горько расплачивался за спою оплошность. У меня и сейчас хранится письмо, в ту пору полученное от Бюргера; по нему нетрудно заключить, что о нравственно-эстетической культуре никто из этой буйной ватаги в ту пору и не думал. Каждый был возбужден и мнил себя обязанным поступать и творить, сообразуясь с собственной возбужденностью.
Братья прибыли, и с ними граф Гаугвиц. Я встретил их с открытой душой и неподдельным радушием. Они остановились в гостинице, но чаще обедали и ужинали у нас. Первая радостная встреча прошла как нельзя лучше, но вскоре в их повадках стала сказываться излишняя эксцентричность.
С моей матерью у них сразу установились совсем особые отношения. Ее деятельный, прямой характер как бы переносил нас в средневековье, ко двору какой-нибудь лангобардской либо византийской принцессы, при которой она состояла в качестве легендарной Айи. Госпожа Айя — так ее только и называли; эта шутка пришлась ей по душе, и она тем охотнее подыгрывала взбалмошным затеям молодежи, что уже раньше угадала в супруге Геца фон Берлихингена свое подобие.
Но так продолжалось недолго: всего несколько раз встретились мы за нашим столом, когда однажды, после двух-трех бутылок вина, вдруг прорвалась наружу поэтическая ненависть к тиранам и жажда пролить кровь сих злодеев. Отец с улыбкой покачивал головой; моя мать вряд ли была наслышана о тиранах, но тут припомнила, что видела в Готфридовой хронике гравюру на меди, изображавшую это чудовище: царя Камбиза, который, торжествуя, пронзил стрелою на глазах у отца сердце его маленького сына; этого она позабыть не могла. Чтобы дать веселый оборот новым, еще более страстным тирадам, она спустилась в погреб, где стояли большие бочки со старыми винами: тысяча семьсот сорок восьмого, двадцать шестого, девятнадцатого и даже шестого года. Они хранились под ее рачительным присмотром и подавались гостям лишь в особо торжественных случаях.
Поставив на стол граненую бутылку с пунцово-красным вином, она воскликнула: «Вот вам доподлинная кровь тирана, но чтобы в моем доме больше не помышляли о смертоубийстве!»
«Да, кровь тирана! — воскликнул и я. — Нет на свете большего тирана, чем тот, чью кровь вам предлагают испить! Наслаждайтесь ею, но с оглядкой! Бойтесь, как бы этот тиран не обольстил вас отменным вкусом и благовонием. Виноградная лоза — истинный тиран человечества, ее надлежало бы выкорчевать беспощадно! А посему изберем себе в патроны святого Ликурга Фракийского; он ревностно взялся за это благое дело, но был ослеплен и загублен дурманящим демоном Вакхом, тем самым заслужив первое место в сонме великомучеников.
Вино — злейший тиран; в нем слились воедино лжец, лицемер и насильник. Первые глотки его крови прельстительны, но одна капля неудержимо влечет за собой другую, образуя жемчужную цепь, порвать которую мы страшимся».
Тем, кто заподозрит, что я, по примеру лучших историков, подменил непринужденную беседу выдуманной речью, я скажу лишь одно: весьма сожалею, что не было среди нас скорописца, который бы тут же записал мою проповедь. Смею заверить: смысл ее был бы тем же, а изложение, быть может, еще более изящным и вразумительным. Признаться, и всему нашему пересказу недостает полноты чувств и взволнованной словоохотливости, свойственных молодежи, сознающей свои силы и дарования, но не знающей, где и как найти им достойное применение.
В таком городе, как Франкфурт, трудно избавиться от странного ощущения: непрерывный приток чужеземцев напоминает о всех странах мира и в каждом пробуждает охоту пуститься в странствие. Я и раньше, в силу разных обстоятельств, не раз уступал этому влечению. Теперь на то имелась особая причина: мне хотелось проверить, могу ли я обойтись без Лили, ибо мучительные сомнения делали меня неспособным к серьезным занятиям. Потому я даже обрадовался приглашению Штольбергов поехать с ними в Швейцарию. Поощренный уговорами отца, который очень сочувствовал моему желанию поехать на юг, в надежде, что я заодно не премину спуститься в Италию, я тотчас же на это решился и быстро собрал свои пожитки. Я расстался с Лили, ограничившись неясным намеком, по сути даже не попрощавшись: она так срослась с моим сердцем, что я еще не осознал предстоящей разлуки.
Через несколько часов я и веселые мои спутники были в Дармштадте. При тамошнем дворе, где приходилось вести себя благопристойно, бразды правления взял в свои руки граф Гаугвиц. Он был всех нас моложе, нежный юноша приятной, благородной внешности, с мягкими, добрыми чертами лица, всегда ровный, внимательный ко всем, но при этом столь сдержанный, что рядом с другими казался недотрогой. За это друзья осыпали его насмешками и всевозможными прозвищами. Впрочем, это случалось только в обстановке, дозволявшей вести себя, как подобает истым детям природы, там же, где надо было соблюдать приличия и приходилось вспоминать о своем графском достоинстве, он лучше, чем кто-либо, умел все сгладить и уладить; благодаря ему, за нами закрепилась если и не наилучшая, то все же сносная репутация.
Я между тем проводил эти дни у Мерка, который смотрел на затеянное мною путешествие косым мефистофельским взглядом и давал моим спутникам, тоже его навестившим, беспощаднейшие оценки. Он знал меня по-своему превосходно; мое неистребимое наивное благодушие его огорчало, моя терпимость, верность правилу: живи и жить давай другим — выводили его из себя. «То, что ты связался с этими шалопаями, — кричал он, — отъявленная глупость!» И он снова принимался честить их с поразительной меткостью, но без достаточной справедливости. Его отзывы были начисто лишены какого-либо благожелательства, что давало мне основание не считаться с ними, то есть хоть и считаться, но вместе с тем все же воздавать должное хорошим задаткам моих друзей, вовсе выпавшим из его поля зрения.
«Долго с ними ты не будешь водиться!» — таков был итог его речей. В моей памяти сохранилась тогда же произнесенная им примечательная сентенция, которую он и позже пускал в ход, да и я не раз повторял ее про себя, все более убеждаясь в ее справедливости. «Твое стремление, — так сказал он, — твоя заветная цель — воссоздавать действительность в поэтическом образе, они же, напротив, хотят претворить в действительность то, что им представляется поэтичным, то есть плод воображения, а из этого ничего, кроме чепухи, не получается». Если дать себе ясный отчет в огромной дистанции, отделяющей первый способ действия от второго, помнить об этом и этим руководствоваться, то многое сразу становится понятным.
К несчастью, правота Мерка подтвердилась раньше, чем мы покинули Дармштадт.
В число тогдашних сумасбродств, порожденных идеей: человек должен возвратиться к первобытному состоянию, — входило также и купание в вольных водах, под открытым небом; и наши друзья, блеснувшие было благопристойным поведением, на сей раз не могли воздержаться от подобной непристойности. Под Дармштадтом, расположенным ка песчаной, лишенной проточных вод равнине, нашелся все же пруд, о существовании которого я узнал лишь при этой оказии. Разгоряченные и все более разгорячавшиеся друзья пожелали освежиться в этом водоеме. Вид голых юношей при ярком солнечном свете показался местным жителям чем-то немыслимым, по меньшей мере скандальным. Мерк усугубил резкость своих суждений, и признаюсь, что это я ускорил наш отъезд.
Уже на пути в Мангейм обозначилась некоторая разность в наших взглядах и поступках, невзирая на добрые и благородные чувства, нас объединявшие. Леопольд Штольберг нам поведал в страстных выражениях, как его принудили порвать с его возлюбленной, прекрасной англичанкой, это-то и побудило его предпринять дальнее путешествие. Желая его утешить, мы стали его уверять, что и нам пришлось пережить нечто сходное, но это привело его в неистовство; в порыве юношеской страсти он восклицал, что ничто на свете не может сравниться с его чувством, с его страданиями, с красотою и достоинствами его возлюбленной. Мы старались, как то водится между добрыми друзьями, опровергнуть разумными доводами справедливость его утверждений, но это привело к обратному результату; граф Гаугвиц и я сочли за благо отступиться от этой темы. Прибывши в Мангейм, мы заняли ряд уютных комнат в приличной гостинице, и за обедом, во время десерта, за которым на вино не скупились, Леопольд нам предложил выпить за здоровье его любезной, что и было исполнено довольно шумно. Едва мы осушили бокалы, как он воскликнул: «Больше никто не должен пить из сих священных сосудов, это было бы святотатством, а посему уничтожим их!» И тут же швырнул стакан об стену. Мы последовали его примеру, хоть мне и почудилось, что Мерк схватил меня за ворот.
Но юность не так далеко ушла от детства, чтобы долго досадовать на близких приятелей. Молодая дружба может быть чем-то чувствительно задета, но ничто не в силах нанести ей существенный урон.
Увеличив свой счет платой за разбитые, якобы английские, бокалы, мы весело отбыли в Карлсруэ, с беззаботной доверчивостью предвкушая новые встречи и впечатления. Застав там Клопштока, мы, бывшие его ученики, горячо ему преданные, вновь подчинились его нравственному авторитету; я тоже охотно ему покорился, и это мне помогло неплохо для новичка зарекомендовать себя при дворе, куда и я был приглашен вместе с другими и где полагалось держать себя естественно, но чинно.
Правящий маркграф, пользовавшийся большим уважением всех немецких правителей уже потому, что он был среди них одним из старейших, но особенно за мудрое управление своей страною, охотно беседовал о политико-экономических вопросах. Госпожа маркграфиня, дама, весьма сведущая в искусствах, а также в науках, любезно пожелала выказать нам свое участие и заинтересованность; мы были ей благодарны, но дома не преминули поиздеваться над дурным качеством изготовлявшейся ею бумаги и над ее покровительством пройдохе Маклоту.
Самым важным для меня было то, что молодой герцог Саксен-Веймарский должен был съехаться здесь со своей достойной невестой, принцессой Луизой Гессен-Дармштадтской, для формального заключения брака; еще раньше сюда прибыл президент фон Мозер, чтобы выяснить различные подробности касательно предстоящего события и обо всем договориться с обер-гофмейстером графом Гёрцем. Мои беседы с августейшими особами носили самый дружественный характер, и во время прощальной аудиенции они не раз заверяли меня, что им было бы приятно вскоре вновь встретиться со мною в Веймаре.
Несколько увлекательных бесед с Клопштоком, а также его дружелюбное ко мне отношение заставили меня быть с ним откровенным и сообщительным: я прочитав ему недавно написанные сцены из «Фауста», к которым он, видимо, отнесся одобрительно, позднее же я узнал, что он и другим решительно хвалил их, — а похвалу от него нелегко было услышать, — и выражал желание, чтобы я закончил эту драму.
Наше необузданное поведение, кстати сказать в то время частенько называвшееся «причудами гениев», на благоприличной и вроде как священной почве Карлсруэ несколько смягчилось. Я расстался со своими спутниками, поскольку мне надо было свернуть на боковую дорогу, чтобы попасть и Эммендинген, где служил мой зять. На это путешествие для свидания с сестрой я смотрел как на доподлинное испытание. Я знал, что она несчастлива и что ни она, ни ее муж, ни даже обстоятельства в этом не виноваты. Она была своеобразным созданием, и говорить о ней очень непросто, тем не менее мы постараемся собрать здесь воедино то, что можно о ней сказать.
Телосложение ее было поистине прекрасно, черты лица, хотя и достаточно ясно выражавшие доброту, ум и отзывчивость, были неправильны и лишены всякой прелести.
Из-за некрасивой моды того времени — туго зачесывать волосы назад — неприятное впечатление производил ее высокий, очень выпуклый лоб, который, собственно, свидетельствовал о нравственных и умственных достоинствах. Мне думается, что если бы верхняя часть ее лица была обрамлена локонами, как это принято в новейшее время, и на виски и щеки тоже спускались бы букли, то, смотрясь в зеркало, она находила бы себя более привлекательной и не испытывала бы боязни не понравиться другим — в той же мере, в какой она не правилась себе. И еще одна беда: кожа ее редко оставалась чистой, и эта напасть, в силу какого-то демонического невезения, еще смолоду проявлялась у нее в дни концертов, балов или прочих увеселений.
Впрочем, эту незадачу она постепенно оборола, в то время как все больше развивались ее прекрасные душевные свойства.
Твердый, непокорный характер, душа участливая и нуждающаяся в участии, превосходное умственное развитие, глубокие знания и недюжинная одаренность, владение несколькими языками, искусное перо, — право же, при более привлекательной внешности она могла бы стать одной из интереснейших женщин своего времени.
И еще одна удивительная особенность: чувственность была вовсе чужда ей. Она выросла рядом со мной и желала бы всю жизнь провести в этой родственной гармонии. После моего возвращения из университета мы были неразлучны. При полном взаимном доверии мы делились мыслями, чувствами, даже случайными впечатлениями и причудами. Когда я уехал в Вецлар, одиночество стало ей невыносимо: мое место заступил мой друг Шлоссер, давно знакомый и симпатичный этой доброй душе. На беду, братское отношение превратилось у него в настоящую любовь, вероятно, первую, если принять во внимание его строгий к себе и добросовестный характер. Иными словами, подвернулась весьма подходящая, желательная партия, и сестра, отвергнувшая множество серьезных предложений, сделанных недостаточно серьезными и неприятными ей людьми, приняла предложение Шлоссера, вернее — позволила себя уговорить.
Я должен чистосердечно признаться, что иной раз, размышляя об ее участи, лишь с трудом мог себе представить ее супругой и хозяйкой дома, скорее уж аббатисой, главою избранной общины. У нее было все, что требуется для этого высокого поста, и не было ничего, чтобы удовлетворять требованиям света. Она умела парить над женскими душами, любовно привлекая к себе молодых и властвуя над ними и силу своего духовного превосходства. Так как она, подобно мне, была терпимой ко всему доброму и человечному, даже сопряженному с разными чудачествами, только не с извращениями, мне не приходилось стесняться и утаивать от нее многие оригинальные черты значительных людей. Поэтому наше общение, как ранее уже говорилось, всегда было разнообразно, свободно и взаимно учтиво, несмотря на свой иногда слишком смелый характер. Привычкой обходиться с молодыми девушками благоприлично и любезно, без того, чтобы тотчас же возникало чувство взаимной предназначенности, я был обязан ей одной. После всего вышесказанного прозорливый читатель, умеющий между строк вычитывать то, что не написано, но лишь слегка обозначено автором, поймет всю серьезность чувств, обуревавших меня при приближении к Эммендингену.
Однако когда я прощался с сестрой после краткого пребывания там, у меня еще тяжелее было на сердце, ибо она строго наказывала мне порвать с Лили, более того — требовала этого. Сама она немало настрадалась от долгого жениховства Шлоссера, ибо он, по своей честности, обручился с нею, лишь когда у него явилась полная уверенность в получении должности в великом герцогстве Баденском, вернее — когда уже состоялось его назначение на таковую. А этому предшествовало немало проволочек. По правде говоря, мне казалось, что наш бравый Шлоссер, как ни полезен он был для дела, из-за своего резкого прямодушия не пришелся по вкусу государю в качестве ближайшего его слуги; министры же и подавно не стремились иметь такого сотрудника. Вожделенной должности в Карлсруэ он так и не получил. Причины промедления уяснились мне, лишь когда в Эммендингене оказалось вакантным место обер-амтмана и его немедленно туда направили. Должность эта, видная и доходная, оказалась ему вполне по плечу. Его характеру и образу мыслей соответствовало то, что он мог здесь действовать в одиночку и согласно своим убеждениям, отчитываясь во всем, независимо от того, заслуживали его действия похвалы или порицания.
Возражать против такого назначения было невозможно, сестра должна была последовать за ним, правда — не в резиденцию, как она надеялась, а в городок, который не мог не казаться ей пустынным и захолустным, в дом, хотя и просторный, обставленный с казенной роскошью, но тихий и никем не посещаемый. Несколько молодых девушек, с которыми она уже давно дружила, поехали за нею, а так как семейство Герок было богато дочерьми, то они сменяли друг друга в Эммендингене, и сестра, многого лишившись, была, по крайней мере, окружена старыми друзьями.
Она решила, что собственный ее опыт дает ей право требовать, чтобы я расстался с Лили. Ей казалось жестокостью вырвать такую девушку — а она составила себе очень высокое представление о Лили — из жизни если и не блестящей, то всегда оживленной, и переселить в наш дом, пусть почтенный, но не приспособленный для больших приемов, где ей пришлось бы жить между снисходительным, молчаливым, но склонным к поучениям отцом и вечно хлопочущей по хозяйству матерью, которая, покончив с дневными трудами, не любила, чтобы ей мешали беседовать за рукоделием с молодыми приятельницами.
Она живо описывала мне, что творится с Лили, ибо я в письмах, а то и в приступе страстной болтливой доверительности рассказал ей все подробности наших отношений.
К сожалению, это описание было всего-навсего подробным и благожелательным пересказом того, что ей нашептал, украсив свою сплетню несколькими характерными черточками, один из друзей, которому мы мало-помалу и вовсе перестали доверять.
Я ничего не мог обещать ей, хотя должен был сознаться, что она меня убедила. Я ушел со странным чувством в сердце, чувством, которое продолжало питать любовь, ибо дитя Амур упрямо хватается за платье надежды, даже когда она, все ускоряя шаг, бежит от него.
Единственное, что запомнилось мне на пути от Эммендингена до Цюриха, это ниспадающие у Шафгаузена воды Рейна. Могучий водопад как бы обозначает первую ступень к горной стране, в которую мы собирались войти и откуда нам надлежало, все выше поднимаясь со ступени на ступень, с трудом добираться до вершин.
Вид на Цюрихское озеро от ворот гостиницы «Меч» тоже навсегда запомнился мне; я говорю «от ворот» гостиницы, потому что, не заходя в нее, я поспешил к Лафатеру. Он встретил меня весело, радостно и, надо сказать, на редкость сердечно; доверчивым, деликатным, благословенным и возвышающим душу явился он мне. Его супруга, с лицом несколько странным, но спокойным и кротко-благочестивым, прекрасно гармонировала, как и все окружавшее Лафатера, с его образом мыслей и его жизнью.
Мы сразу же вступили в почти не прерывавшийся разговор о пресловутой «Физиогномике». Первая часть этого удивительного произведения, если не ошибаюсь, была уже отпечатана или, по крайней мере, близка к завершению. Я бы назвал ее произведением гениально-эмпирическим и методически-коллективным. Мое отношение к этой книге было достаточно своеобразно. Лафатер всех на свете хотел сделать своими сотрудниками и соучастниками. За время своего путешествия по Рейну он успел заказать множество портретов со значительных и именитых людей, считая, что произведение, в котором они выступят сами, неизбежно должно их заинтересовать. Точно так же поступал он и с художниками; всех просил присылать рисунки, нужные ему для его цели. Прибывавшие рисунки далеко не всегда отвечали своему назначению. Кроме того, он направо и налево заказывал гравюры на меди, но и эти последние редко получались характерными. Он проделал огромную работу, затратил кучу денег и с напряжением всех сил подготовил значительное произведение во славу физиогномики. Но теперь, когда из этого должен был составиться том, когда физиогномика должна была быть обоснована, подтверждена примерами и возведена в достоинство науки, оказалось, что ни одна таблица не говорит того, что ей следовало говорить; все они заслуживали порицания, требовали оговорок, могли считаться не удачными, а разве что допустимыми, многие же попросту зачеркивались приложенными к ним объяснениями. Для меня, всегда искавшего твердой почвы, прежде чем двинуться вперед, это была одна из самых неприятных задач, когда-либо на меня возлагавшихся. Судите сами. Рукопись со вставленными в текст оттисками таблиц пришла ко мне во Франкфурт. Мне было дано право перемарывать все, что я не одобрял, менять и вставлять то, что я считал нужным; стоит ли говорить, что я этим правом пользовался весьма умеренно. Только однажды я убрал страстную контроверзу Лафатера, направленную против несправедливого хулителя, и заменил ее бойким стихотворением; он за это меня разбранил, но потом, остынув, одобрил мой поступок.
Тому, кто перелистает, а еще лучше — прочтет (в чем он никогда не раскается) четыре тома «Физиогномики», тотчас же уяснится, сколь интересной была наша встреча; мы рассматривали и обсуждали большинство листов, уже нарисованных, а частично и гравированных, и прикидывали, что бы придумать поостроумнее, дабы явно негодное сделать поучительным, а следовательно, и годным.
Когда я перечитываю произведение Лафатера, оно вызывает во мне комично-веселое чувство: я словно бы вижу тени некогда хорошо мне знакомых людей, на которые я досадовал в свое время, да и теперь не мог бы порадоваться.
Если неудачные, плохо сделанные гравюры все же образовали некое целое, то этим мы обязаны прекрасному таланту художника и гравера Липса; он был рожден для свободного, не опоэтизированного изображения действительности, к чему все, собственно, в данном случае и сводилось. Здесь он работал под строгим надзором причудника-физиогномиста и должен был держать ухо востро, чтобы не разойтись с требованиями своего наставника. Талантливый молодой крестьянин старался оправдать высокое доверие, которым почтило его духовное лицо из достославного города Цюриха, и старался что было сил.
Я жил отдельно от своих спутников и с каждым днем, без каких-либо ссор и столкновений, все более их чуждался. Поездки за город мы теперь совершали врозь, хотя в городе изредка еще продолжали встречаться. Они явились и к Лафатеру во всеоружии своей юношеской и графской дерзостности, причем нашему многоопытному физиогномисту показались совсем не такими, какими казались остальным. Он беседовал со мной о них и, как сейчас помню, заговорив о Леопольде Штольберге, воскликнул:
— Не знаю, чего вы все от него хотите; он благородный, отличный, талантливый юноша, но вы описывали его как героя, как Геркулеса, а я отродясь не видывал молодого человека более мягкого, тихого и, если на то пошло, более податливого чужому влиянию. Я еще далек от правильного физиогномического определения, но что касается вашей способности судить о людях, то дело в этом смысле обстоит из рук вон плохо.
Со времени поездки Лафатера на Нижний Рейн интерес к его физиогномическим трудам значительно возрос; к нему стекалось множество новых друзей. Он даже испытывал некоторое смущение оттого, что его теперь почитали первым среди духовных лиц и знаменитых ученых, что он больше, чем кто-либо, привлекает к себе чужеземцев. Страшась зависти и вражды, он упрашивал своих посетителей засвидетельствовать почтение и другим выдающимся людям.
В первую очередь это относилось к старику Бодмеру, и мы немедленно к нему отправились, чтобы заверить его в своем уважении. Он жил высоко над старым городом, лепившимся на правом берегу озера, там, где его воды, стеснившись, становятся рекою Лиммат. Мы прошли через город и все более крутыми тропами стали подниматься на высоту, вздымавшуюся позади земляных валов, туда, где между бастионами и старой городской стеною уютно притулилось предместье с домами, то тесно льнущими друг к другу, то как бы случайно разбросанными и похожими на сельские домики. Здесь-то и стоял дом Бодмера, всю его жизнь служивший ему приютом, в окружении веселого и со всех сторон открытого ландшафта, которым мы в этот ясный погожий день долго любовались, прежде чем постучать в дверь.
Нас провели во второй этаж, в обшитую панелями комнату. Бодрый старик среднего роста встал нам навстречу. Он приветствовал нас словами, с которыми обычно обращался к молодым посетителям: нам-де следует счесть немалой любезностью, что он повременил с уходом из этого мира, дабы дружелюбно нас принять, поближе с нами познакомиться, оценить наши таланты и пожелать нам счастья на дальнейшем жизненном пути.
Мы, со своей стороны, заверили, что почитаем его счастливцем: как поэт всецело принадлежа патриархальному миру, он провел всю свою жизнь в идиллическом жилище вблизи высококультурного города, наслаждаясь чистым горным воздухом и чарующим простором.
Ему, видимо, было приятно, что мы попросили разрешения полюбоваться видом из его окна, невиданно прекрасным в это время года, при ярком солнечном свете. Нашим глазам открылась часть большого города на крутом склоне и город поменьше за Лимматом, равно как и плодоносные долины Зильфельда в вечернем освещении, а чуть левее, позади всего этого — Цюрихское озеро с его блестящей мерцающей поверхностью, с непостижимо разнообразными берегами, то плоскими, то возвышенными и гористыми. Взор, ослепленный всем многообразием этой красоты, еще различает вдали голубую цепь гор, на вершины которых мы смотрели с тоскою вожделения, едва дерзая называть их по именам.
Восхищение юношей красотою, за долгие годы ставшей для него привычной, видимо, пришлось ему по душе; он держался, если можно так выразиться, иронически-участливо, и мы расстались лучшими друзьями, хотя в наших сердцах все прочие чувства уже пересилила тоска по голубеющим горным вершинам.
Собираясь расстаться с нашим достойнейшим патриархом, я вдруг заметил, что еще ничего не сказал о его внешнем облике, его мимике, его манере вести себя.
Должен признаться, мне кажется не очень-то приличным, что путешественники, посетив какого-нибудь значительного человека, торопятся сообщить его приметы, словно для беглой грамоты. Никто не думает о том, что он показался лишь на мгновение, и все с любопытством на него уставились, причем каждый любопытствует на свой лад. Не мудрено, что при таких обстоятельствах хозяин дома, в который мы явились, может предстать перед нами — доподлинно или только с виду — гордым или смиренным, молчаливым или разговорчивым, веселым или раздражительным. В данном особом случае я хотел бы сказать в свое оправдание, что внешность почтенного Бодмера, если описать ее словами, навряд ли произвела бы отрадное впечатление. По счастью, существует его портрет, исполненный Баузе по Граффу, на котором изображен в точности тот человек, который встретил нас, с характерным для него вдумчивым и созерцательным взглядом.
В Цюрихе меня поджидала, правда, не вовсе неожиданная, но тем не менее большая радость: встреча с моим юным другом Пассаваном. Отпрыск именитого рода франкфуртских реформатов, он жил в Швейцарии, у истока вероучения, проповедником коего намеревался стать. Он был невысокого роста, но ладного телосложения; его лицо, да и весь облик были приятны выражением энергической решительности. Черные волосы и бакенбарды, живые глаза, в целом же — человек добросердечный, умеренно деловитый.
Едва мы успели заключить друг друга в объятия и обменяться первыми приветствиями, как он уже предложил мне поездить вместе с ним по небольшим кантонам; он не раз бывал в них и теперь хотел доставить мне эту радость и удовольствие.
Покуда мы с Лафатером обсуждали наиболее важные и неотложные материи, касающиеся его «Физиогномики», и уже почти закончили каши общие дела, мои бойкие спутники поспешили двинуться в путь по разным дорогам, чтобы на свой манер ознакомиться с местностью. Пассаван, щедро одарявший меня своей заботой и дружбой, полагал, что этим он приобрел исключительное право на общение со мной, и в их отсутствие тем легче увлек меня в горы, что мне и самому хотелось совершить это давно желанное путешествие, в полном спокойствии и тоже, конечно, на свой манер. Итак, в одно сияющее утро мы сели в лодку и двинулись в путь по дивному озеру.
Приведенное ниже стихотворение, возможно, даст читателю понятие о тех счастливых минутах:
И жизнь, и бодрость, и покой
Дыханьем вольным пью.
Природа, сладко быть с тобой,
Упасть на грудь твою!
Колышась плавно, в лад веслу,
Несет ладью вода.
Ушла в заоблачную мглу
Зубчатых скал гряда.
Взор мой, взор! Иль видишь снова
Золотые сны былого?
Сердце, сбрось былого власть,
Вновь приходит жизнь и страсть.
Пьет туман рассветный
Островерхие дали.
Зыбью огнецветной
Волны вдруг засверкали.
Ветер налетевший
Будит зеркало вод,
И, почти созревший,
К влаге клонится плод[50].
Мы высадились в Рихтерсвиле, где проживал доктор Гоце, которому нас отрекомендовал Лафатер. Как врач и в высшей степени разумный и благожелательный человек он пользовался большим уважением не только в этом уголке, но и во всей стране. Думается, что мы наиболее достойным образом почтим его память, указав на относящиеся к нему строки в Лафатеровой «Физиогномике».
Он оказался гостеприимнейшим хозяином и вдобавок толково и любезно все нам рассказал касательно следующих пунктов нашего путешествия, после чего мы поднялись на горы, высившиеся позади Рихтерсвиля. Спускаясь в долину Шинделегги, мы еще раз обернулись, чтобы полюбоваться восхитительным видом Цюрихского озера.
Каково было мое душевное состояние, лучше всего засвидетельствуют строки, которые я набросал тогда, доныне сохранившиеся в моей записной книжке:
Если б я тобой не грезил, Лили,
Как меня пленил бы горный путь!
Но когда бы я не грезил Лили,
Разве было б счастье в чем-нибудь?[51]
Мне кажется, эта маленькая импровизация здесь будет выглядеть выразительнее, чем в собрании моих стихотворений.
Трудные дороги, ведущие к обители пресвятой девы Марии, не поколебали нашего мужества. Нас догнала толпа богомольцев, замеченная нами еще внизу, у озера; они мерно двигались с пением и молитвами. Мы приветствовали их и пропустили вперед, хотя они и приглашали нас присоединиться к их благочестивому странствию. Шествие паломников очаровательно оживляло пустынную гористую местность и как бы прочерчивало извилистую тропинку, по которой и нам предстояло идти, отчего мы еще радостнее следовали за ними. Обряды римской церкви протестанту представляются весьма торжественными и внушительными, так как он признает только первичное, внутреннее, то, что породило их, видит то человечное, благодаря которому они передаются из поколения в поколение, — иными словами, видит и чтит ядро, не обращая внимания на скорлупу, на оболочку плода, более того — на само дерево, его ветви, листья, кору и корни.
Наконец в пустынной, безлесной долине нам открылись великолепная церковь и обширный богатый монастырь с многочисленными опрятными строениями, в которых могли более или менее удобно разместиться стекающиеся сюда со всех сторон паломники.
Церквушка внутри большой церкви, некогда скит святого отшельника, инкрустированная мрамором и благоговейно обряженная, как настоящая часовня, была для меня чем-то совсем новым и невиданным — малый сосуд, со всех сторон обстроенный колоннами и сводами. Нельзя было не задуматься над тем, что вот одна-единственная искра высокого духа и богобоязненности залегла здесь неугасимый священный огонек, к которому с превеликим трудом добираются толпы пилигримов, чтобы зажечь от него и свою свечу. Так или иначе, но это свидетельствует о безграничной потребности человечества в том же свете и тепле, которому радовался тот первый отшельник, с глубочайшим благоговением и непоколебимой верою его зажегший и не давший ему погаснуть. Нас провели в сокровищницу, богатую и обширную, где нашему изумленному взору предстали статуи святых и основателей ордена в натуральную величину, а не то и колоссальных размеров.
Совсем другое впечатление вынесли мы, заглянув в открытый для нас шкаф. Он был полон старинных драгоценностей, принесенных в дар храму. Я не мог отвести глаз от многочисленных корон тончайшей ювелирной работы, и прежде всего от одной из них — зубчатой короны во вкусе далеких времен, — такие венчали чело древних королев, — столь дивного рисунка, столь тонкой и кропотливой работы, что даже цветные драгоценные камни были выбраны, распределены и один другому противопоставлены с невиданно изящным вкусом, — словом, произведение, совершенство коего становится понятно с первого взгляда, хотя законами искусства его объяснить невозможно.
Даже в тех случаях, когда искусство не познаешь, а только чувствуешь, ум и сердце приходят в волнение: ты жаждешь обладать сокровищем и через него доставлять радость другим. Я попросил дозволения вынуть корону и благоговейно поднял ее в вытянутой руке. Мне чудилось, что я ее надеваю на светлые блестящие кудри Лили, затем я будто бы подвел мою возлюбленную к зеркалу и наслаждался счастьем, которым веяло от нее на других. Позднее я часто думал, что такая сцена, изображенная талантливым живописцем, производила бы глубокое и радостное впечатление. Право, хорошо быть молодым королем, отвоевавшим себе королевство и невесту.
Чтобы ознакомить нас со всеми богатствами монастыря, нам показали также собрания предметов искусства, редкостей и естественноисторических диковин. В то время я еще не имел понятия о ценности подобных вещей: меня не влекла к себе геогнозия, наука весьма почтенная, но тем не менее расчленяющая перед нашим духовным взором прекрасную земную поверхность, и еще меньше я был склонен блуждать по лабиринтам фантастической геологии. Однако водивший нас монах обратил мое внимание на выкопанную из земли и, по его словам, очень ценимую знатоками голову дикого кабанчика, отлично сохранившуюся в голубоватом сланце; черная эта голова навек осталась у меня в памяти. Ее нашли под Рапперсвилем, в извечно болотистом краю, словно предназначенном сохранять подобные мумии для потомства.
И совсем по-другому привлекла меня хранившаяся в раке и под стеклом гравюра на меди Мартина Шёна «Успение пресвятой богородицы». Разумеется, полное представление об искусстве такого мастера может дать лишь совершенный экземпляр, и тогда мы, потрясенные, как при виде любого совершенства, страстно жаждем иметь такой же, дабы постоянно обновлять первое впечатление, и сколько бы времени ни прошло — не можем освободиться от этого желания. Позволю себе забежать вперед и признаюсь, что долгое время не мог успокоиться, покуда не достал превосходного оттиска этой гравюры.
Шестнадцатого июня 1775 года (здесь я, кажется, впервые проставляю точную дату) мы вышли в свой нелегкий путь; нам предстояло в пустынном и безлюдном краю перевалить через дикие скалистые вершины. Вечером, в три четверти восьмого, мы стояли перед Швицер-Гоккеном, двумя горными вершинами, мощно вздымающимися одна рядом с другою. Впервые мы встретили снег на своем пути — на этих зубчатых скалах он лежал еще с прошлой зимы. Ущелья, в которые нам предстояло спуститься, поросли суровым, наводящим страх еловым лесом. Немного передохнув, мы стали весело и проворно прыгать с утеса на утес, с площадки на площадку, спускаясь вниз по отвесной тропинке, и к десяти часам уже были в Швице. Мы устали и в то же время набрались бодрости, измучились, но и пришли в возбуждение; утолив терзавшую нас жажду, мы только пуще воодушевились. Попробуйте представить себе молодого человека, два года назад написавшего «Вертера», и рядом с ним младшего друга, еще в рукописи восторгавшегося этим своеобразным произведением, обоих, нежданно-негаданно оказавшихся чуть ли не в первобытном состоянии, вспоминающих о былых страстях и радующихся увлечениям настоящего, строящих несбыточные планы в счастливом сознании своей силы, уносящихся в странствие по царству фантазии. Если вам это удастся, вы составите себе приблизительное представление о нашем душевном состоянии, которое я бы не сумел описать, не прочитав в тогдашнем своем дневнике: «Смех и веселье длились за полночь».
Семнадцатого утром мы из окна увидали вершины Швицер-Гоккена. Вверх по этим гигантским и неправильным природным пирамидам ползли облака. В час пополудни мы ушли из Швица по направлению к Риги. В два — на Лауерцском озере дивное сияние солнца. От блаженства, нас охватившего, мы ничего не видели. Две ловкие сильные девушки проплыли в лодке мимо нас; это было красиво, и мы не стали их тревожить. Затем мы высадились на острове, где, как нам объяснили, жил некогда жестокий тиран. Ничего больше о нем не знаю, знаю только, что теперь между руин приютилась хижина пустынника.
Мы поднялись на Риги и в половине восьмого уже стояли перед «Богородицей в снегах», затем мимо часовни и монастыря зашагали к гостинице «Бык».
Восемнадцатого, воскресенье, утро. Рисовал вид на часовню из окна гостиницы. В двенадцать пошли к «Холодному ключу», иначе — к «Источнику трех сестер». В четверть третьего мы поднялись на вершину горы и очутились в облаках, что на сей раз было вдвойне неприятно: во-первых, облака закрывали от нас вид и, во-вторых, пронизывали сыростью оседающего тумана. Но когда они начали то там, то сям разрываться и мы вдруг увидели в их клубящейся раме прекрасный, озаренный солнцем мир, представший перед нами в объемных сменяющихся картинах, мы больше не жалели о том, что так случилось: никогда ни до, ни после не видели мы подобного зрелища и долго еще оставались на этой довольно неудобной площадке, чтобы сквозь разрывы и щели в быстро движущихся облаках видеть то кусочек освещенной солнцем земли, то узкую полоску берега или краешек озера.
В восемь часов мы уже снова были в гостинице и подкреплялись печеной рыбой, яйцами и довольно сносным вином.
Когда начало темнеть и мало-помалу спустилась ночь, гармонические таинственные звуки коснулись нашего слуха; перезвон колоколов, плеск источника, тихий ветерок, трель пастушьего рожка — благодетельные, умиротворяющие, баюкающие мгновенья.
Девятнадцатого, в половине седьмого утра, мы двинулись сначала вверх, а потом вниз к Вальдштедтскому озеру, что в Фицнау, а оттуда водным путем в Герсау. В полдень — гостиница на берегу озера. Около двух мы уже возле Грютли, где принесли клятву три Телля, затем — на плато, где герой выскочил на берег и где легенда о его жизни и подвигах увековечена в живописном произведении. В три часа — в Флюэлене, где он сел в лодку, в четыре — в Альтдорфе, где он стрелял в яблоко.
По этой поэтической путеводной нити мы с грехом пополам пробирались сквозь лабиринт отвесных скал, что круто спускались к воде и знать не знали о былом. Неколебимые, они стояли спокойно, как кулисы в театре; счастье или беда, радость или горе — удел тех, чьи имена сегодня стоят на афише.
Но тем юношам эти мысли в голову не приходили; недавнее прошлое они зачеркнули, а будущее простиралось перед ними, такое же таинственное и неизведанное, как горы, к которым они устремлялись.
Двадцатого мы пришли в Амштег; нас попотчевали отлично испеченной рыбой. Здесь, в этом уже полудиком предгорье, где Рейс, вырываясь из крутых скалистых расселин, струит студеные снеговые воды по своему опрятному каменистому руслу, я не отказал себе в удовольствии искупаться в шумливых волнах.
В три часа мы пошли дальше; перед нами двигалась вереница вьючных лошадей, вместе с нею мы шагали по широкому снежному массиву и лишь потом узнали, что под снегом была пустота. Зимний снег до отказа забил ущелье, которое обычно обходили стороной, и послужил сокращению пути. Бурный поток внизу постепенно продолбил снег, образовавшийся свод подтаял от теплого летнего воздуха и превратился в своего рода арку, соединившую обе стороны над пропастью. Мы поверили в это удивительное явление природы, отважившись спуститься в более широкое ущелье.
По мере того как мы поднимались все выше, еловые леса оставались где-то в глубине; сквозь их темный массив время от времени виднелся пенистый Рейс, бурливший на скалистых уступах.
В половине восьмого мы добрались до Вазена, где, желая освежиться красным густым и кислым ломбардским вином, были вынуждены добавить в него воды и изрядную толику сахара, чтобы возместить то, в чем природа отказала местной лозе. Хозяин показывал нам прекрасные кристаллы, но я в ту пору был так далек от естественноисторических исследований, что, несмотря на спрошенную им очень небольшую цену, не пожелал обременять себя этим порождением гор.
Двадцать первого, в половине седьмого, — снова вверх: скалы становились все более могучими и грозными, путь к Чертову камню и к Чертову мосту — все более трудным. Моему спутнику вздумалось сделать привал; он уговорил меня зарисовать виды, наиболее значительные. Контуры мне кое-как удались, но все было плоско, ничто не выступало и не отодвигалось вглубь; мне недоставало уменья для таких зарисовок. Мы двинулись дальше, затрачивая немало усилий; вокруг все становилось суровее, страшнее, плато превращались в горы, расселины — в пропасти. Мой спутник довел меня до Урсеренского ущелья; я прошел через него не без досады: раньше вокруг были величественные виды, сейчас все поглотила тьма.
Но лукавый проводник, вероятно, заранее предвидел радостное изумление, охватившее меня при выходе из ущелья. Река, уже куда менее бурная, мягко вилась по плоской, правда, окаймленной горами, но достаточно широкой долине, как бы зовущей поселиться в ней. Над чистенькой равнинной деревушкой Урсерен и ее церковью высился еловый лесок, за которым благоговейно ухаживали здешние жители, ибо он защищал деревню от скатывающихся с гор снеговых лавин. На зеленеющих лугах долины вдоль реки — низкорослые ивы. Давно не виданная растительность тешила и радовала взор. Великое спокойствие царило здесь; на ровной дороге, казалось, прибывали силы, и мой спутник был в восторге от сюрприза, нам уготованного.
В Андерматте мы отведали знаменитого урсеренского сыра и — экзальтированные юноши — с удовольствием выпили разве что сносного вина, чтобы еще больше поднять свое настроение и придать поистине фантастический размах планам на будущее.
Двадцать второго, в половине четвертого, мы покинули свой приют и из зеленой Урсеренской направились в каменистую Ливийскую долину. Здесь не было и следов плодородия; нагие или поросшие мхом скалы, со снегом на вершинах, порывистый, бурный ветер, который пригоняет или гонит вдаль облака, рев водопадов, колокольчики вьючных лошадей на пустынной высоте, где не видно ни уходящих, ни возвращающихся. Здесь воображению нетрудно было представить себе логовища драконов в расселинах скал. И все же высокое и радостное чувство охватило нас, и мы остановились как вкопанные при виде грандиозного и прекрасного водопада — он так и просился на картину, — бесконечно разнообразного со всеми его уступами, а в это время года, как никогда, изобильного из-за тающих снегов, который облака то скрывали от нашего взора, то вновь ему являли.
Наконец мы приблизились к маленьким озерам тумана, как мне хочется их назвать, ибо они были едва отличимы от насыщавших атмосферу осадков. Вскоре из мглы проступило строение: госпиция, и мы обрадовались возможности приклонить голову под ее гостеприимным кровом.
КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Заслышав тявканье выскочившей нам навстречу собачонки, на крыльцо вышла пожилая, но бодрая женщина и дружелюбно нас приветствовала. Она принесла извинения за господина патера, уехавшего в Милан, и добавила, что сегодня к вечеру его ждут обратно; затем без лишних слов принялась хлопотать о нашем устройстве. Вскоре нам была предоставлена просторная теплая комната. На столе появился хлеб, сыр и довольно сносное вино, к тому же нам посулили обильный ужин. Мы вновь стали вспоминать сегодняшние приключения, мой друг не мог нарадоваться, что все так хорошо удалось и что был прожит день, воссоздать впечатления которого равно бессильны и поэзия и проза.
В поздно наступивших сумерках вошел наконец видный собою патер, с дружелюбной благосклонностью приветствовал гостей и тотчас же в немногих словах поручил нас особому вниманию кухарки. Мы не могли удержаться, чтобы не выразить удивления по поводу того, что он избрал для себя жизнь здесь, наверху, в совершенной пустыне, и вдали от людей, в ответ он заверил нас, что никогда не испытывает недостатка в обществе; вот ведь и мы порадовали его своим посещением. К тому же между Италией и Германией происходит оживленный обмен товарами, и постоянные перевозки позволили ему войти в соприкосновение с первейшими торговыми домами. Он частенько спускается в Милан, реже бывает в Люцерне, но люцернские почтовые конторы, ведающие движением на главной дороге, зачастую присылают к нему своих служащих, чтобы эти молодые люди здесь, на перевале, могли подробнее ознакомиться со всеми порядками и случайностями почтового дела.
Вечер прошел в самых разнообразных разговорах, а ночь мы спокойно проспали на несколько коротковатых кроватях, прикрепленных к стене и скорее похожих на полки.
Поднявшись спозаранку, я вышел из дому и оказался хотя и под открытым небом, но в тесном, замкнутом высокими горами пространстве. Я сел на краю обрыва у тропинки, спускавшейся в Италию, и, на манер всех дилетантов, стал рисовать то, что рисовать не следовало, ибо картины из этого все равно не могло получиться: ближайшие горные вершины, на черных склонах которых оставлял белые борозды тающий снег. Впрочем, бесплодные мои усилия все же помогли мне навек удержать в памяти эту красоту.
Мой спутник бесстрашно ко мне приблизился и начал: «Ну, что ты скажешь насчет вчерашних разговоров нашего благочестивого хозяина? Тебя не разобрало желание спуститься с этой драконовой вершины вон в те чарующие края? Идти вниз по таким ущельям — что может быть лучше, да и труда никакого не составит! А то, что откроется нашему взору в Беллинцоне, что это будет за прелесть! Я так и вижу перед собой острова на огромном озере, о которых нам говорил патер. После Кейслеровых путешествий мы столько о них слышали, столько раз видели их изображения, что я уже не в силах противостоять соблазну. А ты разве не чувствуешь того же самого? — продолжал он. — Ты вот выбрал самое подходящее местечко, я тоже раз стоял здесь, но так и не отважился двинуться вниз. Не раздумывай и иди-ка вперед, в Айроло ты меня подождешь, я тебя нагоню вместе с проводником, как только распрощаюсь с нашим добрым патером и за все расплачусь». — «С бухты-барахты пускаться в такое предприятие мне что-то не хочется», — отвечал я. «Что тут раздумывать? — воскликнул он. — Денег у нас хватит, чтобы добраться до Милана, кредит мы всегда найдем; на наших ярмарках я завязал знакомство со многими тамошними купцами». Он становился все настойчивее. «Поди, — сказал я наконец, — и все приготовь к уходу, потом мы решим, куда идти».
Мне кажется, что в такие минуты человек не чувствует в себе решимости, а скорее отдается во власть прежних впечатлений. Ломбардия и Италия простирались внизу подо мною, неведомые и чужие, Германия была знакомой, любимой, полной давних и добрых надежд. Признаюсь: то, что так долго владело мною, то, что окрыляло и наполняло мое существование, все еще оставалось для меня жизненно необходимой стихией, и пределы ее я не решался покинуть. Золотое сердечко, которое в один из лучших наших дней она надела мне на шею, висело все на той же ленточке, согретое любовью. Я взял его в руки и поцеловал, пусть же здесь стоит стихотворение, в тот миг у меня сложившееся:
Отзвеневших радостей залогом
На груди моей ты будешь вечно.
Нить прочней ли, нежель связь двух душ пред богом?
Сердечко, ты ль одно не бессердечно?
Прочь, Лили, бегу я! Держишь прочно
Нитью бессрочной.
Наколдовала неволю злую!
Ах, Лили, сердце твое, увы,
Я вновь и вновь целую.
Птицей я лечу под сень листвы
(А на лапке нить) —
И влачит она свой позор,
Нить свою, на вольный простор —
К черту все клетки! Да птица не та, увы,
Рабства ей уже не забыть[52].
Я быстро встал и отошел от края, чтобы мой друг, мчавшийся во весь опор впереди проводника, нагруженного вещами, не столкнул меня в пропасть. В свою очередь простившись с патером, я, не обронив ни слова, пошел по той самой тропинке, которая привела нас сюда. Мой друг последовал за мною довольно нерешительно и, несмотря на всю свою приверженность и любовь ко мне, некоторое время плелся далеко позади, покуда мы не сошлись у того великолепного водопада, чтобы продолжать путь уже вместе, придя к общему выводу, что наше решение правильно и пойдет на пользу нам обоим.
О спуске мне сказать нечего, разве только что снеговой мост, по которому несколько дней назад мы и все прочие прошли с большим грузом, обвалился, и теперь, поневоле обходя образовавшуюся бухту, мы дивились этим природным руинам и восторгались ими.
Полностью мой друг так и не мог примириться с тем, что на обратном пути мы не попадем в Италию; он, видно, давно лелеял хитроумный замысел — застать меня врасплох своим предложением. На сей раз наше странствие совершалось не так весело, но я на своей молчаливой тропе тем более упорно предавался созерцанию грандиозных картин, которые со временем как-то сжимаются в нашем воображении, желая напрочь удержать в памяти хотя бы их отдельные постижимые и характерные частности.
Немало новых и вновь оживших впечатлений и мыслей сопутствовало нам, покуда мы плыли по Фирвальштедтскому озеру, среди гор, его обступавших. Высадившись в Кюснахте и передохнув, мы пустились в дальнейший путь и вскоре увидели у самой дороги часовню Телля, воздвигнутую в память убийства из-за угла, прославленного человечеством как героико-патриотический подвиг. Затем мы переправились через Цугское озеро, которым любовались еще издали, с высот Риги. В Цуге мне не запомнилось ничего, кроме небольших, но великолепно выполненных витражей в окнах гостиницы. Далее мы направились через Альбис в Зильталь, где навестили живущего в полном уединении молодого ганноверца, некоего фон Линдау, с целью загладить обиду, которую я невольно нанес ему в Цюрихе, не совсем учтиво и деликатно отказавшись взять его с собой в путешествие. Отказаться же от его приятного, но все же стеснявшего меня общества я был вынужден из-за ревнивой дружбы моего славного Пассавана.
Но прежде чем мы снова спустимся с этих величественных высот к озеру и уютному городку, расположившемуся на его берегах, я должен еще сказать о моих попытках сделать несколько зарисовок, вернее — набросков с этой местности. Привычка, чуть ли не с детства мною усвоенная, смотреть на ландшафт как на картину соблазнила меня запечатлеть на бумаге то, что глаз выхватывал из окружающей природы, и таким образом сохранить память о виденном и пережитом. Всю жизнь пытаясь запечатлевать лишь пространственно ограниченные предметы, я быстро почувствовал свою несостоятельность перед лицом этого грандиозного мира.
Рвение и спешка заставили меня прибегнуть к несколько странному вспомогательному средству: завидев что-либо, казавшееся мне интересным, я несколькими штрихами намечал это на бумаге, детали же, которые не умел охватить и воссоздать мой карандаш, тут же рядом фиксировал словами и, таким образом, добивался столь яркого внутреннего представления о данном ландшафте, что впоследствии любая его частность, понадобившаяся мне для стихотворения или рассказа, тотчас же, словно воочию, вставала передо мной.
По возвращении в Цюрих я уже не застал там Штольбергов: их пребывание в этом городе сократилось из-за достаточно странной случайности.
Дело в том, что путешественникам, вырвавшимся из стеснений домашней жизни, чудится, будто они вступают в стихию не только чуждую, но и вольную. Эта греза в те времена возникала тем естественнее, что ни полицейская проверка паспортов, ни таможенные досмотры, ни прочие задержки ежеминутно не напоминали страннику, что на чужбине все обстоит еще хуже и труднее, чем дома.
Тот, кто живо себе представит такую тягу к первобытной свободе, не станет пенять молодым людям за то, что Швейцария представилась им идиллической страною, где можно дышать полной грудью. Разве же этого не утверждали прелестные стихотворения Гесснера, а также его очаровательные гравюры?
И, конечно же, ничего не может быть приятнее, чем остужать свой поэтический пыл купаньем в вольных студеных водах. В дороге эти простые радости показались юношам не вполне соответствующими современным нравам, и они старались от них воздерживаться. Но в Швейцарии, видя и чувствуя всем своим существом влажную свежесть струящихся, бегущих, низвергающихся вод, которые скапливаются на равнине, чтобы, ширясь мало-помалу, разлиться озером, они уже не могли противостоять искушению. Не скрою, что и я присоединялся к ним, и мы вместе купались в прозрачно-чистом озере, скрытые, как нам думалось, от людских взоров. Но нагие тела светятся издалека, и возможно, что люди видели нас и сердились.
Друзья предостерегали беззаботных юношей, не считавших зазорным, наподобие поэтических пастушков, ходить по берегу полунагими, а не то и вовсе нагими, как греческие боги, старались им втолковать, что они находятся не среди первобытной природы, а в стране, которая почитает за благо бережно хранить старинные обычаи и нравы средних веков. Юноши были не прочь с ними согласиться, тем более когда речь зашла о средневековье, внушавшем им почти такое же уважение, как и сама природа. Посему они распростились с озерными берегами, открытыми сторонним взорам, и, отправившись в горы, обнаружили там такие же чистые, журчащие, освежающие водоемы и, томимые июльским зноем, конечно же, не смогли устоять перед соблазном в них искупаться. Совершая все более далекие прогулки, они забрели в сумрачную долину за Альбисом, где широким потоком низвергается Зиль, чтобы под Цюрихом излиться в Лиммат. Вдали от жилья, не видя поблизости даже протоптанной тропинки, они сочли вполне возможным сбросить платье и отважно ринуться во вскипающий пеной поток. Купанье, разумеется, сопровождалось ликующими возгласами и дикими вскриками — от прикосновения холодной воды, от радости жизни, — так что угрюмые, поросшие лесом скалы, казалось, превратились в фон для идиллической сцены.
Трудно сказать, прокрались ли за ними прежние недоброжелатели, или эта поэтическая суматоха породила новых врагов в сих уединенных местах, так или иначе, но со склона горы, из молчаливого кустарника, в них случайно или преднамеренно полетели камни, неизвестно, брошенные одной рукой или множеством рук. Словом, наши купальщики сочли за благо покинуть освежающую стихию и торопливо одеться.
Ни в одного из них не попал камень, они понесли лишь моральный ущерб от испуга и досады и, в силу своей жизнерадостной природы, вскоре о нем позабыли.
Но для Лафатера сия история возымела пренеприятные последствия. Ему ставили в вину то, что он принимал у себя этих бесстыдников, ездил с ними на прогулки и вообще покровительствовал людям, чья дикая, необузданная, прямо-таки языческая природа скандализовала жителей благонравной и благоустроенной страны.
Дружески расположенный к нам священнослужитель умел улаживать подобные недоразумения; он быстро замял и это досадное происшествие, и когда мы, по отъезде обоих метеором промелькнувших путешественников, вновь появились в Цюрихе, ни о чем таком и речи не было.
В отрывке из «Путешествий Вертера», недавно вновь напечатанном в шестнадцатом томе моих сочинений, я постарался изобразить это противоречие между достохвальными порядками и стеснительными ограничениями швейцарцев, с одной стороны, и юношеской мечтой о вольной жизни в природе. Но так как все, что бесхитростно изображает поэт, воспринимается как его незыблемое убеждение и дидактическое порицание, швейцарцы очень на меня рассердились, и я отказался от задуманного произведения, в котором речь должна была идти о жизни Вертера, предшествовавшей эпохе его страданий, и которое, наверное, заинтересовало бы многих сердцеведов.
Приехав в Цюрих и снова воспользовавшись гостеприимством Лафатера, я едва ли не все свое время посвящал ему. «Физиогномика» со всеми ее благообразиями и безобразиями тяжким и все возрастающим бременем ложилась на плечи этого превосходного человека. Мы еще раз основательно обсудили различные, связанные с нею, проблемы, и я пообещал ему, по возвращении домой, снова принять участие в его труде.
На это меня толкнуло безусловное юношеское доверие к быстроте и живости моего восприятия и, пожалуй, в еще большей степени врожденная податливость, ибо Лафатерово расчленение человеческих лиц было чуждо моей натуре. Впечатление, которое человек производил на меня с первого взгляда, в известной мере определяло мое к нему отношение, хотя благожелательность, присущая мне заодно с юношеским легкомыслием, заставляла меня видеть предметы как бы сквозь туманную пелену.
В духовной стати Лафатера было нечто невообразимо импозантное; вблизи от него нельзя было устоять против его влияния, а потому мне ничего не оставалось, как рассматривать в отдельности лоб, нос, глаза и рот человека и тщательно оценивать их соотношения. Сей прозорливец делал это по необходимости, стремясь полностью отдать себе отчет в увиденном; мне же всегда представлялось коварством, своего рода шпионством, разлагать на составные части сидящего подле меня человека, чтобы таким образом напасть на след его нравственных качеств. Я предпочитал судить о нем по разговору, в котором он добровольно открывался мне. Должен, однако, сказать, что общаться с Лафатером было жутковато; устанавливая физиогномическим путем свойства нашего характера, он становился истинным властителем наших мыслей, без труда разгадывая их в ходе беседы.
Тот, кто достаточно четко ощущает в себе синтез, имеет неоспоримое право анализировать, ибо, опираясь на внешние частности, он проверяет и подтверждает правомерность своего целостного внутреннего восприятия. Как поступал в подобных случаях Лафатер, я покажу хотя бы на одном примере.
По воскресеньям, после проповеди, на него, как на священника, возлагалась обязанность протягивать выходящим из церкви прихожанам бархатный кошель на короткой ручке и с благословением принимать лепту от доброхотов. В одно прекрасное воскресенье он решил никому из них не смотреть в лицо, а только на руки и по рукам восстанавливать образ прихожанина. Не одна лишь форма пальцев, но и то, что они выражали при опусканье лепты, не ускользало от его внимания, и он рассказал мне об этом много интересного. И какими же захватывающими и поучительными были эти рассказы для меня, намеревавшегося стать живописателем человеческой природы!
В самые различные эпохи моей жизни мне приходилось думать об этом человеке, едва ли не лучшем из всех, с кем я вступал в тесные и доверительные отношения. Поэтому и нижеприводимые высказывания были написаны в разное время. В силу того, что мы двигались в противоположных направлениях, мы должны были мало-помалу сделаться совершенно чужими друг другу, но я не хотел, чтобы для меня омрачилось представление об этом превосходном человеке. В мыслях я часто возвращался к нему, так вот и возникли эти листки, вполне друг от друга независимые, в которых читателю, возможно, встретятся повторения, но, надеюсь, не противоречия.
Лафатер, собственно, мыслил вполне реалистически, идеальное он усматривал только в нравственной сфере. Это надо твердо помнить, если хочешь уяснить себе его редкую и странную сущность.
В его «Заглядах в вечность» потусторонняя жизнь, собственно, является лишь продолжением нашего бытия в условиях менее трудных, нежели те, которым мы подвластны здесь, на земле. Его физиогномика, которая зиждется на убеждении, что наш чувственный облик полностью совпадает с духовным, свидетельствует о нем, более того — его представляет.
Идеалами искусства он не мог увлечься; он был наделен слишком острым зрением, чтобы не осознавать невозможности приобщить эти зыбкие видения к органической жизни, и потому отсылал их в царство обманчивых сказок, если не морока. Его неудержимая тяга к осуществлению идеала снискала ему репутацию мечтателя, хотя сам он был вполне убежден, что никто не стремится к действительному настойчивее, чем он; это убеждение не позволяло ему видеть ошибки в своем образе мыслей и действий.
Мало найдется людей, с такой одержимостью добивающихся признания, одержимость и делала Лафатера пригодным для роли учителя; но если он и стремился к исправлению людских нравов и обычаев, это все же не было конечной целью его усилий.
Одной из первых его забот было достойное воссоздание образа Христа; отсюда его почти безумное стремление вновь и вновь изготовлять, копировать, воспроизводить бесчисленные лики Спасителя, причем, разумеется, ни один не отвечал его запросам.
Лафатеровы сочинения уже и теперь малопонятны, ибо нелегко уразуметь, к чему он, собственно, стремится. Никто в такой степени не писал о своем времени и для своего времени; его сочинения — своеобразные дневники, нуждающееся в подробном комментарии, почерпнутом из истории этого времени; они написаны условным языком, который нужно знать, чтобы справедливо судить о них, иначе они покажутся разумному читателю безумными и безвкусными, что, впрочем, уже достаточно часто ставилось в упрек Лафатеру, при жизни и после смерти.
К примеру: пристрастием к драматизации и упорным стремлением все воплощать именно в эту форму, пренебрегая другими, мы до того задурили ему голову, что он в своем «Понтии Пилате» яростно старался доказать, что нет произведения более драматического, чем Библия, страсти же Христовы следует признать драмою всех драм.
В этой главе своей книжки, да, пожалуй, и во всем произведении, Лафатер сходствует с патером Авраамом из Санта-Клары; впрочем, в такую манеру неминуемо впадает любой умный человек, желающий оказывать влияние на свое время. Он должен узнать симпатии, страсти, язык и словоупотребление своего времени, чтобы все это использовать для своих целей и приблизиться к народу, который хочет подчинить своему влиянию.
Поскольку Христа он воспринимал буквально, то есть таким, каким тот дан в Священном писании и в различных истолкованиях последнего, это восприятие явилось своего рода дополнением его собственной сущности. Он так долго стремился идеально воссоединиться с богочеловеком, покуда не возомнил, что действительно слился с ним воедино, более того — с ним отождествился.
Благодаря неколебимой вере в букву Библии он проникся убеждением, что в нынешнее время можно творить чудеса не хуже, чем в ту далекую пору, а так как ему уже издавна удавалось в особо значительных и безотлагательных случаях горячен заклинающей молитвой сообщать благоприятный оборот надвигавшимся роковым событиям, то никакие доводы рассудка не могли сбить его с этой позиции. Проникнутый сознанием высокого достоинства человечества, спасенного Иисусом Христом, уготовившим ему вечное блаженство, но зная в то же время о многообразных потребностях духа и сердца людского, о неутолимой жажде познания, наконец, одержимый стремлением слиться с бесконечностью, к чему нас едва ли не чувственно призывает усыпанное звездами небо, он набросал «Загляды в вечность», большинству его современников казавшиеся просто чудачеством.
Но над всеми этими стремлениями, желаниями и предприятиями возобладал физиогномический гений, которым его одарила природа. Как пробирный камень чернотою и гладкостью своей поверхности выявляет особенности металлов, так и Лафатер, благодаря чистому понятию о человечестве, жившему в его душе, и острой, тонкой наблюдательности, которую он применял на практике сначала только случайно, в силу врожденного влечения, но затем сознательно, преднамеренно и планомерно, — был словно создан для того, чтобы замечать особенности отдельных людей, познавать их, различать и даже давать им названия.
Любой талант, зиждущийся на ярко выраженной врожденной склонности, для нас имеет в себе нечто магическое, ибо ни он сам, ни его воздействие не поддаются постижению. И правда, Лафатерово проникновение в сущность любого человека порою казалось невероятным. Мы только диву давались, доверительно беседуя с ним о том или другом из наших знакомых. Скажу больше — страшно было жить вблизи от того, кто прозревал все границы, в которые природе угодно было заключить отдельного индивидуума.
Каждый полагает, что может посвятить других в то, что открыто ему; так и Лафатер, не желая в одиночку пользоваться своим великим даром, стремился отыскать его в других, пробудить к жизни, более того — сделать его достоянием толпы. К каким темным и злым кривотолкам, к каким дурацким шуткам и низкопробным насмешкам давало повод это незаурядное учение, памятно еще многим, и происходило это, конечно, не без вины самого Лафатера. Если единство его внутреннего существа покоилось на высокой нравственности, то к внешнему единству он, со своими многообразными устремлениями, никак прийти не мог, и прежде всего потому, что у него отсутствовала способность к философскому мышлению, как отсутствовал и талант художника.
Он не был ни мыслителем, ни поэтом, ни даже оратором в точном смысле этого слова. Не умея ничего воспринять методически, он выхватывал отдельное как отдельное и все это отважно ставил в один ряд. Надежным тому примером и свидетельством может служить его большой физиогномический труд. В самом Лафатере понятия нравственного и чувственного в человеке, возможно, сливались в единое целое, но для других ему не удавалось воссоздать такое единство, разве что в какой-либо частности, так же, как он выхватывал частности из жизни. Вышеупомянутый его труд, к сожалению, показывает нам, как этот проницательный и умный человек вслепую бредет среди простейших житейских обстоятельств, сзывает художников, писцов и пачкунов, платит неимоверные деньги за сомнительные рисунки и гравюры, чтобы затем на страницах своей книги сказать, что тот или иной рисунок оказался, в общем-то, малоудачным, незначительным, а следовательно, и бесполезным. Разумеется, таким образом он заостряет свое суждение и суждение других, но в то же самое время доказывает, что подчинился своей страсти скорее накоплять отдельные случаи, чем правильно освещать и разбирать их. Поэтому он никогда не мог перейти к обобщениям, о чем я его так часто и настоятельно просил. То, что он позднее сообщал друзьям, я не признавал за таковые; это было разве что собрание определенных линий и черт, даже бородавок и родимых пятен, с которыми он почему-то связывал нравственные, а то и безнравственные свойства человека. От некоторых его утверждений мороз подирал по коже. И все это в полном беспорядке, вразброс, без каких бы то ни было указаний, что к чему относится. Также и в других его сочинениях не чувствовалось ни определенного писательского метода, ни художественного чутья; они являли собой лишь страстное, даже яростное изложение собственных мыслей и пожеланий, то же, чего им недоставало в целом, подменялось задушевными и остроумными частностями.
Мне думается, что здесь уместно будет вставить еще несколько замечаний, относящихся все к тем же его особенностям.
Никому не хочется признавать преимущество другого, покуда можно хоть как-то его отрицать. Как ни трудно отрицать врожденные преимущества, но в то время слово «гений» прилагалось лишь к поэту. И вдруг все в мире переменилось, гениальности стали требовать от врача, полководца, от государственного деятеля, а затем и от всех людей, желавших выдвинуться на теоретическом или практическом поприще. Раньше других эти требования публично высказал Циммерман. Лафатер же в своей «Физиогномике» вынужден был говорить о более широком распространении всякого рода духовных дарований. Слово «гений» сделалось чуть ли не всеобщим лозунгом, и так как его повторяли на каждом шагу, всем стало казаться, что и то, что оно обозначает, имеется повсюду. А поскольку каждый считал себя вправе требовать гениальности от другого, то почему, собственно, он не должен был и себя мнить гением? Еще не приспело время, когда пришли к мысли, что гений — это та сила в человеке, которая, творя и действуя, устанавливает законы и правила. В ту пору гений проявлялся лишь в том, что преступал существующие законы, опровергал установившиеся правила и объявлял себя безграничным. Быть гениальным на этот лад было нетрудно, а потому не диво, что такое злоупотребление словом и делом заставило всех добропорядочных людей восстать против подобного бесчинства.
Если один уходил пешком бродить по свету, не зная, зачем и куда он идет, это называлось странствием гения, если другой затевал какую-нибудь нелепую историю без цели и без пользы — гениальной выходкой. Пылкие, иногда действительно одаренные молодые люди терялись в бесконечном; люди постарше, пусть более здравых убеждений, но часто вовсе бездарные, со злорадством, выставляли в смешном виде различные неудачи первых.
В результате развитию и становлению моего таланта, пожалуй, больше мешало сочувствие и содействие моих единомышленников, нежели противоборство инакомыслящих. Слова, словца, речения, принижающие высокую духовную одаренность, до такой степени распространились в несамостоятельно мыслящей толпе, что мы, случается, и поныне слышим их от невежественных людей, более того — они проникли в словари, и слово «гений» приобрело значение столь превратное, что кое-кто даже счел желательным вовсе изгнать его из немецкого языка.
Итак, немцы, которые скорее, чем любая другая нация, позволяют пошлости возобладать над ними, едва не лишили себя прекраснейшего цветка — слова, как будто и чуждого, но в равной мере принадлежащего всем народам, если бы, по счастью, более глубокая философия не воскресила в нас представление о высоком и добром.
На предыдущих страницах шла речь о юности двух мужей, память о которых никогда не изгладится из истории немецкой литературы и немецких нравов. Но в данную эпоху мы знакомимся с ними главным образом по ошибкам, ими совершенным, в которые они были вовлечены ложной максимой тех дней, популярной в кругу их сверстников. Теперь же, думается, всего правильнее будет уважительно и с почтением представить их подлинную сущность, как то, в их присутствии, было сделано прозорливцем Лафатером, тем более что тяжелые и дорогостоящие томы этого большого физиогномического труда не у каждого из наших читателей окажутся под рукой. Поэтому я, не задумываясь, привожу здесь примечательные места, относящиеся к ним обоим и взятые мною из второй части упомянутого сочинения, точнее — из фрагмента тридцатого на странице 244:
«Юноши, чьи портреты и силуэты мы видим здесь перед собою, были первыми, кто стоял и сидел для моего физиогномического описания, как стоят и сидят перед живописцем те, с кого он пишет портрет.
Я знал их и раньше, сих благородных юношей, — и я сделал первую попытку с натуры и с привлечением прочих моих знаний провести наблюдения за их характерами и описать таковые.
Ниже следует описанье человека в целом.
СНАЧАЛА МЛАДШЕГО
Взгляните на цветущего юношу двадцати пяти лет от роду! Легко воспаряющее, плывущее, гибкое создание! Оно не лежит, не стоит; не нуждается в опоре, но и не взлетает; оно парит или плывет. Слишком полное жизни, чтобы обрести покой; слишком податливое, чтобы твердо стоять на ногах; слишком тяжелое и мягкое, чтобы взлететь.
Итак, парящее создание, не касающееся земли! Во всех его очертаниях — ни одной до конца расслабленной линии, но и ни одной прямой, натянутой, решительно округлой, жестко согнутой, ни одной угловатой выемки; лоб не нависает скалою; ни намека на окаменелость, на неподвижность, на гневливую грубость, на угрожающую властность; нет и железного мужества, разве что податливо отзывчивое, но не железное; ни следа неколебимого исследующего глубокомыслия, медлительной раздумчивости или разумной осмотрительности. Это не резонер, твердо держащий весы в одной руке и меч в другой, никакой чопорной суровости нет во взоре и в суждениях! И все же — ум прямой и неподкупный, вернее: незапятнанное правдолюбие! Всегда искренне чувствующий, но не вдумчивый сочинитель; не выдумщик и не изобретатель, не пытливый исследователь быстро увиденной, быстро понятой, быстро полюбившейся, быстро схваченной истины… Вечно парящий! Созерцатель! Все идеализирующий, приукрашающий. Воплотитель всех своих идей! Всегда немного хмельной поэт, видящий то, что он хочет видеть; не томимый смутной печалью, не жестоко сокрушающий, но высокий, благородный, могучий. Со своей умеренной «жаждой солнца» он витает в воздушных сферах, тщась подняться над самим собой, но опять-таки — не опускается на землю, а камнем падает на нее, уходит в волны «скалистого потока» и медленно покачивается «среди громов и гула утесов». Взгляд его — это не огненный взгляд орла! Чело его и нос не несут отпечатка львиного мужества! Его грудь — не твердая грудь коня, заржавшего перед битвой! Но есть в нем нечто от плавно-медлительной поворотливости слона…
Вздернутая и выдавшаяся вперед верхняя губа его при мягко очерченном, отнюдь не угловатом носе, в сочетании с закрытым строением рта, свидетельствует о незаурядном вкусе и тонкой чувствительности; нижняя же часть лица говорит о чувственности, вялости, беспечности. Из очертаний профиля мы узнаем о его открытом характере, честности, человечности. Но в то же время о неумении противостоять соблазнам, о высокой степени благодушной неосмотрительности, не приносящей вреда никому, кроме него самого. Средняя линия рта в неподвижности — линия человека прямого, не строящего далеко идущих планов, мягкосердечного, доброго; в движении — нежного, тонко чувствующего, крайне возбудимого, добродушного, благородного. В изгибе век и в блеске глаз мы видим не Гомера, конечно, но того, кто глубоко, всем сердцем его чувствует и воспринимает; не эпический поэт, но одописец, гений, кипящий, который пересоздает, облагораживает, формирует и, воспарив, словно по волшебству, всему сообщает обожествленный облик героя. Такой изгиб малозаметных век — признак скорее тонко чувствующего, чем планомерно и неторопливо работающего поэта, скорее влюбленного, чем сурового. В целом лицо юноши привлекательнее, милее, чем несколько расплывчатый и вытянутый профиль; фас при малейшем движении свидетельствует о восприимчивой, заботливой, изобретательной, врожденной, а не благоприобретенной доброте и трепетной, страшащейся несправедливости и алчущей свободы жизненной силе. Это лицо не может скрыть даже самого малого впечатления из тех, что вдруг, что непрерывно на него наплывают. Любой предмет, имеющий к нему касательство, гонит кровь к щекам и к носу; девичья стыдливость в вопросах чести с быстротой молнии распространяется по нежной и чуткой коже.
Цвет лица — это не бледность все созидающего и все поглощающего гения, не пылающий румянец того, кто презрительно попирает ногами окружающий его мир, не молочная белизна тупицы или желтизна жестокосердного упрямца, не смуглость медлительного, усердного труженика, но бело-розовые и фиолетовые тона, сочетающиеся так же счастливо, как сила и слабость в его характере. Душа всего лица и каждой отдельной черты — свобода, упругая энергия, с легкостью толкающая вперед и так же легко отталкивающаяся. Великодушие и искренняя веселость светятся на этом лице и в самой постановке головы. Неизбывная свежесть восприятия, тонкость вкуса, чистота духа, доброта и благородство души, деятельная сила, ощущение как силы, так и слабости проникают все его лицо, так что мужественное самосознание растворяется в благородной скромности, а прирожденная гордость и юношеская суетность непринужденно и безыскусственно меркнут в великолепной игре этого целого. Белокурые волосы, долговязая нескладная фигура, вкрадчиво легкая, слегка раскачивающаяся походка, впалая грудь, белый гладкий лоб и множество других признаков придают этому человеку известную женственность; она умеряет внутренний пыл и делает сердце неспособным на преднамеренную обиду или низость, но в то же время неопровержимо доказывает, что преисполненный огня и отваги поэт, при всей его неподдельной жажде свободы и освобождения, не создан для того, чтобы действовать решительно и планомерно, с энергической настойчивостью деятельного мужа, или, как воин, обрести бессмертие в кровопролитной битве. Лишь под самый конец я замечаю, что еще ничего не сказал о самом в нем примечательном: о благородной, чуждой всякой аффектации простоте! Ничего о детской чистоте сердца! Ничего о полнейшем пренебрежении своей знатностью! Ничего о несказанном благодушии, с которым он принимает и терпит предостережения и хулу, упреки и несправедливость.
Но кто сумеет до конца досказать все, что он подметил и прочувствовал в хорошем человеке, исполненном чистейшей человечности?
ОПИСАНИЕ СТАРШЕГО
Сколь много из сказанного о младшем брате относится также и к старшему! Наиболее выдающимся из всего мною замеченного надо считать нижеследующее:
Облик и характер более собранные и менее расширенные. Там — все вытянутее, площе, здесь — короче, шире, плотнее, округлее. Там — расплывчатее, здесь — резче. Таков лоб, таков нос и такова грудь. Больше — концентрированной, живой, менее — рассредоточенной, целеустремленной силы и подвижности! Но та же приятность, то же благодушие! Не бросающаяся в глаза откровенность, скорее — лукавство, но в основе, вернее — в поступках, — та же честность. То же неодолимое отвращение к несправедливости и злобе; то же неприятие всего, что зовется хитростью и коварством; то же неумолимое отношение к тирании и деспотизму; та же чистая, неподкупная любовь ко всему благородному, доброму, великому; та же потребность в дружбе и свободе; та же чувствительность и благородная жажда славы; та же широта сердца в отношении всех добрых, мудрых, простых, сильных, известных или безвестных, признанных или непризнанных. И… та же склонность к легкомысленной опрометчивости. Нет, не совсем та же! Его лицо резче, подобраннее, тверже; оно отражает бо́льшую, легко развивающуюся способность к делам и практической жизни, больше упрямой отваги; мы это заключаем по резко выступающим, округлым костям глазниц. Отсутствует ключом бьющее, богатое, чистое и высокое поэтическое чувство; нет и легкокрылой, стремительной творческой силы другого. Но в сферах более глубоких — живость, правильность, искренность. Не веселый, вознесшийся в лучах утренней зари, творящий и пронизанный светом гений. Больше внутренней силы, но, пожалуй, меньше выразительности! Более могучий и грозный, менее роскошный и округлый, хотя кисть его не чужда ни красочности, ни волшебства. Больше выдумки и неистовой прихотливости; забавнейший сатир: лоб, нос, взор — все нависло, устремлено книзу. Свидетельство оригинального, всеоживляющего остроумия, которое не почерпает свои объекты вовне, но как бы выбрасывает их из себя. Да и вообще все в этом характере рельефнее, угловатее, наступательнее, взволнованнее! Нигде ничего плоского, вялого, разве что в полузакрытых глазах, в линиях рта и носа проступает сладострастие. Вообще же в этом лбу, в этой стесненности черт, даже в этом взоре — несомненное выражение ненаносного величия, силы, любви к человечеству, постоянства, определенности, простоты».
Проездом побывав в Дармштадте, где я должен был признать торжество Мерка, предсказавшего мне скорую разлуку с веселой компанией, я снова очутился во Франкфурте, радостно встреченный всеми, в том числе и отцом, хотя он, не на словах, но молчаливо, дал мне понять свое неудовольствие тем, что я не спустился в Айроло и не доложил ему о своем пребывании в Милане. Он также не выказал ни малейшего интереса к одиноким утесам, туманным озерам и драконовым гнездам. Не споря со мной, он, однако, дал понять, что это все пустое, — кто не видел Неаполя, тот словно и не жил на свете.
Я не избегал, да и не мог избегнуть встречи с Лили; и она и я были деликатны и старались щадить друг друга. Я уже знал, что за время моего отсутствия ее сумели убедить в необходимости расстаться со мною, это-де тем удобнее сделать сейчас, что и я самовольным отъездом достаточно ясно выказал свои намерения. Но мы бывали в тех же местах в городе и за городом, среди людей, знавших, что было между нами прежде, все еще любя друг друга, так нелепо и странно разлученные, и, конечно же, не могли не встречаться. Это было проклятое состояние, в известном смысле смахивавшее на Гадес, где встречаются счастливо-несчастные тени умерших.
Бывали минуты, когда казалось, что вот-вот восстановятся прошлые дни, но призраки, озаренные вспышками молний, тут же исчезали.
Благожелательные друзья сообщили мне: Лили, выслушав все доводы против нашего союза, заявила, что из любви ко мне она готова поставить крест на привычной жизни и ехать со мной в Америку. В те времена Америка, пожалуй, еще больше, чем сейчас, являлась Эльдорадо для всех, кому невмочь становилось на родине.
Но как раз то, что должно было оживить во мне надежды, подавляло их. Прекрасный дом моих родителей в нескольких сотнях шагов от ее дома был, на худой конец, все же лучшим прибежищем, нежели неведомая заморская страна, но не буду запираться: в присутствии Лили воскресали все надежды, все желания, хотя шевелились во мне и новые сомнения.
Очень суровы и определенны были, конечно, требования моей сестры; со всем благоразумием, на которое ее достало, она не только разъяснила мне мое положение, но в каждом из своих до боли настойчивых и властных писем твердила одно и то же. «Ладно, — писала она, — если уж вы не можете этого избегнуть — несите свой крест, такое нужно терпеть, но не избирать». Несколько месяцев прошло в этом немыслимо тяжелом состоянии, все словно объединилось против нашего брака, но я знал и верил, что в ней одной заложена сила, могущая это преодолеть.
Любя друг друга и сознавая свое положение, мы старались не встречаться наедине, но встреч в обществе, конечно, не могли избегнуть. И мне пришлось пройти через тягчайшее испытание, это поймет любой благородно чувствующий человек, когда я выскажусь прямее.
Надо признать, что, в общем-то, при новом знакомстве, при зарождающейся любви влюбленный охотно набрасывает пелену на свое прошлое. Любовь не заботится о предшествующем, — возникнув молниеносно и неожиданно, она знать не знает ни о прошедшем, ни о будущем, хотя наше сближение и началось с рассказов Лили о ее ранней юности: как она еще ребенком возбуждала любовь и приверженность многих, в первую очередь чужеземцев, посещавших их всегда оживленный дом, и как она этим забавлялась, разумеется, без каких бы то ни было дальнейших отношений и следствий.
Истинно любящие считают все, доселе ими испытанное, лишь подготовкой к своему счастью в настоящем, фундаментом, на котором они воздвигнут здание своей жизни. Прошлые увлечения кажутся им полуночными призраками, исчезающими при первом свете дня.
Но что же случилось! Наступила пора ярмарки, и целый рой этих призраков облекся в плоть и кровь; мало-помалу съехались все друзья и клиенты почтенного банкирского дома, и тут быстро выяснилось, что ни один из них не может и не хочет окончательно отказаться от претензий на прелестную дочь хозяев. Те, кто помоложе, не будучи навязчивыми, все же вели себя как близкие знакомые, люди средних лет — обязательно и несколько церемонно, как бы желая втереться в доверие и уж затем выступить с более серьезными притязаниями. Среди них были красивые мужчины, к тому же отмеченные печатью прочного благосостояния.
Но уж совсем невыносимы были пожилые господа, с повадками добрых дядюшек, которые не умели совладать со своими руками и, с препротивным видом трепля ее по щечке, домогались еще и поцелуя — в ответ им подставлялась та же щечка. Лили казалось вполне естественным учтиво на все это откликаться. Да и в ее разговорах с ними возникало немало сомнительных воспоминаний — увеселительные поездки по воде и по суше, различные происшествия, закончившиеся общим весельем, балы, вечерние прогулки, подшучиванье над незадачливыми претендентами… Все это разжигало ревнивую досаду в сердце безнадежно влюбленного. Но даже среди этой толчеи и суеты она не забывала о своем друге и всегда находила для него самые нежные слова, как нельзя более утешительные в этом взаимном трудном положении.
И все же обратимся лучше от этой, даже в воспоминаниях нестерпимой муки к поэзии, которая добродушной шуткой смягчала создавшееся положение.
«Зверинец Лили» относится приблизительно к той эпохе; я здесь не привожу этого стихотворения, так как оно не выражает тогдашнего растревоженно-нежного состояния моей души, но с причудливой пылкостью тщится воспеть превратности судьбы и, призвав на помощь оскорбительно-комические образы, превратить отречение в отчаяние.
Нижеследующая песнь скорее выражает очарованье этой беды и потому представляется мне здесь более уместной:
Розы юные увяли —
Вы любимой не нужны.
Для меня, чей дух в печали,
Расцветай, цветок весны!
С грустью вспоминаю день я
Нашей встречи, ангел мой,
Первых почек зарожденье
Я подстерегал весной.
Все цветы и все плоды я
Приносил к твоим ногам,
И надежды молодые
Нежно улыбались нам.
Розы юные увяли —
Вы любимой не нужны.
Для меня, чей дух в печали,
Расцветай, цветок весны![53]
Опера «Эрвин и Эльмира» возникла из прелестного романса, вставленного в Гольдсмитова «Векфильдского священника» и услаждавшего нас еще в те времена, когда мы не подозревали, что и нам предстоит нечто подобное.
Я уже и раньше приводил на этих страницах кое-что из поэтической продукции той эпохи и только жалею, что не все из тогда сочиненного мною сохранилось. Постоянная взволнованность в счастливую пору любви, распаленная нежданной тревогой, порождала песни, чуждые какой бы то ни было высокопарности и всегда выражавшие чувство данного мгновения. Застольные праздничные песни, маленький мадригал, приложенный к подарку, — все это находило живой отклик в сердцах этого просвещенного общества; поначалу то, что я сочинял тогда, было исполнено радости, потом скорби, в конце же концов не осталось ни единой вершины счастья, ни единой бездны горя, которой не была бы посвящена песня.
Неприятности, могущие проистечь из событий внутренних и внешних, ибо мой отец с каждым днем утрачивал надежду ввести в свой дом ту невестку, которая пришлась ему по душе, умно и энергично предотвращала моя мать. «Статс-дама», как он называл Лили в откровенных разговорах с женой, не внушала ему ничего, кроме неприязни.
Предоставив, однако, всему идти, как идет, он продолжал усердно трудиться в своей маленькой канцелярии. Молодой юрист, у него работавший, так же как и искусный писец, под его эгидой все больше расширяли поле своей деятельности. Но поскольку недаром говорится: уехал — пиши пропало, то они, предоставив мне идти своим путем, старались получше укрепиться на почве, которая для меня оказалась недостаточно питательной.
По счастью, то, к чему я стремился, совпало с желаниями и убеждениями отца. Он составил себе столь высокие понятия о моем поэтическом таланте, так радовался благосклонности, с которой были приняты мои первые опыты, что нередко заводил разговор о моих ближайших литературных планах. Разумеется, в этих разговорах я ни словом не касался моих застольных шуток и любовных стихов.
После того как я на свой лад отразил в «Геце фон Берлихингене» символ многозначительной исторической эпохи, я стал осматриваться в поисках подобного же поворотного пункта в истории других государств, и мое внимание было привлечено восстанием в Нидерландах. В «Геце» достойный и одаренный человек гибнет из-за иллюзорного убеждения, будто во времена анархии много значит благомыслящая и сильная личность. В «Эгмонте» речь идет о прочно установившихся порядках, рухнувших под гнетом суровой и расчетливой деспотии. Мой отец, живо интересуясь, что́ тут можно сделать и что́ собираюсь делать я, ощутил неодолимое желание увидеть напечатанной и вызывающей всеобщее восхищение пьесу, которая уже сложилась у меня в голове.
Если раньше, еще надеясь, что Лили станет моей женой, я всю свою энергию тратил на изучение и ведение гражданских дел, то теперь я силился заполнить страшную пропасть, меня от нее отделившую, умственным и созидательным трудом. Я начал писать «Эгмонта», и притом не так, как «Геца фон Берлихингена», в последовательном порядке, но сразу же после первой картины набросал главные сцены, нимало не заботясь о какой бы то ни было связности. Дело быстро подвигалось вперед, так как отец, зная мою привычку работать спустя рукава, день и ночь (я не преувеличиваю) меня пришпоривал, воображая, что легко возникший замысел может быть и осуществлен с такой же легкостью.
КНИГА ДВАДЦАТАЯ
Итак, я продолжал работать над «Эгмонтом». Если работа до некоторой степени и успокаивала мои смятенные чувства, то, пожалуй, не меньше помогала мне сносить порою очень тяжелые часы близость одного славного художника. Теперь, как довольно часто и прежде, я был обязан своему неясному стремлению к практическому развитию тем, что мир нисходил на мою душу в дни, когда на это, собственно, нельзя было надеяться.
Георг Мельхиор Краус, уроженец Франкфурта, получивший образование в Париже, как раз вернулся из недолгой поездки по Северной Германии. Он навестил меня, и я тотчас же почувствовал желание, даже потребность завязать с ним дружеские отношения. Это был веселый, жизнелюбивый человек, и Париж оказался наилучшей школой для его легкого и радостного таланта.
В то время немцы, приезжавшие в столицу Франции, находили радушный прием в доме Филиппа Гаккерта, жившего там в достатке и почете. Непритязательная немецкая манера, в которой он писал пейзажи маслом или гуашью, выгодно контрастировала с укоренившейся манерой французов. Вилле, всеми чтимый гравер, подготовил почву для признания немецких заслуг; Гримм, тогда уже весьма влиятельный, тоже немало порадел о своих земляках. С их легкой руки вошли в обиход приятные пешие прогулки, целью которых была работа с натуры, из чего и вправду проистекло и наметилось много хорошего.
Буше и Ватто, эти дна художника, чьи произведения, игривые и легкие, в соответствии с духом и характером того времени, и сейчас еще пользуются общим признанием, благосклонно отнеслись к такому нововведению и сами, пусть шутки ради или для пробы, приняли в нем деятельное участие. Грез, славившийся своей легкой, грациозной кистью, тихо жил в кругу семьи и любил изображать мирные жанровые сценки, которым сам же умилялся.
Все это наш Краус успешно вобрал в свой талант; он развивался в обществе и для общества, научился премило изображать дружеские и родственные группы на манер семейных портретов, не меньше удавались ему карандашные ландшафты, радовавшие глаз чистотою контуров, густой тушевкой и приятным колоритом; душа тут получала удовлетворение от наивной правдивости художника, а любителям искусства нравилось его уменье все запечатленное с натуры ловко вкомпоновывать в картину.
Краус был приятнейшим членом общества: неизменно веселый, услужливый без приниженности, сдержанный без гордости. Этот самый деятельный и покладистый из смертных всеми был любим и везде чувствовал себя как дома. С таким талантом и характером он вскоре зарекомендовал себя в высших кругах и особенно хорошо был принят в замке баронов фон Штейн в Нассау на Лане, где взял на себя руководство художественными устремлениями весьма одаренной и очаровательной хозяйской дочери и к тому же на все лады способствовал оживлению собиравшегося там общества.
После того как эта достойная девица сочеталась браком с графом фон Вертерн, молодые увезли художника в свои большие тюрингские имения, откуда он позднее попал в Веймар. Тамошнее высокообразованное общество оценило его и не пожелало с ним расстаться.
Так как он всегда и во всем принимал действенное участие, то, вернувшись во Франкфурт, убедил меня, не ограничиваясь коллекционерством, вновь обратиться к самостоятельным занятиям живописью. Близость художника — великое благо для дилетанта, ибо в нем он видит восполнение своей собственной личности; желания любителя сбываются в артисте.
В силу некоторых природных задатков и упражнения мне иногда удавался контур, без особого труда слагалось в картину то, что я видел в природе, но не было у меня подлинной пластической силы, уменья и сноровки сообщить телесность этому контуру путем обдуманного распределения света и тени. Мои изображения были скорее лишь отдаленным предчувствием предмета, а мои фигуры более походили на бесплотные создания в Дантовом «Чистилище», что не отбрасывают тени и в ужасе шарахаются от тени доподлинного тела.
Благодаря Лафатерову физиогномическому подстрекательству, ибо как иначе назвать неистовую настойчивость, с которой он понуждал всех и вся не только напряженно всматриваться в лица, но еще и художественно — или антихудожественно — воспроизводить их формы, я наловчился рисовать портреты друзей черным или белым мелком на серой бумаге. Сходство было несомненным, но я нуждался в опытной руке друга-художника, для того чтобы они рельефно выступили на темном фоне.
Перелистывая и просматривая вместе с нашим добрым Краусом битком набитые папки, привезенные им из путешествий, но прежде всего его ландшафтные и портретные зарисовки, мы любили беседовать о веймарском круге и людях, близко к нему стоящих. Я охотно длил эти беседы, так как юноше не могло не льстить, что многочисленные картины были лишь фоном, на котором постоянно повторялась одна и та же фраза: там очень хотят вас видеть. Краус премило одушевлял эти приветы и приглашения, показывая свои работы. Так, например, весьма удачная картина, выполненная в масле, изображала капельмейстера Вольфа за роялем и рядом его жену, готовящуюся запеть; разглядывая ее вместе со мною, наш художник не преминул заметить, что сия достойная чета оказала бы мне самый радушный прием. Было у Крауса и много зарисовок лесистых и горных местностей в окрестностях Бюргеля. Некий браный лесничий, наверно, не столько для себя, сколько в угоду своим хорошеньким дочерям, проложил тропинки в лесной чащобе среди диких утесов и зарослей кустарника, навел изящные мостики с перилами и, таким образом, сделал этот дикий уголок приятнейшим местом для прогулок; на дорожках и вправду виднелись девушки в белых платьях и сопровождающие их кавалеры. В одном молодом человеке можно было узнать Бертуха; он питал серьезные намерения относительно старшей дочери. Когда же в другом предполагали Крауса, имея в виду его зарождающуюся любовь к младшей, он нимало не обижался.
Бертух, воспитанник Виланда, так выдвинулся своими знаниями и своей деятельностью, что уже занимал пост тайного секретаря герцога и имел все основания возлагать наилучшие надежды на будущее. Много говорилось также о справедливости, веселом характере и добродушии Виланда; о его прекрасных литературных и поэтических замыслах, равно как и о влиянии, которое приобрел его «Меркурий» во всей Германии, речь уже шла выше. В этой связи упоминались имена людей, выдвинувшихся в литературе, в государственных делах и в обществе, таких, как Музеус, Кирмс, Берендис и Лудекус. Из женщин, по словам Крауса, всего значительнее и всего достойнее похвал была супруга Вольфа и некая вдова Коцебу, мать прелестной дочери и премилого маленького мальчика. Словом, все свидетельствовало об оживленной и деятельной жизни литераторов и художников в Веймаре.
Так мало-помалу вырисовывалась стихия, в которой предстояло действовать молодому герцогу по возвращении домой. Почва была подготовлена герцогиней-регентшей; что же касается проведения в жизнь наиболее важных дел, то это, как водится при такого рода временном правлении, предоставлялось воле и энергии будущего государя. Страшные руины сгоревшего дворца уже рассматривались как поприще для его деятельности. Остановившиеся работы в Ильменауской каменоломне, позднее, правда, возобновленные благодаря дорого стоившему ремонту глубокой штольни, университет в Йене, несколько поотставший от духа времени, которому к тому же грозила утрата лучших профессоров, и многое другое возбуждало благородное волнение в веймарском обществе. Там стали оглядываться в поисках людей, призванных развить те добрые начала, что наметились в постепенно оживавшей Германии; таким образом, возникли виды на будущее, светлее которых не могла себе пожелать полная жизни и энергии молодежь. Печальным, правда, казалось то, что молодая государыня, не имея подобающего ей дворца, вынуждена была поселиться в помещении, предназначенном совсем для других целей, однако красиво расположенные и благоустроенные летние резиденции Эттерсбург, Бельведер и другие сельские приюты, давая возможность наслаждаться настоящим, в то же время вселяли надежду, что эта жизнь среди природы окажется продуктивной и деятельной.
В ходе сего биографического повествования читатель имел возможность подробно ознакомиться с попытками ребенка, отрока, юноши различными путями приблизиться к сверхчувственному. Сначала он с упованием обратился к естественной религии, затем с любовью примкнул к религии позитивной. Далее, уйдя в себя, попытал собственные силы и, наконец, с радостью присоединился к всеобщей вере. Когда он пустился бродить в промежуточных пространствах этих сфер, бросаясь то туда, то сюда, искал и осматривался, ему встретилось многое, ни к одной из них не принадлежавшее, и мало-помалу уяснилось, что лучше будет отвернуться от мыслей о необъятном и непостижимом.
Ему думалось, что в природе, все равно — живой и безжизненной, одушевленной и неодушевленной, он открыл нечто дающее знать о себе лишь в противоречиях и потому не подходящее ни под одно понятие и, уж конечно, не вмещающееся ни в одно слово. Это нечто не было божественным, ибо казалось неразумным; не было человеческим, ибо не имело рассудка; не было сатанинским, ибо было благодетельно; не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство. Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на промысел, ибо не было бессвязным. Все, ограничивающее нас, для него было проницаемо; казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми элементами нашего бытия; оно сжимало время и раздвигало пространство. Его словно бы тешило лишь невозможное, возможное оно с презрением от себя отталкивало.
Это начало, как бы вторгавшееся во все другие, их разделявшее, но их же и связующее, я называл демоническим, по примеру древних и тех, кто обнаружил нечто сходное с ним. Я тщился спастись от этого страшилища и, по своему обыкновению, укрывался за каким-нибудь поэтическим образом.
К отдельным частям всемирной истории, которые я штудировал наиболее основательно, относились и события, впоследствии прославившие объединенные Нидерланды. Я прилежно изучал источники, по мере сил старался вникнуть в них и живо себе представить все, что там происходило. Сложившуюся ситуацию я оценивал как высокодраматическую, а фигурой, вокруг которой лучше всего группировались остальные, счел графа Эгмонта, чье человеческое и рыцарственное величие положительно восхищало меня.
Для своей цели, однако, я должен был превратить его в человека со свойствами, которые скорее пристали юноше, чем зрелому мужу, из отца семейства — в холостяка, из свободомыслящего, но стесненного многоразличными обстоятельствами, — в вольнолюбивого и независимого.
Мысленно его омолодив и сбросив с него все оковы условностей, я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в себя, дар привлекать все сердца (attrattiva), а следовательно, и приверженность народа, тайную любовь правительницы и явную — простой девушки, участие мудрого государственного мужа, а также сына его заклятого врага.
Личная храбрость — отличительная черта героя — и есть тот фундамент, на котором зиждется все его существо, почва, его взрастившая. Он не ведает опасностей и слепо идет навстречу величайшей из них. Пробиться сквозь строй врагов, зажавших нас в тиски, пожалуй, возможно; куда труднее прорвать сети государственной мудрости. Демоническое начало, с той и с другой стороны участвующее в игре, конфликт, в котором гибнет достойное и торжествует ненавистное, надежда, что отсюда возникнет нечто третье, всем желанное, — вот что снискало пьесе, правда, не сразу же после ее появления, но позднее и вполне своевременно, благосклонность публики, которой она пользуется и поныне. Итак, здесь, ради многих дорогих мне читателей, я позволю себе несколько забежать вперед и, не зная, скоро ли мне опять доведется высказаться, в нескольких словах скажу о том, в чем я убедился лишь много позже.
Хотя демоническое начало может проявиться как в телесном, так и в бестелесном и даже весьма своеобразно сказывается у животных, но преимущественно все же состоит в некой странной связи с человеком и являет собой силу, если не противоречащую нравственному миропорядку, то перекрещивающуюся с ним, — так что первый, то есть миропорядок, может сойти за основу, а вторая — за уто́к.
Для феноменов, порожденных этим началом, существует бесчисленное множество наименований, ибо все религии и философии в прозе и в стихах пытались разгадать сию загадку, раз и навсегда с нею покончить, но, увы, им и впредь предстоит заниматься тем же самым.
Однако всего страшнее становится демонизм, когда он возобладает в каком-нибудь одном человеке. Я знавал таких людей, одних близко, за другими мне доводилось наблюдать лишь издалека. Это не всегда выдающиеся люди, ни по уму, ни по талантам, и редко добрые; тем не менее от них исходит необоримая сила, они самодержавно властвуют над всем живым, более того — над стихиями, и кто может сказать, как далеко простирается их власть? Нравственные силы, соединившись, все равно не могут их одолеть, более светлая часть человечества тщетно пытается возбудить против них подозрение, как против обманутых или обманщиков, массу они влекут к себе. Редко, вернее, никогда не находят они себе подобных среди современников, они непобедимы, разве что на них ополчится сама вселенная, с которой они вступили в борьбу. Из таких наблюдений, верно, и возникло странное и жуткое речение: «Nemo contra deum nisi deus ipse».
От этих высоких размышлений я вновь возвращаюсь к маленькой своей жизни, в которой, однако, происходили странные события, запечатленные неким отблеском демонизма. С вершины Сен-Готарда, повернувшись спиной к Италии, я возвратился домой, так как не мог обойтись без Лили. Любовь, осененная надеждой на взаимное обладание, на долгие годы совместной жизни, не может сразу отмереть, ее питает созерцание правомерных желаний и честных надежд, которые вынашивают любящие.
Такие узлы чаще разрубает девушка, чем юноша, и это в природе вещей. Юным прелестницам — дочерям Пандоры сужден бесценный дар завораживать, привлекать, заманивать, и в силу своей природы, скорее преднамеренно, чем по влечению, я бы даже сказал — предерзостно собирать вокруг себя мужчин; при этом им часто грозит опасность наподобие пресловутого ученика чародея обратиться в бегство при виде наплыва поклонников. А тут еще надобно выбирать, решительно предпочесть одного, решить, кому дано будет ввести невесту в свой дом.
И как случайно то, что здесь определяет выбор, настраивает избирательницу на определенный лад! Я был вполне убежден, что нам с Лили надо расстаться, но любовь взяла под подозрение эту убежденность. И Лили с теми же мыслями простилась со мной, когда я отправился в свое прекрасное странствие, чтобы немного рассеяться, но оно оказало на меня прямо противоположное действие.
Покуда я отсутствовал, я верил в разлуку — и не верил в разрыв. Все воспоминания, желания и надежды взыграли во мне. Но вот я возвратился, и если свидание свободно и радостно любящих друг друга — рай, то свидание отлученных друг от друга из разумных соображений — нестерпимый огонь чистилища, преддверие ада. Вновь оказавшись среди тех, что окружали Лили, я с удвоенной силой ощутил разногласия, разрушившие наш союз; когда же мы остались с нею с глазу на глаз, У меня мучительно защемило сердце от сознания, что она для меня потеряна.
Посему я решился на вторичное бегство, и, конечно же, более чем желанным явилось для меня то, что веймарский герцог со своей молодой супругой по пути из Карлсруэ должен был прибыть во Франкфурт и мне предстояло, согласно нескольким повторным приглашениям, сопровождать их в Веймар. Августейшая чета относилась ко мне с неизменным милостивым доверием, на которое я, со своей стороны, отвечал горячей благодарностью. Моя приверженность к герцогу с той самой минуты, когда я впервые его увидел, мое почтительное восхищение принцессой, которую я уже давно знал, хотя и не был ей представлен, желание высказать свои дружеские чувства Виланду, который так снисходительно ко мне отнесся, и на месте загладить впечатление от моих дерзких, хотя и довольно случайных выходок, — всего этого было достаточно, чтобы и менее пылкого юношу побудить, почти что принудить, к поездке в Веймар. А тут еще и необходимость бежать от Лили, все равно в каком направлении — на юг ли, где ежедневные повествования отца сулили мне рай в природе и в искусстве, или на север, куда меня манил обширный круг значительных и достойных людей.
Молодая герцогская чета по пути домой наконец прибыла во Франкфурт. Мейнингенский двор в это время тоже находился в нашем городе, и я был любезнейшим образом принят молодыми принцами и сопровождавшим их тайным советником фон Дюркгеймом. Но, верно, для того, чтобы, как то и пристало молодости, не было недостатка еще и в оригинальных приключениях, со мною произошло невероятное, хотя и довольно забавное недоразумение.
Веймарские и мейнингенские государи остановились в одной гостинице. Я получил приглашение к обеду. Голова моя была до того забита мыслями о веймарском дворе, что я ни о чем не спросил, к тому же я был недостаточно самоуверен и не предполагал, что мейнингенцы тоже захотят почтить меня своим вниманием. Одетый как положено, я являюсь в «Римского императора» и обнаруживаю, что апартаменты веймарских государей пусты: они, оказывается, прошли к мейнингенцам. Я тотчас же иду туда и встречаю самый радушный прием. Вообразив, что это предобеденный визит или что обед предстоит совместный, я дожидаюсь, когда все поднимутся. И правда, веймарские государи и вся их свита встают; я делаю то же самое. Однако процессия движется не в апартаменты, а, напротив, вниз по лестнице, к дожидающимся у подъезда экипажам. Все рассаживаются, и я остаюсь на улице один-одинешенек.
Вместо того чтобы быстро и осмотрительно разузнать, что, собственно, произошло, я, со свойственной мне решительностью, поспешил домой и застал родителей за десертом. Отец покачал головой, а мать старалась по мере сил выгородить меня. Вечером она мне рассказала, что, когда я ушел, отец заявил, что его до крайности удивляет, как я, вообще-то богом не ушибленный, не вижу, что эти люди попросту надо мной смеются и стараются меня опозорить. Но его слова уже не произвели на меня впечатления. За это время я встретился с господином фон Дюркгеймом, и он, по своему обыкновению, мягко и добродушно пожурил меня. Я словно очнулся от сна и воспользовался случаем учтиво поблагодарить за милость, на которую не смел и надеяться, а также испросить себе прощение.
После того как я, основательно все обдумав, ответил согласием на столь дружественное приглашение, было договорено о следующем: один из придворных, оставшийся в Карлсруэ, чтобы дождаться заказанного в Страсбурге ландо, в назначенный день прибудет во Франкфурт, мне же надо быть готовым тотчас же уехать вместе с ним в Веймар. Милостивое дружелюбное прощание августейших особ, приветливость свиты делали эту поездку страстно желанной, передо мною, казалось, расстилалась гладкая и ровная дорога.
Но и здесь это простое намерение из-за ряда случайностей усложнилось, от моего нетерпения запуталось и едва не рухнуло вовсе. Со всеми распростившись и объявив день своего отъезда, я стал торопливо укладываться, не забыв прихватить и свои еще не напечатанные сочинения, и стал ждать часа, который приведет во Франкфурт вышеупомянутого друга в новой коляске, а меня перенесет в новые края, в новую жизнь. Но час миновал, день тоже, и так как я не хотел прощаться во второй раз и к тому же боялся, что в дом хлынет толпа гостей, то с того самого утра, когда я объявил себя отъезжающим, я оказался вынужденным оставаться дома, более того, тихо сидеть в своей комнате, — словом, находился в престранном положении.
Но так как одиночество и сидение взаперти всегда мне благоприятствовали, — тут уж волей-неволей приходится использовать время, — я взялся за своего «Эгмонта» и почти что его закончил. Я прочитал «Эгмонта» отцу, который проникся особой любовью к этой вещи и желал только одного — увидеть ее законченной и напечатанной, полагая, что она много прибавит к доброй славе его сына. Успокоиться и вновь испытать удовлетворение было ему сейчас необходимо, так как его глоссы относительно где-то застрявшего экипажа были исполнены мрачнейшей подозрительности. Он снова твердил свое: вся эта история вымышлена, никакого нового ландо не существует, а своевременно не прибывший кавалер — просто плод чьего-то воображения. Правда, понять это он давал мне лишь косвенно, но зато тем старательнее мучил себя и мою мать, изображая происходящее как веселую придворную забаву, которая была придумана в отместку за мои дерзкие выходки, дабы меня уязвить и пристыдить, — вот, мол, ждал почестей, а теперь сиди в дураках.
Сам я сначала ни в чем не сомневался, радовался нежданным часам работы, не прерывавшимся ни приходом друзей, ни наплывом посетителей, ни, наконец, какими бы то ни было развлечениями, и усердно, хотя и не без известной ажитации, продолжал трудиться над «Эгмонтом». Кстати сказать, этой пьесе, движимой многообразными страстями, должно было пойти на пользу, что писал ее человек, не вовсе им чуждый.
Так прошли восемь дней и сколько-то еще, сколько — я сам не знаю, и одиночное заключение стало уже тяготить меня. За многие годы я привык к жизни под открытым небом, в обществе друзей, с которыми у меня существовали взаимно-откровенные отношения, скрепленные общими интересами, вблизи от возлюбленной, которая, покуда еще была возможность видеть ее, неудержимо влекла меня к себе, — все это до такой степени меня растревожило, что притягательная сила работы над трагедией стала убывать и поэтическая продуктивность, казалось, вот-вот иссякнет под напором нетерпеливого волнения. Уже несколько дней мне было невмочь оставаться дома. Закутавшись в широкий плащ, я бродил впотьмах по городу, прокрадывался мимо домов моих друзей и знакомых и, уж конечно, оказался под окнами Лили. Она жила в первом этаже углового дома, зеленые шторы были спущены; все же я заметил, что свечи стоят на обычных местах. Вскоре я услышал ее голос: она запела, аккомпанируя себе на клавесине; это была песня «Что влечешь меня неудержимо…», меньше года назад написанная мною для нее. Мне, верно, только чудилось, что она поет ее проникновеннее, чем когда-либо, каждое слово отчетливо доносилось до меня; я приник ухом к окну, насколько это позволяла загораживавшая его решетка. Лили допела песню, и по тени, падавшей на шторы, я увидел, что она встала и туда и назад заходила по комнате, но я тщетно старался различить ее изящный силуэт сквозь густую ткань. Только твердое решение уйти, не навязывать ей своего присутствия, порвать с нею окончательно, да еще мысль о том, сколь странный эффект произвело бы мое появление, заставили меня покинуть милую близость.
Прошло еще несколько дней; гипотеза отца становилась все правдоподобнее, тем более что не было даже письма из Карлсруэ, объясняющего причины задержки с экипажем. Моя трагедия замерла на мертвой точке. Тогда отец решил обернуть в свою пользу тревогу, меня терзавшую, и заявил: раз уж вещи уложены, менять решения не следует, он даст мне денег на поездку в Италию и откроет кредит в итальянском банке, но отправиться в путь мне следует без промедления. Сомневаясь, мешкая, так как решение было слишком важно, я наконец положил: если до назначенного мною срока не прибудет ни экипаж, ни хотя бы какая-то весточка, я уезжаю сначала в Гейдельберг и оттуда, уже не через Швейцарию, а через Граубюнден и Тироль, в заальпийские края.
Разумеется, происходит много нелепиц, когда беспечную юность, которая и сама легко сбивает себя с толку, направляет на ложный путь старческая пристрастность. Но и в юности, и в жизни вообще мы, по большей части, начинаем учиться стратегии, лишь воротившись из похода. Собственно говоря, такие случайности легко объяснимы, но мы очень уж любим вступать в заговор с заблуждением против естественного и правдивого; так мы тасуем карты, прежде чем сдать их, чтобы не воспрепятствовать случаю вмешаться в игру. Отсюда возникает стихия, в которой и на которую воздействует демонизм, тем хуже путая наши карты, чем больше мы подозреваем о его присутствии.
Прошел последний день, на следующее утро мне надо было уезжать, как вдруг я почувствовал необоримое желание еще раз повидать моего друга Пассавана, только что возвратившегося из Швейцарии, ибо он имел бы все основания на меня рассердиться за то, что я подорвал наши взаимно доверительные отношения полным молчанием о своих намерениях. Посему я через незнакомого мне человека назначил ему свидание ночью в определенном месте, куда и явился раньше его, закутанный в плащ; он тоже не заставил себя ждать и, удивленный самим вызовом, еще больше удивился, узнав, кто его вызывал. Впрочем, радовался он, пожалуй, даже сильнее, чем удивлялся, и, конечно, об уговорах и советах нечего и говорить; он пожелал мне счастливой поездки в Италию, и мы расстались. На следующее утро я уже ехал по горной дороге.
На то, чтобы отправиться в Гейдельберг, у меня было несколько причин: одна, разумная, заключалась в том, что, как мне было известно, веймарский друг проездом в Карлсруэ не мог миновать Гейдельберга; прибыв туда, я тотчас же оставил на почте записку, попросив вручить ее господину, которого я описал; вторая причина носила любовный характер и касалась моих прежних отношений с Лили. Дело в том, что демуазель Дельф, бывшая поверенной нашей любви, более того — ходатаем перед родителями за союз более серьезный и прочный, жила в Гейдельберге, и я почитал за счастье, прежде чем покинуть Германию, еще раз вспомянуть с почтенной, терпеливой и предусмотрительной подругой те счастливые времена.
Я был хорошо принят и представлен нескольким семействам; более других мне пришелся по душе дом главного лесничего, господина фон В. Родители — чинные, приятные люди, одна из дочерей напомнила мне Фридерику. Была как раз пора сбора винограда, погода стояла чудесная, и в долине Рейна и Неккара во мне вновь ожили все мои эльзасские чувства. За это время я испытал много странного и на многие странности нагляделся, но все было еще в становлении, результат жизни не сложился во мне, и то бесконечное, с чем я столкнулся в недавнем прошлом, скорее сбивало меня с толку, чем умудряло опытом. Впрочем, в обществе я был таким же, как раньше, даже, может быть, более любезным и занимательным. Здесь, под открытым небом, среди жизнерадостных людей, мне вспомнились старые игры, для молодежи вечно остающиеся новыми и прельстительными. С прежней, еще не угасшей любовью в сердце я, сам того не желая и ни слова о прошлом не говоря, возбуждал участие; вскоре я и в этом кругу почувствовал себя не только своим, но даже необходимым человеком и вовсе позабыл, что после двух-трех приятных вечеров намеревался продолжить свое путешествие.
Демуазель Дельф принадлежала к тем людям, которые, не будучи интриганами, всегда о чем-то хлопочут, вовлекают других в свои хлопоты и вечно стараются добиться какой-нибудь цели. Она прониклась энергичной дружбой ко мне и тем легче могла соблазнить меня остаться подольше, что я жил у нее в доме и она твердо намеревалась украсить всяческими удовольствиями дальнейшее мое пребывание, а моему отъезду чинить всяческие препятствия. Когда я хотел навести разговор на Лили, она оказалась отнюдь не такой любезной и участливой, как я надеялся. Напротив, она одобряла наше обоюдное решение расстаться ввиду сложившихся обстоятельств и говорила, что надо покориться неизбежности, выбросить из головы несбыточные мечты и подумать о других возможностях. А так как она любила проводить свои намерения в жизнь, то не положилась на волю случая, а сразу наметила план моего будущего жизнеустройства, из чего я вывел, что она неспроста пригласила меня в Гейдельберг.
Курфюрст Карл-Теодор, столь много порадевший об искусствах и науках, все еще имел свою резиденцию в Мангейме, и так как двор у него был католический, а страна протестантская, то протестантская партия не без основания старалась укрепить свои ряды людьми сильными и подающими надежды. Теперь мне следовало, благословясь, отправиться в Италию и там всецело посвятить себя изучению искусств, а тем временем на меня бы здесь поработали; к моему возвращению уже было бы ясно, возросла ли забрезжившая было любовь фрейлейн фон В. или угасла и разумно ли я поступлю, попытавшись с помощью столь видного благоприобретенного родства устроить свое счастье в новом отечестве.
Я не отвечал решительным отказом на все эти предложения, но моя нерасчетливая душа не мирилась с ее далеко идущими расчетами. Я жил благоволением мига, образ Лили во сне и наяву стоял передо мной, проникая во все, что могло бы мне понравиться или меня развлечь. И сейчас, постаравшись представить себе всю серьезность затеянного мною путешествия, я решил по-хорошему выбраться отсюда и через несколько дней продолжить свой путь.
До глубокой ночи демуазель Дельф развивала передо мной свои планы и в деталях рассказывала, что́ для меня собираются сделать; я не мог иначе как с благодарностью отнестись к этим намерениям, хотя стремление определенного круга через меня и милости, которые мне, может быть, удастся снискать, укрепить свое положение при дворе было достаточно очевидно. Мы разошлись по комнатам лишь около часа ночи. Я проспал недолго, но крепко, когда меня разбудил рожок почтальона, осадившего своего коня у самого дома. Вскоре в мою комнату вошла демуазель Дельф с письмом в одной и свечой в другой руке. Она подошла к моему ложу с возгласом: «Вот оно! Прочтите и скажите мне, о чем идет речь. Письмо, конечно, от веймарцев. Если это приглашение, то отклоните его и попомните о наших разговорах!» Я попросил у нее свечу и добавил, что должен четверть часа побыть один. Она неохотно меня покинула. Не распечатывая письма, я некоторое время смотрел в пространство. Эстафета была из Франкфурта, я узнал печать и руку; следовательно, друг уже там, он звал меня, а неверие и сомнения были лишь следствием моей нетерпеливости. Почему нельзя было дома, в тишине и спокойствии, дождаться человека, приезд которого был заранее возвещен и который, бог весть по какой случайности, мог задержаться в пути? У меня словно пелена упала с глаз. Все прежнее: доброта, милости, доверие воскресли передо мной, я готов был устыдиться своего дурацкого проступка. Наконец я вскрыл письмо — все оказалось как нельзя проще. Замешкавшийся кавалер ждал нового экипажа, который ему должны были доставить из Страсбурга со дня на день, с часу на час, как мы ждали его, затем по деловым надобностям двинулся во Франкфурт через Мангейм и, к своему ужасу, не застал меня на месте. Он тотчас же отправил мне письмо с нарочным, в котором высказывал надежду, что после разъяснившегося недоразумения я немедленно приеду домой, дабы не опозорить его в глазах тех, что ожидают меня в Веймаре.
Несмотря на то что и разум и душа мои немедленно склонили чашу весов в его сторону, мои новые намерения, в свою очередь, явились изрядным противовесом. Отец предначертал для меня очень недурной план путешествия и снабдил маленькой библиотечкой, с помощью которой я должен был подготовиться к тому, что мне предстояло увидеть. И правда, в часы досуга эти книги составляли лучшее мое занятие, и в последнюю свою поездку в экипаже я ни о чем другом не думал. Прекрасные творения, с детства известные мне по рассказам и копиям, толпою вставали перед моим внутренним взором, и я мечтал только о том, чтобы вблизи увидеть их, при этом все дальше удаляясь от Лили.
Тем временем я оделся и стал взад и вперед шагать по комнате. Вошла моя строгая хозяйка. «Итак, что вы мне скажете?» — воскликнула она. «Дорогая, — отвечал я, — не пытайтесь меня уговаривать, я решил вернуться; причины достаточно мною взвешены, и говорить о них бесполезно. Когда-нибудь должно же быть принято решение, и кому его принимать, как не тому, кого это ближе всех касается!»
Я был взволнован, она тоже; между нами разыгралась бурная сцена, которую я прекратил, приказав слуге идти заказывать лошадей. Тщетно просил я свою хозяйку успокоиться и мое вчерашнее шутливое прощание с обществом счесть за настоящее; ведь речь идет лишь о кратком визите, лишь о том, чтобы засвидетельствовать свое почтение, мое итальянское путешествие не отменено, и мое возвращение сюда не отрезано. Она ни о чем не хотела слышать и только усугубляла мое волнение. Экипаж стоял перед дверью; вещи были уже привязаны, почтальон выражал нетерпение, трубя в рожок; я вырвался из комнаты; однако она все еще не отпускала меня и довольно искусно выдвигала всевозможные аргументы против моего отъезда; кончилось тем, что я в запале и одушевлении выкрикнул слова Эгмонта:
«Дитя! Дитя! Довольно! Словно бичуемые незримыми духами времени, мчат солнечные кони легкую колесницу судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть. Куда мы несемся, кто знает? Ведь даже мало кто помнит, откуда он пришел».
КОММЕНТАРИИ
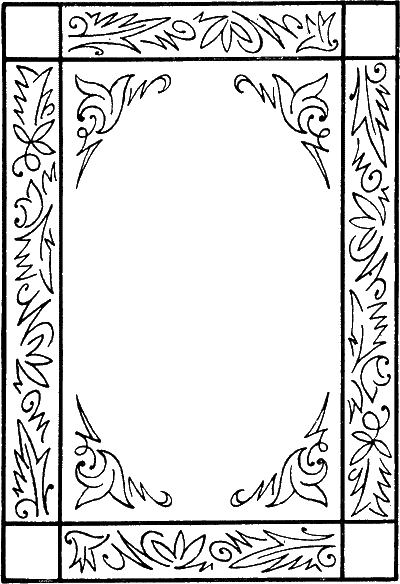
В основу настоящего перевода «Поэзии и правды», вышедшего впервые отдельным изданием в 1969 году, положен текст юбилейного издания Котта Полного собрания сочинений Гете (Goethe. Sämtliche Werke, B-de 22–25, Cottas Jubiläums-Ausgabs), восходящий к фундаментальному веймарскому изданию и тем самым к каноническому тексту последнего прижизненного издания Собрания сочинений Гете (Ausgabe letzter Hand) 1829–1830 годов; часть четвертая появилась в посмертных томах того же издания в 1833 году. Принят во внимание был также тщательно сверенный и заново обработанный текст «Поэзии и правды» позднейшего гамбургского издания (Hamburger Ausgabe) 1950 года и текст берлинского Собрания сочинений Гете, изд-во «Ауфбау» (Goethe. Berliner Ausgabe, 13, Brl., 1960).
Комментарии к данному тому опираются на обширную часть почти необозримой литературы, посвященной «Поэзии и правде», но прежде всего на комментарии Эриха Трунца (гамбургское издание), Рихарда Мейера (юбилейное издание Котта) и академика В. М. Жирмунского (Гете. Собр. соч. в 13-ти томах. М., Гослитиздат, т. IX (1935) и т. X (1937).
Полное заглавие данной книги — «Из моей жизни. Поэзия и правда». Название «Из моей жизни» Гете предпосылал и другим своим автобиографическим сочинениям: «Итальянскому путешествию» (1816) и «Кампании во Франции» (1822) — в первых изданиях. Что касается основного заглавия — «Поэзия и правда», непосредственно относящегося к данному произведению, то Гете давал ему определенное толкование: «правдой» он называет факты, сохранившиеся в его памяти и правдиво им воссозданные; «поэзией» — истолкование разрозненных фактов, установление их «внутренней связи», их значения для его духовной биографии — его жизни, понимаемой как некое «целое», обладающее единым общим смыслом. «Все в ней (в его автобиографии. — Н. В.) — результаты моей жизни, а отдельные факты, пересказанные мною, служат лишь для того, чтобы подтвердить общее наблюдение, более высокую правду… Любой факт нашей жизни ценен не тем, что он достоверен, а тем, что он что-то значит» (Эккерман. Разговоры с Гете, 30 марта 1831 г.).
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Человек, которого не наказывают… — Эпиграф взят из фрагмента греческого комедиографа Менандра (IV в. до н. э.).
…да послужит письмо друга… — Это письмо сочинено самим Гете на основе устных просьб и письменных обращений его друзей и почитателей.
…двенадцать томов ваших поэтических произведений… — Речь идет о двенадцатитомном Собрании сочинений Гете, изданном Котта в 1806–1808 гг. (и в 1809 г. дополненном 13-м томом, содержащим роман «Избирательное сродство»).
…внутренние побуждения, извне воспринятые влияния… — Отсюда и до конца предисловия Гете излагает центральную идею своей автобиографии.
КНИГА ПЕРВАЯ
…дед мой, шультгейс Иоганн Вольфганг Текстор… — Иоганн Вольфганг Текстор (1693–1771) — с 1747 г. шультгейс (главный юрист) Франкфурта и тем самым глава города-республики, официально считавшийся наместником императору.
Мать моего отца… — Корнелия Гете, урожденная Вальтер, по первому мужу Шельхорн, умерла в 1754 г. в возрасте восьмидесяти шести лет.
Пиранези (1707–1778) — известный итальянский художник, автор гравюр, изображающих виды Рима.
…кукольное представление… — Гете говорит о своих впечатлениях от детского театра также и во второй книге «Поэзии и правды» и далее в гл. 1–3 «Театрального призвания Вильгельма Мейстера» (первой редакции «Годов учения Вильгельма Мейстера») и в гл. 2 «Годов учения Вильгельма Мейстера».
…все знали, что он носится с планами полной его перестройки… — Перестройка франкфуртского дома Гете происходила в 1755 г. В 1863 г. этот дом был приобретен Свободной немецкой ассоциацией и обставлен сохранившейся мебелью, утварью, картинами и посудой. В марте 1944 г. англо-американская авиация разбомбила всю старую часть Франкфурта, и от дома Гете уцелел только фундамент. В настоящее время дом полностью восстановлен и производит впечатление ничем не потревоженной старины.
Заальгоф — замок XIV в. в старом Франкфурте.
Церковь святого Варфоломея — франкфуртский собор, в котором происходили коронации императоров Священной Римской империи германской нации.
Пфарэйзен («железная решетка» — нем.) — улица для пешеходов, пересекавшая Варфоломеевское кладбище возле собора и отгороженная от него железной решеткой; по обеим сторонам этой улицы во времена Гете тянулись книжные лавки.
Нюрнбергское подворье — франкфуртское подворье нюрнбергских купцов. Компостель — здание, принадлежавшее курфюрсту Майнцскому и служившее ему резиденцией во время его наездов во Франкфурт.
Грав Ганс — нидерландский гравер XVI в.; экземпляр его гравюры с картины Фабера «Осада Франкфурта» (1553) хранится в веймарском Доме-музее Гете.
Знаменитый Хромой Бес — намек на известный роман французского писателя Лесажа (1668–1747) «Хромой Бес».
Рудольф Габсбургский (1218–1291) — основатель династии Габсбургов, глава которой обычно избирался императором Священной Римской империи (германо-римским императором). Граф Рудольф Габсбургский был избран германским королем в 1273 г. после длительного междуцарствия, вызванного свержением династии Гогенштауфенов.
Карл Четвертый (1317–1378) — германо-римский император; в 1356 г. издал Золотую буллу — основной закон Священной Римской империи. Уголовное уложение — было принято уже в 1532 г. императором Карлом Пятым.
Гюнтер Шварцбургский — был избран в 1349 г. во Франкфурте противниками Карла Четвертого германским королем, а затем германо-римским императором, но вскоре после избрания отрекся от престола и умер. Его надгробие, один из замечательных памятников готической скульптуры, и по сей день хранится во Франкфуртском соборе.
Максимилиан Первый (1493–1519) — германо-римский император. Ему наследовал его внук, испанский король Карл Первый, избранный на германский престол под именем Карла Пятого (1500–1558). Попытка французского короля Франциска Первого (1454–1547) добиться германской короны не увенчалась успехом.
…в комнату конклава… — Имеется в виду зал, в котором происходил выбор курфюрстами германо-римских императоров.
…любившим рассказывать о последних коронациях, быстро следовавших одна за другой. — После смерти императора Карла Шестого (1741) — последнего мужского потомка австрийских Габсбургов — его австрийские и венгерские земли перешли к его дочери Марии-Терезии (1717–1780), а императором, под давлением Франции, бил избран курфюрст Баварский под именем Карла Седьмого (1697–1745); во время войны за австрийское наследство (1740–1748) он потерял столицу Баварии Мюнхен и большую часть баварской территории. После его смерти императорский престол перешел к мужу Марии-Терезии — Францу Первому (1708–1765) и к их потомству, так называемой Габсбургско-Лотарингской династии. Коронация Карла Седьмого состоялась в 1742 г., Франца Первого — в 1745 г.
Ахенский мир (1748 г.) — положил конец войне за австрийское наследство.
Суд дудошников — праздновался во Франкфурте до 1802 г. Гете руководствовался не только собственными воспоминаниями, но и существовавшей по этому вопросу историографической литературой.
…мы взялись за приведение в порядок отцовской библиотеки… — Иоганн Каспар Гете был страстным коллекционером и библиофилом; его библиотека насчитывала более двух тысяч томов. Распроданная в 1795 г. на книжном аукционе в связи с продажей дома матерью Гете, она, по сохранившейся описи, почти полностью восстановлена (частично в других экземплярах) и размещена во франкфуртском Доме-музее Гете.
Кейслер и Немейц — авторы популярных в XVIII в. описаний путешествий.
…заказывал картины всем франкфуртским художникам… — Франкфуртские живописцы, считаясь со вкусами местных коллекционеров, придерживались традиции, восходящей к нидерландским художникам, — в отличие от немецких придворных живописцев, которые подражали французам: Ватто, Фрагонару и др.
Лиссабонское землетрясение (1755 г.). — Это ужасное стихийное бедствие изрядно смутило рационалистический оптимизм, господствовавший в философии XVIII столетия; на него тотчас же откликнулись ведущие философы века — Вольтер и Руссо, а позднее Кант.
Его старательно и серьезно написанная диссертация… — Отец Гете защищал диссертацию «Некоторые данные о введении в наследство согласно римскому и отечественному праву» в 1738 г.
Целлариус — латинизированная форма фамилии Келлер; автор рифмованной латинской грамматики и латино-немецкого словаря.
Корнелий Непот (99–24 гг. до н. э.) — римский писатель; его «Жизнеописания героев» проходились при начальном обучении латинскому языку. Целлариус и Пазор. — Пазор (1570–1637) — автор греческой грамматики и пособия для чтения Нового завета; Целлариус здесь упоминается как автор трехтомной «Historia universalis» («Всемирная история»).
Амос Коменский (1592–1670) — известный чешский педагог. Его «Живописный мир» («Orbis sensualium pictus», 1658) — иллюстрированная энциклопедия для учащейся молодежи.
Мериан Матеус (1593–1650) — знаменитый швейцарский гравер.
Готфридова хроника — «Историческая хроника» Людвига Готфрида (1581–1633), собрание исторических анекдотов, написанных сухим, бесстрастным языком, без объединяющей их идеи. Ценность этой книги — в иллюстрациях Мериана.
«Филологическая кадильница» — сборник, содержащий избранные отрывки из античных авторов.
«Телемах» Фенелона — знаменитый педагогический роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651–1715). Стихотворный перевод Нейкирха, упоминаемый Гете, появился в 1739 г.
«Остров Фельзенбург» — роман Иоганна Готфрида Шнабеля, едва ли не лучшее из многочисленных немецких подражаний роману Дефо «Робинзон Крузо».
«Кругосветное путешествие лорда Ансона». — Это путешествие, совершенное в 1740–1744 гг., было описано некими Уолтером и Робинсом.
«Народные книги». — Обширная литература прозаических переложений средневековых героических поэм и рыцарских романов, христианских легенд, исторических сказаний и комических шванков получила широкое распространение в XV и XVI вв. благодаря книгопечатанию. Впервые подобающее место в истории немецкой литературы уделили «народным книгам» романтики: Август Вильгельм Шлегель, Людвиг Тик и др. Гете дает понять, что «народные книги» были ему знакомы еще с детства, а отнюдь не благодаря романтикам.
Алкиной и Лаэрт — персонажи из «Одиссеи» Гомера. Алкиной — гостеприимный царь феакийцев, мудро правивший своим островом, жил в роскошном дворце, окруженном чудесным садом; Лаэрт — отец Одиссея; переставши царствовать, в простой одежде работал в своем саду, вдали от мирской суеты. Гете иронически отмечает, что его дед Текстор совмещал свое первенствующее положение в городе со скромной работой садовника.
…посещения второй дочери деда… — Мария Якобея Мельбер, урожденная Текстор (умерла в 1823 г.) сообщила Гете много ценных сведений о его родном городе.
…вторая наша тетушка… — Анна Мария Штарк, урожденная Текстор (умерла в 1794 г.), автор книги «Назидательное чтение в добрые и горестные дни».
…воодушевился мыслью непосредственно приблизиться к великому богу природы… — Эта попытка приблизиться к богу, которой кончается первая книга, — конечно, детская игра, и все же в ней уже содержится завязка тех упорных религиозных исканий, которые позднее привели Гете к его вере в творческие силы, заложенные в природе и в человеке.
КНИГА ВТОРАЯ
Мир… тотчас же раскололся на две партии… — Во время Семилетней войны (1756–1763) Пруссию поддерживала Англия, Австрию — Франция, Швеция и Россия; выход России из войны после воцарения Петра Третьего спас прусского короля Фридриха Второго от неизбежного разгрома.
Граф Даун Леопольд Иосиф (1705–1766) — незадачливый австрийский главнокомандующий.
«Новый Парис» — сказка, написанная в старости, но сквозь изощренный словесный покров поздней прозы Гете в ней просвечивает простодушно-наивный вымысел ребенка; ничем не связанная с содержанием второй книги, она вставлена в нее не случайно, но подчеркивает, что герой автобиографии — дитя среди детей — родился поэтом, имеет доступ в царство фантазии, в котором отказано его сверстникам.
…о своем деде с отцовской стороны… — Дед поэта с отцовской стороны, Фридрих Георг Гете (1658–1730), был сыном деревенского кузнеца родом из герцогства Веймарского; сначала — портной в Париже, в 1706 г. переехал во Франкфурт, где называл себя, на французский лад, Goethé; потом — трактирщик и владелец лучшей франкфуртской гостиницы. К концу жизни Георг Гете достиг большого благосостояния.
…закрыл себе доступ в совет. — По конституции Франкфурта, в совет не могли быть выбраны лица, состоящие в родстве или в близком свойстве с кем-либо из членов совета.
Иоганн Михаэль фон Лоен (1694–1776) — писатель и публицист, его произведения упомянуты Гете.
…место президента в Лингене… — Президент — наместник прусского правительства.
Карл Фридрих фон Мозер (1723–1798) — юрист и писатель. В книге «Господин и слуга» впервые высказал смелую для того времени мысль, что министр — слуга не государя, а государства; его поэма в прозе «Даниил в львином рву» вдохновила мальчика Гете написать прозаическую же поэму «Иосиф»; Филону из «Признаний прекрасной души» («Ученические годы Вильгельма Мейстера») автор присвоил внешние и душевные черты Мозера.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — до Гете крупнейший немецкий лирик XVIII в., автор од, написанных античными размерами. Его эпическая поэма «Мессиада» («Мессия»; 1748–1773), написанная в подражание «Потерянному раю» Дж. Мильтона, произвела огромное впечатление на современников не только своими поэтическими достоинствами, но и как «душеспасительное чтение»; начиная с песни XI художественное качество поэмы резко снижается. Нерифмованные стихи Клопштока вызывали резкие нападки со стороны почитателей французского классицизма и немецкой школы классицистического направления.
Каниц, Дроллингер, Крейц — придворные поэты-классицисты.
Гагедорн Фридрих фон (1708–1754) — поэт-анакреонтик, оказавший некоторое влияние на Гете в его лейпцигский период.
Геллерт. — См. ниже, коммент. к шестой книге.
Галлер Альбрехт (1708–1777) — швейцарский ученый-физиолог и поэт, автор поэмы «Альпы» во вкусе английских поэтов-сентименталистов.
«Освобожденный Иерусалим» Коппа. — Имеется в виду знаменитая поэма Тассо в переводе Коппа.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Граф Торан Франсуа де Tea (1719–1794) — главное действующее лицо третьей книги, просвещенный аристократ, знаток не только французской, но и английской философии, а также ряда античных философов. Во Франкфурте, на должности «королевского лейтенанта» (то есть коменданта, наместника короля в оккупированном городе), он пробыл с 1759 по 1761 г. и проявил себя как способный администратор. В частности, он открыл постоянный французский театр и щедро оплачивал местных художников. Позднее был губернатором во Франции и на острове Сан-Доминго. Умер на родине, а не в Вест-Индии, как указано в конце книги (впрочем, Гете осторожно оговаривает, что это «кто-то сказал нам»).
Герцог Осуна (1579–1624) — испанский вице-король Сицилии и Неаполя; в 1748 г. в немецком переводе вышли анекдоты об этом государственном деятеле.
…граф призвал к себе всех франкфуртских живописцев… — Все они, за исключением Нотнагеля, охарактеризованы в первой книге. Нотнагель Иоганн Андреас Беньямин (1729–1804) — художник и владелец обойной фабрики; давал уроки живописи Гете в 1774 г. О нем подробнее — в четвертой книге.
Произведения Детуша, Мариво, Лашоссе… — Гете перечисляет имена популярных французских комедиографов, чьи произведения в годы его молодости часто исполнялись на немецкой сцене. Последний из перечисленных — создатель жанра так называемой «слезной комедии».
Лемьер Антуан-Марэн (1723–1793) — представитель французской классической трагедии периода ее упадка.
«Деревенский колдун» (1759) — опера Жан-Жака Руссо, она действительно шла в эти годы во Франкфуртском французском театре; что же касается двух других названных здесь оперетт — «Роз и Кола́», текст Седена, музыка Монсиньи и Гретри (1764), и «Аннет и Любен» мадам де Фавар (1762), то они не могли исполняться в годы французской оккупации Франкфурта, так как не были тогда еще написаны; здесь память изменила автору «Поэзии и правды».
«Отец семейства» Дидро. — Эта пьеса Дени Дидро, выдающийся образец «мещанской драмы» (1758), а также «Незаконный сын» (1757) и сопровождавшие его «Рассуждения о «Незаконном сыне» того же писателя оказали большое влияние на развитие немецкой драматической литературы. Лессинг писал о них и перевел обе пьесы (1760). В 1805 г. Гете перевел «Племянника Рамо» Дидро, снабдив его собственными примечаниями. Палиссо Шарль (1730–1814) — автор сатирической комедии «Философы», направленной против энциклопедистов и в особенности против Руссо.
Принц Субиз Шарль (1715–1787.) — маршал Франции, командовал французской армией и потерпел поражение в сражении при Росбахе (1757).
Маршал Брольо (точнее, Брольи), герцог Виктор-Франсуа (1718–1804) — выдающийся французский полководец, одержал победу под Ганау над ганноверскими войсками, которыми командовал герцог Фердинанд Брауншвейгский (1759 г.).
«Шкатулка с драгоценностями» — сборник религиозно-моралистического содержания, распространенный в кругах пиетистов (его полный заголовок — «Золотая шкатулка с драгоценностями для детей господних, клад коих на небеси»); мать Гете часто гадала по этой книге.
Речь, с которою он обратился к графу… — Речь переводчика, обращенная к Торану, написана Гете в 1811 г.; по мнению критиков, является образцом поздней прозы Гете, но можно не сомневаться, что она и по содержанию и по форме, выдающей ее французское происхождение, довольно точно сохранилась в памяти автора со времен его детства.
«Мисс Сара Сампсон» Лессинга (1755) — первая немецкая «мещанская трагедия», написанная под впечатлением английской драмы этого жанра «Лондонский купец» Лилло (1731).
…во вкусе Пирона… — Пирон Алексис (1689–1773) — французский писатель, автор остроумных, подчас фривольных эпиграмм и комических опер, предназначавшихся для ярмарочного театра.
Помеев «Мифологический Пантеон» — популярная, богато иллюстрированная книга по античной мифологии, была написана по-латыни иезуитом Франсуа-Антуаном Помеем.
…трактат Корнеля о трех пресловутых единствах… — О трех единствах (места, времени и действия), как о непреложном законе трагедии, впервые заговорил итальянский писатель и гуманист Юлий Цезарь Скалигер (1484–1558) в своей «Поэтике», опираясь на «Поэтику» Аристотеля и произведения Сенеки. Этот «закон» был принят французскими теоретиками эпохи классицизма XVII в. Лессинг, критикуя французских классицистов, утверждал, что из «трех единств» обязательно только соблюдение «единства действия». Гердер, теоретик писателей «Бури и натиска», считая французскую трагедию «искусственной», «кабинетной», еще решительнее противопоставлял ей «свободную композицию» театра Шекспира.
…Корнель и Расин обороняются от наскоков критиков и публики. — Корнель подвергался резкой критике за отступления от «закона трех единств» в трагедии «Сид» (1636), которая была осуждена Французской Академией по повелению самого кардинала Ришелье; подвергался нападкам строгих ревнителей французского классицизма также и Расин. В 1760 г., когда Гете впервые столкнулся с вопросом о «трех единствах», возражения Лессинга и Гердера еще не были написаны. Спор вокруг «Сида» был ему знаком по французскому сборнику статей участников этой дискуссии, в котором центральное место занимал ответ Корнеля его критику Жоржу де Скюдери; надо отметить, что позднее Корнель объявил себя убежденным сторонником «закона трех единств».
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Лебрен Шарль (1619–1690) — талантливый французский художник, автор «Аффектов», собрания рисунков, изображающих различные душевные состояния, отражающиеся на лице человека; Гете называет их карикатурами за их утрированную выразительность.
Пьяцетта Джованни Батиста (1682–1754) — художник, президент Венецианской академии художеств.
…я придумал роман… — Этот роман утрачен или уничтожен Гете.
«Зигварт» — сентиментальный роман из монастырской жизни Иоганна Миллера, вышедший в 1776 г.
…солнца, остановившегося в Гаваоне… — Согласно библейскому мифу, Иисус Навин остановил своей молитвой солнце и луну, тем самым способствуя истреблению израильтянами «войска пяти парей» (Книга Иисуса Навина, X).
Себастиан Шмид (1617–1696) — страсбургский ученый, автор перевода Библии на латинский язык, превосходящего точностью немецкий перевод Мартина Лютера.
…подробный английский комментарий к Библии… — Имеется в виду немецкий комментарий в 19-ти томах, изданный Дительмайером (1749–1770) и составленный на основе английской библейской критики того времени.
Оттуда дошли до нас… вести о древнейших временах… — В библейской истории Гете больше интересовался патриархами, чем пророками Израиля; подобно Гердеру, он трактует легендарную историю израильтян как поэтический эпос о патриархальной жизни восточного народа. Позднейшая статья Гете «Израильтяне в пустыне» помещена в его комментариях к «Западно-восточному дивану».
Элохим (во множественном числе) — наряду с Иеговой (в единственном числе), древнееврейское наименование бога. Очевидно, свидетельствует о первоначальном многобожии древних евреев. Гете чаще пользуется выражением «Элохим», видимо желая этим сказать, что бог (он же природа) является людям в многоразличных формах зримого мира. В восьмой книге он под «Элохим» понимает так называемую «святую троицу».
…имя второй, видимо, было определено ее течением. — «Тигр» по-арамейски означает «ярый, свирепый».
…и при нем брат его Лот. — Согласно Библии, Лот не брат, а племянник Авраама.
Персонажи Ветхого и Нового заветов благодаря Клопштоку… — Гете имеет в виду не только «Мессиаду» Клопштока, но и драмы «Смерть Адама» (1757), «Соломон» (1764) и «Давид» (1772).
Бодмер Иоганн Якоб (1698–1783) — швейцарский писатель и теоретик эстетики Просвещения, автор прозаических поэм «Иаков и Иосиф», «Ной» и др.
Мне уже давно хотелось обработать историю Иосифа… — «История Иосифа» Гете, написанная прозой, была им сожжена, как он писал сестре Корнелии, 12 октября 1767 г.
…по образцу «Страшного суда» Элиаса Шлегеля. — Шлегель Иоганн Элиас (1719–1749), поэт, автор драм и критических статей, никогда не писал «духовных стихотворений»; предположительно Гете имеет в виду здесь «Страшный суд» Иоганна А. Крамера.
Одна из них, написанная в честь сошествия Христа в ад… — «Поэтические размышления о сошествии Христа в ад» — первое стихотворение Гете, появившееся (без его ведома) в печати, во франкфуртском журнале «Die Sichtbaren» («Видимые») за 1766 г.
…ибо я так затвердил его «Мессиаду»… — Речь идет о друге семьи Гете, советнике Шнейдере, который, тайно от отца, дал юному поэту и его сестре экземпляр «Мессиады» Клопштока.
Боуэр Арчибальд — английский историк; немецкий перевод его десятитомной «Истории пап» вышел в 1751–1779 гг.
«Институции» (наставления, указания — лат.). — Так называлась первая глава «Corpus juris civilis» — свода законов римского права, принятого при императоре Юстиниане (483–565). Эта часть должна была служить своеобразным введением для изучающих право.
Маленький Струве — популярный учебник профессора права в Йене Георга Адама Струве (1619–1692) по римскому и германскому праву.
Лерснерова хроника — хроника Франкфурта Ахилла Августа Лерснера в 11-ти томах (1706–1734), главный источник Гете по истории его родного города.
Фетмильх Винценц — предводитель восстания бесправных франкфуртских ремесленников и мелких торговцев против дворян и патрициев (1612–1616); был казнен в 1616 г. по приговору имперского суда.
Еврейский квартал. — Лишь в 1811 г., когда Гете работал над четвертой книгой, был отменен закон, разрешавший евреям селиться только в тесном гетто, отдельно от христиан.
…картину, клеймившую их стыдом и позором… — Эта картина на Мостовой башне во Франкфурте изображала ритуальное убийство христианского мальчика — обвинение, часто выдвигавшееся против евреев в средние века.
…пошли разговоры об условиях мирного договора… — Речь идет о Губертусбургском мире между Пруссией и Австрией, заключенном 15 февраля 1763 г. и положившем конец Семилетней войне.
Оленшлагер Иоганн Даниэль (1711–1778) — юрист по образованию, автор ученого труда о Золотой булле, член франкфуртского городского совета и бургомистр. Был помолвлен с Сусанной фон Клеттенберг (см. ниже, коммент. к восьмой книге), но брак их не состоялся ввиду отказа невесты. Гете вывел его под именем Нарцисса в «Годах учения Вильгельма Мейстера».
«Канут» Шлегеля — пьеса Иоганна Элиаса Шлегеля, драматическое жизнеописание датского короля Канута.
«Британник» — трагедия Расина.
Рейнек Фридрих Людвиг (1707–1775) — польско-саксонский тайный советник и богатый виноторговец; Гете сравнивает его с Тимоном Афинским, знакомым нам по Лукиану и Шекспиру (нарицательное имя для человеконенавистника), а также с Геаутонтиморуменосом (самоистязатель — греч.) из одноименной комедии Теренция.
Надворный советник Гюсген Вильгельм Фридрих (ум. в 1783 г.) — франкфуртский юрист, вел дела ряда владетельных особ. Его сын Генрих Себастиан (1745–1807) — известный коллекционер и искусствовед, автор многих книг о франкфуртских художниках, которыми широко пользовался Гете.
«О тщете наук» — сочинение известного теософа и алхимика, юриста и медика Агриппы Неттесгеймского (1486–1535). Полное заглавие этого трактата: «О недостоверности и тщете всех наук и искусств», Кельн, 1530.
Тимонический ментор. — Определение «тимонический» Гете образует от имени Тимон Афинский.
…часы, удивительные по тому времени… — Теперь эти часы стоят на площадке второго этажа в Доме-музее Гете во Франкфурте.
Братья Шлоссеры — Иероним Петер (1735–1777), адвокат во Франкфурте, позднее член городского совета и бургомистр, и Иоганн Георг (1739–1799), адвокат и публицист; был женат на сестре Гете Корнелии. Гризбах Иоганн Якоб (1745–1812) — профессор богословия в Йене, позднее принадлежал к дружескому кругу Гете.
КНИГА ПЯТАЯ
Пилад. — Под этим легендарным именем Гете уже выводил преданного ему мальчика во второй книге; здесь Пилад предстает перед нами подростком. Кто он, гетеведами не выяснено.
…нечто среднее между «ломаным стихом» и мадригалом… — «Ломаный стих» («Knittelvers») — стихотворный размер, принятый в XVI в., тогда состоял из восьми или девяти слогов без обязательного числа ударений. В XVIII в. он изменился: каждый стих состоял из четырех ударных слогов при свободном, произвольно-переменном числе неударных. Мадригал — стихотворение, в котором каждый ударный слог чередуется со строго предусмотренным числом неударных, образуя, условно говоря, определенную стопу, но число таких стоп в стихотворной строчке произвольно; иначе говоря, мадригал состоит из строчек «разной длины».
…заказ на свадебную оду, а также на эпитафию. — В XVII в. в бюргерских кругах был широко распространен обычай отмечать свадьбы и прочие семейные события стихотворениями «на случай»; многие поэты кормились такими заказами. В XVIII в. этот обычай постепенно вышел из бюргерского обихода.
…эрцгерцог Иосиф будет избран и коронован римским королем. — Коронация состоялась 3 апреля 1764 г. Начиная с Рудольфа Габсбургского германо-римские императоры избирались, как правило, из австрийского дома. Избрание баварского курфюрста Карла Седьмого в 1742 г. было нарушением этого «обычного права». Во избежание случайности, наследник Габсбургов Иосиф Второй, сын императора Франца Первого и Марии-Терезии, был еще при жизни отца избран римским королем, с тем чтобы тотчас же после его смерти принять императорский титул. При описании связанных с этим торжеств Гете пользовался официальным «Подробным дневником…» («Ausführliches Diarium…») 1764 г. и многочисленными другими источниками.
Собрание избирательного конвента… — Избирательный конвент состоял из трех коллегий (коллегии курфюрстов, прочих князей империи и имперских городов); здесь имеется в виду совместное заключительное заседание всех трех коллегий.
Лафатер. — См. ниже, коммент. к двенадцатой книге.
…со времен старого и нового Абеляра… — Абеляр (1079–1142) — средневековый богослов-схоластик, влюбленный в свою воспитанницу Элоизу. Новый Абеляр — Сен-Пре, герой романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) Ж.-Ж. Руссо.
Менехмы — неразличимые друг от друга близнецы из одноименной комедии римского писателя Плавта.
Далматика и сто́ла — Далматика — облачение пап, кардиналов и епископов на торжественных богослужениях, носилась и германо-римскими императорами при коронации. Стола — здесь: узкая полоса из златотканой парчи, перекинутая через плечо над далматикой.
Сейчас речь идет уже не об оправданиях… а о следствии… — Судебное следствие, к которому был привлечен Гете, не сохранилось в архивах Франкфурта; оно, надо думать, было изъято из уважения к деду-шультгейсу. Рекомендованный Гете молодой человек был уволен и выслан из Франкфурта, Гретхен, вопреки уверениям членов семьи Гете и друзей дома, видимо, покинула Франкфурт тоже не по доброй воле; ее дальнейшая судьба неизвестна.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Чего желаешь в молодости… — Этот достаточно загадочный эпиграф придуман самим Гете; речь в нем, по-видимому, идет о житейском опыте, которым не обладает юноша, но вдосталь обладает старец.
КНИГА ШЕСТАЯ
Маленький Бруккер — краткий курс, составленный Иоганном Якобом Бруккером на основании его многотомного труда — «Критической истории философии» (1744).
Эпиктет — греческий философ-стоик (50–125), с учением которого Гете познакомился по книгам ученика Эпиктета, Арриана.
Антистес — здесь: верховный жрец (греч.).
Солон — здесь: законодатель (по имени афинского законодателя Солона; 639–559 гг. до н. э.).
Горн Иоганн Адам (1749–1806) — учился в Лейпциге в одно время с Гете, позднее был адвокатом во Франкфурте и поддерживал дружеские отношения с поэтом.
«Похищение локона» Попа. — Эта героико-комическая поэма Александра Попа (1688–1744), известного английского поэта-классициста, имелась в библиотеке отца Гете в оригинале и в немецком переводе Луизы Готшед (жены писателя).
Цахариэ Юстус Фридрих Вильгельм (1726–1777) — довольно плодовитый поэт эпохи Просвещения, успехом пользовалась его поэма «Забияка» (1744) из жизни немецкого студенчества, написанная в подражание поэме А. Попа шестистопным ямбом (иначе: «александрийским» стихом).
«Санное право». — Речь идет о шуточном обычае, характерном для бюргерских развлечений того времени: в конце поездки молодой человек, правивший санями, имел «право» расцеловать свою партнершу.
Лёвен Иоганн Фридрих (1727–1771) — поэт, драматург Гамбургского театра, где он работал совместно с Лессингом.
…Геснеровым «Исагогом» и «Полигистором» Моргофа… — Геснер И.-М. — профессор в Геттингене, автор латинского труда «Введение в универсальное образование» («Primae lineae isagoges in eruditionem universalem»; 1756), краткого обзора всех наук, их предметов и методов. Моргоф Д.-Г. — автор труда «Полигистор» («Всезнающий» — греч.), энциклопедического обзора всех наук, проникнутого идеей историзма. Моргоф, наряду с Лейбницем, — наиболее универсальный немецкий ученый своего времени.
Бэйль Пьер (1647–1706) — французский писатель и ученый, автор «Критико-исторического словаря» (1697); взгляды Бэйля во многом предвосхитили позднейший рационализм Просвещения XVIII в. Его труд вышел в немецком переводе Готшеда в 1741–1744 гг.
Гроциус Гуго (1583–1645) — известный ученый-юрист.
Гейне Х.-Г. и Михаэлис И.-Д — профессора Геттингенского университета, благодаря которым последний снискал в те годы славу в ученых кругах; Гейне считался светилом в области классической филологии, он рассматривал античных авторов не только с лингвистической и литературной точки зрения, но и под углом их культурно-исторического значения. Михаэлис — богослов и выдающийся филолог-ориенталист, один из основоположников историко-филологической критики Библии.
Эрнести И.-А. — известный профессор богословия и риторики в Лейпциге, положивший начало культурно-историческому подходу к Новому завету. Морус С.-Ф.-Н — в бытность Гете студентом читал историю греческой и римской литературы.
Пандемониум блуждающих огней. — Пандемониум — собрание демонов, здесь — многозначительный символ юношеских блужданий Гете, его спорадических увлечений всевозможными «блуждающими огнями», преходящими властителями умов поры его юности.
Бёме И.-Г. (1717–1780) — профессор права в Лейпциге. Его бестактное поведение спровоцировало студенческие беспорядки, описанные в восьмой книге.
Геллерт Христиан Фюрхтеготт (1715–1769) — немецкий писатель, выразитель умеренных просветительских взглядов, моралист. Его «Басни и рассказы», роман «Жизнь шведской графини» и «Письма» сделали его одним из популярнейших писателей второй трети XVIII в. Его профессорская деятельность в Лейпциге была менее плодотворна.
Эверхард Отто (1685–1756) и Гейнекциус (1681–1741) — известные немецкие профессора по истории права; прославились в свое время как превосходные стилисты.
…читавшийся Геллертом по Штокгаузену… — Геллерт продолжал по старинке класть в основу своих лекций популярный и уже устаревший учебник Штокгаузена (1752).
Фамулусы — здесь: ассистенты (обычно из студентов старшего курса).
Господин фон Мазурен — действующее лицо из комедии «Поэтический сельский дворянин» (1741) Луизы Готшед (по пьесе Детуша «Сельский поэт»).
Мне были запрещены парафразы из Библии… — Гете с детства любил простонародные поговорки и бытующие в народе библейские речения. Письма его матери изобилуют такими же народными оборотами. В период «Бури и натиска» обращение литературы к народным началам (под влиянием Гердера и Гете) стало всеобщим.
Гейлер фон Кайзерсберг (1445–1510) — немецкий проповедник, мастерски владевший языком простого люда.
…дикие охотники с берегов Заале взирали с презрением на кротких пастушков с берегов Плейсе… — На реке Заале стоит Галле, на реке Плейсе — Лейпциг.
Готшед Иоганн Христоф (1700–1766) — влиятельный писатель, драматург и критик, философ раннего немецкого Просвещения. Не будучи ни выдающимся писателем, ни оригинальным философом, Готшед имеет несомненные заслуги как один из создателей немецкого литературного языка. Лессинг подверг его уничтожающей критике как педантичного сторонника французского придворного классицизма и хулителя театра Шекспира. Острое перо Лессинга не только определило резко отрицательное отношение к нему его младших современников (в том числе и Гете), но и оценку его позднейшими историками немецкой литературы.
Вейсе Христиан Феликс (1726–1804) — писатель, поэт-анакреонтик, автор пьес с пением и либретто к комическим операм; его пьеса «Поэты по моде», полная намеков на Готшеда и его противников, в течение ряда лет пользовалась успехом.
Цицеронов «Оратор» — диалог Цицерона об обучении ораторскому искусству.
Геллер. — См. коммент. ко второй книге; Линней Карл (1707–1778) и Бюффон Жорж (1707–1788) — крупнейшие представители естественнонаучной мысли второй половины XVIII в.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Лисков Христиан Людвиг (1701–1760) — сатирик и критик; Гете ошибается, говоря о ранней его смерти, — видимо, на том основании, что его единственный, как он полагал, «Сборник сатирических и серьезных сочинений» вышел в 1739 г. С 1740 г. Лисков перешел на дипломатическую службу и в 1750 г. был уволен за критику прусской политики, но в 1806 г. вышел его пополненный сборник, чего Гете, очевидно, не знал.
Рабенер Готлиб Вильгельм (1714–1771) — сатирик и моралист, вступил в литературу как ученик Готшеда; юрист по образованию, служил в Лейпциге, позднее — в Дрездене.
Швейцарцы выступали в качестве антагонистов Готшеда… — Против рационализма Готшеда, в защиту чувства фантазии и «чудесного», выступили поэт и критик Бодмер (см. коммент. к четвертой книге), а также критик и эстетик Брейтингер И.-Я. (1701–1776). В «Критической поэтике» Брейтингера была выдвинута идея создания «христианского эпоса» (в подражание Мильтону) и говорилось о поэтической образности как о «живописном начале» поэзии.
Лихтвер М.-Г. (1719–1783) — плодовитый баснописец.
Кениг И.-У. (1688–1744) — придворный поэт, напыщенный классицист.
Гюнтер Иоганн Христиан (1695–1723) — поэт силезской школы, один из первых введший в немецкую поэзию свои интимные биографические переживания. Оды Гюнтера высоко ценил Ломоносов.
…поступил на должность тайного секретаря к герцогу Людвигу Вюртембергскому… — Ошибка памяти Гете; речь идет о принце Фридрихе-Евгении, позднее герцоге Вюртембергском, который служил тогда в прусской армии в Трентове.
Поп. — См. коммент. к шестой книге. Его дидактическое стихотворение «Опыт о человеке» проникнуто идеями Просвещения, в частности, идеей «деизма», учения, которое признает существование «бога-творца», «установителя разумного миропорядка», но вместе с тем смотрит на религию как на варварское мифотворчество, затемняющее «естественную» религию разума. «Анти-Поп» Шлоссера, написанный в 1766 г., был напечатан в 1776 г.
Пфейль И.-Г.-Б. (1732–1800) — автор названного Гете морализирующего романа, пять раз переиздававшегося; позднее — судебный деятель.
Рамлер Карл Вильгельм (1725–1798) — поэт, искусно владевший формой, но лишенный творческого воображения. «Лирическая антология» Рамлера содержит стихотворения современных ему поэтов в его обработке (без указания имен стихотворцев); в XVII в. подобные обработки приравнивались к оригинальному творчеству, но в XVIII в. это уже почиталось самовольным присвоением чужого духовного достояния. Оды, в которых Рамлер воспевает Фридриха Второго, — своего рода «прусский классицизм».
Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) — выдающийся поэт и романист. В веймарский период был дружен с Гете и его кругом.
Соревнуясь с древними, и прежде всего с Тацитом… — Клопшток подражал Тациту в кратких прозаических очерках, включенных в его «Немецкую республику ученых» (1774).
Герстенберг Генрих Вильгельм фон (1737–1823) — драматург и литературный критик. Обратил на себя внимание «Поэмой скальда» (1766), в которой воскрешает позабытые скандинавские и древнегерманские мифы; его трагедия «Уголино» (1768), равно как и критико-теоретические работы, во многом предвосхищает поэзию «Бури и натиска».
Глейм Иоганн Вильгельм Людвиг (1719–1803) — поэт-анакреонтик; обрел собственный поэтический голос в «Песнях прусского гренадера» (1758).
Гесснер Соломон (1730–1788) — швейцарский поэт, его идиллии, написанные ритмической прозой, пользовались большой популярностью не только в странах немецкого языка, но и во Франции, где его пропагандировал Ж.-Ж. Руссо.
«Мусарион» произвела на меня сильнейшее впечатление… — «Мусарион» (1768) — роман в стихах Виланда, проповедующий разумное наслаждение жизнью; обаяние этому дидактическому произведению придает его изящный и грациозный стиль. Герой романа человеконенавистник Фаниас (Фаниас Тимон, как называет его Гете) научается «облагороженному гедонизму» под влиянием прекрасной гречанки Мусарион.
Эзер. — См. ниже.
«Всеобщая немецкая библиотека» — журнал, основанный в 1765 г. Фр. Николаи; одно время был влиятельнейшим журналом Германии, в котором сотрудничали Лессинг, Моисей Мендельсон и ряд других видных немецких просветителей; авторитет этого журнала был подорвал Гердером и писателями «Бури и натиска».
«Герман» — трагедия И.-Э. Шлегеля (см. коммент. к четвертой книге), вышла в 1743 г.; в ней воссоздан эпизод из истории борьбы древних германцев с римлянами.
Теперь у нас уже имелись если не свои Гомеры, то Вергилии и Мильтоны… — Немецким Вергилием и Мильтоном называли Клопштока, а также Бодмера; немецким Горацием — Рамлера, Феокритом — Гесснера и т. д.; против такого рода рискованных сравнений возражал Гердер во втором выпуске своих «Фрагментов о новой немецкой литературе» (1767), настаивая на неповторимости поэтических индивидуальностей и самобытности национальных культур.
Школьная философия. — Под школьной философией Гете понимал прежде всего широко распространенное философское учение рационалиста Вольфа, но также и всякую философию, оторванную от жизни.
Естественная религия. — По убеждению многих философов XVIII в., все исторически сложившиеся религии («позитивные религии», как выражается Гете) восходят в конечном счете к некоей «всеобщей естественной религии», то есть к постигнутому человеческим разумом представлению о боге как о «безусловно необходимом существе», сотворившем мир и заложившем в человека влечение к добру. Это влечение к добру будто бы и составляет «разумное» зерно всякого религиозного мышления. Противники идеи «естественной религии разума» не без основания обвиняли ее сторонников в подмене понятия «бог» понятием «морали»; попытки либеральных богословов и их философских единомышленников доказать единосущность «естественной религии» и «религии, явленной через откровение» не были убедительны ни в глазах правоверных церковников, ни в глазах философских деистов. Возникновение понятия «естественной религии», якобы являющейся «разумным зерном» всех исторически сложившихся религий, по сути, привело к отрицанию истинности любого из существующих или некогда существовавших догматических вероучений. Именно это отрицание (а не только призыв к веротерпимости) положено Лессингом в основу его философской драмы «Натан Мудрый» (1779).
Бенгель Иоганн Альбрехт (1687–1752) — так называемый «отец швабского пиетизма»; в качестве толкователя Нового завета особое внимание уделял Апокалипсису и эсхатологии (предсказанию близкого «светопреставления»).
Крузиус Христиан Август (1712–1775) — профессор богословия Лейпцигского университета, последователь Бенгеля.
Иерузалем И.-Ф. (1709–1789) — известный богослов и проповедник. Цолликофер Г.-И. (1730–1788) — настоятель реформатской церкви в Лейпциге. Спальдинг И.-И. (1717–1804) — богослов и философ, сочетавший догматическое лютеранство с идеей «естественной религии» (см. выше).
Тиссо С.-А. — швейцарский врач, писавший по-французски популярные медицинские книги.
Мозер. — См. коммент. ко второй книге. Пюттер И.-С. (1725–1817) — известный профессор права в Геттингене.
Мендельсон Моисей (1729–1786) — друг Лессинга, философ-просветитель. Гарве Христиан (1742–1798) — философ-просветитель, автор первой рецензии на «Критику чистого разума» Канта (1782), в которой он обнаружил отсталость и несостоятельность собственного философского мышления.
«Литературные письма» («Письма о новой литературе»; 1759–1765) — издавались Лессингом, Мендельсоном и Николаи.
«Библиотека изящных наук» — была основана Николаи в 1757 г.; с 1765 по 1806 г. издавалась Хр. Вейсе.
Клейст Эвальд Христиан фон (1715–1759) — поэт-сентименталист, друг Глейма.
Аннета (Анхен) — Анна Катарина Шенкопф, в которую влюбился Гете, будучи лейпцигским студентом; ей посвящен рукописный сборник его стихов «Аннета».
…явная антипатия Фридриха ко всему немецкому. — В 1880 г. Фридрих Второй написал рассуждение «О немецкой литературе», в котором дал крайне низкую оценку немецкой литературе и, в частности, Гете; так, «Гец фон Берлихинген» для него — «жалкое подражание дурным английским образцам».
«Минна фон Барнхельм» Лессинга — впервые была поставлена в Лейпциге в 1766 г.; в любительской постановке того же года Гете исполнял роль вахмистра.
«Герцог Михель» (1749) — одноактная комедия рано умершего молодого актера И.-Х. Крюгера (1722–1750); ее незатейливое содержание сводится к следующему: деревенский парень поймал соловья и уверяет свою невесту Ганхен, что сумеет так выгодно продать его и так удачно пустит в оборот выручку, что вскорости станет богатеем, а там и герцогом; Ганхен высмеивает фантазера, за что обиженный Михель хочет дать ей пощечину и по оплошности выпускает соловья.
«Капризы влюбленного» (1768). — Гете помещал эту наивную пастораль во все прижизненные издания своих сочинении.
«Совиновники» (1769). — Начатая еще в Лейпциге, эта комедия была закончена Гете во Франкфурте; подобно «Капризам влюбленного», она написана излюбленным размером французских классицистов и их немецких подражателей — александрийским стихом.
«Водонос» — опера Керубини, текст Буйи (в переводе Вейсе); неоднократно шла на сцене Веймарского театра; французское название оперы — «Два дня».
Таинства — наивысшее в религии… — Говоря о католической обрядности, Гете отнюдь не солидаризуется с католицизмом, он лишь утверждает, в духе рационализма, что обилие «таинств», предусмотренных католической догматикой, в большей степени поддерживает в сознании прихожан «веру в чудесное», чем лютеранство и кальвинизм, признающие всего лишь два таинства (крещение и причастие). Человек, по мнению Гете, нуждается в «преемственности, порождающей привычку», только долгая чреда таинств способна привить человеку сознание, что он находится в непрерывном общении с «чудесным», с «божьим промыслом».
Геллертовы сочинения. — Здесь имеются в виду «Лекции о морали» Геллерта, изданные после его смерти, в 1770 г.
Бериш Эрнст Вольфганг (1738–1809) — гувернер в знатных домах, позднее библиотекарь князя Леопольда Дессауского. Дружба Гете с Беришем прервалась вскоре после отъезда последнего из Лейпцига. Его «рукописное издание» сборника ранних стихотворений Гете «Аннете» было найдено в 1894 г.
Клодиус Х.-А. (1738–1784) — с 1760 г. профессор философии в Лейпциге. Его пьеса «Медон, или Месть мудреца» скоро сошла со сцены.
…после преследования Готшеда Кронеком и Ростом… — Барон Кронек И.-Ф. (1731–1758), автор комедий и трагедий, од и дидактических стихотворений, и Рост И.-Х. (1717–1765), лирик, автор фривольных эпических пасторалей и сатир, оба ученики Готшеда, резко выступили против его жесткой «литературной диктатуры» в 1754 г., когда он напал на музыкальную комедию их друга Вейсе (см. коммент. к шестой книге) и на «легкий жанр» как таковой.
Граф Брюль Генрих (1700–1763) — легкомысленный и расточительный саксонский министр, не чуждавшийся и взяточничества; он покровительствовал искусствам, содействовал расцвету Дрезденского оперного театра и обогащению Дрезденской галереи.
КНИГА ВОСЬМАЯ
Эзер Адам Фридрих (по другой транскрипции — Озер, 1717–1799) — посредственный художник, друг Винкельмана и популяризатор его искусствоведческих идей; с 1764 г. — директор Академии художеств в Лейпциге, в 1780 г. гостил в Веймаре.
Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) — знаменитый немецкий историк и теоретик античного искусства, автор «Истории древнего искусства» (1764), эстетик. Гете преклонялся перед Винкельманом даже в период своего увлечения немецким средневековьем и уж тем более в эпоху «веймарского классицизма». В 1805 г. Гете выпустил книгу «Винкельман и его время», содержавшую предисловие Гете, письма Винкельмана и три статьи о Винкельмане, из коих первая, как бы духовный его портрет, написана Гете. Гете принял участие и в Собрании сочинений Винкельмана в 8-ми томах (Дрезден, 1808–1820).
Гейзер Х.-Г. (1742–1803) — ученик и зять Эзера, известный график.
…занавес… производил поистине очаровательное впечатление. — Занавес Эзера, написанный для Лейпцигского театра, не сохранился, но уменьшенная копия с него, сделанная Гейзером, хранится в веймарском Доме-музее Гете.
Д’Аржанвиль Антуан-Жозеф (1680–1765) — автор книги «Сообщения из жизни выдающихся художников», Париж, 1745; в 1757 г. вышла в немецком переводе.
Кайлюс А.-К.-Ф. (1692–1765) — французский археолог и коллекционер, автор «Собрания древностей» в 7-ми томах (1752–1767).
Гейнеке (Гейнекен) К.-Г. (1707–1791) — тогдашний директор Дрезденской галереи.
Липперт Ф.-Д. (1702–1785) — хранитель античного отдела Дрезденской галереи и знаток античных гемм, с которым Гете, собиравший геммы, поддерживал переписку вплоть до его смерти.
Лессингов «Лаокоон» (1766) — знаменитый трактат Лессинга о границах поэзии и живописи (искусства, воспринимающегося во времени, и искусства, воспринимающегося в пространстве); в нем Лессинг опровергает неправильно понятое изречение Горация «ut pictura poesis» («поэзия — та же живопись»), опираясь на которое теоретики определяли поэзию как «говорящую живопись», а живопись как «безмолвную поэзию». Критикуя эту ложную теорию, Лессинг вместе с тем критикует и дурную практику поэзии XVIII в. — ее вялую описательность, «которая ничего не рисует».
Абель К.-Ф. (1725–1787) — придворный музыкант английского короля и саксонского курфюрста, игравший на viola di gamba (прототипе виолончели); проездом из Лондона в Дрезден обычно останавливался в доме имперского советника Гете.
Остаде Адриан ван (1610–1685) — голландский живописец-жанрист и гравер.
Скалькен Готфрид (1643–1706) — голландский художник.
Гагедорн Х.-Л. (1712–1780) — директор дрезденской Академии художеств, коллекционер, брат поэта.
Сваневельт Герман ван (1600–1655) — голландский пейзажист.
Бернгард Кристоф Брейткопф (1695–1777) — основатель знаменитого книгоиздательства; его сын, Иоганн Готлиб Иммануэль (1719–1794), — глава фирмы с 1776 г.; внук, Бернгард Теодор (1749–1820), — в молодости композитор, позднее книгопечатник и книготорговец в Петербурге, автор «Новых песен» (1770) на слова Гете (без указания его имени).
Шток И.-М. (1737–1773) — гравер; его две дочери: Иоганна Доротея Шток (1760–1833) — художница, автор портретов Моцарта, Шиллера и поэта Т. Кернера, и Мария Якобина (1762–1843), жена друга Шиллера Кернера и мать поэта Т. Кернера.
Эшенбург И.-И. (1743–1820) — филолог и эстетик, соавтор Виланда по первому (прозаическому) немецкому переводу произведений Шекспира.
«Сивиллины листы» — то есть непонятные для молодежи, но волнующие, как темные изречения сивилл (легендарных пророчиц античности), сочинения. Быть может, Гете намекает здесь и на столь же темные «Сивиллины листы» Гамана, обаянию которых он впоследствии поддался.
Интриги Клоца. — Клоц Х.-А. (1738–1771) — профессор в Галле, грубо и предвзято критиковавший археологические работы Лессинга; последний откликнулся на его выпады своими «Антикварными письмами» (т. I — 1768 г.; т. II — 1769 г.); с Клоцем позднее полемизировал также и Гердер.
Князь Дессауский, Леопольд (1740–1817) — один из просвещенных князей империи, друг Винкельмана; Гете с ним позднее многократно встречался.
Эрдмансдорф Фридрих Вильгельм фон (1730–1800) — архитектор, мастер парковой архитектуры, построил дворец князя Дессауского в Вёрлице и разбил там первый в Германии «английский парк», послуживший образцом для дворцового парка в Веймаре (позднее разбитого по планам Гете).
…весть о смерти Винкельмана. — Винкельмаи был убит разбойником в Триесте 8 июня 1768 г.
…у меня горлом хлынула кровь… — По предположению современных врачей, Гете заболел тогда туберкулезом легкого.
Лангер Эрнст Теодор (1743–1820) — после смерти Лессинга был придворным библиотекарем в Вольфенбюттеле; вплоть до встречи Гете с Гердером (1771) Лангер имел большое влияние на религиозные убеждения поэта. Письма Гете к Лангеру, впервые найденные и напечатанные в 1922 г., проливают свет на их взаимоотношения.
…разыграв одновременно Главка и Диомеда… — Главк и Диомед — персонажи «Илиады» Гомера. Главк отдал Диомеду свои золотые доспехи, получив взамен бронзовые; Гете хочет сказать, что среди немецких авторов были и «золотые доспехи», а среди античных и «бронзовые».
…прежде чем я покинул перипатетическую школу моего славного Лангера… — Шутливое сравнение Лангера с Аристотелем: и тот и другой поучали своих учеников на прогулке; от глагола «peripatein» («прохаживаться» — греч.) ученики Аристотеля получили название перипатетиков.
…но, конечно, не мог предвидеть, что много лет спустя мне будет угрожать оттуда еще большая опасность… — Намек на победу Наполеона над прусскими войсками при Йене и Ауерштедте 14 октября 1806 г., приведшую к оккупации Веймара.
Фрейлейн фон Клеттенберг Сусанна (1723–1774) — подруга и родственница матери Гете, ревностная пиетистка. Пиетизм — влиятельное религиозное течение, колыбелью которого был Франкфурт, где Senior (глава духовной консистории) Якоб Филипп Шпенер учредил Collegium pietatis (Общину благочестия); он внушал своей пастве, что главное значение в религиозной жизни имеют не догмы и обряды, а воспитание в себе чувства богоугодной веры и человеколюбия. Против такого умаления догматов восстали ортодоксальные лютеранские богословы: Шпенеру пришлось покинуть Франкфурт в 1686 г. и перенести свою деятельность в Дрезден и Берлин. В XVIII в. пиетизм распространился в немецких и других протестантских странах. Сусанна Клеттенберг ввела юного Гете в круг франкфуртских пиетистов и гернгутеров и поощряла пробудившийся в нем интерес к алхимии (алхимиком был и брат ее деда, казненный в 1718 г. по повелению польско-саксонского короля Фридриха-Августа Второго за «обманное изготовление золота»).
Граф Цинцендорф Николай Людвиг (1700–1760) — основатель религиозной общины гернгутеров (по имени своего поместья Гернгут), близкой пиетистам. Учение гернгутеров восходит к религиозному учению «моравских», иначе «богемских братьев». В 1734 г. Цинцендорф был избран епископом возобновленной Моравской церкви, ликвидированной в 1621 г. Гернгутеры предписывают членам своей общины суровый, почти аскетический, образ жизни, но прежде всего «подражание Христу» и «личное общение» с ним; былые антифеодальные социально-политические тенденции «моравских братьев» сошли на нет ко времени возобновления их вероучения Цинцендорфом, что, впрочем, не помешало саксонскому правительству выслать его за пределы Саксонии.
Веллинг Георг фон (1652–1727) — директор горных разработок в Баден-Дурлахе; его трактат по магии, алхимии и кабалистике («Opus mago-cabbalisticum») — один из позднейших образцов так называемой «немецкой пансофии» (см. ниже — Парацельс), вышедший в 1735 г., был весьма популярен в кругу пиетистов и гернгутеров. Манипулируя солью, серой и меркурием — основными химическими элементами «праматерии», из сочетания которых якобы состоят «все органические и неорганические тела», алхимики надеялись в какой-то степени «приобщиться к божественному сотворению мира», то есть превращать неблагородные металлы в золото, создавать живые организмы и т. д. Трактат Веллинга, не учитывающий достижений науки XVII в. (учения Декарта, Ньютона, Лейбница и др.), был ко времени его напечатания уже вполне анахроническим явлением, дающим, однако, довольно ясное представление о мистическом, теософском и «научном» мышлении XVI в.
Школа неоплатоников — то есть прежде всего Плотин (III в.) и его ученики (особенно Порфирий); влиятельное направление позднеантичного мышления, восходящее к философии Сократа и Платона, а также к мифам и мистическим культам древних греков и египтян. Плотин и его последователи представляли себе вселенную (космос) в виде пяти сфер (или ступеней), нисходящих от «духовного божественного источника» (первой сферы), из которого «проистекло» и продолжает «проистекать» все сущее; к «первоисточнику» непосредственно примыкают «мир идей» и «душа мира». Чем далее отстоят идеи от «божественного источника», от «души мира», тем больше они ослабевают и, утративши духовную силу, соприкасаются с «материей», равнозначной «злу» и «отрицанию». «Единичная душа» (человек) стоит перед выбором: погрязнуть во зле или же в экстатическом порыве вознестись к высшему праначалу. Идеи неоплатонизма оказали большое влияние на раннее христианство и мистическое мышление средневековья, эпохи Возрождения и немецких пансофов XVI в.
Парацельс — Филипп Теофраст фон Гогенгейм, прозванный Aureolus Bombastus Paracelsus (1493–1541), врач, «отец немецких пансофов»; в первых монологах Фауста отражено его учение о макрокосме («большом мире») — вселенной, понимаемой как «одухотворенное органическое целое», и о микрокосме («малом мире») — человеке в его «одухотворенной органической целостности». Человек, по Парацельсу, является как бы «выжимкой» (экстрактом) из «большого мира» и потому способен вступать в общение со всеми «духовными силами» вселенной. Другие пансофы, упомянутые Гете: Базилий Валентин — автор ряда сочинений (около 1600), выданный одним из его издателей за монаха XV в., обладавшего обширными алхимическими познаниями. Все это — не более чем вымысел: имя Б. В. — аллегорично, оно намекает на оба «блага», даруемые «камнем мудрости»: золото и здоровье (basilius — «царственный», valentinus — «сильный»). Гельмонт И.-Б. (1577–1644) — нидерландский врач и пансоф; в своих работах о свойствах газов приближается к положениям и выводам научной химии. Старкей Георг (ум. в 1655 г.) — английский пансоф и алхимик, пытавшийся превращать неблагородные металлы в золото.
«Золотая цепь Гомера» (1723) — анонимное сочинение, предположительно написанное австрийским врачом Антоном Иосифом Кирхвегером (ум. в 1746 г.), эпигоном «пансофского мышления».
…таинственную и целительную «среднюю соль». — «Воздушная соль», «средняя соль», «девственная земля» — алхимические термины.
Бургаве Герман (1668–1738) — знаменитый голландский врач и химик. Обращение Гете к Бургаве знаменует начало его отхода от алхимии; окончательно он порывает с «пансофской алхимией» в 1771 г. в Страсбурге.
Арнольд Готфрид (1666–1714) — автор сочинения «Беспристрастная история церкви и ересей» (1699–1700). Был близок к пиетистам; рассматривает ереси от апостолов до пиетизма конца XVII в. как борьбу за восстановление «чистой» сущности христианства», замутненной церковью. В своей книге Арнольд с одинаковым мастерством рисует образы крупных исторических деятелей (в том числе Томаса Мюнцера) и массовые религиозные движения. Юношеская космология Гете, пересказом которой заканчивается восьмая книга, в основном восходит к пространной выдержке из Парацельса, приведенной Арнольдом.
КНИГА ДЕВЯТАЯ
Сие примечательное место из «Всеобщей немецкой библиотеки»… — Приведенная цитата взята из рецензии профессора античной филологии Христиана Гейне на книгу И.-Г. Линдера о «Метаморфозах» Овидия.
…вблизи посмотреть на собор… — Страсбургский собор — замечательный памятник готической архитектуры XII–XIV вв.
Мария-Антуанетта (1755–1793) — супруга французского престолонаследника, а с 1774 г. французского короля Людовика Шестнадцатого. Ее торжественный въезд в Страсбург состоялся 7 мая 1770 г.
Ковры, вытканные по картонам Рафаэля — сцены из жизни апостолов Петра и Павла, заказанные папой Львом Десятым и вытканные в Брюсселе в нескольких экземплярах по десяти картонам Рафаэля.
Эти картины изображали историю Язона, Медеи и Креузы… — Согласно мифам, герой Язон, предводитель аргонавтов, отверг свою жену, волшебницу Медею, помогшую ему овладеть «золотым руном», и пожелал жениться на Креузе, дочери царя Коринфа. Медея жестоко отомстила Язону и Креузе. Посланный ею в дар свадебный наряд вспыхнул, сжег нареченную невесту, после чего мстящая Язону Медея убила и прижитых от него детей, сама же на огненной колеснице улетела в Афины к царю Эгею. Фурией, богиней мщения, Гете называет саму Медею.
…за нею последовало трагическое сообщение… — Упомянутая автором катастрофа произошла в ночь на 31 мая 1770 г.
…Юнг, впоследствии известный под именем Штиллинга. — Юнг Иоганн Генрих (1740–1817) — глазной врач, позднее профессор экономии в Марбурге, спирит, автор «Теории духоведения» (1808). В своей автобиографии упоминает о встречах с Гердером и Гете и «его любимцем Лерзе». Мистические трактаты Юнга-Штиллинга имели большой успех в Германии и за ее рубежами.
Лерзе Франц Христиан (1749–1800) — студент-богослов, позднее преподаватель Военной академии в Кольмаре.
Монгольфьер (по имени французских изобретателей братьев Монгольфье) — первый воздушный шар (1783 г.), поднимавшийся нагретым воздухом.
Изгнание иезуитов. — Орден иезуитов, основанный в 1639 г. для борьбы с распространением протестантизма в католических странах, был в 1764 г. изгнан из Франции, а в 1773 г. распущен папой Климентом Четырнадцатым; орден существовал нелегально до 1814 г., когда снова был восстановлен папой Пием Седьмым.
Клинглин Франц Иосиф (1685–1755) — претор из старого страсбургского патрицианского рода; был обвинен в превышении власти и взяточничестве и в 1752 г. заключен в тюрьму, где умер при таинственных обстоятельствах.
…как Ментор своего Телемаха… — Намек на эпизод из Фенелонова романа «Телемах» (кн. 7); гравюра неизвестного автора, воспроизведенная в двух немецких переводах, изображала Ментора, бросившегося в море, чтобы спасти тонущего Телемаха.
…я осмелился… изменить бесславное название «готическая архитектура»… — На самом деле готическая архитектура (XII–XIV вв.) была не немецкого происхождения, как полагал Гете, а французского. Готической (вернее, «готской») стали пренебрежительно называть ее в эпоху Возрождения, отмечая «варварский» ее характер, будто бы сложившийся во времена готов. Статья Гете «О немецком зодчестве», посвященная «блаженной памяти Эрвина фон Штейнбаха», является гимном в честь строителя Страсбургского собора. В «Поэзии и правде» Гете не воспевает храм, как в юношеской своей статье, а тщательно его описывает. Статья Гете вышла в 1772 г. отдельной брошюрой, а в следующем году была напечатана в сборнике, составленном Гердером, «О немецком характере и искусстве».
Сульпиций Буассерэ (1783–1854) — собиратель памятников средневекового немецкого искусства; пропагандировал идею завершения недостроенного Кельнского собора и с этой целью послал Гете свою рукопись «История и описание Кельнского собора». Гете, в юности сам носившийся с мыслью о завершении Страсбургского собора, живо заинтересовался замыслом Буассерэ и под его влиянием снова увлекся средневековым зодчеством. «Роскошная серия гравюр» была издана Буассерэ только в 1821–1832 гг. («Виды, чертежи и детали Кельнского собора»). Достройка Кельнского собора по чертежам Буассерэ была начата в 1842 г. и завершена в 1880 г.
КНИГА ДЕСЯТАЯ
Немецкие поэты, не объединенные больше гильдией… — Книга начинается с общей характеристики жалкого социального положения немецких писателей XVIII в., с тем чтобы на примере Клопштока показать, что звание поэта, не состоящего на какой-либо службе и всецело отдающего свои силы писательскому труду, постепенно начинало цениться и вознаграждаться по достоинству.
Брокес Б.-Г. (1680–1747) — автор дидактического стихотворения «Земное наслаждение богом» (1721); был сенатором и дипломатом в Гамбурге.
Уц И.-П. (1720–1796) — поэт-анакреонтик.
Уже в преклонном возрасте его страшно тревожило, что первая его любовь… — Первая любовь Клопштока — Мария Шмидт, воспетая им под именем Фани, вышла замуж за эйзенахского купца, впоследствии бургомистра; вторая любовь — жена поэта Маргарита Моллер, воспетая под именем Мета, умерла в 1758 г.
Все это нашло отражение в его ранних вещах… — К ранним вещам Клопштока относят первые десять песен «Мессиады» (1748) и его «Оды», печатавшиеся в журналах и альманахах начиная с 1748 г.
…за лучшее сочинение о происхождении языков. — Трактат «О происхождении языка» (1772) был написан Гердером на соискание премии, объявленной берлинской Академией наук, каковой он и был удостоен. Гердер, с одной стороны, оспаривал точку зрения богослова И.-П. Зюсмильха (1707–1767), утверждавшего, что язык — божественного, а не человеческого происхождения, а с другой — взгляд рационалистов, полагавших, что язык — сознательное изобретение человеческого разума, подтвержденное своего рода «сговором», чуть ли не «общественным договором». Согласно Гердеру, язык возник из естественных способностей человека и постепенно складывающихся потребностей людского племени.
«Если ты Брутовы письма найдешь…» — В этом шутливом, но не слишком удачном послании содержится непереводимый каламбур на фамилию Гете, каковая происходит якобы то ли от «богов» (Gӧtter), то ли от «готов» (Goten), то ли от «грязи» (Kot).
Доминико Фети (более принято: Фетти; 1589–1624) — итальянский художник-жанрист, который нравился Гете, быть может, потому, что несколько напоминал ему нидерландцев.
Поэтическое искусство евреев, весьма остроумно трактованное Гердером… — Гердер посвятил этой теме целый ряд исследований, начиная с «Древнейших памятников человечества» (1774).
Лаут Роберт (1710–1783) — известный английский филолог, дававший не только богословскую, но и эстетическую оценку книг Ветхого завета.
…народная поэзия, истоки которой он (Гердер) заставлял нас отыскивать в Эльзасе… — Известно, что Гердер знакомился с немецкими народными песнями по книгам и старинным рукописям, тогда как Гете, напротив, записывал их (преимущественно баллады) со слуха, воспроизводя и мелодии, на которые они пелись; тем самым Гете предвосхитил новейшие методы фольклористов XIX и XX вв. Ряд его записей Гердер включил в свой сборник «Голоса народов в песнях», среди них также и оригинальные стихотворения Гете, написанные в подражание народным песням («Фульский король», «Дикая роза» и др.), приняв их за подлинные.
Гаман Иоганн Георг (1730–1788) — философ и критик, противник рационализма эпохи Просвещения, оказавший большое влияние на Гердера и поэтов «Бури и натиска» (подробнее Гете пишет о нем в двенадцатой книге, см. также коммент. к двенадцатой книге).
…в Дармштадте он (Гердер) познакомился с очень достойной девушкой… — Речь идет о Каролине Флаксланд, будущей жене поэта.
Лессинг… однажды высказался на этот счет грубовато, но остроумно. — По-видимому, речь здесь идет о прозаической басне Лессинга «Мальчик и змея».
Я говорю о Геце фон Берлихингене и Фаусте. — Гете прочел «Жизнеописание господина Геца фон Берлихингена с железной рукой» (Нюрнберг, 1731) в 1771 г. еще во Франкфурте. История Фауста была знакома Гете не только по «прославленной кукольной комедии»; он уже подростком успел познакомиться с легендой о докторе Фаусте по народной книге, но, видимо, именно с «кукольной комедией» связано первое детское впечатление поэта о легендарном чернокнижнике.
…(поездка) имела для меня неисчислимые последствия. — С этой поездкой связано позднейшее увлечение Гете геологией и горным делом, а также его интерес к сохранившимся остаткам древнеримской культуры.
Президент фон Гюндероде (1728–1788) — доверенное лицо Людвига фон Нассау-Саарбрюккен (1745–1794), уроженец Франкфурта, хорошо знавший деда Гете — Текстора.
Господин Штауф (собственно Штаут И.-К.) — химик и техник, занимавшийся проблемой утилизации побочных продуктов кокса.
Зезенгейм — большое село, где жило семейство пастора Иоганна Якоба Бриона (1717–1787), отца Фридерики Брион (1752–1813), которой Гете посвятил лучшие стихотворения страсбургского периода («Фридерике Брион», «Майская песня», «Свидание и разлука»).
«Векфильдский священник» (1766) — роман английского писателя Оливера Гольдсмита (1728–1774). Гердер читал его Гете в ноябре 1770 г., то есть позже, чем состоялось первое свидание поэта с Фридерикой.
«Латинские всадники». — Так шутливо называли школьных учителей или ученых, ездивших верхом без достаточной сноровки.
«Новая Мелузина». — Гете, отказавшийся, по совету друга Вейланда, тогда же записать эту сказку, сообщил в письме Шиллеру от 4 февраля 1797 г. о своем намерении осуществить давний замысел. В 1807 г. он начерно набросал эту сказку, но только в 1812 г. «начисто ее продиктовал», видимо, предназначая таковую для десятой книги «Поэзии и правды», над которой он тогда работал. От этой мысли он позднее отказался, находя, что в «нынешнем ее виде она лишилась своей былой наивной непринужденности». «Новая Мелузина» впервые была опубликована в 1816 г., а в 1821 г. вошла в состав «Годов странствий Вильгельма Мейстера».
Галль Ф.-И. (1758–1828) — врач и френолог, пытавшийся определять по форме черепа умственные способности и склонности человека. Гете, признавая его анатомические работы, не соглашался с его френологическими теориями.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Предусмотрено, чтобы деревья не врастали в небо. — Эпиграф варьирует известное изречение Лютера: «Бог противоборствует высоким деревьям» (видимо, стилистически не удовлетворившее Гете). Поэт намекает на «стремительно-бурное начало» литературного движения «Бури и натиска», возмечтавшего осуществить полное обновление жизни и культуры, но вскоре натолкнувшегося на непреодолимые препоны убогой немецкой действительности.
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
…среди которых первое место занимали Свифт и Гаман… — Произведение знаменитого английского сатирика Джонатана Свифта (1667–1745) «Путешествия Гулливера» (1727) усердно читалось в немецком переводе во всех слоях тогдашнего немецкого общества. Гердер часто сравнивал себя со Свифтом, имея в виду сатирическую хлесткость своих полемических статей, направленных против ряда его современников.
Гебель И.-П. (1760–1826) — немецкий поэт, писавший на алеманнском наречии, автор идиллий из крестьянской жизни, известный в России по переводу Жуковского «Овсяный кисель»; Гете намекает на одно из лучших стихотворений Гебеля — «Воскресное утро».
Лейзер Август (1683–1752) — профессор юриспруденции; Гете читал еще во Франкфурте его многотомное сочинение «Meditationes ad pandectas» («Размышления по поводу пандект»; 1718–1747), в котором автор полемизирует с большинством немецких правоведов.
Моя защита состоялась 6 августа 1771 года… — Гете защитил тезисы, а не диссертацию, почему и получил степень не доктора, а всего лишь лиценциата прав. В Германии — в отличие от Франции, в состав которой входил Страсбург, — степень французского лиценциата приравнивалась к степени немецкого доктора.
Шепфлин И.-Д. (1694–1771) — профессор истории и риторики в Страсбурге, выдающийся ученый и дипломат. Его труд «Alsatia illustrata» содержит обширные сведения по истории, географии и административному устройству Эльзаса, а также главы, посвященные историческим памятникам этой «немецкой провинции Французского королевства».
Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807) — один из французских энциклопедистов, друг Дидро, немец по происхождению, писавший только по-французски; с 1776 г. дворянин и барон; известен своими письмами о литературной жизни Франции, которые он писал ряду европейских монархов, в том числе и Екатерине Второй. После французской революции бежал в Германию; Гете встречался с ним неоднократно (последний раз в Готе в 1801 г.).
Менаж Жюль (1613–1692) — французский писатель, лирик и блестящий критик.
«А братство, дружба и любовь…» — Цитата из «Пра-Фауста» Гете (первой редакции первой части знаменитой трагедии).
Дядюшка Михель — синоним немецкого мещанского самодовольства.
…Вольтер не упустил случая переиздать Корнеля и показать, сколь несовершенен был тот… — Лессинг в «Гамбургской драматургии» дважды отметил несостоятельность вольтеровской критики Корнеля.
«Осада Кале» — пьеса Пьера-Лорэна де Белуа (1727–1775), написанная и поставленная в 1765 г. Пьеса отображает эпизод из Столетней войны Англии с Францией: жертвенный подвиг граждан Кале (1346 г.). «Осаде Кале» Лессинг посвятил положительную рецензию в своей «Гамбургской драматургии».
Лекен Анри-Луи (1728–1778) — знаменитый французский артист, который немало содействовал своей игрой сценическому успеху драм Вольтера.
Офрен Жак-Риваль (1720–1806) — французский артист, после триумфальных гастролей во всех крупных городах Европы переехал на постоянную работу в Петербург, в тамошний французский театр (1785 г.).
«Пигмалион» Руссо (1762) — музыкальная драма Ж.-Ж. Руссо, написанная для одного действующего лица.
«Система природы» — философский трактат, вышедший анонимно в 1770 г. Автор трактата — немецкий барон фон Гольбах (1723–1789), в молодые годы приехавший в Париж и ставший французским писателем; в «Системе природы» он последовательно развивает свою теорию атеизма, механического материализма и абсолютного детерминизма (полного отрицания свободы воли).
Шекспир оценен немцами больше, чем всеми другими нациями… — В эпоху классицизма о Шекспире не только французы, но и англичане говорили как о «дикаре», варварски нарушающем законы драматического искусства. Представители немецкой бюргерской литературы XVIII в. — Лессинг, Гердер и Гете — первые вновь заговорили о Шекспире как о величайшем представителе нового времени, непохожем на античных трагиков и комедиографов, но не менее их гениальном. Вильгельм Шлегель своими знаменитыми переводами произведений Шекспира сделал их достоянием немецкой литературы. Гете не раз высказывался о Шекспире, а именно: в статье 1771 г. «Ко дню Шекспира», в «Годах учения Вильгельма Мейстера», в статье 1816 г. «Шекспир и несть ему конца» и в других работах и беседах.
Книга Додда — «Красоты Шекспира» (1752), английская хрестоматия произведений Шекспира (в отрывках), получившая во вторую половину XVIII в. большое распространение как в Англии, так и за ее пределами.
Ленц Якоб Михаэль Рейнхольд (1751–1792) — поэт «Бури и натиска», уроженец Лифляндии, учился в Кенигсберге, в 1771 г. сопровождал двух молодых курляндских дворян в Страсбург, где познакомился с Гете. О Ленце подробнее см. в четырнадцатой книге.
…Лессинг… подал к ним первый сигнал в своей «Драматургии». — В статье 18 «Гамбургской драматургии» Лессинг защищает фигуру шута от Готшеда, изгнавшего такового с немецкой сцены.
…мы видели огромный метеорит… — Этот метеорит, упавший на Землю в 1492 г., весил 250 фунтов. В соответствии с тогдашними научными воззрениями, Гете считал метеориты сгустками испарений и газов (отсюда выражение «сии сыны воздуха»).
Зал древностей (в Мангейме). — В то время коллекция древностей в Мангейме была наиболее полным собранием слепков с античных статуй, имевшимся в Германии. Об этом собрании писали Винкельман, Лессинг, а позднее и Шиллер.
Директор Фершафель П.-А. (1710–1793) — известный скульптор и архитектор, директор Зала древностей, построенного по его проекту.
…группы Кастора и Поллукса, этих бесценных, хотя и проблематических останков древних времен. — Гете называет эту группу проблематической, так как считал, что она составлена из двух самостоятельных статуй. Эту точку зрения разделял и его друг, художник Мейер; так же полагают и современные искусствоведы.
Ротонда — римский Пантеон (храм всех богов), ныне католический собор Санта-Мариа-де-ля-Ротонда.
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
Ризе И.-Я. (1746–1827) — юрист, чиновник франкфуртского совета; Гете дружил с ним в молодые годы и поддерживал добрые отношения до его смерти.
Мерк И.-Г. (1741–1791) — гессенский советник, человек острого ума; поддерживал отношения с Виландом и веймарским двором, был известным коллекционером, зоологом и палеонтологом, в 1766 г. сотрудничал в «Немецком Меркурии» Виланда и в 1772–1778 гг. редактировал орган штюрмеров «Франкфуртский ученый вестник». Гете называл его «своим Карлосом» (персонажем из «Клавиго»), а также «своим Мефистофелем».
Лафатерова «Физиогномика». — Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — пастор в Цюрихе, религиозный энтузиаст и проповедник, близкий к пиетистам, писал церковные песнопения, а также поэмы и драмы на библейские темы. Молодой Гете ценил Лафатера за его смелое выступление против швейцарского ландфогта (см. ниже) и одно время увлекался его физиогномикой — учением о возможности постигнуть характер и душевные свойства человека по совокупности черт его внешнего облика. Это учение изложено в главном труде Лафатера «Физиогномические фрагменты…». С годами отношение Гете к Лафатеру резко изменилось к худшему, его раздражала экзальтированная вера последнего в чудеса и научная необоснованность его теорий: все это получило отражение в эпиграммах («Ксении»), в интермедии к ч. I «Фауста», а также в переписке Гете с Лафатером.
Демуазель Флаксланд (1750–1809) — будущая жена Гердера, входила в сентиментальный кружок ландграфини Генриетты-Каролины Гессен-Дармштадтской, так же как и ее сестра, жена министра Андреаса Петера фон Гессе. Гете посвятил Каролине Флаксланд стихотворение «Песнь освящения скалы. Психее».
…был бы готов удавить Вольтера… за его «Саула». — Гете с детства любил сказание о Сауле и Давиде и был возмущен драмой Вольтера «Саул» (1763), где пророк Самуил изображался как фанатический поборник корыстных интересов духовенства, Саул — как суеверный трус и развратник, а Давид — как порочный и жестокосердный человеконенавистник.
Уже его «Облака» и эпилог к «Достопримечательным мыслям Сократа»… — Начало известности Гамана положило его сочинение «Достопримечательные мысли Сократа», в котором он противопоставляет интуитивное знание Сократа рассудочному умствованию софистов, давая понять, что «Сократом современности» является он сам, а «софистами» — рационалисты-просветители XVIII в. «Северным магом» Гамана назвал впервые Ф.-К. фон Мозер в статье «Чистосердечное послание брата мирянина к магу Севера или хотя бы Европы» (1763), понимая под магом «мудреца», «любомудра». Говоря о «сивиллином стиле», Гете намекает на сочинение Гамана «Фрагменты апокалипсической сивиллы» (1779).
«Крестовые походы филолога». — На титульном листе этого произведения Гамана вместо имени автора было указано: «Филолог Пан».
…очень интересная рецензия на Гердеров конкурсный трактат… — В этой рецензии Гаман упрекает Гердера за «непоследовательное» противопоставление «богосотворенного человека» «языку, сотворенному человеком».
Я не теряю надежды осуществить издание сочинений Гамана… — Сочинения Гамана в 7-ми томах вышли в 1821–1824 гг. в Мюнхене, еще при жизни Гете и при его содействии.
Томас Аббт (1738–1766) — философ-просветитель, богослов, литератор, оказавший влияние на формирование молодого Гердера.
…мы тщательно переписывали его оды… — Оды Клопштока до 1771 г. распространялись главным образом в списках; в 1771 г. ландграфиня Гессен-Дармштадтская в сотрудничестве с Мерком напечатала тридцать девять именных экземпляров его «Од» с рядом досадных опечаток и ошибочно приписанных Клопштоку стихотворений; осенью того же года Клопшток издал их уже под собственным присмотром, в тщательно отредактированном виде. Гете приближается к поэтике Клопштоковых од в своих так называемых «больших гимнах» 1772–1775 гг. («Песнь странника в бурю», «Бравому Хроносу», «Ганимед», «Прометей»). Некоторые оды Клопштока (особенно «Весенний праздник») справедливо относятся к лучшим произведениям немецкой лирики.
«Республика ученых» (1774) — трактат Клопштока о поэзии, в форме вымышленного статута древнегерманской общины поэтов; в XVIII в. «учеными» часто назывались все литераторы (поэты, прозаики, критики).
Друиды — жрецы у древних кельтов (галлов); в эпоху «Бури и натиска» кельтов нередко смешивали с германцами.
«Уж весел ощущением здоровья…» — Клопшток. Брага («Braga»). «Рождающийся зимний день…» — Клопшток. Бег по льду («Eislauf»).
«Не должен ли бессмертным быть…» — Клопшток. Бег по льду.
Датт Иоганн Филипп (1654–1722) — выдающийся историк права, автор трактата «Об имперском мире». Речь идет о мире, провозглашенном на Вормском рейхстаге (1495 г.) в царствование Максимилиана Первого; наиболее длительным и кровопролитным нарушением внутриимперского мира была Тридцатилетняя воина 1618–1648 гг., закончившаяся Вестфальским миром, узаконившим территориально-политическое и религиозное раздробление империи. В XVIII в. имперский мир нарушался неоднократно, в частности, Семилетней войной уже при жизни Гете. В «Геце фон Берлихингене» Гете отобразил нарушение «имперского мира» так называемой «дворянской демократией», то есть мелкими дворянами, восставшими против крупных феодалов, которые вышли из этой борьбы победителями.
Имперский суд. — Первоначальной резиденцией имперского суда был Франкфурт-на-Майне, с 1693 г. он находился в Вецларе.
Сословный суд — существовал с XIV в. для решения споров между сословиями.
Суд Фемы — действовавшее в Германии в средние века тайное судилище, которое рассматривало преступления, каравшиеся смертью. Члену этого суда составляли тайный союз, главой его считался император.
Придворный совет. — Учрежденный в 1559 г. имперский придворный совет в Вене был наделен теми же судебными нравами, что и имперский суд в Вецларе.
Амфиктионы. — Так назывались в Древней Греции члены совета, решавшего вопросы, касающиеся всех греческих племен, а также споры между отдельными городами-государствами.
Фюрстенберг Ф.-Ф. (1664–1741) — стоял во главе имперского суда в 1714–1721 гг.
Кильмансег (барон, а не граф) — впоследствии видный судебный деятель.
Гуэ А. — секретарь посольства в Вецларе, незначительный литератор.
«Четыре сына Гаймона» — немецкая «народная книга», пересказывающая старофранцузскую эпическую поэму XI в. того же названия.
Перикопы — расписанные по дням тексты из Евангелия, читаемые во время богослужения.
Готтер Фридрих Вильгельм (1746–1797) — секретарь посольства в Вецларе, поэт и переводчик драматических произведений; в то время — соредактор геттингенского «Альманаха муз».
Бойе Генрих Христиан (1744–1806) — с 1769 по 1776 г. редактор-издатель геттингенского «Альманаха», авторами которого были в основном геттингенские поэты, почитатели Клопштока, близкие поэтам «Бури и натиска». В 1774 г. в этом альманахе впервые были опубликованы стихотворения Гете.
Графы Штольберги — ученики Клопштока — поэты геттингенского кружка, друзья Гете.
Бюргер Готфрид Август (1747–1794) — известный поэт, автор популярной баллады «Ленора». Фосс Иоганн Генрих (1751–1826) — знаменитый немецкий переводчик «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, а также других античных поэтов на немецкий язык, автор идиллии «Луиза» (1795), написанной гекзаметрами; с 1775 г. — редактор геттингенского «Альманаха муз», с 1805 г. — профессор античной филологии Гейдельбергского университета; убежденный противник феодального абсолютизма, а также реакционных поэтов-романтиков. Гельти Людвиг Кристоф Генрих (1748–1776) — поэт, автор элегий и идиллий.
Вольтер своей защитой семейства Каласов… — Вольтер добился пересмотра дела купца-протестанта Жана Каласа, казненного по ложному обвинению в убийстве сына, который якобы выразил желание стать католиком (на самом деле сын сам лишил себя жизни). Написанный в связи с делом Каласа трактат Вольтера «О веротерпимости» взволновал общественное мнение не только во Франции, но и во всей Европе; парижский парламент был вынужден признать Каласа невиновным и реабилитировать его семейство.
Борьба Лафатера против швейцарского ландфогта. — Лафатер в 1762 г. добился смещения ландфогта Феликса Гребеля за несправедливые притеснения жителей цюрихского кантона; Гете в письме 1774 г. просил Лафатера сообщить ему все подробности этого дела.
«Битва Германа» — лирическая драма Клопштока об Арминии (Германе), вожде германского племени херусков, победившем в 9 г. н. э. римского полководца Вара в Тевтобургском лесу; Клопшток дал своей драме подзаголовок «театрализованный бардит», понимая под словом «бардит» («barditus») боевую песню древних германцев, упомянутую римским историком Тацитом в его «Германии».
Песни бардов. — Бардами назывались певцы древних кельтов; опираясь на выражение, употребленное Тацитом, — «barditus», некоторые немецкие ученые XVIII в. утверждали, что барды имелись и у древних германцев. В 1766 г. поэт Вильгельм фон Герстенберг напечатал свою «Песнь скальда», в которой древнегерманский скальд, чудесным образом попавший в Германию XVIII в., вспоминает о своей былой жизни в древней Германии; языческие обычаи, нравы и религиозные представления древних германцев были заимствованы автором из книги копенгагенского профессора, француза Поля-Анри Малле «Введение в историю Дании» (1755), переведенной на немецкий язык в 1765 г., в которой был обнародован в отрывках и французский перевод «Эдды». В 1769 г. поэт Фридрих Кречман выступил с «Песней барда Рингульфа после победы над Варом», год спустя Клопшток опубликовал вышеупомянутую «Битву Германа. Театрализованный бардит», а в 1771 г. поэт Михаэль Денис перевел (стихами) Оссиана и годом позднее выпустил собственные стихотворения под заглавием «Песни барда Зинеда».
Резениус И.-П. (1625–1688) — датский ученый (богослов, правовед, историк и лингвист); издал в 1665 г. «Эдду» в подлиннике и в параллельном латинском дословном переводе.
Даппер Ольферт — автор книги «Азия, или Подробное описание царства Великого Могола и большей части Индии»; голландский оригинал вышел в 1672 г., немецкий перевод — в 1681 г.
«Алтарь Рамы» (как пишет Даппер и вслед за ним Гете) — на самом деле «аватара» (то есть нисхождение) бога Вишну в телесном обличии Рамы, миф, положенный в основу баллады Гете «Бог и баядера».
Ганеман (вернее: Гануман) — князь обезьян, помогший Раме одержать победу над демонами.
Гюи Пьер-Огюст (1720–1799) — французский эллинист, автор труда «Литературное путешествие в Грецию, или Литературные письма о древних и новых греках», изданного в немецком переводе в 1771 г. Вуд Роберт (1717–1771) — автор «Очерка о самобытном даровании и творчестве Гомера» (английское издание 1769 г., немецкое — 1773 г.).
Зульцер И.-Г. (1720–1779) — автор «Общей теории изящных искусств» (1771), написанной в духе французского классицизма. Гете откликнулся на его труды резко отрицательной рецензией во «Франкфуртском ученом вестнике».
…которого мы без всяких околичностей звали «женихом». — Гете преднамеренно не называет имени Иоганна Христиана Кестнера (1741–1800); последний был секретарем ганноверского посольства в Вецларе, а позднее служил в Ганновере, женившись в 1773 г. на Шарлотте Буфф, дочери управляющего имениями Немецкого ордена в Вецларе. Гете покинул Вецлар в сентябре 1772 г. Весь этот эпизод (страстное увлечение Лоттой и самоустранение Гете) изложен с нарочитой сдержанностью во избежание обывательских сплетен. О последнем свидании вдовы Кестнера, «надворной советницы Шарлотты Кестнер», с Гете, состоявшемся в 1816 г., написан Томасом Манном роман «Лотта в Веймаре».
«Сидя у ног возлюбленной…» — Цитата взята из ч. V (письмо 7) романа Руссо «Новая Элоиза» (1761).
Иерузалем Карл Вильгельм (1747–1772) — секретарь браун швейгского посольства в Вецларе, сын известного либерального богослова.
Гравюры Гесснера. — Швейцарский поэт Соломон Гесснер (см. выше, коммент. к седьмой книге) был также талантливым графиком и живописцем.
«Немецкий Меркурий» — журнал, выходивший под редакцией Виланда, поощрявшего молодых поэтов «Бури и натиска», хотя сам он и не примыкал к их кругу.
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ
Госпожа фон Ларош София, урожденная Гутерман (1731–1807) — писательница, автор нашумевшего в свое время романа «История фрейлейн фон Штернгейм» (1771). Невеста Виланда; в 1754 г. вышла замуж за Георга фон Ларош. Всю жизнь работала на поприще литературы, поддерживая «литературную дружбу» с Виландом, Гердером и Гете, которых навестила в Веймаре в 1799 г.
Лейксенринг Франц Михаэль (1746–1827) — пользовался большим успехом в «сентиментальных» кружках, особенно среди женщин; состоял в переписке со многими знаменитостями; с 1769 г. был воспитателем наследного принца Людвига Гессенского, с которым совершил ряд путешествий. Гете относился к нему иронически и не раз выводил его под разными именами в своих фарсах.
Таксисова почта. — Была организована Францем фон Таксисом в 1500 г., первоначально для почтовой связи императорской резиденции Вены со столицей Нидерландского наместничества Брюсселем; вплоть до 1866 г., то есть до выхода Австрии из Германского союза, оставалась во владении потомков фон Таксиса — графов, позднее князей фон Турн-Таксис.
Юлия Бондели (1731–1778) — подруга Руссо и молодого Виланда, проживавшая в Берне (Швейцария).
Господин фон Ларош Георг Михаэль Франк (1720–1788) — незаконный сын графа Штадиона, первого министра и гофмейстера двора курфюрста Майнцского. Воспитанный в доме графа Штадиона, аристократа-вольнодумца и почитателя Вольтера, Георг фон Ларош, католик и канцлер католического епископа Трирского, выпустил анонимно в 1771 г. свои резко антиклерикальные «Письма о монашестве» и в 1780 г., когда стало известным его авторство, должен был выйти в отставку, что подорвало благосостояние его семьи. Гете намекает на это обстоятельство, говоря, что «судьба и уготовила ей много жестоких и печальных испытаний».
«Патер Брей» — фарс Гете, был напечатан в 1774 г. в сборнике масленичных фарсов Гете «Новейшие морально-политические кукольные комедии». «Сатир, или Обожествленный леший», написанный тогда же, был впервые опубликован в 1817 г.
…один из лучших наших адвокатов… добился доступа в коллегию врачей для сына палача. — Ранее лица «бесчестной профессии» — палачи и их потомки — не имели доступа в цехи и на государственную службу.
Кох Генрих (1703–1775) — выдающийся немецкий актер, превосходно исполнявший роль мольеровского Скапена.
«Лондонский купец» (1731) Лилло — первая английская «мещанская трагедия», в которой выведен молодой приказчик, ради прекрасной куртизанки покинувший свою невесту и убивший своего благодетеля. «Честный преступник» (1768) Фальбера, «Продавец уксуса» (1771) Мерсье, «Философ, сам того не зная» (1765) Седена, «Евгения» (1767) Бомарше — французские «мещанские драмы», жанр, насажденный в те годы во Франции Дени Дидро. Немецкие комедии, восходящие к французским и английским образцам «мещанской драмы»: «Благодарный сын» (1770) Энгеля, «Дезертир из чадолюбия» (1773) Готфрида Стефани, «Министр» (1772) и «Клементина» (1771) Тобиаса фон Геблера, «Немецкий отец семейства» (1782) Отто фон Геммингена.
Экгоф Конрад (1720–1778) — знаменитый немецкий актер, игравший в Гамбургском национальном театре при Лессинге, в 1771 г. — в Веймаре, а с 1774 г. — в Готе; в 1778 г. участвовал в придворном любительском спектакле в Веймаре, в котором играл и Гете.
Шредер Фридрих Людвиг (1744–1810) — с 1771 г. директор Гамбургского театра, игравший во впервые поставленных им на немецкой сцене пьесах Шекспира. Гете сообщил его внешность и черты характера Серло из «Годов учения Вильгельма Мейстера».
Тюммель Мориц Август (1738–1817) — с 1768 г. министр в Саксен-Кобурге, автор пьесы «Вильгельмина, или Просватанный педант» (1764).
Гроссман Густав (1746–1796) — автор справедливо забытой пьесы «Не более шести блюд»; Гете изъял ее из репертуара Веймарского театра.
С той поры все театральные злодеи обязательно принадлежали к высшим кругам… — Гете, отнюдь не одобряя такой тенденциозности, из уважения к памяти друга не называет в этой связи Шиллера, автора «Коварства и любви», «первой немецкой политически тенденциозной драмы», как назвал ее Фридрих Энгельс (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 36, с. 333).
…сбили с толку противоречивые мнения… — Первая рецензия на «Геца» была написана Х.-Г. Шмидом, вторая — Виландом.
У меня сохранилось письмо… Бюргера… — Письмо это, содержащее слова: «Чем мне отблагодарить автора за мой восторг?» — было адресовано Лойе, редактору гессенского «Альманаха муз».
Юнг Эдуард (1683–1765) — английский поэт; его «Ночные думы» в переводе Эберта, поэта и переводчика из круга Клопштока, были широко известны в Германии.
…служащих комментарием к страшному тексту… — Далее следует цитата из анонимно изданной «Сатиры на человечество», автором которой является Самуэль Рочестер (1647–1680).
Грей Томас (1716–1771) — поэт, историк и лингвист; его «Элегия, написанная на сельском кладбище» переведена на многие языки, в том числе на русский — Жуковским.
«Дальняя Фула». — Так называли древние северный берег Альбиона. Каледонская ночь. — Каледонией Тацит называет Шотландию. Призрак Лоды — у Макферсона Лодун — ветер Смерти, нагоняющий призраки умерших, с которыми беседует шотландский бард, последний из каледонских витязей. Оссианом, певцом смерти, увлекается юный Вертер, уже вынашивая мысль о самоубийстве; он читает Оссиановы «Песни Сельмы» (в переводе Гете).
…доказывают следующие многозначительные строки… — Цитата из поэмы «Самоубийство» Томаса Уортона (1728–1790).
Монтескье закрепил за своими героями… право по желанию кончать с собой… — Монтескье говорит о самоубийствах героев древности в своих «Размышлениях о причинах величия и упадка римлян» (1734).
Аякс — один из героев полулегендарной Троянской войны, «троянского эпического цикла» и посвященной ему трагедии Софокла; разум Аякса помутился, когда доспехи павшего Ахилла были присуждены не ему, а Одиссею; в приступе безумия он бросился на меч.
Когда воин приказывает оруженосцу… — Имеется в виду упомянутый Монтескье Кассий, велевший себя умертвить после поражения в битве при Филиппах в 42 г. до н. э.
…среди всех, лишивших себя жизни, этот акт всего величественнее… совершил император Отон. — Самоубийство императора Отона в 69 г. описано Плутархом и Светонием.
…я собрал воедино все элементы… — В «Вертере» воссоединились и обрели единство в творческой фантазии и на страницах романа и вецларская любовь Гете к Шарлотте Буфф, и самоубийство Иерузалема, и увлечение поэта Максимилианой Брентано — дочерью г-жи Ларош, и ревность ее мужа. Но хронологически перечисленные события и переживания отнюдь не совпали; Иерузалем умер в конце октября 1772 г., «Вертер» же был написан только в феврале — марте 1774 г.; отсюда следует, что план «Вертера» созрел никак не в момент получения известия о самоубийстве Иерузалема, а в январе 1774 г., когда Гете был вынужден отказаться от близкого общения со «старшей дочерью г-жи фон Ларош» (ситуация, весьма напоминавшая его былой вынужденный разрыв с Лоттой). Тогда-то, надо полагать, «составные части целого» и «слились в плотную массу». Максимилиана фон Ларош (1756–1793) была выдана замуж родителями в 1774 г., в возрасте восемнадцати лет, за франкфуртского купца, итальянца по происхождению, Петера Брентано, тридцатидевятилетнего вдовца с пятью детьми; она родила ему еще двенадцать детей, из которых двое — поэт-романтик Клеменс Брентано и Беттина, в замужестве фон Арним, — сыграли видную роль в истории немецкой литературы.
«Радости юного Вертера» — пародия Николаи, вышла осенью 1774 г. Упомянутый ниже диалог между Лоттой и Вертером был озаглавлен «Анекдот, добавленный к «Радостям юного Вертера».
Ходовецкий Даниэль (1726–1801) — известный немецкий график и иллюстратор, в частности, автор иллюстраций к «Страданиям юного Вертера» и «Герману и Доротее» Гете.
Подобно Натану… — Имеется в виду герой драмы Лессинга «Натан Мудрый», который, будучи поставлен перед необходимостью ответить, какая религия лучше, рассказывает притчу о трех одинаковых кольцах, подаренных отцом своим трем сыновьям; при этом каждый из них полагал свой перстень истинным, а прочие — подделкой.
«Ярмарка» — «Ярмарка в Плундерсвейлерне» (1773) — литературная сатира Гете в форме старинного масленичного фарса.
«Пролог к новейшим откровениям Бардта» (1774) — сатирический отклик Гете на безвкусный перевод-переделку Нового завета, изданный Карлом Фридрихом Бардтом. В «Прологе» происходит забавная встреча простодушных «четырех евангелистов» с изысканным современным богословом-рационалистом.
Юстус Мёзер (1720–1794) — наместник князя-епископа Трирского в Оснабрюке, знаток истории немецкого средневековья и старины, автор «Истории Оснабрюка» (1765) и многочисленных статей, изданных в четырех томах его дочерью Женни фон Фойгтс под общим заглавием «Патриотические фантазии».
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Старые друзья… — Имеются в виду Мерк, Гердер, Ленц; новые доброжелатели — Клингер, Лафатер, Якоби и др.
Ленц. — См. коммент. к одиннадцатой книге. Морально отнюдь не осуждая поведение Ленца, Гете указывает на трудности, связанные с общением с этим бесспорно талантливым, но эксцентричным, неуравновешенным человеком.
«Солдаты» — драма Ленца, в которой он (так же как в своем «Мемориале французскому военному министру») предлагает учредить — «для пользы воинства» и «во имя целомудрия бюргерских дочек» — сословие «военных женок», иначе: «корпус амазонок».
Вагнер Генрих Леопольд (1747–1779) — поэт и драматург, представитель движения «Бури и натиска», франкфуртский юрист и адвокат. Его «мещанская трагедия» «Детоубийца» напоминает трагедию Гретхен из ч. I «Фауста» разве лишь общностью мотива, но таковой к тому времени стал достаточно обиходен; отец несчастной девушки из «Детоубийцы» во многом предвосхищает образ музыканта Миллера из «Коварства и любви» Шиллера.
Клингер Фридрих Максимилиан (1752–1831) — драматург и романист, представитель движения «Бури и натиска», автор пьесы «Буря и натиск», по имени которой была названа вся столь значительная эпоха немецкой литературы. Гете материально поддерживал Клингера, что дало последнему возможность учиться в Гессенском университете, но в 1776 г. их молодой дружбе пришел конец. Ко времени, когда Гете работал над четырнадцатой книгой, Клингер служил (с 1780 г.) в России. Отозвавшись о Клингере как об энергичном и жизнеспособном человеке, Гете ни словом не обмолвился о его произведениях, хотя тогда же перечитал старые и познакомился с некоторыми новыми его сочинениями.
…как другой Виллигис… — По преданию, Виллигис, архиепископ Майнцский (ум. в 1011 г.), будучи сыном колесника, поместил в своем дворянском гербе колесо. Подобно ему, Клингер, желая почтить своего отца, унтер-офицера франкфуртской полиции, включил в свой герб два шомпола.
«Письмо пастора к своему коллеге» — статья Гете на религиозную тему, опубликованная в 1773 г.
…этот умный и сердечный человек нападал… на Мендельсона… — В предисловии к своему переводу книги Шарля Бонне «Возрождение философских истин» (1769) Лафатер призывал еврея Моисея Мендельсона (см. коммент. к седьмой книге) опровергнуть истинность христианства, в противном же случае — стать христианином.
Липс И.-Г. (1758–1817) — художник и гравер в Цюрихе, позднее в Риме; затем переехал в Веймар. Автор многих портретов Гете.
Саннацаро Джакопо (1456–1530) — итальянский поэт, автор романа «Аркадия», а также латинской поэмы о деве Марии, над которой он работал сорок лет.
Базедов Иоганн Бернгард (1724–1790) — педагог-руссоист, автор «Элементарной книги для юношества и учителей» (1771), вышедшей во втором, исправленном издании в 1774 г. под заглавием «Элементарный труд»; в этом же году Базедов возглавил в городе Дессау образцовую школу «Филантропин».
Ипостась, усия, просопон — термины христианского богословия, относящиеся к установленному на Никейском соборе (325 г.) учению о так называемой святой троице; ипостась — каждый из ликов троичного божества — бог-отец, бог-сын и бог — святой дух; усия — единосущность «святой троицы»; просопон — по сути, то же, что и «усия», то есть «целостная триединая личность божества». Базедов, продолжая традицию так называемой «арианской ереси», отрицал понятие троицы.
Тирон — здесь: писец, переписчик, секретарь — по имени Цицеронова писца, вольноотпущенника Тирона.
На ней изображены два скрещенных треугольника. — Так во Франкфурте обозначали пивные. Треугольник считался в то же время символом святой троицы.
Братья Якоби. — Иоганн Георг Якоби (1740–1814) — второстепенный поэт-анакреонтик; в 1774–1776 гг. — издатель журнала «Ирис», в котором печатались стихи Гете. Фридрих Генрих (Фриц) Якоби (1743–1819) — философ, представитель «философии чувства и веры», с 1807 г. — президент Академии наук в Мюнхене, с которым Гете старался поддерживать доброприятельские отношения вплоть до его смерти, несмотря на их расхождения во взглядах и на неприятие Гете философских романов Якоби.
Фальмер Иоганна (1744–1821) — тетка Якоби (была моложе своих племянников), подруга Корнелии Гете-Шлоссер и самого поэта; после смерти Корнелии вышла замуж за Шлоссера.
Пемпельфорт — поместье Фрица Якоби.
Дом Ябаха — находился во владении этой семьи с XVI в. Последний из Ябахов умер в 1761 г. Картина, которую упоминает Гете, была написана в 1660 г. французским художником Лебреном.
Спиноза Бенедикт (1632–1677) — знаменитый автор «Этики», наиболее близкий Гете философ, под заметным влиянием которого сложилось пантеистическое мировоззрение поэта.
Удивительное речение: «Кто доподлинно возлюбил бога…» — Спиноза. Этика, ч. V, 19.
…дерзкое слово, позднее мною сказанное… — Дерзость заключалась в том, что переиначенное речение Спинозы было вложено Гете в уста легкомысленной певичке Филине из «Годов учения Вильгельма Мейстера».
Веникс Ян Младший (1640–1719) — известный голландский художник.
Дюссельдорфская галерея — одно из лучших собраний живописи XVII и XVIII вв.; в XIX в. многие полотна этой галереи попали в Старую пинакотеку (Мюнхен).
Эльберфельд — в XVIII в. крупный промышленный город, в 1929 г. вошел в состав Вупперталя.
…вскоре принял решение на примере Магомета… — Сохранившиеся фрагменты этого драматического замысла Гете, написанные осенью 1772 г. — весною 1773 г., найдены в 1846 г. в архиве Шарлотты фон Штейн. Сведения о жизни Магомета взяты Гете из французских биографий Тюрпэна, Гарнье и др.
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ
Керстинг Георг Фридрих (1785–1847) — художник-жанрист, ценимый Гете.
Синод в Мариенборне. — Речь идет о собрании общин гернгутеров в замке Мариенборн под Франкфуртом в 1769 г., на котором присутствовал Гете.
Пелагианство — учение ирландского монаха Пелагия (360–418), отрицавшего идею «первородного греха». По его толкованию, потомки прародителя Адама не отвечают за его грех, а если и грешат, то по своей же вине, а не в силу «прирожденной», «унаследованной» греховности; поэтому «путь к совершенству» не закрыт для человека и человечества.
…мне пришла на ум занятная мысль эпически обработать историю Вечного Жида… — Фрагменты неосуществленной поэмы Гете «Вечный Жид» переведены П. Антокольским (см.: Гете. Собр. Соч. в 13-ти томах, т. II. М., ГИХЛ, 1932). Гете намеревался связать средневековую легенду о Вечном Жиде с другой легендой: о пришествии и «вторичном распятии» Христа в условиях греховного — лишь по имени «христианского» — мира.
«Врачу, исцелися сам!» — Евангелие от Луки, 4, 23. «Я топтал точило один!» — Книга Пророка Исайи, 63, 3.
…принялся писать пьесу о разладе Прометея с Зевсом… — Неосуществленная драма Гете «Прометей» дошла до нас в виде фрагментов. Знаменитый монолог Прометея из этой драмы принято считать независимым от драмы стихотворением — вопреки указанию поэта, что таковым должно было открыться третье действие. Это стихотворение (или монолог) было впервые опубликовано Фридрихом Якоби в его трактате «Об учении Спинозы в письмах к г-ну Мендельсону» (1785), в котором автор утверждал, что «правильно понятое учение Спинозы исключает религию как таковую», ибо «бог отождествляется им с природой», а не признается «необходимым существом», не зависящим от «законов природы»; более того, он объявляет «спинозистом», тем самым и атеистом, также и Лессинга, сочувственно отозвавшегося в частной беседе с ним о «Прометее» Гете, проникнутом спинозианскими идеями, и о философии Спинозы в целом. Мендельсон скончался вскоре после написания его ответа Якоби: «Моисей Мендельсон — друзьям Лессинга», в котором опровергает «обвинение» Лессинга в спинозианстве. Фрагменты драмы «Прометей» были найдены в архиве поэта Ленца в 1819 г. «Забавно, — пишет Гете Цельтеру 2 мая 1820 г., — что пресловутый, мною самим отвергнутый и забытый «Прометей» как раз теперь опять возникает из небытия… Не давайте рукописи слишком большого распространения… Он мог бы явиться вожделенным Евангелием для нашей революционной молодежи, и высокие комиссии в Берлине и Майнце, верно, состроят прекислые мины… Замечательно, однако, что этот непокорный огонь, уже полвека тлевший под поэтическим пеплом, вдруг, охватив подлинно горючие материалы, грозит вырваться губительным пламенем».
Кнебель Карл Людвиг фон (1744–1834) — второстепенный поэт-анакреонтик, переводчик Проперция и Лукреция, майор в отставке; состоял при дворе герцогини Анны-Амалии Саксен-Веймарской (правила с 1759 по 1775 г.), матери будущего герцога Карла-Августа, который станет покровителем Гете. Встреча Гете с Кнебелем, герцогом Карлом-Августом и его братом — принцем Константином состоялась в декабре 1774 г.
Гетц Иоганн Николаус — поэт-анакреонтик той поры.
«Прометей и его рецензенты». — «Прометей, Девкалион и его рецензенты» — литературный фарс Г.-Л. Вагнера, изданный анонимно. Прометей — это Гете, Девкалион — Вертер, остальные действующие лица — рецензенты «Вертера», из коих Меркурий, очевидно, Виланд, издатель «Немецкого Меркурия». Все признали автором этого фарса самого Гете, что было ему особенно неприятно после примирения с Виландом. «Не я, а Генрих Леопольд Вагнер сочинил и написал Прометея, без моего участия, моего ведома», — писал Гете во «Франкфуртском ученом вестнике» от 22 апреля 1775 г.
Циммерман Иоганн Георг (1728–1795) — известный врач, лейб-медик в Ганновере, автор книг «О национальной гордости» (1758), «Об опыте во врачебном искусстве» (1763–1764) и др.; в частной жизни ипохондрик, страдавший манией величия и преследования.
Бургаве и Галлер — См. коммент. к восьмой и второй книгам.
Салис Карл фон (1728–1800) — швейцарский педагог, основатель показательной школы «Филантропин», которую возглавил Базедов (см. коммент. к четырнадцатой книге).
Зульцер. — См. коммент. к двенадцатой книге. Вполне признавая гениальность молодого Гете, Зульцер так говорит о нем в своих путевых заметках: «Его суждения о людях, нравах, политике и вкусе еще не подкреплены достаточным опытом. В общении он приятен и любезен».
Агентства — здесь: представительства различных государств, княжеств и вольных городов; резидент — консул, представитель суверенного немецкого или иностранного государства. Иногда резидент представлял и несколько мелких государств.
Окрыленный примером нашего праотца Шекспира… — Шекспир не раз клал в основу своих драматических произведений новеллы и исторические хроники; так поступил и Гете в своей драме «Клавиго» (1774), драматизируя известные «Мемуары» (1773–1774) Бомарше, направленные против его врагов. Образ Карлоса — оригинальное изобретение Гете. В пятом действии встреча героя с прахом покинутой им возлюбленной также не восходит к Бомарше: этот мотив представлен в ряде английских баллад, а также в пятом действии «Гамлета» (похороны Офелии); представлен он и в немецкой балладе «Песнь о господине и служанке», записанной самим Гете в Эльзасе.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Никто против бога… — Смысл этого парадоксального изречения сводится здесь к следующему: если что-нибудь в мире кажется направленным против бога (или природы), то в этом повинно только наше «несовершенное познание» (как выражался Спиноза), каковое неизбежно исчезнет на более высокой ступени познания. Автор изречения неизвестен, возможно, это сам Гете.
Предварение. — Гете счел необходимым предпослать четвертой части своей автобиографии несколько слов, обращенных к читателю; видимо, автор и сам сознавал, что книги шестнадцатая — двадцатая менее скомпонованы, чем первые три части «Поэзии и правды»; переходы от темы к теме подчас скачкообразны. К четвертой части автобиографии вполне приложимы слова, сказанные Гете о «Годах странствий Вильгельма Мейстера»: и она «сделана не из одного куска, но все же из одного смысла».
КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ
…я обнаружил книжонку… — Речь идет о сочинении «Жизнь Спинозы», написанном пастором Иоганном Колерусом (голландский оригинал вышел в 1703 г., немецкий перевод — в 1733-м).
…и моих почтенных мистиков… — Парацельс и его школа, подобно Спинозе, считали, что, «изучая природу, мы познаем бога», что давало основание Гете видеть в них предшественников спинозианства.
Hedysarum gyrans — бабочник, тропическое растение.
«Бродил в лесу и в поле…» — Цитата из стихотворения Гете «Питомец муз» (третья строчка изменена).
…по примеру одного из моих предшественников… — Имеется в виду итальянский поэт Петрарка (1304–1374), о котором говорили, будто он спал в кожаной рубашке, чтобы на ней мелом записывать свои стихи.
Гимбург — берлинский издатель, занимавшийся самочинной перепечаткой сочинений немецких писателей; издав в 1775–1776 гг. сочинения Гете в трех томах, он повторил это издание в 1777 г., а в 1779-м выпустил его сочинения в четырех томах с целым рядом грубых опечаток и с ошибочным включением в них стихов Г. Якоби и статьи Гердера.
Созий. — Братья Созии — римские книгопродавцы, упомянуты Горацием в его «Поэтическом искусстве»; здесь — в значении «издатель».
Вольтеров гурон — герой повести Вольтера «Простак», француз, воспитанный индейским племенем гуронов и позднее попадающий в общество европейцев, о котором он получает самое невыгодное представление. Повесть Вольтера была драматизирована английским писателем Ричардом Камберлендом; его комедия «Западный индеец» пользовалась большим успехом на немецкой сцене.
…концерт, дававшийся в одном реформатском патрицианском доме. — Речь идет о доме вдовы банкира Шёнемана, Сусанны Шёнеман, урожденной д’Орвиль. Ее единственная дочь, Анна Елизавета Шёнеман, прославлена в лирике Гете под именем Лили или Белинды. В 1778 г. Лили Шёнеман вышла замуж за страсбургского банкира Бернара фон Тюркгейма; во время французской революции, переодевшись крестьянкой, она бежала в Германию с пятью детьми, вскоре после того как ее муж скрылся от судебных властен, угрожавших ему гильотиной. Дружеские встречи и переписка между семьей фон Тюркгейм и Гете не прекращались; Лили говорила в старости, что Гете был «создателем ее духовной биографии».
Юнг, впоследствии прозванный Штиллингом. — См. коммент. к девятой книге.
Лерснер Фридрих Максимилиан (1736–1804) — секретарь датского посольства, франкфуртский бургомистр.
…из изенбургских земель. — Речь идет о владениях князей Изенбургов под Франкфуртом: им принадлежали Оффенбах, замок Бирштейн и обширные поместья.
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ
«Сердце, сердце, что случилось…» — Стихотворение Гете «Новая любовь — новая жизнь» (1775). «О, зачем влечешь меня в веселье…» — стихотворение «Белинде» (1775).
Бернар Никола́ (1709–1780) — родственник д’Орвилей, двоюродный дядя Лили Шёнеман, владелец табачной фабрики. Д’Орвиль Жан-Жорж — двоюродный брат Лили, негоциант.
Иоганн Андре — музыкант и композитор, с 1777 г. — дирижер Берлинской онеры, владелец музыкального издательства в Оффенбахе, автор музыки к пьесам Гете «Эрвин и Эльмира» и «Клаудина де Вилла Белла». Положенная им на музыку Бюргерова баллада «Ленора» пользовалась большим успехом у его современников.
Маршан Теобальд (1741–1800) — в 1771–1777 гг. директор Франкфуртского оперного и драматического театра; в 1775 г. поставил оперу Андре на слова Гете «Эрвин и Эльмира».
Гретри Апдре (1741–1813) — популярный в XVIII в. французский композитор.
«Охотники». — Оперы такого названия, относящейся к описываемому времени, не имеется; видимо, Гете имеет в виду оперу «Охота» (музыка Гиллера, текст Вейсе). «Бочар» — опера французского композитора Одино. Опера «Горшечник» Андре была поставлена в 1773 г.
Пастор Эвальд Иоганн Людвиг (1747–1822) — в то время настоятель реформатской общины в Оффенбахе, к которой принадлежали и родственники Лили Шёнеман, потомки гугенотов, изгнанных Людовиком Четырнадцатым из Франции. Эвальд был автором многих религиозно-назидательных книг и вместе с тем любителем изящной словесности.
«В хороший час, согреты…» — Первая строфа стихотворения Гете «Песнь содружества».
…день рождения Лили, 23 июня 1775 года… — Известно, что в 1775 г. Гете в этот день находился в Швейцарии; видимо, он вспоминает другое семейное торжество в кругу родственников Лили.
«Я сплю, но сердце мое бодрствует». — Песнь Песней Соломона, V, 2.
Даже почтенная и разумно устроенная масонская ложа… — В 1775 г. Гете не пожелал вступить в масонскую ложу «из чувства независимости»; тремя годами позже, уже в Веймаре, он все же стал «свободным каменщиком», но в 1812 г. поставил в известность «великого мастера ложи Амалии в Веймаре», что впредь просит себя считать «уснувшим братом», то есть не посещающим собраний ложи и не выполняющим ее поручений.
Пылающий флот в Чесменской бухте… — Чесменский бой, окончившийся блестящей победой русского флота над турками, произошел 25–26 июня 1770 г. После победы Екатерина Вторая заказала немецкому художнику Якобу Филиппу Гаккерту (1737–1807) картину полного уничтожения турецкого флота русским флотом под общим командованием графа Алексея Орлова. Орлов, принимая заказ, заметил художнику, что взорванный корабль изображен им неверно, на что Гаккерт высказал сожаление, что ему не довелось быть свидетелем такого зрелища. Орлов с разрешения Екатерины взорвал русский военный корабль в Ливорнской гавани, после чего картина была исправлена, к вящему удовольствию заказчика.
Молодой северный король… — Густав Третий, король шведский (1746–1792), совершил в августе 1772 г. внутренний переворот в своей стране; опираясь на буржуазию, крестьянство и армию, он отменил аристократическую конституцию и пытался править в духе «просвещенного абсолютизма»; в 1792 г. он был убит в результате заговора дворянства, тотчас же отменившего его реформы.
Паоли Паскуале (1725–1807) — возглавил освободительное движение в Корсике против владычества Генуи. Генуэзцы, не сумевшие подавить инсургентов, продали Корсику Франции. Потерпев поражение при Понто-Нуово (1769), Паоли бежал в Англию.
Бетман Иоганн Филипп — богатый франкфуртский купец и имперский советник.
…новый, благожелательный французский король… — Людовик Шестнадцатый, на которого в начале его царствования французская и немецкая буржуазия возлагала не оправдавшиеся позднее надежды.
Умиротворенное состояние немецкого отечества… — Гете явно преднамеренно преувеличивает «умиротворенность» немецкого общества 70-х годов XVIII в. Утверждение Ф. Энгельса, что в Германии тех лет «никто не чувствовал себя хорошо» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 561), остается ничем не поколебленным; другое дело, что в народе не было такой силы, которая могла бы сокрушить прогнивший немецкий полуфеодальный политический строй. Гете плохо верил в политическую активность буржуазии и народных масс Германии.
Замок Якстгаузен — родовое владение рыцаря Геца фон Берлихингена. Ратуша в Гейльбронне — здание, в котором происходил суд над Гецем.
Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — писатель-гуманист, один из видных участников восстания имперского рыцарства. Вилибальд Пиркгеймер (1470–1530) — богатый бюргер из Нюрнберга, друг Гуттена и художника Альбрехта Дюрера. Латинское письмо Гуттена к Пиркгеймеру приводится автором как образец идеального союза рыцаря и бюргера, предвосхищающего идею сближения дворянства и бюргерства на почве просвещения.
Дом Лимпургов — сословное объединение франкфуртских дворян, занимало четырнадцать мест в городском совете, насчитывавшем всего сорок два советника. Дом Фрауенштейнов — дворянская корпорация, занимавшая шесть мест в совете.
…когда они по воскресеньям выезжали… к своей обедне в Бокенгейм… — Большое число французских протестантов после отмены Нантского эдикта о веротерпимости (1685 г.) бежало из Франции; во Франкфурте до 1788 г. реформатское богослужение находилось под запретом, почему протестанты-кальвинисты и ехали к обедне в деревню Бокенгейм.
КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Немцы с давних времен привыкли к рифме… — Данный здесь краткий обзор нерифмованной немецкой поэзии XVIII в. — начиная с Клопштока, впервые обратившегося к не знающим рифмы античным размерам, и кончая Шекспиром, пятистопный ямб которого стад (по почину Лессинга, Гете и Шиллера) стихотворным размером немецкой классической драмы, — подводит нас к утверждению Гете (который и сам широко и успешно прибегал к нерифмованному стиху): «Лучше всех удавались стихи тем, кто оставался верен рифме и в то же время сообщал благозвучие слогам». Эти рассуждения служат подходом к новой теме — поэзии Ганса Сакса, который приглянулся поэтам «Бури и натиска» уже тем, что был «нам под стать — всего лишь честным бюргером»; так выражало свою симпатию к средневековому бюргерству молодое поколение бюргерства XVIII в.
Ганс Сакс (1494–1576) — нюрнбергский сапожник и вместе с тем одаренный поэт, автор драм, комедий и масленичных фарсов. «Ломаный стих» («Knittelvers»), которым пользовался Ганс Сакс, Гете ошибочно считал четырехударным стихом с произвольным числом безударных, тогда как Сакс подсчитывал не ударения, а слоги. Гетевский «ломаный стих» тем самым развивает и совершенствует стих Ганса Сакса, вернее, Гете создал свой собственный «ломаный стих».
Маклот. — См. книгу шестнадцатую; в сохранившихся отрывках пьесы Гете «Свадьба Гансвурста» такое действующее лицо не встречается.
Графы Штольберги. — См. выше, коммент. к двенадцатой книге. Граф Гаугвиц Христиан Август (1752–1831) — в 1792–1807 гг. был прусским кабинет-министром, выполнявшим дипломатические поручения.
Госпожа Айя — мать четырех сыновей Гаймона (см. коммент. к двенадцатой книге); так в шутку называли мать Гете; Гете называет госпожу Айю придворной какой-нибудь лангобардской либо византийской принцессы, видимо, позабыв о происхождении и первоначальном значении этого имени.
…вдруг прорвалась наружу поэтическая ненависть к тиранам… — Имеются в виду стихи Ф.-Л. Штольберга «Песнь о свободе в XX веке» и «Песнь немца в иноземном войске».
Камбиз (ум. в 522 г. до н. э.) — древнеперсидский царь, ославленный греческими историками как жестокосердный.
Ликург Фракийский — персонаж из «Илиады» Гомера (VI, с. 130).
…я даже обрадовался приглашению Штольбергов поехать с ними в Швейцарию. — Путешествие Гете с братьями Штольбергами и Гаугвицем продолжалось с 14 мая по 23 июля 1775 г., в основу его описания частично положен дневник Гете за 1775 г.
Застав там Клопштока… — Ошибка памяти: Клопштока уже не было в Карлсруэ, с ним Гете повстречался осенью 1774 г., когда тот направлялся в Мангейм, и в марте 1775 г., когда он оттуда возвращался; оба раза встречи произошли во Франкфурте; тогда же Гете читал ему и отрывки из «Фауста».
…заменил ее бойким стихотворением… — стихотворение Гете «Вечерняя песня художника» (декабрь 1774 г.), первоначальное заглавие — «Песня физиогномического рисовальщика».
Бодмер. — См. коммент. к четвертой книге. Гете говорит о патриархальности Бодмера, имея в виду как преклонный возраст поэта, так и его обращение к библейским темам.
Пассаван Я.-Л. (1751–1827) — друг молодого Гете, позднее реформатский пастор.
«И жизнь, и бодрость, и покой…» — Гете, стихотворение «На озере» (1775).
«Если б я тобой не грезил, Лили…» — Четверостишие из стихотворения Гете «С горы» (1775).
Геогнозия — учение о минералах.
Мартин Шён (собственно, Шёнгауэр; 1425–1491) — выдающийся немецкий график.
Три Телля. — Тремя Теллями называются три участника крестьянского восстания 1653 г., поклявшиеся убить ландфогта Шумахера, когда восстание уже было подавлено. Гете, очевидно, имеет здесь в виду представителей трех кантонов — Ури, Швица и Унтервальдена (Фюрста, Штауфена и Арнольда), учредивших «вечный союз» в Грютли (Рютли) в 1291 г.
…где герой выскочил на берег… — Речь идет о полулегендарном Вильгельме Телле, крестьянине из кантона Ури. Гете был хорошо знаком с двухтомной «Швейцарской хроникой» Эгидиуса Чуди, посвященной истории освобождения Швейцарии от австрийского ига, и сам хотел обработать легенду о Телле в эпической поэме; после он уступил эту тему Шиллеру, написавшему в 1804 г. народную драму «Вильгельм Телль».
КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Кейслеровы путешествия. — Имеется в виду книга Иоганна Георга Кейслера «Новые путешествия по Германии, Богемии и Венгрии», пользовавшаяся в те годы широкой известностью.
Линдау Г.-Ю. — друг Лафатера, с которым Гете познакомился в Цюрихе, жил тогда отшельником в Швейцарии из-за несчастной любви, взяв на воспитание безродного сироту-пастушонка; в 1776 г. в поисках смерти он добровольно поступил офицером в войска, проданные герцогом Гессенским Англии для подавления восстания в Северной Америке, где пал в 1777 г. Его воспитанник пришел пешком в Веймар к Гете, взявшему его на свое попечение.
По возвращении в Цюрих я уже не застал там Штольбергов… — Ошибка памяти: Гете прибыл в Цюрих 26 июня, а Штольберги уехали 5 июля 1775 г.
«Путешествия Вертера». — Имеются в виду «Письма из Швейцарии», в предисловии к которым сказано, что они «были найдены в бумагах Вертера»; написанные в 1775 г., они были впервые напечатаны в 1811 г. (в первом Собрании сочинений Гете, изданном Котта).
«Загляды в вечность» — трактат Лафатера (1768–1778) о жизни после смерти, в котором имеются такие главы, как «О совершенстве небесных тел», «О языке небесном» и т. д. Молодой Гете откликнулся на это сочинение иронической рецензией во «Франкфуртском ученом вестнике» в ноябре 1772 г.
«Понтий Пилат» Лафатера. — Полное заглавие этого сочинения — «Понтий Пилат, или Человечество во всех его обличиях», четыре тома (1782–1785); в рукописях Гете сохранился резко отрицательный отзыв на него — «Несколько слов об авторе Пилата», эта рецензия не была опубликована, но именно тогда произошел разрыв между Гете и Лафатером на почве окончательного расхождения во взглядах.
Авраам из Санта-Клары (1644–1709) — один из виднейших католических проповедников, автор целого ряда сочинений, полных неожиданных сравнений, сатирических выпадов и намеков на тогдашние нравы. Гете ознакомил Шиллера с проповедническим стилем Авраама, когда тот работал над «Лагерем Валленштейна», и это помогло автору «Валленштейна» создать блестящий монолог капуцина.
«Юноши, чьи портреты и силуэты мы видим здесь перед собою…» — Психологические портреты обоих Штольбергов из физиогномического труда Лафатера — типичный образец его неряшливо-патетического стиля.
«Зверинец Лили» (осень 1775–1789 гг.) — стихотворение, в котором молодой Гете выступает в образе неуклюжего медведя среди других благовоспитанных поклонников Лили.
«Розы юные увяли…» — песня, вставленная в текст комической оперы Гете «Эрвин и Эльмира» (1773–1775).
Молодой юрист, у него работавший… — сам Гете.
«Эгмонт» — драма Гете из эпохи борьбы Нидерландов против испанского владычества; начата в 1775 г., закончена в Италии в 1788 г.
КНИГА ДВАДЦАТАЯ
Краус Георг Мельхиор (1733–1806) — художник и гравер, автор многочисленных гравюр, изображающих виды Веймара, а также портреты его современников. С 1775 г. — придворный художник, а с 1780 г. — директор рисовальной школы в Веймаре.
Филипп Гаккерт. — См. о нем коммент. к семнадцатой книге.
Вилле Иоганн Генрих (1715–1808) — выдающийся немецкий живописец и гравер.
Гримм. — См. коммент. к одиннадцатой книге.
…Буше и Ватто благосклонно отнеслись к такому нововведению… — Буше (1703–1770) и Ватто (1684–1721) — выдающиеся французские художники; оба они уже умерли, когда Краус приехал в Париж, а потому не могли откликнуться на «нововведения» Вилле и Крауса; другое дело, что Краус многое перенял у них.
Вольф Эрнст Вильгельм (1735–1792) — в те годы придворный капельмейстер в Веймаре.
Бертух Фридрих Юстус (1747–1822) — писатель, драматург, с 1775 г. — личный секретарь герцога Веймарского, позднее — владелец фабрики, изготовлявшей предметы роскоши (на ней работала и Христиана Вульпиус, будущая жена Гете), а также издатель известного журнала мод. Бертух и Краус впоследствии женились на дочерях упоминающегося здесь лесничего Слефойгта.
Музеус Иоганн Карл Август (1735–1787) — профессор веймарской гимназии, писатель, автор известных «Немецких народных сказок». Кирмс — чиновник дворцового ведомства в Веймаре, с 1791 г. помощник Гете по управлению Веймарским театром. Берендис и Лудекус — секретари веймарской герцогини Анны-Амалии.
Вдова Коцебу (ум в. 1823 г.) — мать плодовитого писателя и драматурга Августа фон Коцебу (1761–1819), убитого студентом Зандом.
…загладить впечатление от моих дерзких, хотя и довольно случайных выходок… — Гете имеет в виду свой фарс «Боги, герои и Виланд» (1774).
Я получил приглашение к обеду. — Недоразумение заключалось в том, что Гете был приглашен к обеду Мейнингенским, а не Веймарским двором, чего он не понял.
Господин фон В. — фон Вреде Ф.-И., советник Пфальцского курфюршества.