
Иван Логвиненко
Багряные зори

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Часто среди ночи просыпается Володя, долго прислушивается к этому перестуку и тихо, чтоб не разбудить мать, выходит во двор.
А матери тоже не спится, и, как только сын выходит за порог, она взволнованно спрашивает:
— Ты куда?
— Я сейчас, — недовольно отвечает Володя.
Ночная прохлада совсем прогоняет сон. Мальчуган ежится от холода и исчезает в темноте. По тропинке поднимается он на высокую насыпь и долго смотрит на север. Там Киев. Туда как раз и идут воинские эшелоны, оттуда везут раненых. А над городом — зарево. Взрывов не слышно — далеко. Солдаты рассказывали: жестокие, кровопролитные бои идут за город…
Утром Володя припадает к репродуктору. Короткие, горькие сообщения с фронта…
— Володя! — зовет мать из сеней. — Возьми кошелку с грушами и с молоком и отнеси на станцию. Не опоздай к поезду.
Не впервые Володе бегать к эшелонам с ранеными. Туда бегает не только он один. Приносят люди молоко, груши, яблоки. Угощают солдат. У кого нет молока, несут воды холодной, колодезной. Жара-то вон какая!
Добежал Володя до семафора, посмотрел на мост, а по нему из Фастова тихо и плавно идет бронепоезд. Сошел с рельсов парнишка, ждет. Поезд подошел к переезду, паровоз устало вздохнул, развесив белые платки на зеленых кустах, и остановился. Семафор закрыт.
Башни, пушки, даже низенькая труба — все выкрашено в зеленый цвет и вдобавок еще и ветки клена прикреплены. Там, где должны находиться окна, — узенькие щели, из них выглядывают пулеметы, черными дулами караулят. А на крыше низенькие круглые башни с пушками. Не крепость на колесах, а зеленый островок.
И вдруг открылись толстые дверцы, и на землю спрыгнул коренастый командир в гимнастерке защитного цвета, в галифе. Хромовые сапоги начищены до блеска. В правой руке полевая сумка из добротной желтой кожи. А на груди — орден. «Знак Почета», — узнал Володя. Да еще наган в кобуре с правой стороны.
— Эй, мальчик! — позвал командир. Володя быстро подбежал к нему.
— Куда идешь?
— На вокзал. Вот раненым молоко несу да еще груши, — объяснил мальчишка и, немного откинув в кошелке вышитое матерью полотенце, предложил: — Угощайтесь.
— Нет, это раненым. Лучше принеси водички холодной.
— Я мигом, криничка[1] близко! — И Володя, оставив кошелку на насыпи, бросился к будке за ведерком.
Взяв ведерко, Володя кинулся со всех ног к криничке. Стал на колени, зачерпнул воды, потом сорвал капустный лист и прикрыл им сверху ведро, чтоб вода не разбрызгалась.
Поспешая к бронепоезду, мальчишка все время думал, но никак не мог вспомнить, где же все-таки видел этого человека…
— Ну и шустрый ты, паренек! — похвалил командир Володю. Мальчишка, подавая ведро, как взрослый, сказал:
— Пейте на здоровье!
Командир рукавом вытер крупный пот со лба, взял ведро в руки и зычным голосом крикнул:
— Мушкетеры! А ну сюда, воду пить! — и сам первый пересохшими губами припал к ведру.
А вода такая холодная, что даже сверху железо покрылось росою.
Напившись, командир передал ведро бойцу.
— Товарищ Гайдар! — крикнули с бронепоезда. — И здесь встретились с тимуровцами?
— А у нас везде тимуровцы! — ответил тот. Володя пристально вглядывался в лицо командира.
— Чего ты так смотришь? — недоумевает он. Володя покраснел, а потом смущенно признался:
— А я вас знаю…
— Откуда?
— У меня ваши книжки есть, с портретом. И отец вас знал. Он вместе с вами воевал и часто о вас рассказывал.
— А как его фамилия?
— Бучацкий… Отца звали Петр.
— Аркадий Петрович! Поезд трогается! — закричали вдруг из вагона.
— А где отец? — продолжает командир.
— Умер.
Гайдар обнял мальчишку и сказал:
— Хорошим солдатом был твой отец… Ну что, поедешь с нами?
— А возьмете? — спросил Володя.
— К сожалению, твое время еще не пришло, но когда придет… — Дальше Володя уж не слышал: последние слова потонули в гудке паровоза, смешались со стуком колес.
Словно зачарованный стоял Володя на насыпи. А из бронепоезда приветливо махал ему рукой Гайдар.
Стоит мальчишка и уже в который раз припоминает выступление Аркадия Петровича по радио:
«Пионеры! Вы слышите, грохочут поезда? Это беспрерывно идут на запад эшелоны. Там ваши отцы, братья, родные, знакомые. Они спешат на фронт — туда, где наши солдаты отважно ведут неравные бои с врагами. Ночью, отбивая налеты вражеских самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов, яростно грохочут орудия наших зенитчиков.
Этот суровый и тяжелый для всех нас год покажет человечеству, кто действительно трудолюбивый и непокоренный…
Родина о вас всегда заботилась, она вас вырастила, берегла, а порой даже и баловала.
И вот настало время, когда и вам надо не словами, а делами доказать, как вы преданно любите свою Родину-мать…»
Стоит Володя на насыпи и вспоминает восторженные рассказы отца о гражданской войне, о Дальнем Востоке, о Сибири, о тех местах, где партизанил и воевал отец, об их командире пятьдесят восьмого отдельного полка по борьбе с бандитизмом — семнадцатилетнем Аркадии Голикове.
Сибирь, тайга, горы — есть где белякам прятаться и неожиданно нападать на беззащитные села, города, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда решил командир полка Голиков: «Незачем гоняться целым полком за разрозненными отрядами». Он разделил полк на небольшие группы, устроил засады на всех дорогах и перерезал бандитам путь, оставив их в горах без продуктов, без помощи…
Закончилась гражданская война. Отозвали Голикова из Красноярска в военную академию. Однажды вызвал он к себе бойца Петра Бучацкого и спрашивает:
«Вот и война закончилась. Бойцов ожидает другой фронт, трудовой. Чем думаешь заняться?»
«Подамся домой, на Украину», — отвечает красноармеец.
«Был и я на Украине, — с удовольствием вспоминает командир полка, — в пятнадцать лет закончил Киевские курсы красных командиров. Воевал под Фастовом, есть там у меня друзья-железнодорожники. Определю тебя работать на железную дорогу. Пойдешь?»
«А почему бы и нет?» — улыбнулся боец Бучацкий.
Склонился над столом командир полка Аркадий Голиков, написал письмо к товарищу в Фастов…
Так вот и стал отец Володи железнодорожником. Не один раз потом он с благодарностью рассказывал Володе о своем командире.
А когда закончил Володя второй класс, учительница Мария Тодиевна подарила ему книжку с надписью: «Володе Бучацкому за отличные успехи в учебе и отличное поведение».
«Школа» — так называлась эта книга. А в ней большой портрет автора. Совсем еще молодой парнишка: крепко сжатые губы, смелый юношеский взгляд, на голове лихо заломленная кубанка, портупея с кортиком, а слева на гимнастерке яркая красная звезда. Внизу подпись: «Адъютант командующего охраны и обороны всех железнодорожных дорог А. Гайдар. Пятнадцать лет».
Вечером развернул отец книгу, увидел портрет и сказал:
«Так это ж он…»
«Кто?» — не без любопытства спросил Володя.
«Мой командир, Голиков», — с гордостью объяснил отец сыну.
«А почему же… Гайдар?»
«Гонялись мы за бандами на монгольской границе. Так его монголы еще тогда Гайдаром прозвали».
«Почему?»
«Гайдар — это дозорный по-ихнему. Храбрый, значит, передовой воин».
Не раз собирался отец письмо написать своему командиру. Не вышло: открылись старые раны, поболел немного, а там и умер.
С тех пор книгу отцова командира Голикова Володя бережет как самую большую драгоценность…
Словно ото сна очнулся Володя. Быстро подхватил кошелку и побежал на вокзал. Дрожат рельсы. Мчится бронепоезд через Ольшаницу, Мироновку, мчится туда, где идут тяжелые бои.
НИКТО НЕ СПАЛ…
Поначалу докатились из-за Роси глухие взрывы. Казалось, что в Синяве кто-то без устали бьет огромным молотом по скале. Жгучей болью отзывалось эхо этих ударов в каждом человеческом сердце. В селе срочно уничтожали документы, убивали скот, жгли хлеб — словом, делали все, чтобы ничего не досталось врагу. В слезах смотрели люди, как в огне пожарищ гибли плоды земли, выращенные мозолистыми руками.
Пожар охватил колхозные постройки, перекинулся на высокие стога прошлогодней соломы. Яркое зарево осветило затерянные в полумраке дворы, хаты, одинокие фигуры людей, от которых падали косматые тени, длинные и черные, словно привидения. Ветер на лету подхватил горящую солому и остервенело швырял ее тяжелыми пригоршнями в ночную степь.
А на разбитых дорогах клубилась пыль. К днепровским переправам беспрерывно один за другим тянулись беженцы, гнали скот, ехали или шли пешком. Немцы не бомбили — просто они расстреливали людей из пулеметов. Выходили из-под солнца самолеты, и черные кресты теней быстро проносились над полями, опускались на дороги…
Ревели в селе недоенные коровы, лаяли собаки. Высокие столбы дыма чудовищными кустами поднимались над селом; и так до тех пор, пока из них не выбивались красные языки пламени. На огородах бегали поросята, нарочно выпущенные из фермы, по всему селу разбрелась скотина…
Едва железнодорожный эшелон с эвакуированными женщинами и детьми остановился на станции, как на него с пронзительным свистом стали пикировать появившиеся из-за облаков «юнкерсы». От самолетов сразу отделились темные точки. Увеличиваясь на глазах, они с нарастающей быстротой бешено неслись к земле, а потом выше островерхих тополей выросли черные тучи взрывов. Когда дым рассеялся и пыль осела, на месте вагонов в огне корчились железные остовы.
Как только из Бушева, Синявы, Ракитного отошли последние воинские части, раздался глухой взрыв: высоко в воздух взлетел железнодорожный мост через реку. На нефтебазе открыли цистерны. Бензин, керосин длинными ручейками стекали прямо в речку.
Наступила тревожная, в зловещих заревах ночь. Никто не спал. До самого утра вокруг пылало небо, красные языки пламени видны были далеко в степи. В огородах, садах, возле домов рыли ямы: люди прятали все, что еще можно было укрыть.
А через село отходили последние солдаты… Последние!.. Хотелось выбежать на улицу, остановить их и громко крикнуть:
«Не уходите! Куда вы? А как же мы?»
Утром из орудий и пулеметов фашисты обстреляли село, а в полдень по улицам прошли первые вражеские танки.
Сворачивали во дворы, заезжали в сады, крушили груши, яблони — маскировались.
Открывая люки, фашисты вылезали из бронированных укрытий и быстро расползались по домам, как саранча.
Послышались первые грубые слова на ломаном русском языке:
— Матка! Яйки, млеко, давай, давай шнеллер!..[2] По главной улице автоматчики провели троих тяжелораненых красноармейцев.
Визжали поросята, кудахтали куры; немцы шныряли по дворам и по сараям — охотились за живностью. Повсюду раздавались короткие автоматные очереди.
ПЕРВЫЕ ДНИ
К вечеру Володя пробрался на луг нарвать травы — второй день кролики в клетке некормленые. Вдруг в густых кустах, чуть ли не у самой воды, он заметил — что-то чернеет…
Осторожно раздвинул ветки и вздрогнул. Там лежал мужчина. Густая рыжая щетина, взъерошенный чуб, болезненный блеск глаз. Высохшими, потрескавшимися губами он едва прошептал:
— Не бойся, мальчик…
Володя пристально вглядывался в обросшее лицо. Мужчина показался ему знакомым.
— Принеси мне что-нибудь поесть, — попросил он.
— Я мигом! Только вы подождите здесь, — ответил мальчуган и исчез в кустах.
Только по дороге вспомнил, где он видел этого человека. Ну конечно же, в школе! На уроке немецкого языка сидел инспектор. Как раз напротив Володи. Что-то торопливо писал. Володю сзади вдруг подтолкнули:
«Это не инспектор. Это учитель из соседнего села».
Володя мельком взглянул на инспектора. А тот, приложив палец к губам, так тепло и приветливо ему улыбнулся, что мальчик смущенно опустил глаза…
Володя не заставил себя долго ждать. Он принес горшок каши и добрую половину буханки хлеба.
— Ешьте на здоровье!
Дрожащими руками «инспектор» взял из рук мальчугана горшок и жадно принялся за еду. Растерянный Володя отвернулся.
Перекрывая крики, рев моторов, треск автоматов пьяные немцы горланили:
Вир воллен нах райтен,
Гиммер вайтер унд вайтер нах остен,
Юбер ди грюнен визен унд фельдер,
Дас зинд унзере хоер тройме!
Володя снова посмотрел на «инспектора». Тот уже вытер губы и старательно выбирал крошки хлеба из бороды.
— Что они поют? — спросил Володя.
— Старинную немецкую песню. Первый раз я услышал ее еще в восемнадцатом году, когда на Украину пришли кайзеровцы. В ней поется о том, что немцы должны во что бы то ни стало завоевать Восток:
Будем мчаться на восток,
Дальше мчаться на восток,
По лугам и по полям,
Наша цель, мы знаем, там!
На противоположном берегу послышались шаги, шелест травы, приглушенная немецкая речь.
Володя с «инспектором» припали к земле.
— Здесь глубоко? — спросил хриплый голос.
— Купаться не опасно, — ответил другой. — Места мне знакомые. Я здесь работал землемером до тридцать девятого года, выполнял задание самого адмирала Канариса. Так что речку эту я хорошо изучил для будущих танковых переправ. А потом пришлось убегать в фатерланд[3].
Раздеваясь, немцы продолжали, наверное, давно начатый разговор.
— Туземцы должны понимать, что Украина завоевана немецкой кровью, — сказал тот, с охрипшим голосом. — Я всегда помню слова фюрера о том, что реорганизация Востока останется фантазией и утопией до тех пор, пока не осуществится политика колонизации и массового истребления местного населения.
— Да, да, именно так, — подтвердил другой немец. — Я знаю эту страну, и в дальнейшем вы будете иметь возможность сами убедиться, что все советское население насквозь пропитано коммунистическими идеями, что этих, как вы удачно выразились, туземцев нельзя ни в коем случае считать своими союзниками.
— Украинское население далеко не полноценно. У него нет никакого права чувствовать себя хозяином земли. Образование сведем до минимума. Перед великим походом, как справедливо инструктировал нас Пауль Даргель, надо взять за правило превратить Украину в территорию для полного заселения немецкими крестьянами. Даже немцам, тем, которые звонят во все колокола по поводу расцвета других национальных культур, место только в концлагере. И здесь не должно быть никаких уступок! Мы будем этими людьми управлять, заставим их работать на нас так, чтобы они помогли нам выиграть войну. Мы завоевали Украину для того, чтобы дать Германии необходимое для нее жизненное пространство и источник продовольствия.
— Вы были на совещании, которое проводил Кох?
— Да, — охотно подтвердил «землемер». — Светлая голова, государственный деятель, гений которого предвидит будущее. Я слушал его речь и приехал сюда выполнять его указания. Украина для нас — главный поставщик не только продовольствия, но и рабочей силы. Это мост на Кавказ и добрая житница для рейха.

Володя ничего не понял из разговора, но когда ему все подробно объяснил «инспектор», мальчуган глубоко вздохнул и задумался.
На том берегу немцы уже выкупались. Оделись и закурили…
— Вы здесь надолго задержитесь?
— Нет. Для проведения в жизнь политики, о которой мы сейчас говорили, я в это село привез хорошего хозяина. Шефом у туземцев будет герр Кнейзель. Через несколько дней мы соберем большую сходку и выберем старосту. Пускай довольствуются новым самоуправлением.
— Помните: никакой сентиментальности. В ближайшее время переловим коммунистов и немедленно всех, до единого человека, уничтожим. Местное население должно содрогнуться от страха. Потом будем творить с ними все, что угодно…
…Утром снова пришел Володя на старое место. В кошелке лежали бутылка с молоком, кусок хлеба, прикрытые сверху травой.
Но в кустах никого не оказалось. Под лопухом нашел вымытый горшок и ложку…
Побежал назад, в село. И видит — по улице немцы ведут «инспектора»… Спрятался за забором, а когда «инспектор» и немцы прошли мимо него, мальчуган, спотыкаясь и глотая слезы, виновато побрел вслед за ними.
«Инспектора» вывели на опушку леса. Там уже в канаве сидела жена капельмейстера с маленькими детьми, которые испуганно жались к матери. Под деревом с автоматами наизготовку стояли фашисты.
Володя присел за кустом.
Старший, с рыжими волосами и веснушками на руках, с засученными рукавами, уставил водяные глаза на «инспектора», расстегнул кобуру, вытащил парабеллум и угрожающе спрашивал, будто подтверждал:
— Коммунист?
«Инспектор» молчал, презрительно глядя палачу прямо в глаза.
К гитлеровцу подошел переводчик в гражданском, захлебываясь, сказал:
— Герр зондерфюрер, ер ист коммунист![4] — и ударил «инспектора» ногой в живот.
«Инспектор» охнул, схватился руками за живот… Потом выпрямился и бросил в лицо предателю:
— А ты, мерзавец, за сколько продал родную землю? За пачку сигарет? За кусок сала, который фашисты у наших детей отняли и тебе, как собаке, бросили?
Немец взвел парабеллум и, не целясь, трижды выстрелил в «инспектора».
Вскрикнула супруга капельмейстера, заплакали дети.
Переводчик кивнул в сторону женщины с детьми и сказал зондерфюреру:
— Муж у нее коммунист, капельмейстером работал в селе…
— Значит, все из одного теста, — брезгливо сплюнул зондерфюрер. — Уничтожить поганое племя!
Небритое лицо палача покрылось багровыми пятнами.
Женщина упала к ногам зондерфюрера, умоляла пожалеть детей.
Тот сапогом оттолкнул ее, вскинул пистолет и прицелился… Три коротких выстрела. Три мертвых тела.
Немцы молча пошли в село. Только пожелтевшая трава шелестела под их ногами.
В канаве, под колючей дикой грушей, навсегда остались лежать четыре трупа. Набежала тучка и тенью своей прикрыла их тела.
Из степи дул сухой ветер, перемешанный с горьким запахом полыни.
А Володя лежал под кустом и горько плакал.
СХОДКА
Не на шутку перепуганные крестьяне выходили на улицу и молча шли по направлению к колхозному двору.
Униженные, печальные, собирались они на сходку. «Что нас ждет, как будет дальше?» — думал сейчас каждый про себя. Мужчины дымили махоркой, и легкое облачко одиноко висело над толпой. Разговаривали крестьяне полушепотом, осторожно.
Со стороны конторы появилась группа людей. Сверкая стеклами пенсне, впереди важно шагал высокий худой немец в военной форме. Он то и дело покачивал сплюснутой головой на длинной, как у индюка, красной шее.
За ним, на почтительном расстоянии, шел белокурый молодой немец среднего роста, затем трое военных, а последним — местный, бывший лесник Божко.
Высокий, в очках, гитлеровец достал из кармана бумагу с текстом и принялся читать на украинском языке:
— «Жители села Ольшаницы! Немецкое военное командование поздравляет вас с освобождением! Желанный и долгожданный час наш пробил! Среди вас распространяются вражеская информация и провокационные слухи. Агенты большевистской пропаганды не дремлют. Много красных комиссаров, коммунистов и комсомольцев специально оставлены для подрывной деятельности. Я вам обещаю, что все они в конце концов будут разоблачены с помощью сверхточных, хорошо продуманных действий особо важных служб армии фюрера, которые имеют большой опыт работы. Вы в этом скоро сами убедитесь. Для вас остался один-единственный правильный путь — покориться великой Германии. Другого выхода нет… Немцы проливают кровь, а вы будете только работать на них. И мы имеем право требовать это от вас. Кто будет уклоняться от трудовой повинности, тот — дезертир, наш враг и потому заслуживает самой суровой кары. Вот почему сегодня каждый обязан спросить у себя: «Выполнил ли я перед историей свой долг?» Для вас первая обязанность — работа. Кто не умеет — научим! Мы установим новые законодательства. Для ведения такого порядка к вам назначается шеф — пан Кнейзель. — И он показал на белокурого молодого немца. — Кроме того, для строгого поддержания нового порядка, охраны железной дороги и борьбы с врагами остаются здесь в селе две роты мужественных и смелых солдат фюрера».
Володя выбрался вперед.
Закончив читать, гитлеровец отошел в сторону. Другой немец объявил:
— Слово имеет говорить наш друх, герр Бошко.
— Кто-кто? — волной прокатился гул.
Переводчик поднял голову, хрипловатым голосом бросил в толпу:
— Пан Крайсляндвирт сказали, что будет выступать Божко! — и, повернувшись к нему, подбодрил: — Смелее!
В соломенной шляпе, в праздничном шевиотовом костюме Божко с виду чем-то напоминал простого сельского учителя. Но уже первые слова насторожили людей.
— Господа! — начал Божко так, словно взял и бросил камень в толпу. — Великая Германия кровью лучших своих сынов завоевала вам желанное освобождение. Солдаты фюрера протянули вам руку дружбы и помощи…
— Протянут еще и ноги, — услышал Володя шепот деда Михаила и тут же протиснулся к нему поближе.
— Украина склоняет голову над свежими могилами своих освободителей — немецких солдат, — размахивая руками, продолжает Божко. — Германия и ее фюрер — вот залог нашей победы и справедливости, свободы и благоденствия. На восток идут стальные полки непобедимой немецкой армии, которая принесла вам волю и счастье. Поэтому помогайте кто чем может освободительной армии великого рейха…
Божко внимательно окинул толпу, помолчал и громко произнес:
— Господа! До тех пор, пока солнце ярко светит над нами, большевики сюда больше не придут. Выше голову! Скоро у всех будут закрома, полные хлебом. И у всех у вас повысится интерес к жизни и поднимется трудоспособность. Разве вы забыли, как над нами издевались? Мы не имели никаких прав, ни свободы, ни привилегий! Горько было смотреть и слышать, как в школах калечили наших детей — учили их языку москалей, насаждали свои порядки, ненавистную нам культуру.
— Неправда! Вранье! — выкрикнул кто-то из толпы. — Ты лучше расскажи, что будет!
Над площадью нависла тишина.
Божко покраснел, растерянно посмотрел на немцев, которые не понимали, что произошло, замигал глазами, развел руками и сказал:
— Люди мои, родненькие, это невозможно предвидеть, — и, вконец смутившись, отошел в сторону.
Вперед вышел Кнейзель.
— Честный труд, — осторожно начал немецкий офицер, — спокойствие, дисциплинированность, уверенность в полное доверие немецкой власти — это пока что единственная возможность отдать дань благодарности тем, кто вам даровал волю. Раздел земли теперь невозможен. Колхозы превращаются в общинные хозяйства, в общинные дворы. Немецкая власть назначит вам новых руководителей. Право на частное владение получит каждый, кто честно отнесется к труду. Под единым немецким руководством необходимо объединить все силы, чтобы вовремя закончить жатву и быстро провести осенний сев. Кто будет прятать хлеб, те являются нашими врагами и пособниками партизан. Все! Я кончил.
— Тьфу! — в сердцах сплюнул дед Михаил.
Сходку «закрыл» военный комендант.
— Кто есть вы? — громко, не то спрашивая, не то утверждая, сказал он. — Крестьянски тольпа! Какой скушны, какой хмуры! Нада виселый быть, то есть улибка! Нада иметь виселый лицо, виселый глаза! Да! Ми вам… — подыскивая нужные слова, военный комендант на минуту замолчал, — ми вам… делаем освобождение, ми вам даем работ. За ето ви дольжон нас уважать, помош нам! Виселый нада! России хофорят посьловиц: «Висели тела, висели дух!» Зоо! Так! Мы вас путем люпить, ошен корошо, много люпить путем!
— Что он сказал, дедушка? — не понял Володя.
— Лупить нас будут…
ПАНСКАЯ «ЛАСКА»
Уже откатился фронт далеко на восток грохотом танков, автомашин, мотоциклов. А над дорогами долго висела густая пыль… Нечем дышать, трудно стало думать. На улицах появились полицаи — с повязками и винтовками наперевес.
На фронт беспрерывно, друг за другом, шли эшелоны. И на всех надписи, рисунки. На одном вагоне нарисован длинный ряд виселиц с телами красноармейцев. А под рисунком коротко и ясно: «Нах Москау!»[5]
Из дверей выглядывали молодые, улыбающиеся лица солдат.
Железную дорогу немцы особенно тщательно охраняли. Здесь стоял сто шестнадцатый шуцманский[6] батальон. Для усиления охраны в ночное время немцы мобилизовали стариков с посохами.
Всю ночь стоял шуцман с карабином, а через сто метров — дед. Старикам на вооружение выдавали разве что свистки. А когда после бессонной ночи, усталый, голодный, приходил домой охранник, старуха ставила на стол горячий кулеш, подавала ложку:
— Ешь, старый сверчок!
Фашисты были уверены: здесь не то что партизаны — мышь и та не проскочит. И действительно, ни одна мышь не пробежала, а возле Корсуна перед самым эшелоном однажды сверкнул огненный взрыв чуть ли не до низких, осенних туч и полетели под откос тяжелые вагоны с немецкой техникой. Поговаривали, что кто-то из дедов-охранников подложил мину под рельсы. Возможно, и так: свидетелей на такие дела не зовут. А семерых стариков, которые с посохами «помогали» шуцманам нести охрану на том участке, немцы после допроса увезли под Богуслав и расстреляли на рассвете. С тех пор уже никого из местных жителей больше не брали на охрану железной дороги.
Казалось, землю окутал плотный, непроницаемый мрак. Не слышно совсем орудийных выстрелов, никто с самолетов не бросает листовок. А немцы хвастают:
— Москва — капут, Ленинград — капут! Хайль Гитлер! Володя рано ложился спать. Лежал с открытыми глазами.
Припоминал школу. Учительница Мария Тодиевна была у них с первого класса. И сейчас Володя видит — стоит она возле доски, пишет мелом, а класс хором повторяет за ней:
«Мы не ра-бы!»
До сих пор в ушах Володи звенит этот детский хор: «Рабы не мы!» А потом, уже во втором классе, читала Мария Тодиевна рассказ о мальчике, который не предал своей Отчизны, не выдал буржуям военной тайны, и за это они его расстреляли. Жалко, что мальчик не дожил до победы… А как он верил в нее! Похоронили пионера, вспоминает Володя этот рассказ, на зеленом холме, вблизи Синей Реки. «И поставили над могилой большой красный флаг…» — слышит Володя добрый голос Марии Тодиевны.
Уже в четвертом классе, в последнем предвоенном году, прочитал Володя книгу о Метелице. Есть у Володи свой тайник. Там, на чердаке, как вынуть кирпич из душника и просунуть руку чуть вправо, — там лежат две книжки, завернутые в старую материю: о Метелице и «Школа» Гайдара. Он иногда тайком забирается на чердак и возле слухового окошка жадно читает…
Однажды в погожий осенний день вышел Володя за переезд. Безлюдно на улице. Даже куры на дороге не копошатся. А те, что чудом уцелели от немцев, припрятаны подальше от ненасытного глаза. Одни только воробьи чирикают на березе, да сорока стрекочет на груше.
Смотрит мальчишка, а по улице от пруда медленно возок катится.
Только вместо лошади в оглобли впряжен мужик. Тяжело дышит, лоб вспотел и сам весь от натуги красный.
Где он его видел?..
И припомнил Володя далекое довоенное лето. Солнце садилось за горизонт. В саду мать готовила ужин, отец что-то мастерил возле сарая, как вдруг неожиданно на переезде появился этот самый человек. Зашел во двор, поздоровался. Отец его, конечно, и раньше знал. Он из соседнего села. Когда-то на заработки ходили вместе. Мать пригласила всех ужинать. А потом он долго о чем-то разговаривал с отцом. Отец называл его запросто — Николаем. Тот почему-то не смотрел отцу в глаза. Будто стыдился.
Сквозь сон Володя слышал, как волновался отец и за что-то здорово ругал Николая. Кричал, что никому не позволит поносить Советскую власть. «После твоего ареста за убийство супруги, — уже тихо говорил отец, — государство позаботилось о твоих детях, выучило их…»
И еще запомнил Володя, что у этого самого Николая на левой руке была татуировка.
«Почему он оказался здесь? Зачем воз тащит?» — удивился мальчишка.
Из соседнего двора вышел на улицу дед Михаил. Внимательно оглядел сначала возок, потом Николая.
Володя подошел поближе.
— Ты куда, мил человек, едешь? Тот остановился.
— Домой, дед. Освободили нас от коммуны, теперь каждый сам себе хозяин! Свобода пришла к нам!

— Свобода, говоришь? — дрожащим от негодования голосом спросил дед. — Какая ж это свобода? Свобода самому вместо коня в подводу впрягаться?
— Ты, дед, не тово, не очень-то… Поди, сынки твои — коммунисты да и сам больно разумный. Освободители коня еще в Житних Горах взяли. Им он больше нужен. Расписку дали. Возьмут Москву, не одного — пару возвратят. А я пока и так обойдусь. Будет и нам добро.
— Будет нам добро под самое ребро! — сердито ответил дед. — А для чего тебе тот воз? Где ты его взял? — допытывался старик.
— Как — для чего? В хозяйстве все пригодится. Под Житомиром налетели немцы на цыганский табор… Что там было!.. Смотрю — в стороне лошадка, запряженная в возок, пасется. А меня как раз из плена домой отпустили. Немцы цыган поубивали, а чего же я пешком пойду, коли лошадь есть. На подводе я и добрался до Житних Гор. На возу — перина, ехал, как пан… Скоро и землицу дадут. Хватит, поиздевались, взошло и наше солнце. А я вижу, вы солнцу не рады? — угрожающе спросил он.
Из-под густых нахмуренных бровей с ненавистью смотрел старик на Николая.
— Я сейчас ночи рад… падали не вижу!
— Да за такие слова… — прошипел Николай, оглянулся вокруг и вдруг увидел возле переезда полицая. — Пан полицай! — заорал на всю улицу.
Полицай снял с плеча карабин, подошел важно, бросил Николаю:
— Документы!
— Пан полицай, — сразу сник Николай, — вот он, — показал он пальцем на деда, — непристойные слова… А я — ваш…
— Все, вишь, сейчас наши! Документ давай! — сказал полицай, и его рябое лицо покраснело от гнева.
Николай взял старую засаленную шапку, достал оттуда бумажку и протянул:
— Пожалуйста, пан полицай.
Тот посмотрел, молча размахнулся и ударил Николая в ухо.
— За что?
— Пленный? А кто тебе разрешил добро немецкое растаскивать? Кто, я спрашиваю! Ты что, завоевал его? За тебя кровь проливают, чтоб освободить тебя, а ты чем платишь? Уже подводу трофейную крадешь? Это тебе не при Советах. Я тебе потяну! Вот такие же, как ты, злыдни, в тридцатом году из нашего отцовского двора всё порастаскали, а нас на Соловки сослали!
— Пан полицай! — жалобно всхлипнул Николай. — Моего дядька тоже раскулачивали. Я и сам в тюрьме сидел. Я же вас двадцать пять лет ждал!
— Ждал, говоришь? Ждал, чтоб воровать, чтоб обманывать немецкую власть?! Впрягайся!
«Освобожденный» еще раз всхлипнул:
— Я же вас люблю…
— Любишь? — засмеялся полицай. — Этого мало. Надо, вишь, чтоб мы тебя полюбили.
Николай надел шлею, поднял оглобли и стал трогаться.
— Стой! Куда едешь? Не туда! — закричал полицай. Сел на возок, рукой пощупал солому, вытащил кнут. — Поедем в полицию, нам в самый раз такой возок нужен. И начальник приехал, пан Сокальский. Этот мигом разберется. Но, детка!.. — и ударил ременным кнутом по спине «освобожденного». — А с тобой, — сказал деду, — мы еще разберемся! Ты у меня давно на примете. Тебе так не пройдет, самому начальнику доложу. Языкастый очень!
— А они ничего не говорили, — вмешался Володя.
— Что-о?.. — заревел полицай.
— Ваш конь врет! — не испугался Володя. Подбежал к возу и к полицаю: — Дядя, дядя! Можно с вами покататься?
— Пионерия! — замахнулся полицай. — Скоро и до вас очередь дойдет!
КРИНИЧКА
Шел ли дед Михаил на луг или в лес — все мимо железнодорожной будки, в которой жил Володя. Не один раз приглашал он с собой парнишку:
— Пойдем в Городище. Хорошо там! Кукушка кукует. Нагадает, сколько тебе на свете жить полагается. Удод голос подает. В траве коростель трещит. В болоте лягушки квакают, вьюны шуршат. Травы пахнут, цветы, водяной бугай гудит… Пойдем!
— А бугай не бодается? — поинтересовался как-то Володя.
— Чего бы он бодался? — ласково улыбается дед. — Это ж птица такая,
— А вы, дедушка, не боитесь лешего?
— Лешего? Нет, не боюсь. Он добрый. И водяной добрый. Сидит себе в воде, в болоте, покрытый ряской, и пузырики от нечего делать пускает — вишь, душно ему. Пойдем, покажу.
— Мать говорила, чтоб я далеко от дома не уходил.
— Жаль… Ну, я пошел. А ты жди. Гостинца тебе принесу. У Володи дел много. Утром мать велела гусеницу на яблоне пособирать да в хате прибрать…
А когда сделает все, что мать приказала, тогда уж можно и за свое… Еще вчера разорил осиное гнездо. Надо же сегодня посмотреть, что теперь осы делают. Придется сбегать к копанке[7], туда, к старой ольхе, побросать в нее комья. В зеленой воде много хвостатых головастиков плавает…
Утром, когда солнце еще только подымалось и нежно-розовыми лучами серебрило темные морщинки на крутых глинистых обрывах, выбегал Володя по росистой траве на берег. Вглядывался в мокрый песок: на нем виднелись следы маленьких ножек. Дед говорил: «Это, внучек, следы русалки». А на ветвях ивняка висели мокрые волосы от русалкиных кос. Володя садился у берега и подолгу глядел на воду. И казалось ему, что из тихой и прозрачной глубины смотрят на него синие, как ранняя роса, глаза. Русалочьи глаза…
А разве можно не заглянуть на сенокос, где в высокой траве звенят и поют острые косы, сверкая на солнце серебром!
В полдень Володя выбегал на леваду к молчаливым ольхам и, закрыв глаза рукой от солнца, смотрел на засаженную мохнатыми вербами дорогу, что убегала куда-то вдаль.
Из-за кустов тихо выходит дед Михаил. Бежит навстречу ему Володя и кричит:
— Дедушка, что принесли?
— Принес, сынок, принес… Бери! — и протягивает Володе несколько темно-коричневых бархатных камышей.
Потом из-за пазухи достает свирель. Пахнет она удивительно нежным запахом свежей молодой коры, а когда на ней заиграешь, то остается во рту какой-то чуть горьковатый привкус.
— И еще я тебе что принес… Смотри!
И снова лезет дед за пазуху. Достает какую-то чудо-птичку: серенькую, с желтым длинным клювом.
— Помнишь, я тебе когда-то дал старое гнездышко, словно варежка? Чтоб ты знал: вот эта птичка делает такие домики.
Володя взял из рук дедушки птичку.
— Не задуши, осторожно… — предупреждает дед. — Видишь, маленькая, а какие гнезда диковинные вьет — на ивняках, у самой воды. Никак к нему не подберешься. Сидят в нем птенчики и качаются на веточке… Ну, подержал ее немного, теперь отпусти, пускай улетает. У нее там детки маленькие остались, поди, ждут…
Володя разжал пальцы, и птичка, пропищав, взмахнула крыльями, полетела как-то немного косо в сторону и вскоре исчезла в густой траве.
— Завтра дождь будет, — решает дед.
— Откуда вы знаете?
— Воробьи в пыли купаются, и пчелы сильно гудят.
Домой возвращались вместе. Володя впереди, дед за ним.
Останавливались возле кринички. На огороде Володя вырывал капустный лист, Вставал на колени и зачерпывал им холодную ключевую воду.
— Отсюда все пьют, — говорил дед. — И старые, и малые, и птицы. А вода все равно остается такой же свежей и прозрачной. Потому что вот там, неподалеку от старой ольхи, из-под земли небольшой ключ бьет. Он-то и питает настоящей водой криничку.
Присаживались с дедом отдыхать возле кринички. Тихо вокруг. Только в густой траве тысячами звонких голосов беззаботно стрекотали кузнечики и где-то над самой рекой раздавалось радостное щебетанье ласточек…
Сейчас все это Володя припоминает, как дивную сказку.
Теперь не ходит дед Михаил в лес. Стерегут лес полицаи с немцами, никого туда не пускают — партизан боятся.
А из кринички люди воду не пьют. Она для шуцманов, тех, что железную дорогу охраняют, да еще на немецкую кухню ее ведрами носят. А людей прогоняют… Это из нее Володя приносил Гайдару воду. «Где он?» — часто думает Володя. Достает из тайника «Школу» и снова видит Аркадия Петровича возле пулеметной башни на бронепоезде. Жалеет Володя, дураком себя называет: «Если бы хорошо попросил, то, может, взяли бы на бронепоезд. А сейчас жди… Говорил Аркадий Петрович: «Твое время придет!» Чего ж оно не идет?»
И стало больно Володе оттого, что нельзя побежать к криничке, в лес, нельзя пойти в школу: теперь там уже вражеский штаб.
Однажды забрел Володя за болото, под старую, покривившуюся ольху и вспомнил рассказ деда Михаила о родничке.
А что, если воду в болото отвести? Заилится криничка. А отчего, никто, кроме Володи, не знает. Чтобы шуцманы из кринички воду не брали, потому что из нее Гайдар пил! А придут наши — они обязательно с дедушкой раскопают криничку, подведут родничок. Пускай люди пьют, пускай поклоняются той криничке…
Медленно побрел Володя к будке, в погребе отыскал лопату и снова вернулся к ольхе. Торопился, то и дело прислушиваясь, не идет ли кто. Следы присыпал прошлогодними листьями, пожелтевшей травой.
Словно на крыльях летел домой Володя: «Ага, добрался до вас, проклятые шуцманы!..»
Он никому об этом не скажет. Разве только что деду Михаилу.
ЛИХАЯ ИСКРА
Дед Михаил лежал на печи, глядя с тоской в маленькое окошко. Вдруг резкий стук в дверь.
Покрякивая, нехотя слез дед с печи, бережно разгладил широкую окладистую бороду и неторопливо вышел на крыльцо.
Возле ворот стоит кляча, запряженная в двухколесный возок, а полицай с карабином — под окном.
— Поросенка зарезали, дед? — спросил он. — А на свеженькое и не зовете…
— Разве мало тут вашего брата ходит! Не звал тебя в гости, а ты сам по старые кости.
— Да, придется побеспокоить. Приехал я, дед, не грабить, а обыск делать, — таким же тоном отвечает ему полицай.
— А хотя бы и грабить! Я не боюсь. Нет ничего… Мыши одни, да и те скоро от голоду подохнут.
— А корова?
— Была здорова. Немцы зарезали. Вон там под грушей их кухня полковая стояла, там ее, беднягу, и зарезали, там и сварили. Всё постояльцы съели, облизали пальцы и портрет Гитлера на стену повесили.
— Ну хватит, дед, лясы точить… Где сало?
— Было, да пропало…
— Поросенка, говорят, смалили. Правда?
— Правда.
— А где разрешение? — не отставал полицай.
— А почему я на своего поросенка да еще и разрешение буду брать? — не уступает дед.
— Кожа немцам нужна. А вы вредите, убытки наносите великой Германии… Оно, конечно, смаленое вкуснее, но свиная шкура, может, на фронте нужна, — старается объяснить полицай.
— За шкуру не знаю, а вот тебе надо быть там, только на другой стороне. А я вижу, что ты свиную шкуру ищешь, а свою бережешь.
— Что ж поделаешь, если так обернулось. Не хотелось в лагере от голоду умирать, — смутился полицай.
— Значит, за харч продался?
— Оставьте, дед, время покажет. Я свою дорогу обязательно найду.
— На чужой только не задерживайся. Да смотри, чтоб не было поздно…
— Обыск делать не буду. От начальника, пана Сокальского, получил приказ привести вас в полицию. Посмотрите, может, что есть недозволенное — припрячьте, не подведите меня. Я подожду вас на улице.
Молча собрался дед Михаил.
В дороге полицай оправдывался, проклинал свою жизнь, немцев, но дед разговор не поддерживал. Густые седые брови, как острые выступы соломенной крыши, грозно нависали над глазами.
В полиции деда привели в кабинет следователя Божко.
— Добрый вечер, дед! — приветливо встретил его Божко. Старик знал Божко давно. Из одного села были, земляки…
Ответил сердито:
— Добрый не нам, а вам, панам, немецким псам!
— Вы, дед, играете с огнем! — вспыхнул Божко.
— Разве ты не слышишь, Иван, как стонет народ от страданий? А все через вас! Хоть и темно в вашей комнате, но вижу в ней палача. За что продал Отчизну, сукин ты сын?! Ты что, плохо жил при Советской власти? — не выдержал дед Михаил и сильно стукнул посохом об пол.
— Ну и что? Разве я хорошо жил при Советах? Просто был лесником. А сейчас следователь! А нам все равно, кто будет управлять нами, только бы хозяин был добрый и хорошо платил. А вы, дед, — божевольный!
— Был и остался вольным! А ты, как я посмотрю, переменил одежду, фашистский мундир напялил. Но ты не спрячешь под ним свою черную душу. Черной она была, черной и осталась!
— Дед, поймите меня, мы ж земляки, можно сказать, почти родственники!
— Твои родственники — сычи. Продажная ты тварь! Ты мне ни брат, ни сват, а народу моему — кат[8]. С немцами держишь совет? Придет время — заставят держать ответ, — смело выложил дед Михаил.
— Я, дед, на вас не обижаюсь. Старый вы, а разуму не больше, чем у ребенка. Недалек тот час, когда вы на тот свет отправитесь.
— Хватит, прожил семьдесят лет. Человеком был, человеком и умру. Зато ни я, ни дети мои совесть свою не потеряли. А вы долго барствовать не будете. Так и знайте: выйдет скоро солнце из-за тучи, не миновать вам кары…
— Не своими словами говорите, дед. Сынки-коммунисты поучают. Доберемся и до них! — угрожающе продолжал Божко.
Скрипнула дверь, и в кабинет вошел Сокальский.
— Слышу через стену — кто же это такой разумный?.. А, это тот, что свиней смалил. А я за таких, как ты, должен упреки от шефа выслушивать?!
И вдруг Сокальский размахнулся и ударил кулаком по лицу деда.
Охнул старик и упал.
— Воды! — крикнул Сокальский.
Когда дежурный, рябой полицай, с ведром зашел в кабинет, Сокальский брезгливо показал пальцем на деда, потерявшего сознание, и раздраженно сказал:
— Лей! Быстрее, пока не сдох!
— Михаил Кононович, — обратился Божко к Сокальскому, — вы тут сами разберитесь, а я тороплюсь в город.
— Что, земляка боишься обидеть? — ехидно сощурился Сокальский.
— Вы же знаете — у меня встреча с человеком, которого посылали в лес, — спокойно ответил Божко.
— Ну ладно, идите, идите… Божко поспешно вышел из кабинета.
Когда старик раскрыл глаза, Сокальский насмешливо заметил:
— Имей в виду, мы не только на тот свет умеем отправлять, но и возвращаем оттуда! Это тебя, так сказать, в разведку туда посылали. Рассказывай, как там?
— Придут наши, подлец, сам узнаешь! — прошептал старик.
— Огня! — закричал Сокальский рябому полицаю. — Жги ему бороду, чтоб помнил, как свиней смалить, — и крепко сжал старика за горло…
Измученный, с обгоревшей бородой, с волдырями на лице, лежал дед на полу.
— Куда его? В камеру? — сопел полицай.
— На кой черт! — ощетинился Сокальский. — Лишние хлопоты! Оттащи его и брось в канаву. Отойдет — пускай живет; а нет — туда ему и дорога! А в селе увидят, как мы умеем допрашивать, и больше никто не посмеет идти против нашей воли. Это же ты мне о нем донес? — спросил он рябого полицая.
— На прошлой, вишь, неделе, когда я к вам приехал на возку, запряженном Шагулой, — угодливо уточнил полицай.
Сокальский вдруг вспылил:
— Ты забудь о Шагуле! Понял? Забудь! Имей в виду: если хоть раз услышу от тебя эту фамилию, ты навсегда забудешь человеческую речь. Никакого Шагулы нигде и никогда не было!
Рябой только глазами захлопал.
— Ну, был он или нет, я тебя спрашиваю?
— Никакого Шагулы не было, нет и не будет!
— Вот так вернее! — бросил Сокальский и быстро вышел из кабинета.
«Кем же ему приходится этот Шагула? Сват или брат?..» — обиженно думает рябой полицай и никак не может взять в толк, почему же все-таки нельзя о нем вспоминать…
В тот день поздно вечером возвращался Володя с поля: погонщиком работал в общинном хозяйстве — немцы заставили. Услышал тихий стон, доносившийся из канавы. Володя осторожно пробрался сквозь заросли и в бледном сиянии месяца рассмотрел человека. Приблизился — и не сразу узнал:
«Дед Михаил?.. А почему он без бороды?..»
— Что с вами, дедушка? — испуганно спросил Володя.
— В гостях у полиции был… — едва выговорил старик. — Помоги мне подняться. Хочу в своей хате умереть. Видишь, что они с нами вытворяют… Лихая искра все поле сожжет и сама исчезнет…
Опираясь на Володино плечо, дед Михаил с трудом добрался до дому.
— Давайте, дедушка, я вас в хату проведу, — предложил Володя.
— Спасибо, сынок…
Мелко дрожало истощенное тело деда Михаила. И хотя был он укрыт кучей разного лохмотья, хотя и лежал он на печке, не грела старика кровь: ее было мало да и печь была холодная.
— Будьте вы прокляты на веки вечные… — чуть слышно шептал дед опаленными губами. — Не будет вам никакого прощения.
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЛЕНА
Высоко в небе прокурлыкали журавли. Острым клином тянулись они в теплые края. Рано утром на траву и пожелтевшие листья сначала выпал серебристый иней, а потом задождило. Тяжелые тучи густо заволокли небо, моросил мелкий холодный дождь.
Часами Володя сидел возле окна. Капли воды, как слезы, медленно стекали по стеклу. Иногда они останавливались, словно раздумывали над чем-то, но, точно стряхнув с себя забытье, быстро срывались с места и торопливо убегали дальше. Смотрел Володя в окно, долго смотрел, а мысли его были где-то далеко; за хмурым высоким лесом, за голыми, заброшенными полями, за дождливым, покрытым серым ненастьем небосклоном.
В полдень под окнами прошаркал полицай с карабином. Стукнул прикладом в дверь и пошел дальше. Выскочила мать в сени и сразу же вернулась в комнату, держа в руках какую-то серую бумагу.
— Полицай подбросил, — сказала мать и протянула Володе лист бумаги.
Взял Володя и начал читать:
— «…Всякого рода пособничество или помощь со стороны гражданского населения партизанам, раненым, парашютистам, окруженцам и тому подобным будет караться как партизанство. Гражданское население при появлении подозрительных лиц, агитаторов, большевиков и членов других групп обязано сообщить в ближайшую воинскую часть или в полицию. Комендант фон Рок, генерал пехоты».
К ночи поднялся сильный ветер. Бился в стекла, стонал, завывал в дымоходе. Яростно шумели деревья. Казалось, все потонуло во мраке.
Сквозь сон Володя слышал, как кто-то долго бродил под окном. Поднял голову, прислушался. До него донесся приглушенный стук.
— Мама! — позвал он тревожно.
— Что, сынку? — сонно спросила мать.
— Мама, проснись! Открой дверь, отец пришел.
— Что ты, сынок, бог с тобой! Отец наш уже помер. Володя встряхнул головой, прогнал сон.
— Мама, кто-то к нам просится…
— Спи, сынок, это ветер ветку качает, — а сама тоже голову приподняла, слушает: и в самом деле кто-то осторожно стучит в стекло.
— Кто там? — спросила испуганно мать.
— Свои, не бойтесь. Помогите мне…
Забилось сердце Ирины Ивановны. Бросилась к двери. Дрожащей рукой откинула щеколду.
Повеяло холодной сыростью, кто-то несмело переступил порог и, споткнувшись на ровном, упал. Едва произнес:
— Я пленный, с эшелона убежал… Застонал и умолк.
— Что с вами? — засуетилась в темноте мать. — Володя, побыстрее занавесь окно, надо огонь зажечь…
Занавесил Володя окно. Мать зажгла керосиновую лампу. Огонь ее осветил голые стены и узенькую темную скамью. В углу подняли голову тяжелые тени и неподвижно замерли на стене.
У самого порога лежал человек. В серой шинели, из-под пилотки на лоб выбивался темно-русый чуб. Лицо уставшее, суровое, с ярко выраженными чертами, точно высечено из серого мрамора.
Высохшие, словно пергаментом обтянутые руки его дрожали, пальцы касались пола, выбивая мелкую дрожь.
Молча бросились мать и сын к солдату, бережно перенесли на деревянный топчан.
У самого порога лежал человек.
— Как у него еще силы нашлись до хаты дотащиться? — прошептала Ирина Ивановна и завозилась возле печки — надо бы воды согреть.
Володя осторожно присел на край топчана и, приложив ухо к груди солдата, прислушался…
— Дышит.
Ирина Ивановна подбросила охапку соломы под чугунок и, повернувшись к сыну, тихо попросила:
— Сбегай к тете Марте, возьми полбутылки самогона… Растереть его надо.
— А если спросит, для чего?
— Скажешь, мать заболела: ноги ломает, встать сил нет. На компресс пусть даст…
На рассвете гость слабо простонал и наконец раскрыл глаза.
— Где я? — с трудом прошептал он пересохшими, потрескавшимися губами.
Ирина Ивановна наклонилась к нему:
— Не беспокойтесь, вы у своих… Володя, помоги подняться. Пускай человек помоется.
А сама подошла к печи, взяла чугунок с горячей водой и ловко вылила ее в эмалированный таз; потом нашла на печке обмылок, положила на скамью.
— Я выйду, а ты, сынок, помоги ему.

…Завтракали все вместе.
— Сержант я, — рассказывал раненый, — командир орудия. Воронин моя фамилия, из Тамбова. В плен попал под Кривым Рогом… Отбивали танковую атаку. Не могли сдержать натиск фашистов. Снаряд разорвался на самой огневой позиции, меня контузило. А когда пришел в сознание, рядом лежат мертвые товарищи, а немцы из трофейной команды оружие, документы собирают. Так вот и попал в плен…
Воронин положил ложку.
— Вы ешьте, я еще добавлю, — сказала гостеприимная Ирина Ивановна.
— Боюсь есть много — ослаб очень, мыкаясь по лагерям. В плену, думал, погибну…
Эшелоном нас везли в Германию. Мы с ребятами договорились бежать. Выломали пол в вагоне. Я выбросился третий, сразу же за семафором, когда поезд набирал скорость. Едва дотащился к вам. Идти дальше сил не было…
Молча достала Ирина Ивановна из сундука рубашку мужа, штаны, поношенный серый костюм, теплый пиджак с меховым воротником. И положила все это на топчан.
— Переоденетесь, и, пока окрепнете, придется вам пересидеть на чердаке. В хате небезопасно: немцы и полицаи шныряют. Еду вам будет приносить Володя…
Ночами, когда Воронин с чердака перебирался в хату, слышал парнишка, как сержант говорил матери:
— Это все временно, Ирина Ивановна. Наша земля — не вечная добыча для немцев. Они уже приходили на Украину. Помните, что из того вышло? Но тогда мы были и голые и босые. А чем воевали?
Володя старался вспомнить: кто еще так рассудительно и уверенно говорил? И смело вмешался в разговор взрослых:
— А вы кто будете?
— Как — кто? — не сразу понял сержант.
— Ну до войны кем вы были?
— Учитель. Я математик… потому и в артиллерию попал… Не найдется ли у тебя что-нибудь почитать?
— Сейчас поищу, — сказал Володя, выбежал в сени и быстро по лестнице забрался на чердак. Достал завернутые в холстину книги.
— Вот, возьмите, — и подал сержанту.
…Проходили дни. Поправился, окреп сержант. Пора и в путь. Уговаривала солдата мать Володи остаться на зиму, слезно молила переждать до весны.
— Нет, Ирина Ивановна. Спасибо вам и Володе — спасли вы меня. А больше не просите, должен идти… Война не дождь, на чердаке ее не переждешь, даже с самыми добрыми людьми. — Потом положил Володе руку на плечо и виновато сказал: — Не привык я, чтоб за меня кто-то другой работал. Лучше мы погибнем, но Родина наша пусть живет. Верно я говорю, Володя?
— Верно, — сразу согласился мальчуган.
— Вот и хорошо! — с грустью продолжал сержант. — К сожалению, кое-кто другую дорогу избрал… Помню, летом шли боя за Житомир. Тяжело пришлось — отступали. А у меня в орудийном расчете был такой, что оружие бросил, дезертировал. Шагулой звали. Кажется, из этих мест.
— Как вы сказали? — насторожилась Ирина Ивановна. — Шагула?
— Шагула.
— Часом, не Николаем его звали?
— Вы его знаете? — удивился сержант.
— Может, и не он… У мужа знакомый был Шагула. До войны пришел из лагеря, сидел за убийство. Володя видел, как он из плена возвращался, запряженный в цыганскую повозку. Еще полицай его задержал…
— Смотри, Володя! Смотри и запоминай, — произнес Воронин. — Время проходит — многое забывается… А мы обязаны помнить всё. Ни один предатель не должен избежать нашей кары… — Помолчал немного и словно сам себе сказал: — Эх, оружие бы мне…
— Где его сейчас возьмешь, — вздохнула мать.
Пока Воронин собирался в дорогу, складывая продукты в мешочек, Володя незаметно побежал к деду Михаилу.
Дед просо толок в ступе.
Володя поздоровался.
Старик присел на бревно, закурил.
— Куда ты пропал, Володя? Я уже думал, не подался ли ты, внучек, к партизанам.
— А где их найдешь?
— Хорошо поищешь — найдешь…
— Мне бы, дедушка, пистолет. Очень нужен.
— Зачем? — В старческих глазах засверкали лукавые искорки.
— Это секрет.
— Секрет? — рассердился дед. — А чего же ты пришел ко мне!.. Ему пистолет, видите ли, нужен! Ишь какой нашелся! Смотри, парень, с немцами шутки плохи. Они не посмотрят, что мал ты. Выбрось глупости из головы!
— Не глупости, дедушка. Пистолет не мне нужен.
— А кому же?
— Сержант у нас. Из плена бежал, мы лечили его. Завтра на фронт уходит…
— Ты один ко мне пришел или мать послала?
— Один.
Дед потянул цигарку, закашлялся, бросил окурок на пол и растер его ногой.
— Нет у меня пистолета. Нет! И никуда не ходи, ни у кого не спрашивай. Погибнешь и ты, и твой сержант. Ну, беги домой!
Грустный возвращался Володя домой.
«К деду, как к родному, пришел, — рассуждал мальчишка, — а он тебе: выбрось из головы глупости, не мешай!»
Поздно вечером, когда солнце уже зашло за Прусянский лес, в окошко кто-то осторожно постучал.
— Кто там? — спросила Ирина Ивановна.
— Дед Михаил. Выйди-ка на минутку. Вышла.
— Сержанта ты прячешь? — шепотом спросил дед Михаил.
— Да, — призналась она растерянно. — А откуда вы знаете?
— Малый твой был у меня, пистолет для него просил… На фронт собирается?
— Да…
— Не подосланный немцами?
— Что вы! Наш человек.
Дед из-под полы достал серый сверток и незаметно протянул Ирине.
— Передай. Ждал подходящего времени, берег для себя. Да, видно, солдату сейчас нужнее. К лесу пускай пробирается берегом, у водокачки. Вели Володьке проводить солдата. — И, немного подумав, старик добавил: — Занятный он у тебя не в меру!..
Серым осенним утром Володя и сержант подошли к берегу. Мелкая холодная изморось приятно обдала их лица влагой. Шли молча. Как только прошли водокачку, сразу же остановились у кустов. Слева виднелись серые хатки. Слобода. Справа, далеко на горизонте, железная крыша прусянской мельницы на Роси. А совсем прямо темнел густой лес.
Тут же, на ставне водокачки, висело объявление. Володя знал, что там написано. Такие объявления он уже не раз видел возле железнодорожного разъезда.
«Строго запрещается, — сообщалось там, — входить в лес. Туда имеют доступ лишь те лица, у которых есть специальное удостоверение гебитскомиссара. В противном случае военные и полицейские посты немедленно будут открывать огонь…»
Настороженно огляделись. Ничто не тревожит молчаливую таинственность сумрачного леса… Вдруг оба сразу заметили, как между деревьями промелькнул брезентовый плащ полицая. Через некоторое время полицай вышел из засады и стал ходить взад и вперед.
Долго наблюдали, как он лениво вышагивал вдоль канавы.
— Вы низиной, лозняком пробирайтесь к лесу, а я отвлеку на себя полицая… — шепнул Володя.
— Поблагодари, пожалуйста, деда Михаила.
— За что?
— Он знает. Останусь жив, обязательно приеду к вам, — сказал на прощание Воронин и крепко прижал мальчишку к груди; а потом, быстро подхватив под руку мешочек, тут же исчез в кустах ивняка.
А через минуту Володя вышел из кустов и неторопливо, в полный рост пошел по направлению к лесу. Останавливался, смотрел под ноги, точно что-то разыскивал. И снова шел вперед, незаметно наблюдая за полицаем. Наконец тот его увидел, снял винтовку с плеча, направился к мальчишке.
— Что здесь потерял? — сердито спросил он.
— Дяденька, вы не видели, куда рябенькая пошла?
— Какая рябенькая?
— Ну та… рябенькая корова. У нее один рог до половины сбит. Рог тот в прошлый год соседская телка сломала. Билась она сильно…
— Не было здесь никакой коровы, марш отсюда! — разозлился полицай.
— Ну как же не было? — удивляется Володя. — Вы же поглядите, вот следы и помет коровий, совсем свежий!
— Не свежий, а вчерашний, — уточнил полицай. — Возвращайся назад, здесь запрещается ходить.
— А огородами на Слободу выйти можно? Полицай кивнул головой.
— А вы стрелять не будете? — надоедал Володя.
— Вот я тебе уши сейчас намну, тогда узнаешь, сукин ты сын!
— А вы не ругайтесь, — нахмурил Володя брови и пошел по направлению к Слободе.
Полицай долго смотрел ему вслед.
Только на огородах оглянулся Володя, посмотрел на лес. Наверное, Воронин уже там. Счастливого тебе пути, дядя солдат!
Сколько их, раненых, попавших в окружение, бежавших из плена, собаками травленных, голодом моренных, в тяжелые, грозные дни сорок первого года ходило по оккупированной земле! И все они пробирались на восток, туда, где шли ожесточенные бои, или в леса, к партизанам. Какие крылья несли их, голодных и раздетых, измученных, но сильных духом? Стыд и боль поражений взывали к отмщению. Еженощно, тайком, с огромным риском для жизни заходили они в села, осторожно стучались в окна…
— Кто? — недоверчиво спрашивали люди.
— Свои, из окружения…
— Свои, из плена…
— Свои, от партизан… — сбивчиво объясняли бойцы.
И тихо, так, чтоб не вспугнуть темноту ночи, открывались перед ними двери.
— Заходите, — едва слышался приглушенный шепот.
Делились последним куском хлеба, худенькой одежкой. Никакими угрозами, пытками или убийствами не в силах были фашисты запугать людей. Напрасно гебитскомиссары, полицайфюреры, начальники гестапо по всей Украине кричали, сеяли панику, потрясали оружием…
В городах, селах, деревнях — повсюду были вывешены предупреждения:
«Еще раз обращаем внимание на то, что каждый, кто прямо или косвенно поддерживает красных бандитов, саботажников или военнопленных, снабжает их продуктами или чем-либо помогает, — карается смертной казнью с конфискацией имущества.
Предупреждаем население, которое живет возле железной дороги, что в случае нападения на железную дорогу заложники будут расстреляны на месте».
Читали люди и хорошо понимали, что немцы свои угрозы и обещания строго выполняют, а все равно… оказывали помощь «прямо или косвенно».
Их никто не принуждал. Никто им не сулил наград.
Они боролись, потому что на себе испытали, что такое фашизм.
КАМУШЕК
Незадолго до начала войны Володя решил собственноручно собрать детектор. Пусть хоть и примитивный, а все же приемник. Почти год аккуратно изо дня в день посещал мальчуган занятия радиокружка и вскоре научился разбираться в электрических схемах и даже мог изготовить самостоятельно некоторые детали.
Володя достал наушники, конденсатор, контурные катушки, антенну. Не было только главного — детектора. Маленький камушек, а в нем все дело.
«Вот поедем в Киев на экскурсию, — надеялся он, — там и куплю».
Но началась войны, и мечты о путешествиях, как и о детекторе, остались где-то далеко, на другой стороне детства.
И снова мысли вернулись к приемнику. Теперь он стал более нужным, чем до войны. Немцы изо дня в день кричали, что они взяли Москву, Ленинград, что Красная Армия полностью разбита.
Володя этому не верил. Он видел, как на запад по железной дороге один за другим шли санитарные поезда с ранеными, товарные составы с разбитыми танками, изуродованными пушками на платформах.
И мальчик решил собрать приемник по уже готовым деталям. Тут же разыскал их в кладовке, тщательно протер от пыли…
«Антенну, — размышлял он, — прямо с чердака можно зацепить за грушу, никто никогда и не заметит. Вот беда только — где достать детектор?»
Собрался идти в Ракитное на базар. Может, там повезет?
За деньги ничего не купишь, даже зубной порошок. Разве что выпросить у матери десяток яиц? Но она спросит: «Зачем?» Рассказать о приемнике — разнервничается. Она ведь хорошо знает, что за голос из Москвы — смерть! А соврать Володя не может…
И тогда мальчишка находит выход. Втайне от матери он берет кролика. Правда, он поступает тоже плохо, но ведь это его кролики, он сам их вырастил.
В воскресенье утром Володя посадил в кошелку самого пушистого кролика и пошел в Ракитное.
Еще до войны бывал он с родителями на базаре. Чего там только не было в кооперативных палатках, на длинных столах, на крестьянских повозках! И товары, и продукты, и книжки, и всякая всячина. А теперь?
У входа на базар Володя прочитал объявление:
«Денежной единицей на украинских землях, освобожденных от советской власти, с настоящего времени следует считать рубль и ост-марку, выданные немецким государственным банком. Кто не захочет принять эту валюту, будет сурово наказан!
Команда полиции безопасности и службы безопасности Киевского генерального округа».
Но люди не обращали внимания на угрозу. Никто не хотел принимать «новых» денег.
По базару бродили голодные женщины, предлагая друг другу рваную детскую одежку, рамки для фотоснимков…
Правда, немного поодаль толпились настоящие торгаши, и по виду совсем иные: сытые, хитрые… Под полой у них были и соль, и мыло, и даже конфеты. И вот к ним как раз и подошел Володя.
Спекулянты выкрикивали:
— Горячие пирожки с картофелем!
— Картофельники!
— Горячий борщ!
— Кулеш!
— Картофель тушеный…
Полицай грязными руками перебирает пирожки, а дородная спекулянтка в промасленной телогрейке радушно предлагает «властям» отведать чарку доброго самогона.
Во втором ряду на низком стульчике восседает жирный, неуклюжий дедок. Тонким шнурочком поджаты губы, на лбу сеточка морщин. То и дело крутит головой, маленькими черными глазами сверлит каждого, кто проходит мимо него. Дед не прячется; перед ним разостлано рядно, а на нем иголки, зажигалки, камушки к ним, дратва, куски столярного клея, собранные колечками струны к гитаре, пуговицы, Библия, пенал с карандашами, готовальня, какие-то редкие детали к швейной машине.
Долго наблюдал мальчишка за дедом, пока не отважился наконец подойти к нему. Наклонился, поднял зажигалку и внимательно стал ее разглядывать.
— Чего тебе надо, сынок? — спросил старик.
Володя положил зажигалку на рядно и несмело сказал:
— Да у вас, наверное, нет…
— Если здесь нет, то я обязательно достану. Скажи, чего ты ищешь? — допытывается дед.
— Камушек мне надо, — признается Володя.
— Какой камушек? Для зажигалки?
— Нет…
Тот внимательно посмотрел на Володю:
— Понимаю… А что дашь?
— У меня в кошелке кролик.
— Сгодится, сгодится… — засуетился старик. — Приходи через час. Будет у меня камушек. А сейчас отойди, не мозоль глаза.
Володя пошел между рядами. Он с трудом сдерживал охватившие его волнение и радость. Подумать только: уже сегодня вечером он будет слушать передачу из Москвы!
А когда через час, толкаясь в толпе, подошел к деду, чья-то сильная рука больно сдавила ему плечо. Володя оглянулся. Над ним наклонился немолодой мужчина с рябым, словно высевками усыпанным, лицом. У парнишки будто что-то оборвалось внутри. «Полицай!» — сразу узнал он рябого.
— Пойдешь со мной! — приказал он.
— Куда?
— Я тебе дам камушка!
— Какого камушка? — не растерялся Володя. — Я у вас ничего не просил.
— А у деда просил?
— У деда просил. Для зажигалки камушек.
— Я тебе покажу зажигалку, выродок! — Полицай потянул парнишку к себе. — В полицию пойдем. Там расскажешь, чем ты, вишь, торгуешь и что ты здесь ищешь!
Володя съежился и неохотно пошел с рябым…
Рябой привел Володю в полицию.
Кошелку с кроликом забрал дежурный полицай.
— Доброе жаркое выйдет! — обрадовался он и бессовестно расхохотался.
— Шкуру отдать мне — шапку сошью! — бросил на ходу рябой.
Звякнули ключи, стукнул о каменный пол стальной болт. Володю грубо втолкнули в камеру. Влажный, затхлый воздух. Неприятный смрад ударил в нос. Под мокрым потолком едва светилось маленькое окошко, крепко заделанное решеткой.
Освоившись с темнотой, мальчуган различил в углу ведро, от которого по всей камере распространялось зловоние. Добрую половину помещения занимали нары, на которых лежали двое мужчин. Курили. Дым стлался вверх, плыл к окошку, убегая на свободу.
— За что тебя? — спросил один из них.
— Не знаю, — неохотно ответил Володя.
— Не хочешь говорить — твое дело. Может, и правильно делаешь.
— Здесь и стены уши имеют, — приглушенно вставил второй.
— Как это? — удивился Володя.
— Потом расскажу. Ложись отдыхай.

Володя залез на помост, свернулся калачиком у самой стены. «Мать будет волноваться», — сразу подумал он. Стараясь отвлечься от тяжелых мыслей, стал прислушиваться к разговору тех двоих.
— Я вам говорю, все решает следователь.
— Какой следователь? Здесь их двое.
— Знаю, что двое. Корчак — тот дурак, сам не знает, чего хочет. Вот Божко — голова! Умный, хитрый, кого хочешь вокруг пальца обведет.
— А вы их знаете?
— Из Ольшаницы оба. Корчак на железной дороге работал; пришли немцы — стал начальником станции, а потом перевели в полицию следователем. Божко — лесник. Жена жила в селе, хату справную имели, сад, а он по лесам носился…
«Это же тот самый Божко, что на сходке выступал», — сразу догадался Володя.
— Он перед немцами начал выслуживаться… — услышал мальчуган шепот. — Они его даже на курсы посылали. Слухи прошли, что после тех курсов его собирались сделать начальником полиции.
— Ну и что?
— Пока он на курсах учился, Сокальский не один раз немцам услужил, за что и был назначен начальником. И вот теперь Божко и Сокальский живут, как кот с собакой в одном мешке.
— Здорово ссорятся?
— Со стороны вроде бы и незаметно. На людях они: «Иван Ефимович… Михаил Кононович…» А сами так и ждут подходящего случая, как бы за горло друг друга ухватить…
— А нам-то от этого легче?
— Черта лысого! Только еще больше зверствуют.
В коридоре послышались гулкие шаги дежурного. Разговор сразу прекратился. Открылась дверь.
— Бучацкий, на допрос!
Володя спрыгнул с нар, ловко натянул замусоленную фуражку и выскочил в коридор.
— Кто меня будет допрашивать? — обратился он к полицаю.
— Сейчас узнаешь! — сказал он и влепил мальчишке такую затрещину, что у того голова закружилась.
Володя едва удержался на ногах.
— Живее, живей, Божко еще не так умеет! — торопил полицай, подталкивая мальчугана кулаком в спину. Потом робко приоткрыл дверь в кабинет следователя, просунул голову и виновато спросил: — Разрешите завести?
— Давай!
Володя переступил порог, снял с головы фуражку, поклонился. Нашел силы, чтобы улыбнуться:
— Здравствуйте, Иван Ефимович! Следователь поднял голову:
— А ты откуда меня знаешь?
— Кто же вас не знает? Во всей Ольшанице только и разговоров, что о вас.
— Какие еще разговоры? — насторожился Божко.
— Хвалят вас, говорят, вы…
— Что говорят?
Володя опустил глаза и нахмурился. Следователь вышел из-за стола:
— Что говорят?
— Что несправедливо начальство поступило…
— Какое начальство? — вплотную подошел Божко к мальчишке. — Что ты мелешь?
— Несправедливо, что не вас начальником полиции назначили. А у вас, говорят — голова!
Володя заметил, как у Божко часто задергалось правое веко.
— Ты чей будешь?
— Бучацкого.
— Что на будке?
— Ага.
— Знал я твоего отца. Коммунистом был… Ты зачем приходил в Ракитное…
— Кролика на базар принес.
— И хотел выменять за него камушек?
— Ага, — кивнул головой Володя.
— К радиоприемнику.
— К какому радиоприемнику? — удивился Володя. — Камушек к зажигалке. Спичек ведь нет.
— А ты не врешь?
— Зачем мне врать? Разберитесь и отпустите меня.
— А если дома сделаем обыск и найдем? Что тогда? Володя детали спрятал на лугу, в дуплистой вербе. Ни за что не найдут! И потому с уверенностью сказал:
— Тогда меня можете повесить!
Склонившись над телефоном, Божко долго крутил ручку, еще дольше дул в трубку, алёкал, наконец, грубо выругался и закричал:
— Вы что там все, оглохли? Позовите начальника кустовой полиции! Даниила Анисимовича!.. Следователь Божко!
С минуту в трубке что-то трещало, потом Божко сказал:
— Сейчас же пошлите людей с обыском в будку к Бучацкому. Ищите радиоприемник или детали к нему. О результатах срочно доложить мне! — и резко бросил трубку.
В кабинет вошел Сокальский в немецкой форме.
— Что вы с ним возитесь? — прошипел он, глядя в лицо Божко.
А потом, быстро повернувшись на каблуках, подошел к Володе:
— Ты скажешь, негодяй, кто тебя послал? — закричал Сокальский. И его тяжелый кулак опустился на голову мальчугана.
Парень не выдержал — упал. Из носа пошла кровь. Следователь поднялся с кресла.
— Михаил Кононович, — твердо произнес Божко, — следствие веду я и прошу вас в это дело не вмешиваться! — И, широко распахнув дверь, крикнул полицаям: — Заберите арестованного!
Полицай грубо схватил за воротник Володю и поволок его обратно в камеру.
— Не годится, Михаил Кононович, таким образом допрашивать подростка, виновность которого пока не доказана. Я допускаю такой способ при допросе агитатора, но в отношении ребенка…
— А вы думаете, если вырастет, то нас поддержит? Черта лысого!.. — В желтовато-зеленых глазах Сокальского вспыхнули огоньки. — Как вас понимать, Иван Ефимович? Вы кого защищаете?
Лицо Божко покрылось багровыми пятнами. Едва сдерживаясь, он терпеливо пояснил:
— Я защищаю новый порядок! Я работаю так, как меня учили. В Ольшанице в доме Бучацких уже производят обыск. Если найдут радиоприемник или детали, я заставлю этого мальчугана рассказать все, что он знает. Но как вы будете чувствовать себя, если сведения вашего агента не подтвердятся?
— Мои агенты всегда говорят правду!
— Меня удивляет, как доверчивы вы к своим подонкам!
— Прошу не оскорблять моих людей! — вспыхнул Сокальский. — Имейте в виду, я их сам подбирал!
— Тем хуже для вас, родненький! — сказал Божко.
— О вашем поведении узнают в гебитскомиссариате! — погрозил кулаком Сокальский.
— О вас тоже все узнают, — таким же тоном ответил ему следователь. — Мне нечего бояться. А вот вам…
— Что «вам»? — подскочил Сокальский.
— Я же вас знаю, Михаил Кононович, как собственный карман. Вы такой человек, что с вами дружи, а нож под полой держи, — брезгливо продолжал Божко.
— И вы, значит, прячете нож? — съязвил Сокальский.
— А как же. В гестапо, мой родненький, могут спросить, куда пан начальник девал золотые вещи тех людей, которых расстреляли в прошлом месяце… Почему вы их не сдали в государственную казну рейха, почему вы обманули немецкую власть? — наступал на Сокальского Божко.
— Н-н-о… — начал заикаться начальник полиции, — вы, дорогой Иван Ефимович, к этому делу тоже приложили руки.
— С вашего разрешения, пан начальник, с вашего разрешения, родненький, — ехидно ответил Божко. И сразу же повысил голос: — А вам кто разрешил? Кто, я спрашиваю!
— Мы с вами, пан следователь, одной веревочкой связаны. Имейте в виду, если меня немцы повесят, то обязательно на одной виселице с вами.
— Не я начинал разговор, не я угрожал, родненький, — тихо ответил Божко.
— Возможно, я и погорячился, — уже более уступчиво продолжал Сокальский. — Прошу меня простить. У нас общая цель, И судьба будет общая! — закончил он, словно гвоздь забил в твердое дерево, и тут же вышел.
— Погоди, я еще с тобой сведу счеты… — вдогонку ему прошипел Божко.
Сокальский, будто слышал этот шепот, возвратился в кабинет. Молча засунул руку в карман и достал оттуда полную горсть перстней.
— Видели? — спросил он у Божко.
На его широкой грязной ладони весело переливались золотые кольца с камнями из дорогих опалов, рубинов и аметистов.
— Дурное дело не хитрое, — нашелся следователь.
— Имейте в виду, это для господина гебитскомиссара. Теперь можете ему жаловаться.
Помолчал, а потом добавил:
— Вам, пан Божко, следовало бы не забывать, что не хвост конем крутит, а конь хвостом!
— Выходит, я хвост?! — вскочил с кресла следователь. — Твой хвост? — зло спросил Божко, неожиданно перейдя на «ты».
— Ты должен мне, черт побери, подчиняться! — закричал Сокальский и стукнул что есть силы кулаком по столу.
— Меня не испугать ни криком, ни стуком, — с достоинством ответил Божко. — Я, родненький, честно служу великой Германии.
— А я что, по-твоему, служу комиссарам?! — оскалился Сокальский.
Потом быстро вышел, в сердцах хлопнув дверью.
Зазвонил телефон. Следователь как ни в чем не бывало взял трубку. Из Ольшаницы докладывал начальник кустовой полиции. Обыск у Бучацких ничего не дал. Правда, на чердаке нашли книжку Аркадия Гайдара «Школа».
Но Божко не придал этому никакого значения…
Через час Володю отпустили домой.
А Сокальский, узнав об этом, собственноручно отстегал нагайкой непутевого агента:
— Камушек, говоришь? Радио, говоришь? Осрамил меня, подлец! Я что тебе обещал — медаль? Имеешь медаль! Еще одно такое заявление, и повешу за ноги, как собаку!
Рябой полицай упал перед начальником на колени:
— Он же к радива просил…
— Так и сказал «к радива»? — остановился Сокальский.
— Я спросил: «К зажигалке?», а он: «Нет…»
— Пойди жене своей объясни! — ответил Сокальский, и снова засвистела нагайка.
— Я же перед вами, пан начальник, как перед богом!
— Вот и наказываю я тебя, как бог!
ГЕБИТСПОЛИЦАЙФЮРЕР[9] СЕРДИТСЯ…
Начальнику районной полиции Сокальскому вконец испортили настроение. До этого никогда он не чувствовал себя таким униженным и оскорбленным. Все ждал благодарности и награды за верную службу, за преданность великому рейху. Кто больше всех выловил военнопленных? А осталась ли хоть одна большевистская семья, которая сквозь его пальцы проскользнула? Где там! Ночи не спал, гонялся по всему району и на лошадях, и на машинах…
«Гроза и смерть большевиков Михаил Сокальский!» — называли его шуцманы.
Казалось, гебитсполицайфюрер должен был его пригласить к себе только для того, чтобы поблагодарить и достойно, по всем правилам, отметить его высокие заслуги.
Поэтому, собираясь к шефу, Сокальский особенно долго и старательно брился, сменил портянки, щедро намазал кремом хромовые сапоги. Наверно, пан гебитсполицайфюрер еще и на ужин пригласит… Так что не стоит обедать, надо оставить место в животе для немецких деликатесов, решает довольный начальник полиции, предвкушая радость торжества. Говоря откровенно, шеф очень любил вкусно поесть. Вот почему каждую неделю, в субботу, Сокальский аккуратно посылал шефу свою машину. И не пустую… Разве в районе пасеки нету или перевелась рыба в Роси? Птицу, правда, немцы повырезали, но кое-кто из предусмотрительных крестьян вовремя успел припрятать, так что при желании можно для высокого начальства достать и кур и гусей… Вот только интересно, какими напитками будут угощать? Говорят, шефа сюда из Франции перевели. Не иначе как навез оттуда особо редких вин. Ну что ж, попробуем! А то самогон совсем уже надоел. Зайдешь в полицию, а оттуда перегаром несет… В кабинет Сокальский вошел уверенно:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! — ответил ему шеф и мельком, исподлобья взглянул на него.
И даже не удосужился его, начальника Ракитянской районной полиции, пригласить сесть. Если бы хоть с глазу на глаз, без свидетелей. А то здесь этот наглый переводчик Лауренц, с которым, пожалуй, придется еще не раз встретиться. Посмотрел он на Сокальского и так ехидно улыбнулся…
Шеф шумно поднялся из-за стола. Потянув воздух носом, он возмущенно прошипел:
— Вы что, сюда целую бочку ваксы прикатили? — и, повернувшись к Лауренцу, сказал: — Видите, какой наш герр Сокальский аккуратист!.. — Лицо шефа налилось кровью. — Вы б так старательны были при уничтожении большевистского актива!
— Пан геб…
— «Пан, пан»! — стукнул рукой по столу шеф. — Раненые пленные — вот перед кем вы герой. Где подпольный штаб, организованный комиссарами, где, я вас спрашиваю, комиссары? Куда они все попрятались? Какие у них планы?
— В районе пока везде спокойно, — пробовал оправдаться Сокальский. — Тихо…
— Спокойно? Тихо? — снова перебил его шеф, перевалившись через стол. — Это затишье перед бурей. Чтоб вы немедленно представили материалы на все готовящиеся провокации и обязательно подробные списки всех большевиков! И не только фамилии, но их тоже. Живых или мертвых.
Поднялся в кресле. Смерил Сокальского презрительным взглядом и сквозь зубы процедил:
— Вы, Сокальский, орел, а ловите мух. Орел не должен ловить мух. Вам по силам такая добыча!
— Яволь! — вытянулся Сокальский.
Шеф сел в кресло. В наступившей тишине было слышно, как у начальника Ракитянской полиции урчит в животе…
Если быть откровенным, то шеф прав. Взять, к примеру, Ольшаницу или Синяву. Тихо, спокойно. Сёла под, самым лесом. Сколько активистов осталось там? А в Шарках? На государственном хозяйстве из любой деревни кого хочешь встретишь. «Только пойди разберись, кто из них виноват, а кто нет?» — думает про себя Сокальский, а вслух говорит:
— Вы, конечно, нам поможете определить невиновных? Шеф удивленно посмотрел на Сокальского:
— Невиновных? Каких невиновных? Убирайте всех! А на том свете бог своих простит и помилует! Идите и выполняйте свои обязанности! Хайль!
Сокальский решил посоветоваться со следователем. Конечно, Божко большая сволочь, но дело свое знает хорошо. Недаром во Львове на курсах учился. И учителя там были не какие-нибудь местные немцы, фольксдойчи, а инструкторы из самого Берлина. Намекал Иван Ефимович, что представилась возможность побывать после этих курсов по ту сторону фронта. С таким надо быть осторожнее. Большие связи с начальством имеет. Не случайно испугался Сокальский, когда Божко обвинил его в присвоении награбленного добра.
Уместно было бы посоветоваться с Божко.
Возвратившись в Ракитное, он тут же попросил Божко зайти к нему и строго-настрого приказал дежурному никого к себе в кабинет не пускать.
— Какие новости? — поздоровавшись, спросил Иван Ефимович.
— Новости, как птицы, — двусмысленно объяснил заметно взволнованный начальник полиции, — не знаешь, с какой стороны прилетят.
И Сокальский подробно рассказал о том, как гневался на него шеф.
— Теперь вам, Иван Ефимович, все известно. Давайте вдвоем спокойно и обсудим.
— Мы не знаем, — ответил Божко, — где спрятан и тайно тлеет огонь, зажженный большевиками. Но когда он стремительно, с силой вырвется наружу, такой пожар будет уже потушить нелегко.
Потом, немного помолчав, снова заговорил:
— Сельские управы представили подробные списки красных активистов. Они не у вас?
— Да, у меня. Ну и что? Не можем же мы вот так просто их всех уничтожить.
— Дорогой Михаил Кононович, родненький! Настало именно то самое время, когда людей необходимо пропустить через густое сито. А пока вы будете собираться, они объединятся, создадут свои ударные подпольные группы и выступят против нас с оружием в руках. Вам нужны доказательства? Запомните: хватит подозрения. Главное — побольше захватить в наши сети. Там обязательно будут и виновные. Знайте: они уже готовятся к боевым, организованным выступлениям. Кстати, они кое-что замышляют заодно и против вашей особы. Вас должны повесить… за ноги!..
Сокальский побледнел. Вытерев рукавом густой пот со лба, он попробовал улыбнуться:
— Неужели за ноги? Откуда вам такое известно?
— Эх, родненький, мир слухами полнится. Теперь всякое жди. А выступить, по моим сведениям, они собираются седьмого ноября. Будут обязательно листовки, взрывы, и перестрелка, ну и, конечно, красный флаг на тополе возле железнодорожного разъезда. Потому и тихо сейчас в селах, что комиссары силы против нас собирают.
— Что же нам делать? Мы ни в коем случае не должны допустить их выступления.
— Можем, Михаил Кононович. И даже должны сделать так, чтобы ускорить этот шаг!
— Да вы что?! — вспыхнул Сокальский и выскочил из-за стола.

А Божко спокойно и вкрадчиво:
— Скажите мне, родненький, есть ли у вас в районе надежный человек, по-настоящему верный и до конца преданный вам? Человек, который, получив от вас приказ, никому, даже немцам, не скажет ни слова.
Сокальский задумался.
— Есть, — не сразу ответил он. — В прошлом году в Ольшанице завербовал. Шагула его фамилия. В тюрьме сидел за убийство жены. Имейте в виду, я его берегу для своего дела.
Божко вскипел:
— А я для кого предлагаю? Для тещи?
— Да вы не сердитесь, к слову пришлось…
— Сколько еще осталось дней до той годовщины?
— Девять.
— Достаточно! Сегодня же вызовите своего «надежного человека».
— Но это невозможно, здесь его никто не должен видеть.
— Где вы с ним встречаетесь и куда надо ехать? Говорите быстрее.
— В Синяве. На сахарный завод, — нехотя признается начальник полиции.
— Хорошо. Итак, план операции…
Божко поспешно взял лист бумаги, склонился над столом и вдруг перешел на шепот.
Сокальский слушал его внимательно.
— А если не сознаются? — неожиданно перебил он Ивана Ефимовича.
— Петь будут, когда мы заиграем, — довольный своей остротой, рассмеялся Божко. — И обязательно затанцуют под нашу музыку.
— А не много ли?
— Жалеть никого не надо. Кто нас жалел? Без больших жертв не может быть добрых дел, — нарочито грустно заметил следователь.
Со стены подозрительно смотрел фюрер. Смотрел день и ночь, не смыкал глаз, словно стоял на страже. Сокальский и Божко чувствуют на себе этот взгляд.
— Так, Иван Ефимович, так… — сказал Сокальский. — Значит, по-вашему, нам надо немедленно действовать, чтоб не потерять доверия пана гебитсполицайфюрера?
…К зданию районной полиции съезжались полицаи. Приехали из Винцентовки, Ольшаницы, Насташки… Раскрасневшиеся, пьяные, верхом и на подводах. Горланили похабные песни, стреляли собак, угрожали крестьянам. Потом собирались во дворе группами, дымили самосадом, гадали, в какой лес поедут ловить партизан. Вечером всех их собрал начальник. Он был немногословен.
— Имейте в виду — до большевистского праздника осталось всего два дня. Имеются точные сведения о вооруженном выступлении подпольных групп. Уже сегодня ночью в некоторых селах появятся листовки. Сейчас отдыхайте, чтобы в любую минуту быть готовыми выполнить свой долг. Не забывайте, что враг не дремлет и надо быть всегда начеку! Самогон пить запрещаю. Закончим операцию — тогда вволю погуляем.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Пропели вторые петухи, упала на землю холодная роса.
Хрустнула под ногами ветка, зашуршала листва, и неясная, плохо различимая в темноте фигура появилась около железнодорожного полотна. А потом промелькнула через огороды на погост. По осторожной, но тяжеловатой поступи чувствовалось: мужчина. Шел, как кот по колючей стерне: внимательно, неторопливо… На погосте, под грушей, ночной гость устало прилег на землю. Не иначе как отдыхал. Минут через десять встал и перебрался через канаву. Если бы сейчас кто-нибудь наблюдал за ним, то увидел бы, как он вышел к мосту, остановился у вербы и долго прислушивался к ночным шорохам…
Затем быстро свернул на Загреблю. На середину улицы не выходил, держался ближе к забору. Остановился возле ворот и, достав из кармана кусок ржаного хлеба, долго, не глотая, жевал его. Потом из другого кармана вытащил лист бумаги и, сдобрив его жеваным хлебом, аккуратно прилепил на забор. Прислушался и пошел дальше, легко взбираясь на гору. Возле общинного хозяйства снова наклеил такой же лист бумаги на сарае и через Ковалевскую долину лениво побрел в Городище.
За Дроботовым оврагом посмотрел в сторону, где росла старая корявая ольха. Сразу насторожился: сверкнули два огонька.
«Лисица!» — мелькнула мысль.
Вдруг ночь разорвала молния. Мужчина медленно начал оседать на мокрую некошеную отаву. Теплая струйка крови потекла по виску, подбородку, за воротник.
Из-за ольхи поднялись двое. Молча подошли к мужчине, склонились над ним, прислушались.
— Готов, — через минуту сказал один из них. — Давай на лошадей!
— Ну откуда могли знать, что этот, — и он ткнул сапогом еще теплое тело, — пройдет именно здесь? — удивленно вслух рассуждал второй.
— Не твоего ума дело. Меньше будешь знать — больше проживешь, — простуженно прохрипел первый.
Вскоре по оврагу глухо застучали подковами кони, пока снова все не стихло…
Бабе Федоре не спалось на печи. Всю ночь с боку на бок переворачивалась, жалась к теплу, то и дело повторяя шепотом:
— Ох, грехи наши тяжкие… На седьмой десяток перевалило, а такого еще не видывала. Учил когда-то святой батюшка, что покарает господь бог всех нас, грешных. Нагрянет антихрист, и не будет тогда никому прощения — ни старому, ни малому… Правду говорил. Пришел-таки он, и сколько пролилось слез людских… А крови!.. И сколько еще прольется…
На рассвете слезла с печи, заглянула в кадку, что стояла на лежанке, — еще с вечера поставила квашню.
«Пора и печь растапливать, — подумала. — Может, до завтрака и управлюсь».
Засучила рукава старой кофты, помыла руки и долго вымешивала тесто.
Как высадила хлеб в горячую печь, так и присела на скамью, стала смотреть в окно.
На дворе серый, усталый рассвет. По улице, по направлению к общинному двору, не торопясь, поодиночке друг за другом тянутся люди. Идут на работу: кто с батогом, кто с лопатой, кто с мешком под мышкой. Останавливаются по дороге возле ворот, заглядывают в ее, Федоры Прылипко, двор и снова идут дальше»
«Чего они там увидели?» — подумала старуха, задумчиво глядя им вслед.
С трудом вышла во двор, обошла вокруг избы.
Нет никого.
Выглянула на улицу: на заборе висит лист бумаги, вырванный из ученической тетради, а на нем красным карандашом что-то написано. Подошла поближе, а прочитать не может. Сняла с забора. Может, какое озорство написано?
Видит, улицей идет сын Ирины Бучацкой.
— Володька! — окликнула мальчугана старуха. — А ну прочитай-ка, что здесь написано.
Подошел Володя, прочитал:
— «Дорогие товарищи! С праздником вас, родные, с праздником Октября! Скоро будет свобода. Смерть фашистам. Боритесь, победа будет за нами!»
Оглянулся мальчишка, потом тихо спросил;
— Бабушка, где вы это взяли?
— Да на заборе висело, сынок, на заборе.
— А кто прилепил? — допытывался мальчуган.
— Почем я знаю! — недовольно ответила старуха и тоже огляделась вокруг. — Ты лучше отсюда уходи поскорее…
Баба Федора быстро спрятала за пазуху листовку и пошаркала в хату. Достала ее, развернула на столе, разгладила шершавой ладонью, взглянула в угол на икону, трижды перекрестилась и уже в который раз принялась читать свою спасительную молитву. Потом склонилась над квашней, выскребла оттуда немного теста, смазала оборотную сторону листовки и вышла на улицу. Оглянулась, нет ли кого, листовку быстро приклеила на забор.
— Пускай люди почитают, — подумала вслух и тут же вернулась в хату: пора вынимать из печи хлеб.
А тем временем по всей Ольшанице неслась приятная новость. «Листовки!..» — взволнованно передавали люди из уст в уста.
«Листовки!» — звучало повсюду. Не обошло это известие и Сокальского. На правах равного, развалившись в кресле напротив начальника, медленно, смакуя слова, Божко читал:
— «Захваченный полицией подпольщик сознался на допросе в Ольшанице, что он расклеивал листовки, призывающие к борьбе с новой властью. Подвергнутый физическому воздействию, он назвал свое имя — Шагула Николай Кондратьевич — и сообщил, что сброшен с советского самолета для связи с оставшимися большевиками. Связь с ними Шагула уже установил и приступил к выполнению задания. Лица, названные допрашиваемым, действительно проживают в этой местности и давно находятся на подозрении в полиции…»
А в Ольшанице полицаи стояли над трупом человека, убитого ночью возле ольхи.
— Здорово они его обработали, — потирал руки рябой полицай.
— Божко — тот умеет! — ответил другой и вдруг, наклонившись к толстому, шепотом спросил: — А почему у него грудь прострелена? Партизан же на виду у всех приказано карать. А тут еще и парашютист!
Услышал разговор третий полицай, плешивый, в немецком мундире, и еле слышно сказал:
— Я этого парашютиста, кажется, знаю.
— Не может быть! — запальчиво возразил рябой.
— Разве что ошибаюсь. Помнишь, как мы в Сухолесах партизан ловили?
— Ну и что?
— Тогда на опушке леса с ним сам начальник встретился. Я еще у него в охране был. — И, немного подумав, прибавил: — А может, просто похож…
— Похожий или непохожий — не твоего ума дело, — зашипел на него рябой. — Прикуси свой дурной язык! Нам приказано его приготовить для последнего «прыжка».
Только теперь рябому полицаю стало ясно, почему пан Сокальский приказал забыть фамилию задержанного им Шагулы. «Ну и хитрый же начальник, — подумал он, — ишь для какого дела берег Шагулу…»
Через несколько часов от здания полиции тронулась подвода. На ней лежал ночной гость, тщательно укрытый брезентом.
— Партизана поймали. Парашютиста… — поползли слухи по всей Ольшанице.
К подводе боялись подойти, наблюдали издали.
За кладбищем подвода остановилась. Три полицая быстро спрыгнули на землю и принялись копать лопатами яму.
Именно в это время Володя возвращался домой. Услышав шум, пробрался кустарником и увидел подводу с убитым, которую сопровождала охрана полицаев. Потом подкрался к кладбищу и спрятался в кустах. Когда полицаи отошли и принялись копать яму, он тихонько подполз к подводе, отбросил край брезента… Володя побледнел. На запястье правой руки парашютиста синела татуировка. Так же незаметно Володя отполз. А дальше — вскочил на ноги и со всех ног понесся прочь.
Через несколько минут парнишка уже стучался к Анне Семеновне.
Когда-то Володя принес в редакцию газеты заметку. Тогда с ним разговаривала Анна Семеновна. Она давала ему интересные книжки, советовала, подбадривала.
— Что случилось, Володя? — взволнованно спросила она, когда, едва переводя дыхание, мальчуган произнес:
— Партизан… Парашютист… — и в изнеможении опустился на стул.
— Знаю. Его схватила полиция.
— Так вот… я видел его… Он к отцу до войны наведывался. Слышал я их разговор. Он… тогда только из тюрьмы вернулся…
— Из какой? — спросила Анна Семеновна.
— Он свою жену убил… А с отцом они когда-то на заработках вместе были. Вот он и пришел из Белой Церкви, чтоб мы ему денег одолжили. Помню, власть Советскую ругал. Отец его и выгнал из дому. А сержант Воронин говорил, что он дезертир. Я с дедом Михаилом видел, как его рябой полицай задержал.
— А ты не ошибаешься?
— Нет! Я поднял брезент, смотрю — он самый!
— Так… — Анна Семеновна побледнела. — Выходит, здесь провокация? Ну конечно, провокация!
Она обеими руками схватилась за голову. Как тут быть? Надо немедленно предупредить друзей. А кто это сделает? Володя? Можно ли ему такое доверить? Мал еще… Зато честный и смелый пионер.
Вскочила со стула и заговорила спокойным, но решительным голосом:
— Беги, Володя, в Шарки, к Борко Владимиру Степановичу! Знаешь, где живет? До войны он был председателем сельсовета.
— Конечно, знаю.
— Беги и расскажи ему все, что мне говорил. Если со мной что случится, пойдешь в Молчановку. Разыщешь Ивана Яценюка и скажешь: «Старшая сестра привет передавала». Он ответит: «Она же далеко». А ты ему: «Теперь близко…» Это пароль, запомни его хорошенько! Беги!..
Но когда Володя прибежал в Шарки, где жил Борко, он увидел в его дворе толпу полицаев. Связанного, окровавленного, его волокли к машине. Володя бросился назад, в Ольшаницу, к Анне Семеновне. И тоже опоздал: у ворот стояли подводы, а во дворе и в хате полицаи производили обыск.
Хотел пойти в Молчановку, но ноги не несли… Только через два дня выбрался. Яценюк внимательно выслушал Володю и долго молчал, не зная, что и сказать мальчугану. Потом строго наказал идти Володе домой и держать язык за зубами.
— А когда, когда будем мстить им, гадам?!
— Будем!.. Если понадобишься, сам найду тебя. Смотри сюда не приходи…
ОПЕРАЦИЯ «ШВЕРТ»
Начальник полиции Сокальский, довольный, потирал руки: «Все идет, как и предвидел Божко. Хоть он и порядочная сволочь, но молодец!»
В кабинет зашел переводчик жандармерии Лауренц. На тонких, как спички, ногах мерно покачивалось его толстое, неповоротливое туловище с большим отвисшим животом. Маленькие зеленые глаза из-под выгоревших рыжеватых бровей подозрительно рыскали по углам комнаты, а потом немигающим взглядом нагло уставились на Сокальского.
— Что нового?
— Большевистские листовки появились не только в Ольшанице. Их понавешивали и в Шарках. Так мы, кроме Ракитного и Ольшаницы, провели облавы и там. Еще вчера вечером к райцентру из кустовых полиций прибыло к нам подкрепление, теперь шесть усиленных групп работают в селах. Произведены обыски и аресты. Крайсляндвирт[10] Рейм одобрил мои решительные действия, комендант — тоже, и по этому случаю он даже выделил большой отряд немецких солдат.
— Сколько арестовано? — по-прежнему оставался спокойным Лауренц.
Сокальский выдвинул ящик стола и вытащил оттуда бумаги.
— В Ольшанице — двадцать шесть; в Шарках — двадцать… Склонившись над списками, Лауренц прочитал:
— «Волошин Филипп Мартынович, коммунист. Поддерживал связь с шарковской подпольной организацией. Чередниченко Анна Семеновна, коммунистка. Ответственный работник газеты «Колхозник Ракитянщины» и член райкома партии… Борко Владимир Степанович, активист, особенно опасный». — И, оторвавшись от списка, Лауренц безучастно спросил: — Все активисты?
— Все.
— Чудесно!
— Стараемся! — улыбнулся Сокальский.
— Кстати, как вы назвали вашу операцию?
— Откровенно говоря, не думал об этом.
— Тогда я вам подскажу — «Шверт».
— То есть?
— Меч!
— Меч? Ну что ж, звучит.
— Я уезжаю в Ольшаницу, прошу вас рассказать о принятых мною мерах гебитскомиссару пану Штельцеру, а также начальнику СС и гебитсполицайфюреру, шефу СД. Скажите, что и вы принимали участие в разработке плана операции, — закончил покровительственно Лауренц.
— Благодарю вас! — сказал Сокальский…
Вереница подвод потянулась в Ракитное, на них и пожилые и молодые, женщины и мужчины. Все, кто сам не мог идти. Остальные уныло брели за подводами. Руки связанные.
Колонна двигалась в сопровождении пеших и конных полицаев.
Оружие конвоиров наизготовку: захочешь — не убежишь.
В Ракитном арестованных загнали в камеры и подвалы. Не хватало места. Женщин и всех арестованных, потерявших сознание от пыток, заперли в конюшне.
…Сокальский зашел к машинистке, а потом, вызвав следователя, протянул ему отпечатанный текст.
— Посмотрите, Иван Ефимович. Может, будут у вас какие замечания…
И Божко вслух прочитал:
— «Пану гебитскомиссару Белоцерковского округа доктору Штельцеру. Копия: Начальнику СС и гебитсполицайфюреру, шефу СД. Докладная записка о результатах проведения операции «Шверт». Сообщаю, что накануне годовщины большевистской революции я получил достоверные сведения о том, что в селах Ракитянского района — Ольшанице и Шарках — подпольные организации большевиков приобретают оружие, объединяются и имеют намерение в день этой годовщины совершить опасные действия в отношении существующего строя и нового порядка. Чтобы предотвратить их враждебную деятельность, я вместе со следователем паном Божко и переводчиком паном Лауренцем разработал план операции под условным названием «Шверт». При осуществлении этого плана полицаи, которые находились в засаде, как я уже докладывал, схватили связного между подпольными группами сел Ольшаницы и Шарков. Он распространял в селе листовки. Все они своевременно изъяты. Во время обыска у захваченного нашли еще четыре листовки и пистолет советской системы «ТТ». После надлежащего воздействия…»
Теперь Божко уже нервно перелистывал страницу за страницей.
— «…На сегодняшний день арестовано сорок шесть активистов, которые несомненно причастны к подпольным группам (список прилагается). Во время проведения арестов и обысков изъято десять боевых единиц вооружения, в частности: гранат — четыре, пистолетов — три, винтовок — две, обрезов — один. Кроме того, дополнительно найдено большое количество опасной пропагандистской литературы. Допросы третьей степени не принесли желанных результатов, что, безусловно, подтверждает упрямство и принадлежность арестованных к подпольной организации. Так, например, допрошенный самым серьезным образом коммунист Борко трижды терял сознание, а когда приходил в себя, каждый раз жалел о том, что не успел убить меня, крайсляндвирта Рейма, бургомистра Пустового и шефа Ольшаницы Кнейзеля. По-видимому, он имел связь с другими, до сих пор, к сожалению, еще не выявленными нами бандитами. Вел Борко себя крайне дерзко, грозил нам, что мы не избежим наказания и все до единого будем уничтожены.
Поскольку в районном городке нет возможности изолированно разместить большое число арестованных преступников, прошу вашего распоряжения в отношении дальнейшего проведения следствия…» Толково написано, ничего не скажешь. У меня нет ни одного замечания, — сказал Божко.
— Можно подписать? — спросил его Сокальский.
— Подписывайте и немедленно отсылайте с нарочным. Всех нас ожидает награда. А о своем «надежном человеке», Шагуле, не жалейте. Инструктор из Берлина нас учил во Львове: свидетель должен молчать как могила. Только мертвый не говорит; и не предаст! Запомните это, Михаил Кононович! И не забывайте слов полицайфюрера: «Не тот враг страшен, что перед нами, а тот, кто среди нас». Внутренний враг самый опасный!
ДОПРОС
Привели Анну Семеновну в полночь.
Юбка из мешковины, окрашенная черной бузиной, на плечи накинута выцветшая кофта, в больших мужских ботинках; ежась от холода, переступила она порог кабинета.
В комнате было тепло и уютно. И только жалобное завывание ветра в трубе напоминало о бешеной пурге.
Следователь вышел из-за стола, посмотрел с сочувствием на арестованную и грустно произнес:
— Вижу, Анна Семеновна, вы попали, как бы сказать, в тяжелые обстоятельства. Но, думаете, мне легко вас допрашивать? Садитесь, пожалуйста.
Анна Семеновна удивленно посмотрела на следователя. «Божко!» — узнала она и устало присела на стул, не сводя с него глаз.
— Поймите меня. Выбросьте из головы недобрые мысли обо мне и разговаривайте со мной, как с равным. Вы ж видите — протокола я не составляю и не собираюсь составлять. Поверьте моему слову: плохого я вам не желаю и даже готов постоять за вас… Вас я хорошо знаю и потому буду откровенным. Нам известно, с какой целью вы остались здесь, известно о вашей деятельности, связях, о ваших друзьях. Могу заранее вам сообщить, что после окончания следствия всех их ждет смертная казнь. Но у меня есть возможность вас спасти.
— Это тоже входит в ваши личные планы?
— Это входит в наши общие планы, — поправил учительницу следователь.
— Какой ценой?
— Выслушайте меня внимательно и подумайте над тем, что я буду говорить. Только, пожалуйста, не торопитесь с выводами. Но и не задерживайтесь с ответом. Ваша жизнь, ваше будущее в ваших руках. Поэтому хорошо взвесьте всё. И не советую отказываться.
— Не петляйте, как заяц, пан следователь. Что вам нужно? Божко молчал. Внимательно вглядываясь в арестованную, он с трудом подбирал слова для дальнейшей беседы, хоть и готовился к разговору и продумал его до мельчайших подробностей. В своем воображении Божко строил планы так искусно, как паук ткал свою паутину в темном углу. Любовался этой сетью, ее новыми узорами, которые сам старательно придумал.
— В трудное время мы живем, — вздохнул Божко. — Кругом разруха, голод… Нелегко было немецким солдатам освободить Украину от врагов. Есть сведения, что в самое ближайшее время с большевиками будет покончено. Дни коммунистического режима сочтены. Наши освободители на Волге уже приближаются к Каспию. После победы великий фюрер нам поможет на руинах построить разрушенное хозяйство, вернуть Украине утерянную славу — славу казацкую. И кадры для Украины мы должны готовить уже сейчас. Мы должны создать свою интеллигенцию, преданную не идеям коммунизма, а идеям национализма.
— По-видимому, пан следователь, вы хотели сказать — фашизма?
— Вот-вот! Великий фюрер и его союзник Дуче, руководствуясь именно этими идеями, привели свои народы к победе. Конечно, и у нас здесь были государственные деятели, которые посвятили свою жизнь делу освобождения Украины, отрыву ее от России. Вспомните гетмана Мазепу, пана Выговского.
— Те были предатели…
— Нет-нет! Просто наш народ не понимал, кто ему желает добра. А сейчас наступил новый период. Создались благоприятные условия, и мы должны воспользоваться этим.
— Каким образом?
— Мы должны помочь освободителям в борьбе против нашего общего врага.
— В чем заключается моя помощь?
— Отказаться от своих коммунистических взглядов и полностью перейти на нашу сторону. Отказаться не на сходках, не выступлением в печати. Отречение это должно быть тайным и произойти здесь, в этом кабинете. А для того чтобы мы были уверены в вашей помощи, вам необходимо рассказать о всех подпольщиках, назвать пароли, явки, имена связных. А потом… потом мы организуем вам побег. Будете свободной, будете работать с теми, кто еще остался на воле, конечно, под нашим руководством. Все подпольное патриотическое движение здесь, на Украине, должны возглавить мы — этого требуют интересы и будущее всей независимой Украины. Вот почему так важно направить его в нужное для всех нас русло.
— И таким образом я обязательно сохраню свою жизнь?
— Не только. После окончательной победы нам необходимо будет организовать свое суверенное правительство, новую власть как в центре, так и на местах. В зависимости от того, кто какой вклад внесет в дело освобождения, тот и займет соответствующий пост. Только от вас зависит, на какую ступень вы подыметесь.
— А если я не знаю никаких подпольщиков?
— Не может быть. Мы вас проверим. И если правда, вы с нашего разрешения создадите новые подпольные группы. Вас уважают, вам верят и за вами пойдут. Однако всей деятельностью подпольщиков руководить будем мы, через вас.
— Значит, пан следователь, ценой предательства я куплю себе жизнь. Правильно я вас поняла?
— Не надо громких слов. Верностью и преданной работой на пользу независимой Украины вы обретете достойное для вас место в новой жизни.
— Разрешите мне взвесить ваши предложения, перед тем как дать окончательный ответ? — спросила Анна Семеновна.
— Пожалуйста, пожалуйста. Только не забывайте — или с нами, или… — Божко умолк, словно споткнулся о камень.
— Что — или?
— Или в гестапо, пытки и расстрел. Третьего не может быть. Подумайте хорошенько.
Божко склонился над бумагами.
— Не отвлекайтесь, пан следователь. Я согласна.
— Согласны? Я так и знал. Откровенно признаться, такого мудрого решения, и так быстро, я не ожидал. Вы — умная женщина, — льстил Божко,
— Я согласна дать ответ на ваши предложения. Но перед этим разрешите задать вам только один вопрос,
— Слушаю.
— К какой политической партии вы принадлежите?
— Странно. Разве вам до сих пор непонятно? Моя партия — партия украинцев-самостийников[11].
— Мне кажется, вы ошибаетесь, пан Божко,
— Как так?
— Вы принадлежите совсем к другой партии,
— Интересно, к какой?
— Такие, как вы, принадлежат к партии КВВ,
— Как вас понять?
— К партии «Куда ветер веет…». А сейчас вы, герой под черной звездой, тянете украинский народ в немецкое ярмо. Разве не вы угоняете дочерей этого народа в новое рабство, на смерть и каторгу в далекую Германию? За какую свободу вы ратуете, какую правду вы отстаиваете?

Следователь пытался что-то сказать, но Анна Семеновна его не слушала. Раскрасневшаяся, она встала со стула и с ненавистью бросила в лицо Божко:
— В тяжелое для родной страны время, как нечисть из вшивого тулупа, повыползали вы наверх! Толпитесь возле стола оккупантов, кусок пожирнее стараетесь ухватить. Объедки получите! Ждете, когда вам кость обглоданную, как той собаке приблудной, бросят. Не о свободе народа вы беспокоитесь. Нет, вы давно предали народ, отреклись от его идей, ничтожные трусы! Грызетесь между собой за тридцать сребреников, пока и вас, как гниду, не раздавят немцы!
Анна Семеновна умолкла.
Растерявшийся следователь с минуту не находил, что ответить.
— Я к вам с хлебом-солью, а вы меня — камнем, — обиделся Божко.
— Камень лучше, чем ваш хлеб!
— Не забывайте, родненькая: на чьем возе едете, те и песни поете.
— Во-первых, пан следователь, я вам не родненькая. Оккупанты и предатели вам родненькие. Во-вторых, на ваш воз я никогда не садилась и ехать на нем не собираюсь!
— Последний вопрос к вам: зачем детей втягиваете в свое безнадежное дело?
— У вас есть достаточные основания утверждать такое?
— Кто проводит тайное следствие, должен знать всё!
— Детей мы оберегаем, но никому не запрещено, даже детям, вносить вклад в борьбу с врагом.
— Зачем впутали школьника Владимира Бучацкого?
— Кого-кого? — переспросила Анна Семеновна, а про себя подумала: «Что же стало все-таки известно следователю?»
— Пионера Бучацкого! — с иронией произнес Божко.
— Вы ошибаетесь, пан следователь!
— Нет! Я никогда не ошибался! Зачем он приходил к вам накануне ареста? Сейчас же отвечайте!
— За книгой.
— За какой?
— Просил что-нибудь почитать.
— Что вы ему дали?
— Я сказала, что у меня сейчас никаких книжек нет.
— Он и раньше приходил к вам за книгами?
— Да. Перед войной.
— Почему он крутился возле погибшего парашютиста?
— Этого я не знаю.
— Всех детей, которые были под вашим влиянием, мы возьмем на самый строжайший учет. Бучацкого тоже. Мы воспитаем новое поколение — поколение, свободное от вашей коммунистической морали. С новым поколением под руководством фюрера мы завоюем себе свободу. Кто не пойдет с нами, будет уничтожен… Наступило тяжелое молчание.
— Ну что ж, вы сами решили свою судьбу, — сказал Божко и с шумом поднялся со стула.
— Никто не заставит меня отречься от своих взглядов. Совесть моя перед народом чиста. На ней нет ни одного пятнышка.
Следователь прошелся по кабинету, потом сказал:
— Итак, я вас отсылаю в распоряжение гестапо.
— Я уже слышала. И лишний раз убедилась, что нашу Украину вы бросаете в немецкий застенок. Казнью меня не испугаете. Дважды не умирают. Подумайте, пан следователь, о себе. Запомните: за предательство сурово карают.
* * *
В тот же день, ознакомившись с докладной запиской Сокальского «О результатах проведения операции «Шверт», белоцерковский гебитскомиссар доктор Штельцер красными чернилами на донесении написал: «Срочно. Арестованных перевести в Белую Церковь и передать в распоряжение шефа СД. Пана Сокальского представить к награде медалью. Пану Божко выдать безвозмездно десять пачек сигарет и две бутылки водки. Переводчику Лауренцу предоставить две недели внеочередного отпуска на родину».
…Не задержался — поехал в отпуск Лауренц. Пять полицаев грузили ящики с консервированными цыплятами, мед, сало, колбасу, яйца, мешки с мукой и крупой.
Получив «награду», следователь Божко почувствовал себя обворованным. Всю водку вылакал сам и, пьяный, едва держась на ногах, притащился в полицию. Там он швырнул Сокальскому сигареты и, дыхнув ему в лицо перегаром, грубо сказал:
— На, подавись!
Начальник полиции только снисходительно улыбнулся:
— Поосторожнее. Сообщение читал? Имей в виду!
Потому и почувствовал Божко великую несправедливость, что слишком внимательно прочитал набранный очередной номер оккупационной окружной газеты «Колокол свободы». А в ней было напечатано:
«На чисто убранной парадной площади у Белой Церкви произошло торжественное вручение заслуженных наград особо отличившимся полицаям Белоцерковского округа. За добросовестное выполнение своих обязанностей и смелость, проявленную при уничтожении банд, трое из них, самые храбрые и бесстрашные, награждены. Начальник СС и гебитсполицайфюрер крепко пожали каждому руку и лично прикололи награжденным почетные награды».
Ничего, что там не упоминалась фамилия Сокальского. Зато на кителе его полицейской униформы тускло поблескивала медаль. Ему завидовал Божко, и еще как: «А кто идею подал? Божко! А кому медаль? Сокальскому!»
— Ну разве это справедливо? Из бандита, просидевшего десять лет в советской тюрьме, я сделал вам в два счета подпольщика-парашютиста, провел пять допросов и придумал целый том протоколов. Я, — хвастаясь, бил себя в грудь Божко, — самолично застрелил его «при попытке к бегству». Мертвого застрелил! Я сделал так, что весь район узнал о «героической смерти» подпольщика, и только потом известил население, что парашютист выдал всех активистов. Немцы обмануты. Они, как овцы, обмануты! Вам медаль, а мне — сигареты?!
Сокальский подошел к Божко и, положив ему руку на плечо, спокойно сказал:
— Главное, Иван Ефимович, не это. Списки советского актива, которые лежали без движения, теперь скреплены подписью Шагулы… Моего агента. Подписи дали нам возможность провести блестящую операцию. И вы, Иван Ефимович, — пробовал его успокоить Сокальский, — напрасно гневаетесь. В районе еще немало советских активистов. Заслужите медаль и вы. Я вам обещаю. Слово чести!
— Сладкие речи! От них у меня во рту сладко не будет!
— Будет, будет и вам сладко, Иван Ефимович, — приторно улыбается Сокальский.
МАЛЕНЬКИЙ ПАСТУХ
Долго злились холодные ветры, и грустно выла снежная пурга. А потом трещали морозы и всюду лежали тихие неподвижные сугробы, точно белое покрывало на черном гробу.
Наконец зима не выдержала. Сначала посинел ее белый ковер. Кое-где проглядывала голая земля, изредка покрытая темно-желтой прошлогодней травой. А потом почернели поля и, изгибая мощную грудь, последними начали сбрасывать с себя посеченный ветрами снег. Ночи стали такие темные, что трудно было что-либо разглядеть в двух шагах: не ночь, а океан непроглядного черного мрака.
Наступала весна.
В полях на краях межи вылезла полынь, загорелись на опушке леса анютины глазки, поднималась рута-мята, в садах зазеленела пряно, пахнущая крапива. Кустились вербы над рекой, опочковывались, белым цветом расцветали вишни.
Щедрая раздольная земля досыта насытилась талыми водами и с нетерпением ждала своего пахаря.
А он почему-то не торопился…
Густо заволакивались по утрам долины туманом, который тяжелыми каплями медленно оседал на прошлогоднюю ботву, на траву. А потом солнце серебрило липкие почки деревьев, ласкало первые, весенние цветы.
Широко разлилась река. Ожили луга, запахли свежестью молодые всходы, застрекотали веселые кузнечики. А по вечерам, когда нехотя всходила луна, под оглушительное кваканье лягушек на кудрявых вербах заливались соловьи…
Володя вышел из хаты, подошел к яблоне, прикоснулся рукой к ветке, и на ладонь его упало несколько холодных, розовато-нежных лепестков. С минуту он задумчиво глядел на них, потом осторожно, точно боясь расплескать воду, понес их в хату.
Первый раз в жизни он не радовался приходу весны. В его груди, наполненной ненавистью к врагам, не было места для счастья.
Ни дома, ни в школе Володю не учили ненависти. Его учили вежливости, человечности, учили добру, а не злу. Ненавидеть он научился позже, во время оккупации. Целую книгу убийств «расписали» фашисты, большую кровавую книгу. Расстрел «инспектора» и семьи капельмейстера, издевательства над дедом Михаилом, допрос у Божко… Но тяжелее всего — арест Анны Семеновны и ее товарищей.
И фашисты продолжали писать всё новые и новые страницы нечеловеческих злодеяний.
Ранним морозным утром Володя пошел на железнодорожную станцию. Иногда там можно было отыскать сосновое бревно, насобирать в мешочек угля — протопить немного в хате, чтоб хоть вода не замерзала в ведре.
На станции в клубах пара остановился эшелон. Паровоз набирал в тендер воду. Спрыгнули немцы с тормозных площадок, бегают по перрону, греются. А в вагонах, запломбированных, замкнутых на тяжелые замки, — пленные.
В одном вагоне двери открыты настежь. Немцы по очереди «проветривают» вагоны, чтоб «красная сволочь» не задохнулась. Надо довезти во что бы то ни стало их живыми.
Один пленный вышел на перрон. Его правая рука грязной обмоткой забинтована, шинель короткая, видно, с чужого плеча, поверх накинута. Русые волосы треплет ветер, под шинелью тельняшка морская.
За углом водонапорной башни стоит уже немолодая женщина. Увидела пленного, бросилась к вагону.
— Дети мои! — всплеснула она руками.
Сунула матросу под шинель буханку хлеба. Тот взял с уважением хлеб, передал в вагон товарищам. Хотел еще взять бутылку молока, но тут подбежал немец с автоматом.
— Цурюк, вег! — закричал фашист и с размаху кованым сапогом ударил женщину в грудь.
Вскрикнула старуха и навзничь повалилась. Жалобно зазвенела бутылка о камень.
— За что бьешь, гад? — бросился матрос к немцу и ударил головой в подбородок с такой силой, что тот закачался и распластался на земле. А другой уже щелкал затвором автомата.
Послышалась короткая очередь, словно кто-то в морозном воздухе разорвал кусок полотна.
Упал моряк к ногам пожилой женщины.
— Убрать! Нах ваген! — крикнул немец.
Окружили товарищи бездыханное тело матроса, подняли его на вытянутых руках, осторожно и торжественно внесли в вагон.
Поднялся фашист, вытер рукавом кровь с разбитого лица. Едва передвигая ногами, подошел к двери, со злостью задвинул ее. Повесил замок. Эшелон тронулся.
Володя наклонился к женщине, поднял ее…
Ручейки молока текли по асфальту. Возле бровки они смешивались с кровью моряка, а потом рыжими каплями катились вниз и глухо падали на рельсы.
…Поздно вечером, когда, выступая синим дымом из углов, густеют сумерки, в будку ввалился староста.
Мать старательно накладывала заплаты на рваные Володины штаны. Посмотрел староста и грубо спросил:
— Шьешь? Портниха? Большие деньги делаешь. А патент от власти имеешь?
— Какая же я портниха? Разве не видите? Износился мальчонка, тело голое выглядывает, стыдно на улицу выпускать.
— Вижу, не оправдывайся. Завтра с утра отправляй своего босяка в Шарки.
— Зачем? — удивилась мать.
— На работу в государственное хозяйство. Да поменьше расспрашивай, — повышая голос, отрезал староста, — сама понимаешь: рабочих рук не хватает. — И, уже переступив порог, из сеней бросил: — Завтра проверю.
Солнце встретил Володя за селом. На спине — котомка, в руках — палка, которую мальчуган искусно украсил резьбой. Босыми ногами ступает он по проселочной дороге, порядком остывшей за ночь.
Управляющий хозяйством, приземистый, средних лет мужчина с приплюснутым носом и раздвоенной заячьей губой, тоненьким голосом пропищал:
— Иди на ферму, будешь стадо пасти!
…Рано утром, как только подоят коров, гонит мальчуган стадо в степь. Далеко-далеко на небосклоне всходит солнце, по-вдовьи лаская осиротевшую землю. Вокруг еще царит тишина, а высоко в небе звенит жаворонок.
Медленно бредут коровы по дороге, подымая пыль. Володя идет за ними по обочине. Мягкий росистый бархат зеленого спорыша приятно щекочет его босые ноги. Хлопает Володя кнутом, сбивая еще не окрепшие стебли репейников.
Как только стадо свернуло на выгон, уселся Володя на меже, вытащил из кармана ножик и старательно начал вырезать узоры на палке.
Когда солнце было высоко в небе и короче становились тени, в степи подымался огромный столб дорожной пыли.
Володя знал: в сопровождении двух полицаев шеф Ольшаницы, Кнейзель, едет осматривать хозяйство — контролирует, так сказать, «новый порядок».
В полдень гонит мальчишка стадо на водопой. Коровы заходят чуть ли не на средину пруда, медленно и долго тянут теплую воду. А маленький пастух, удобно устроившись под вербой, спускает ноги в воду и бережно развязывает свою котомку.
Доярка тетя Аня чуть свет приносит Володе из дому еду. Он еще спит, и она кладет в его котомку, что висит на деревянном гвоздике в углу, краюху хлеба, а то и кусочек сала или пару яиц, сваренных вкрутую.
Выходят коровы из воды, сонными огромными глазами смотрят куда-то печально вдаль, жуют жвачку.
Вечером стадо нехотя бредет на ферму. Душно. Пахнет прибитой пылью, устоявшимися запахами летнего дня и теплым молоком.
Володя не ночует в бараке. Там тесно, всю ночь кусают блохи. Он остается на ферме; помогает тете Ане — то стульчик перенесет, то хвост коровы подержит, чтоб та не хлестала доярку по лицу. Здесь же из подойника пьет молоко и идет к яслям. Подбросит в ясли траву или солому и ложится спать. Здесь его постель. Тянется к нему Калина, лижет его. А язык у нее как рашпиль. Мальчишке смешно и щекотно. А корова словно хочет сказать: «Спокойной ночи, дружок!»
И Володя благодарно закрывает глаза.
КРАСНЫЕ МАКИ
Разбрелись коровы по всему выгону, пощипывают лениво траву.
Рядом поле, словно ковер шелковый; как синее море, волнами играет. Под мягким ветерком стоят хлеба, шумят мечтательно и тихо.
Зашел Володя в рожь, нежно гладит рукой колосок, а он к его загоревшей шее тянется, щекочет, будто отвечает на ласку. Идет мальчуган дальше. Маки цветут. Красные-красные…
И вспоминает Володя далекое довоенное лето. Тогда он еще в школу ходил. Взял его отец с собой на Рось. Тогда-то он впервые и увидел красные цветы.
«Папа, — воскликнул он восторженно, — посмотри, это же маки!»
«Маки, сынок, красные маки…» — печально согласился отец.
Володя склонился над лепестками и спросил:
«А почему маки не пахнут?»
«Потому что они красные, как кровь. Говорят, что эти цветы вырастают на поле битвы из крови горячей, что упадет на нашу землю».
«А больно ей?» — допытывался Володя.
«Кому?»
«Земле…»
«Больно, сынку, ох как больно!..»
«А там, где дядя Василий погиб, тоже маки выросли?»
«На Дальнем Востоке? Выросли, Володя!.. Кровь, пролитая за родную землю, всегда прорастает».
«А маки — они везде растут?»
«Ой, везде, сынку, везде. На всей нашей земле. Слишком много за нее крови пролито…»
Задумался отец, а потом обнял сына и с тоской сказал:
«И еще больше будет пролито…»
А кто же здесь, в этой степи, для этих маков, кровь свою пролил?
Может, это кровь того пограничника, что там, за высокой могилой, говорили люди, раненый от немцев отстреливался. И овчарка с ним, тоже была тяжело ранена…
Отогнал Володя стадо, подошедшее ко ржи, и подался к могиле. На весь район виднелась она. С трудом взобрался на ее вершину, едва дух перевел.
Оглянулся — нигде ни души. Одна тишина… Ветер из Городища доносит пьянящие запахи луговых цветов, ароматы скошенной травы и тревожно-прогорклой полыни.
С горы как на ладони хорошо видно опоясанное серебристой речкой село Ольшаница…
До войны ребята сюда, в Городище, всем классом приходили и поднимались как раз на этот курган. Конечно, вместе с учительницей, Марией Тодиевной. Любила она очень свой родной край. И как могла передавала свою любовь детям.
Отец, дед Михаил, Мария Тодиевна рассказывали такие легенды.
Будто бы давно, еще до нашествия татарской орды, граница села проходила именно здесь, на месте старого Городища, и там, по правому берегу реки. Называлось село Райгород. Батый стер его с лица земли. А Ольшаница возникла среди ольховых лесов как раз после гибели Райгорода. Отсюда и название — Вильшаница, Ольшаница.
Что и говорить, богатый Райгород. О нем до сих пор напоминают названия таких местностей, как Коваливщина — там стояли крепкие кузницы, как Ткачивщина — здесь ткачи шили… До сих пор в этих местах под землей находят обломки оружия, изъеденные ржавчиной, большие куски железа, битый кирпич.
Как-то даже читала нам Мария Тодиевна книжку, где было написано:
…В году 1527, когда орда совершила великое опустошение, дружины собрались великие и гнали басурманов от Киева до самой Ольшаницы. Войска у хана было тридцать четыре тысячи. В неравном кровопролитном бою под Ольшаницей разбили они орду, освободили из плена свыше восьмидесяти тысяч детей и женщин, насильно захваченных басурманами на Руси — в Подолии, в Подгорье, отбили всю награбленную добычу. И вот осталось лежать на поле боя двадцать четыре тысячи неприятельских воинов и сам воевода Перекопский. А Кучук-бей, Юсуп-султан и Обушак-султан постыдно бежали с малою ордою…
И от всего этого совсем еще маленькое сердце Володи переполнилось гордостью за своих далеких предков, которые смело и самоотверженно защищали родную землю — землю, щедро политую кровью, где росли высокая рожь и гордые красные маки.
Внимательно вглядывался Володя в даль. А там, на горизонте, не тучи грозовые клубятся — то лошади пыль поднимали. Это встают могучие предки — рыцари, защитники края родного…
И чудится Володе где-то далеко-далеко звон бандуры и голос кобзаря:
Зажурилась Украïна,
Що нiде прожити,
Гей, витоптала орда чориа
Маленькïiдiти…
И зовет этот голос, западает в самую душу, зовет на честный бой за святое дело…
Стоит Володя на кургане. Чья это могила? Какую тайну она бережет? Почему Плоскухою зовется?
А там, на горизонте, столкнулись тучи грозовые — белая, снеговая, с темно-голубой, — как в атаке две лавы могучие.
Жестокий поединок не на жизнь, а на смерть.
Поднялся ветер, рассеял тучи и притих. И показалось Володе, что там, на западе, на том месте, где грохотало, появился всадник. В сверкающем шлеме, весь одетый в доспехи, в левой руке держит круглый щит, в правой — меч…
Володя стоял до тех пор, пока не упали на землю первые тяжелые капли дождя, пока вдруг не сверкнула молния, глухо расколовшая небо, пока не ударил гром…
Бросился Володя в Городище, в ольховые заросли. Настигает дождь. И тогда спрятался мальчишка под могучим дубом. Сбегает по стволу вода и холодными ручейками стекает ему за воротник. Накрылся мальчуган мешком.
«Илья-пророк на железной колеснице едет, — улыбается Володя, вспоминая, как еще маленьким пугала его мать. — Не купайся, сынок, после Ильи. Будешь купаться — верба на спине вырастет».
Прошумел дождь, потешил землю и вдруг перестал. Стало слышно, как капает с деревьев и где-то совсем близко звонко журчит за кустами ливневый поток.
Вскинул голову вверх: от Шарков к Ольшанице кто-то перебросил большой мост — дугу-радугу.
Осветило солнце своими яркими лучами деревья, кусты, блестит, переливается по обмытому нежно-зеленому зеркалу травы. Защебетали птицы. И только гром где-то далеко-далеко сердито рокочет. А на дороге, тянущейся узкой серой полоской от Шарков до самой Ольшаницы, из-за кленов выползала вереница подвод. За ними — девчата. А вокруг, на конях, — полицаи. «На станцию, в Германию!» — быстро догадывается Володя и выбегает на дорогу к вербе. Она была старая, жалкая: еще до войны ударила в нее молния и расщепила ее пополам.
Взобрался Володя на вербу и внимательно стал смотреть на приближающуюся колонну. А когда она поравнялась с оврагом, из нее выскочила какая-то худенькая девочка и бросилась в ольховые заросли. Как птица летела, словно совсем и земли не касалась.
Полицаи засуетились. А тот, что впереди ехал, ударил нагайкой коня и бросился догонять беглянку. Настиг ее возле самого оврага, занес над головой нагайку и полоснул по плечам один раз, другой.
Упала девочка. А полицай соскочил с коня и третий раз занес над головой нагайку… Колонна остановилась.
— Вставай! — услышал Володя остервенелый крик полицая. Он грубо схватил девочку за руку и насильно потащил к дороге.
«Так это ж Наташа… — сразу опознал ее Володя. — Тети Ани… на ферму к матери как-то приходила…»
Снова колонна медленно потянулась по дороге.
— Людоловы, — прошипел Володя. И от злости сжал кулаки…
«ФЮРЕРУ ТРЕБУЮТСЯ СТРЕЛКИ»
Словно дикое, непослушное стадо, ползли дни — серые, безрадостные, до краев наполненные тревожной тишиной и напряженным ожиданием.
По вечерам, когда тоскливо и одиноко сгущаются синие сумерки и в потемневшем небе поднимается вороний крик, все прислушиваются: оттуда, далеко за Днепром, в загадочной дали, каждому из них сейчас хочется услышать орудийный гул. Но все напрасно. А в сердце по-прежнему упрямо теплится надежда: придут наши, обязательно придут…
Не беспокоит ничего только полицаев — они вечно пьяны.
Да еще у Лиды, у той, что живет за прудом, никакой печали.
А чего ей печалиться? Разъезжает себе с Кнейзелем на бричке…
Вот и сейчас отгрохотал по селу тарантас, поднимая за собой столбы пыли. По-видимому, они поехали на станцию.
На окраине, у самой канавы, два мальчика, внуки деда Михаила, козу пасут. Услыхали ребята, что бричка едет, и в канаву спрятались.
Там муравейник; суетятся трудяги: один стебелек тащит, другой — подушечку беленькую, третий — неизвестно куда спешит. А вот муравьи-санитары, так те сообща мертвого шмеля оттаскивают от своего жилья чуть в сторону и землей загребают. Склонившись над муравейником, ребята шепчут:
— Мурашки, мурашки, спрячьте подушки: воры идут!
Только проехал Кнейзель, вылезли ребята из канавы, смастерили дудку из тыквенного стебля — и ну трубить! А когда надоело, насобирали камней и давай швырять в ласточек, что стайками на проводах сидели.
И так увлеклись, что не заметили, как сзади кто-то к ним подошел и крикнул:
— Чего вы тут делаете?
Оглянулись ребята: так это же Володя Бучацкий.
— Не надо, ребята, ласточек обижать. Кто обижает птиц и гнезда их разрушает, у того все лицо веснушками покрывается. Ласточки — наши друзья, — терпеливо объяснил Володя словами учительницы Марии Тодиевны.
— А в кого нам кидать? — спросил старший.
— Во врагов.
— В каких врагов?
— Сами знаете, — сказал Володя и пошел на железнодорожную станцию.
Уселись ребята возле канавы, разломили пополам краюху ячменного хлеба и принялись за еду. Хотели на козе прокатиться, да дед узнает — ругаться будет. И откуда он догадался, что они на козе катались?
Нет, дед Михаил — старик хитрый. Посмотрит на перепачканных внуков, а у них на штанишках белая козья шерсть. Только он им об этом не говорит и не спрашивает, откуда шерсть. А сразу как закричит:
«Снова, разбойники, на козе верхом ездили? Уши, как фонари, намну!»
А ребята в один голос:
«Мы, дедушка, не катались!»
«Как же — не катались? Мне сорока рассказала: она хоть и стрекотуха, а врать не станет…»
…Огляделись ребята — никого. А покататься на козе ох как хочется! Подошли к рогатой. Один за шею держит, а другой поудобнее хотел устроиться, глянь — сорока, пролетая вдоль дороги, на вершину вербы уселась. Примостилась и сухо так застрекотала. Отошли дети от козы. Правду дед говорил: это ее работа. Схватили по комку земли, швырнули в птицу. Сорока взлетела, вытянула длинный, как веретено, хвост и улетела.
«Не иначе, как к деду», — твердо решают дети.
— Послушай, — спрашивает смуглый, — говорил Володя, что в птиц бросать камнями нельзя: они наши друзья. А в кого же можно?
— Во врагов.
— А кто такие враги?
— Дедушка говорил, что староста.
— Выходит, в него можно?
— Наверное, можно, только немного страшно.
— А мне вот не страшно.
— А если изобьет?
— Все равно убегу! Я знаешь какой ловкий! Как кот! — задиристо продолжает смуглый. — И еще выносливый. Один раз так меня мать била за разбитое стекло, а я даже не плакал.
— Одно дело — мать, другое — староста.
— А я все равно не заплачу.
— Да ты в него и не попадешь!
— Нет, попаду!
— Вот и нет.
— Хочешь, докажу? Он скоро на обед поедет.
Ребята загнали козу в канаву, чтоб не видно было, наломали зеленых веток, побросали ей туда. Пусть, мол, есть себе на здоровье, только не мекает. А сами пристроились рядом. Притаились. Смуглый сухой комок в кулачке сжимает.
А белокурому интересно: попадет он или нет?
Ждали старосту долго. Коза уже все листья съела и улеглась в канаве. Солнце жжет, ничто не шелохнется — душно.
И вдруг возле самого оврага загремел возок.
— Едет! — прошептали ребята разом.
— А может, не он?
— Я посмотрю.
Как только подвода поравнялась с ребятами, смуглый выглянул и бросил комок.
— Попал, в затылок! — закричал он испуганно и выскочил из канавы.
Староста бросился за ним.
Помчался мальчишка полем, через рожь. Больно бьют созревшие колосья по лицу. Споткнулся на меже и… растянулся на земле. Тут-то его и накрыл староста; налетел, как коршун, ухватил за ухо. Малый от боли крикнул. Пробовал вырваться из цепких рук, упирался, ударил ногой старосту и позвал:
— Ма-а-а-ма-а!
— Ах ты щенок!.. — прошипел староста, схватил мальчугана за воротник рубашки и потащил на дорогу. — Иван! — закричал он извозчику. — Давай сюда кнут.
В это самое время как раз Кнейзель с Лидой возвращались. Остановились возле старосты.
— О, пан староста воюет? — удивленно поднял брови Кнейзель.
— Разбойник проклятый! — задыхаясь, бормотал староста. — Камень в меня бросил и ногой ударил…
Шеф сошел с брички, приблизился, оглядел старосту и засмеялся:
— О, гут, зер гут! Мальчишка учит старосту! — А к мальчишке: — Зачем бросиль?
— Слава говорил, что я не попаду в него…
— А ты попал?
— Попал.
— Следует проучить этого негодяя. И заодно его деда. Житья никакого от них нет! — вмешался староста.
Мухи садились ему на красный затылок, и по лбу сбегали капли пота.
— Пан староста глюпый, дюрак. Ети мальшик вырастет метки стрелок. Фюреру требуется много-много метки стрелок. Воевать будет великий Дойчлянд весь мир, земной шар… Пусти мальшик.
Обиженный староста поехал домой.
Лида сошла с брички, подошла к мальчику, протянула конфету и спросила:
— Когда вырастешь, кем будешь? Немецким офицером или полицаем?
Мальчишка взял конфету и, всхлипывая, сказал:
— Партизаном…
Лида покраснела, а Кнейзель настороженно спросил ее:
— Что он сказаль?
— Он говорит, что будет воевать партизан…
— О, гут, зер гут! — В широкой улыбке расплылось лицо шефа Ольшаницы.
ЧЕСТНЫЙ КОММЕРСАНТ
Посоветовав мальчишкам швырять камни во врагов, Володя пошел на станцию. Было воскресенье, и его отпустили с работы домой. Стадо пасла тетя Аня.
Беспрерывно один за другим шли эшелоны. На восток и на запад. Из вагонов, которые двигались на запад, выглядывали истощенные, оборванные, грязные смугловатые солдаты.
Там Володя встретил и деда Михаила, поздоровался.
— Кто они? — спросил его мальчуган.
— Ты про кого?
— Да про тех, которые в эшелонах. Таких я еще не видел.
— Тальянцы…
— А-а, — догадался Володя, — итальянцы.
— Пускай будут итальянцы. Только по всему видать, что воевать они больше не хотят… Навоевались…
Перепрыгивая через лужи, Володя направился, на запасной путь, где остановился эшелон с итальянцами. Суетились они не только на перроне, они выходили на дорогу, добирались до хат, стучали в двери. За лепешку, тарелку супа, бутылку молока они охотно предлагали зажигалки, ботинки, совсем новое, ни разу не стиранное белье.
По перрону прошел шеф Ольшаницы Кнейзель с Лидой.
Лида остановилась, внимательно рассматривая итальянских солдат. Остановился и шеф.
— А какие они были раньше сытые и красивые…
Кнейзель презрительно улыбнулся:
— Трусливый народ, лживый и вероломный. Предали фюрера и теперь спасаются, как зайцы…
Потом взял Лиду под руку, и они ушли.
Володя заметил, как к дровяному складу с кошелкой в руках торопится хорошо знакомый ему парень Георгий Павличенко, а за ним итальянец. Было очень жарко, но солдат был в плаще, и это заинтересовало Володю.
Он незаметно подкрался к ним сзади и припал глазами к щели между штабелями дров. Видит: итальянец осторожно достает из-под плаща автомат и быстро передает его Георгию. Тот внимательно осмотрел оружие, глянул на итальянца. Володя понял, что Георгий знаками спрашивает, исправлен ли автомат.
Видно было, что итальянец обиделся. Громко крикнул:
— Я есть честный коммерсант!
Положил Георгий автомат в кошелку, а оттуда достал два больших куска сала, буханку хлеба, жареную курицу — и все это протянул итальянцу. Тот задрожал от радости, обеими руками жадно схватил еду и, горячо пожав Георгию руку, взволнованно сказал:
— Партизан? О, партизан корошо, гут.
Георгий исчез, а итальянец уселся поудобнее на дубовое бревно и набросился на курицу.
Осторожно вышел Володя из-за штабеля. Итальянец испуганно посмотрел на него.
— Пан, пан, — обратился к нему Володя, — я вам принесу яйки, а вы мне — пистолет, паф-паф.
Итальянец одобрительно кивнул головой, с аппетитом прожевывая пищу.
— О, кляйне[12] партизан хочет иметь пистолет? Яйки корошо, пистолет некорошо… Ну, беги, беги, я ждайт здесь.
Володя побежал домой. Мать стирала на реке белье. Володя знал, что она давно собиралась приобрести для него обновку — рубашку и уже насобирала три десятка яиц. Мальчуган бережно переложил их в кошелку и припустился со всех ног на станцию.
Итальянец сидел по-прежнему на бревне и, довольный, курил сигарету.
Вместе с яйцами Володя отдал ему и кошелку. Итальянец достал из-под плаща небольшой пистолет и, передавая его Володе, произнес:
— Бра-у-нинг, паф-паф, — и заразительно засмеялся.
Володя сунул пистолет за пазуху и был таков. Только дома он перевел дыхание.
Куда теперь?.. Может, пойти в Молчановку, к Ивану Яценюку? Хоть он и предупреждал, чтоб самовольно не вздумал приходить. Но сколько можно еще ждать? Уж теперь-то Володя явится к нему с настоящим браунингом за пазухой!
Постоял, подумал немного. Нет, рассердится Яценюк! А что, если к Георгию пойти? Сам ведь, своими глазами видел, какой он у итальянцев автомат выменял…
Володя знал еще и то, что Георгий радиоприемники хорошо собирает.
Может, у него и камушек к радиоприемнику найдется? Ну конечно, у него можно попросить… Володя спрятал пистолет в дуплистой вербе и побежал к Георгию. Тот вышел из хаты.
— Чего тебе? — спросил он неприветливо.
— Я все видел, — сказал смущенный Володя.
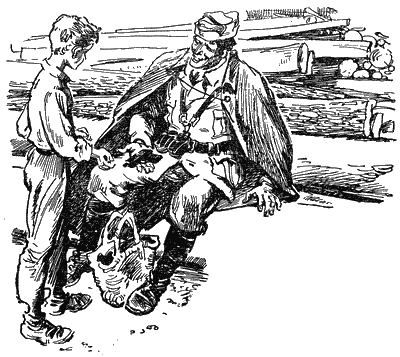
— Чего ты мог видеть?
— Как вы автомат…
Георгий побледнел.
— Ничего ты не видел!
— Я тоже пистолет…
— Мал еще! Рано тебе забавляться оружием.
— А может, у вас камушек есть?
— К радиоприемнику?
Володя кивнул головой.
— Подожди, — сказал Георгий и исчез в хате.
Через десять минут он вышел весь в паутине и протянул Володе аккуратно завернутый бумажный кулечек.
— Будь осторожен. Для заземления найди медный чугунок, закопай его под окном. Конденсатор есть?
— У меня все есть, — признался радостный Володя. — Только камушка не хватает.
— Смотри днем не включай! Поздно вечером или ночью. И сейчас же снимай антенну.
— Я буду ночью, — взволнованно пообещал Володя. — Меня всего один раз в неделю с шарковской фермы отпускают домой, тогда и послушаю.
— Гляди никому не проговорись…
ВСТРЕЧА В ПОЛЕ
Проспал Володя, насилу утром добудилась мать. Такого раньше не случалось. Только в полночь вчера прилег — приемник устанавливал. Здорово попадет на ферме, обязательно полицай проучит хворостиной. Зато в кармане лист бумаги, а на нем… Володя не только успел записать, но и выучил наизусть. Вот и сейчас он шепчет:
— «…За два месяца кровопролитных боев, с пятого июля по пятое сентября, наши войска на всех участках фронта уничтожили вражеских самолетов — пять тысяч семьсот двадцать восемь, танков — восемь тысяч четыреста, орудий — пять тысяч сто девяносто два, автомашин — свыше двадцати восьми тысяч. Потери врага убитыми составляют четыреста двадцать тысяч солдат и офицеров. Всего в боях за два месяца выбыло из строя (убитыми и ранеными) не меньше одного миллиона пятьдесят тысяч солдат и офицеров. За это же время наши войска захватили: танков — тысяча сорок один, орудий разных, в том числе самоходных, — две тысячи восемнадцать, пулеметов — пять тысяч триста восемьдесят два, автомашин — семь тысяч восемьсот пятьдесят три. Взято в плен тридцать восемь тысяч шестьсот немецких солдат и офицеров. Совинформбюро».
Если отпустят в воскресенье, Володя обязательно пойдет в Молчановку. Отдаст Яценюку пистолет и этот вот лист бумаги, который так приятно шелестит у него в кармане. «Пускай не думает, что мал еще! Пускай и меня берет бороться против фашистов!»
Выгнав стадо на пастбище, Володя увидел деда Михаила. Держась за рукоятки плуга, старик устало шел по борозде. Плуг ровными пластами разрезал землю. Черные комья свежей пашни длинными рядами ложились один к одному.
«Как видно, и деда тоже выгнали на работу», — подумал Володя и побежал к старику.
— Здравствуйте, дедушка! — радостно сказал мальчишка.
— Ах, это ты, Володя! Здравствуй, внучек, здравствуй.
— Что, заставили работать? — поинтересовался мальчуган. Дед внимательно посмотрел на Володю и, неторопливо разглаживая широкой шершавой ладонью усы, сказал:
— Нет, сынок, на этот раз сам вышел. Думаю, зимой придут наши. Что же мы, перед ними дармоедами будем выглядеть? Посеем при немцах, соберем при наших. Это тебе не сорок первый… Ну, а ты как?
Дед достал из кармана кресало, добыл огонь и жадно затянулся дымом.
— Стадо пасу. Хорошо в поле, никто не обидит.
— Не обидит, говоришь? — спросил дед. — Посмотри на дорогу.
Володя обернулся и увидел — рябой полицай, свернув с дороги, направился к ним.
— До войны по сараям лазил, в тюрьме сидел, а теперь высокая «власть»… — Дед засопел и брезгливо сплюнул: — Слизняк!.. Когда мне в полиции бороду выжигали, он Сокальскому огонь подносил…
Несмело подошел полицай:
— Здорово, дед!
— Не здорово, а здравствуйте! — огрызнулся старик. Полицай снисходительно протянул руку.
— Ну здравствуйте!
— Душегубам руки не подаю!
— Какой же я душегуб?
— До власти, говоришь, добрался? А сколько ты через это горя людям принес!
— Чего вы такие сердитые? — удивился полицай.
— А что мне, поцеловаться с тобой?
— Кое-кто, вишь, и целуется.
— Те, что вместе с тобой мне бороду выжигали?.. Ничего, скоро другие так «поцелуют», что богу душу сразу отдашь…
— Вы о чем?
— А все о том, щербатая твоя душа!
— Вы… тот… вишь, не будьте таким умным, — хотел было возмутиться полицай. Но вдруг его лицо, покрытое рыжими веснушками, побагровело. — Не тот хозяин, кому слово принадлежит, а тот, на чьей стороне сила, — угрожающе объяснил полицай, стукнув ладонью по прикладу карабина.
— Не пугай, не испугаешь… Чего пришел?
— Подозрительных тут не видели?
— Как же не видели? — ответил дед. — Видели.
Полицай насторожился.
— Видели здесь одного, — продолжал говорить дед Михаил, — шатается, бродяга бездомный…
— Кто?
— Да ты, иудов сын!
— Ах, оставьте, дед, — сказал полицай и махнул рукой. — Дайте хотя бы самосаду на цигарку. — И рябой достал газету, оторвал кусок.
— А почему ты немецких сигарет не куришь? — съязвил старик.
— Они как пакля. И дым не тот: сладкий, вишь, какой-то, приторный.
— Это он вам, холуям, после Сталинграда стал приторный!
— Вы бы, дед, лучше язык за зубами попридержали! — сердито сказал полицай и бросил оторванный кусок газеты.
— Ну что? Донесешь на меня фрицу? Отведешь в полицию? Да плевал я на вас! В сорок первом ты бы меня не пожалел. А сейчас, значит, боишься?
Полицай неожиданно вздохнул и прибавил:
— Думаете, мне легко? — Снял карабин, положил его на землю и подошел к плугу. Взялся за рукоять: — Обойду дважды…
Старик вскочил на ноги и сжал мозолистой рукой дубовый чистик[13]:
— Брось, говорю, брось! Не смей! Ты знаешь, что такое земля? Она — голуба наша. Люби ее, и она тебя не обидит. Только не предавай ее, мать родную, не дай ее врагу на растерзание, потому что тогда для нее и ты станешь лютым врагом… Власти захотел? Будешь служить свинопасом на немецком выгоне! Собакой бездомной, безродной околеешь на чужом дворе!
Раскраснелся дед Михаил, смотрел на полицая сердито из-под седых нахмуренных бровей. Тот не выдержал его взгляда, опустил глаза и замолчал.
— Как придут красные, — наконец проглотил он горькую слюну, — вы скажите, что я, вишь, вам никакого зла не чинил…
— Иди! Не растравляй душу. Она тоже, как вот потрескавшиеся ладони, — и дед поднял вверх руки, — вся в мозолях.
— Куда же мне идти? Начальник меня в Лубянку послал учительницу арестовать.
— Пока не поздно, ищи тропинку в лес. Да не с голыми руками иди. Может, еще вымолишь прощения… — посоветовал дед Михаил.
— Дайте самосаду на дорогу.
Дед вытащил из кармана сложенную в гармошку газету, оторвал кусок, вынул кисет, протянул полицаю.
— Кури. Сам насек. Хорошо мозги проветривает, очищает от скверны.
Полицай молча отсыпал махорки, старательно свернул козью ножку, вскинул на плечо карабин и медленно поплелся к дороге.
Дед и Володя тревожно смотрели ему вслед. Куда пойдет? На Лубянку выполнять приказ или домой?
Через минуту они облегченно вздохнули. Полицай перешел дорогу и степью напрямик пошел домой.
— А вы, дедушка, смелый! — с завистью посмотрел на старика Володя.
— Не то время сейчас, чтобы лясы точить и нести всякую околесицу, — рассердился старик.
Потом подошел к упряжке и выпряг гнедого.
— Иди сюда! — позвал Володю. — Садись верхом и что есть силы скачи в Лубянку. Коня стреножишь, оставишь в сенокосах, а сам — в село. Отыщешь там учительницу. Она в селе одна. Передай ей, зачем шел полицай. Пускай прячется. За стадо не беспокойся, я посмотрю.
Володю торопить не пришлось. Присел дед возле плуга, поднял оброненный полицаем кусок газеты и по слогам прочитал:
— «Помощь немецкой армии.
Сбор теплой одежды для армии принял на себя, по поручению, пан бургомистр. На его призыв и под его руководством созданы сборочные пункты как в городе, так и в селах. Сбор прошел в три недели: собрано — три овчинных тулупа, восемь пальто, пятнадцать халатов, тридцать пар чулок…» Рвань перекатная! Душегубы, — выругался в сердцах дед, скручивая цигарку.
«Я, СЫН ОТЧИЗНЫ И ТРУДОВОГО НАРОДА…»
Они собрались в сарае. Володя сидел на опрокинутой бочке, а остальные примостились в углу на соломе. По-видимому, ожидали еще кого-то.
Стараясь сдержать улыбку, Володя крепко сжимал губы. Когда Володя пришел в Молчановку, Иван Яценюк не прогнал его, а, подробно расспросив обо всем, привел сюда, познакомил с ребятами. И казалось, вот-вот произойдет что-то важное…
— Ты его, Ваня, хорошо знаешь? — не поднимая головы, нарушает молчание светловолосый юноша.
— Если не знал, Витя, не был бы здесь. Мы с ним еще до войны не один раз встречались. Способный парень, боевой, наш. Правда, немного вспыльчивый.
— А откуда ты знаешь о его способностях?
— Стихи он писал. А потом мы с ним вместе ходили в литкружок. Помнишь, им руководила Анна Семеновна…
— Чередниченко?
— Да, из Ольшаницы.
— Помню.
Ребята притихли. Слышно было, как кто-то по грязи шлепал к сараю.
Скрипнула дверь, и на пороге появился худощавый юноша низкого роста, в коричневых башмаках.
— Здравствуйте, — тихо произнес парень.
— Здравствуй, — ответил за всех Иван. — Садись.
Юноша робко присел.
— Зачем звали? — спросил он.
— Поговорить надо. Разговор у нас с тобой, Петя, серьезный, — начал Володя. — Помнишь наши занятия в литкружке?
— Разве можно забыть то время…
— Но тогда мы только на бумаге, в своих стихах клялись любить Отчизну.
— Вы меня, кажется, в чем-то обвиняете? — сразу вспыхнул Петя и тут же покраснел.
— Пока ни в чем, — строго ответил Иван и протянул юноше вырезку из газеты. — На, прочитай!
Парень пробежал глазами по строкам:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мужчины и женщины Украины!
Германия дает вам выгодную и хорошо оплачиваемую работу. 28 января текущего года транспортный поезд идет в Германию. О ваших близких будут заботиться до тех пор, пока вы будете работать в Германии. Мы ждем, что украинцы немедленно согласятся получить работу в Германии.
Гебитскомиссар.
Петр поднял голову, удивленно, с улыбкой бросил:
— Не думал, что здесь находится биржа труда. Вы что, вербуете меня в Германию?
Иван протянул Петру вторую вырезку:
— Читай дальше!
Петя прочитал:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кто не придет на осмотр по вербовке в Германию и его доставит полиция, тому надлежит уплатить денежный штраф в размере 1000 рублей. Заплатить штраф обязаны не только лица, не пришедшие на осмотр, но и их родственники.
Гебитскомиссар.
— Что все это значит? — поинтересовался Петр.
— Просто советские люди саботируют подобные распоряжения. А грязная газета, опубликовав такое объявление, открыто признается в этом.
— А что же дальше?
— Читай все, что я собрал. — И он бросил парню на колени вырезки и общую тетрадь.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
За невыполнение требования работать на строительстве железной дороги приговорены к смертной казни и расстреляны Кирилл Патык и Мария Шерстюк из села Скибин.
ПРИЗЫВ
Украинцы!
За сведения, которые дадут возможность арестовать парашютистов, партизан и других саботажников, назначается премия в размере 1000 рублей. По желанию премия частично или полностью может быть заменена товарами, остро необходимыми для жизненных нужд. Каждый может быть уверен, что доброе имя его будет сохранено в полной тайне.
Военный комендант Украины.
Прочитав, Петр возвратил Ивану вырезки и раскрыл общую тетрадь.
За переход к партизанам Бойко В. Н. в Ольшанице была арестована его мать — Бойко Евфросинья, 67 лет, жена Дарья, 36 лет, и двое детей— четырехлетняя Валя и двухлетняя Галя.
Во время ареста начальник кустовой полиции тяжело ранил Дарью, от чего та скоропостижно скончалась. В тот же день Евфросииья Бойко вместе с двумя внуками были расстреляны в Ракитном…
За помощь партизанам немцы расстреляли и других жителей Ольшаницы: Чередниченко Семена Даниловича и его дочерей — Александру и Галину…
В полиции расстрелян председатель колхоза села Бакумовки Ковтун.
Петр перелистал страницы. Вся тетрадь была аккуратно исписана каллиграфическим почерком Ивана. Возвращая тетрадь, он сказал:
— Зачем ты меня познакомил со всем этим?..
— Чтоб ты понял: не только живые, но и мертвые борются.
— Они-то борются, а мы? Одни слова. Слова, не подкрепленные делами, — пустое занятие.
— А ты готов к борьбе?
— Поэтому и позвали?
— Да.
— Конечно, готов.
— Не испугают тебя пытки, не предашь товарищей?
— Нет.
Иван поднялся, достал из кармана лист бумаги, развернул его, взволнованно посмотрел на друзей, словно видел их впервые, и прочитал:
— «Я, Иван Яценюк, сын Отчизны и трудового народа, вступая в ряды бойцов за свободу, в этот тяжелый час торжественно клянусь и обещаю бить ненавистного врага пока хватит сил, не жалея ни своей крови, ни своей жизни. Очищая землю от немецкой скверны, я до последнего дыхания буду верен своей Отчизне. Если попаду в руки врагов, то клянусь, что никакие пытки, никакие мучения не заставят меня предать родную землю, предать друзей по борьбе. Но если я нарушу свою клятву, пусть мое имя навеки покроется позором! Кровь за кровь! Смерть за смерть!» — Иван карандашом расписался на листе и передал своему соседу.
И снова торжественно-приглушенно:
— «Я, Виктор Борщенко… клянусь…»
— «Я, Иван Молчан… обещаю…»
— «Я, Петр Якименко… не жалея ни своей крови, ни своей жизни…»
— «Я, Степан Ефименко… до последнего дыхания буду верен своей Отчизне…»
Володя тоже было потянулся к листу, но Степан передал текст клятвы Яценюку.
— Друзья, — произнес Яценюк, — этот парнишка, Володя Бучацкий, из Ольшаницы. Я решил познакомить его с вами. Он знал Анну Семеновну, казненную немцами в Белой Церкви. Она перед арестом попросила его обратиться ко мне. Но я некоторое время ни ему, ни вам не говорил. Нужно было кое-что проверить, кое-что выяснить… Сегодня Володя принес нам сводку Совинформбюро и пистолет браунинг с патронами. Кроме того, он собрал детекторный радиоприемник. Я считаю, что Володя Бучацкий может быть членом нашей подпольной группы. Вопросы будут?
— Где взял пистолет? — спросил Молчан.
— У итальянца выменял, — ответил Володя.
— А когда радиоприемник собрал?
— Еще до войны.
— Где работаешь?
— В Шарках на ферме; коров пасу, там ночую. На воскресенье меня отпускают домой в Ольшаницу, где у меня как раз и радиоприемник спрятан…
Больше вопросов не задавали.
Яценюк протянул лист Володе. Володя взял его дрожащими руками. Закрыл на мгновение глаза, и перед ним вдруг возникло лицо Гайдара. «Аркадий Петрович! Вот и пришло мое время?» И не своим, а каким-то чужим, взволнованным голосом произнес Володя:
— «Я, Владимир Бучацкий, сын Отчизны…»
Володя принимал присягу, а перед глазами по-прежнему вставали Аркадий Гайдар, сержант Воронин, Анна Семеновна, учительница Мария Тодиевна, отец, дед Михаил. И сейчас все они будто у него принимают экзамен…
— «…Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
И непослушной рукой пионер старательно вывел под клятвой: «Владимир Бучацкий», после чего вернул Яценюку текст клятвы.
Тот подошел вплотную к Володе и крепко пожал мальчугану руку.
— Поздравляю! Спасибо за браунинг и сводку! — И сразу же спросил: — Что можно сделать на ферме?
Такого вопроса Володя не ожидал.
— Не знаю… пока не думал.
— И думать нечего, — вмешался Ефименко — Петуха красного пустить — и делу конец.
Володя ужаснулся:
— Нельзя этого делать!
— Почему? — спросил Петр.
— А коровы погибнут.
— Ну и что?
— Жалко…
— Тогда подожги, когда они будут на пастбище, — настаивает Степан.
Володя задумался.
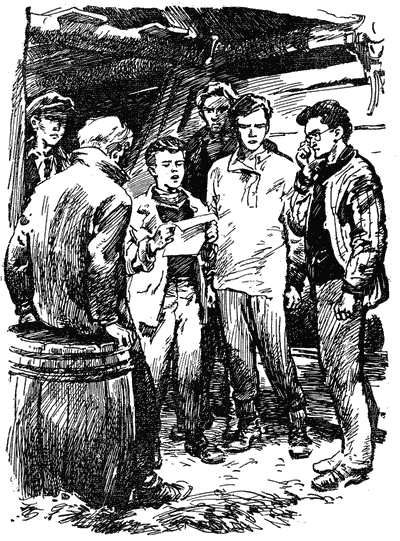
— Все равно нельзя. Осень холодная, морозы уже не за горами, куда их девать? Нет! Коров надо беречь. Дед Михаил говорил, что зимой наши придут…
— Как же, «придут»! — передразнил Степан. — А сейчас молоко куда идет?
— Немцы забирают…
— Вишь, немцы…
— Хватит! — грубо оборвал Яценюк. — Дело Володя говорит.
— Я обязательно что-нибудь придумаю, я выполню клятву! — густо покраснел Володя. — Только коров не надо, они добрые…
— Как отпустят с фермы, приемник принеси сюда, — строго приказал Яценюк. — Будем слушать сводку Совинформбюро и писать листовки.
— Принесу! Обязательно принесу! — обещает Володя.
— Через неделю, как стемнеет, выходи за село. Тебя встретит Виктор, — обращается Яценюк к Якименко. — С ним пойдешь выполнять одно серьезное задание.
Петр кивнул головой.
— До сего времени я не знал, как оценивается моя жизнь, — пошутил Петр, — а теперь и за мою голову немцы могут выплатить тысячу рублей!
— Денег не хватит в гитлеровской казне, — сурово заметил Иван. — Весь народ поднялся.
— А когда же до меня очередь дойдет? — волнуется Володя.
— Погоди, — успокаивает Иван. — Позовем. Да у тебя уже есть задание — подумай о диверсии на ферме.
— Я буду думать, я все время буду думать, — твердо обещает мальчуган.
КРЫСЫ
Дни становились короче, приближались длинные ночи. Наступила холодная, дождливая осень. И Володя согревался только ночью, в яслях, от теплого дыхания Калины… Было еще темно; коров доили в сумерках, при свете тусклых фонарей. Тугие струйки молока звенели в ведрах. Володя просыпался и тихонько лежал, прислушиваясь к звукам и шорохам. Потом к яслям подходила тетя Аня и, наклонившись над ним, ласково говорила:
— Вставай, сыночек, — и протягивала ему ведро с молоком.
Пересохшими за ночь губами припадал Володя к подойнику и долго, не торопясь тянул теплое молоко.
А тетя Аня усаживалась на край яслей, ласково гладила мальчишку рукой по стриженой голове и тяжело вздыхала. От нее пахло свежим ржаным хлебом, яблоками и полынью.
Володя знал, что у тети Ани фашисты угнали в Германию дочь, но никто не знал, что она погибла там, в концлагере. Ни с кем не делилась тетя Аня своим горем, не плакала на людях. Только в темные ночи политая горячими слезами подушка да сдержанный шепот выдавали горе матери: «Наталочка… доченька моя…»
По утрам вылезал Володя из яслей, выбегал во двор, собирался, на скорую руку, торопясь выгнать побыстрее стадо в степь.
Шеф Ольшаницы Кнейзель всегда был частым гостем на ферме. Правда, Володя никогда его не видел, потому что приезжал и уезжал немецкий офицер только днем, когда стадо было в поле.
Но однажды на ферму шеф приехал поздно вечером. Осмотрел хозяйство и тут же приказал управляющему:
— Молоко отправлять только в столовую для панов офицеров. Им нужно много молока, это подымает их тонус. Итак, — распорядился Кнейзель, — ни одной кружки не расходовать на другие нужды!
— А дети? Как они обойдутся без молока? — интересуется управляющий.
— Какие дети? Чьи дети? Вы что, совсем из ума выжили? Здесь нет наших детей! Бидоны с молоком запломбировать. Офицерам необходимо свежее, высококачественное молоко.
Володя слышал разговор от начала до конца, С тех пор утром и вечером, в строго отведенное время, к ферме подъезжал военный грузовой автомобиль.
…В воскресенье Володя отпросился домой. Вымыла мать голову сыну, сменила белье, накормила, поплакала немного и уложила спать. А утром, еще до рассвета, Володя спросил:
— А где у нас, мама, мышьяк?
— Какой, сынок, мышьяк?
— А помнишь, мы с отцом еще до войны крыс в подвале травили? Еще тогда осталось полбанки, и ты куда-то припрятала.
— А зачем он тебе?
— На ферме крыс развелось видимо-невидимо, всю ночь пищат, скребутся, спать не дают. Хочу их потравить.
Мать вышла из комнаты, долго что-то переставляла в кладовой, а потом возвратилась и поставила на скамейку стеклянную банку, аккуратно завязанную сверху тряпкой.
— Будь осторожен, — сказала она, — не потрави коров.
К вечеру Володя уже был на ферме. До самого рассвета не сомкнул глаз. Подобрал колени чуть ли не до подбородка, свернулся калачиком на соломе в яслях и все думал и думал…
В темноте вылез из яслей, нашел нужную бутылку и подошел к Калине. Нащупал вымя, подставил бутылку к соску. Тоненькой струйкой потекло в горлышко теплое молоко.
Достал банку, высыпал в бутылку мышьяк и заткнул ее пробкой из кукурузного початка. Потом долго взбалтывал смесь.
«Как же все-таки вылить ее в бидон? — рассуждал мальчуган. — Молоко сливают всегда в присутствии немца. Он же пломбирует наполненные бидоны».
И вдруг на другом конце фермы протяжно заревел бугай. Володю словно кто-то подтолкнул под бок.
— Озорник!
Озорника боялись все. Никого, кроме скотника, не подпускал к себе могучий великан.
— Так… — подумал вслух Володя. — Вот кто мне сейчас поможет.
Уже совсем рассвело, когда доярки закончили доить коров. По-за яслями Володя незаметно пробрался в конец фермы, где в отдельном загоне стоял грозный бугай. Осторожно вытащил мальчуган засов и ловко вскарабкался на стенку загона. Одной рукой держась за перекладину, другой он с трудом достал цепь. Долго перебирал кольца, пока не подобрались пальцы к круглому недоуздку. Сильно стиснув зубы, Володя изо всей силы нажал на цепь, и она со звоном упала к ногам бугая.
Володя вмиг открыл дверь.
Бугай гордо встряхнул головой. Почувствовав свободу, он заревел и стремительно понесся к выходу.
— Озорник отвязался! — вскрикнула не на шутку перепуганная тетя Аня.
В панике побросали доярки ведра и все, как одна, выбежали на улицу. Выскочили на улицу и немцы, приехавшие за молоком. Стремглав бросился Володя в комнату, где стояли наполненные до краев бидоны, и быстро вылил в один из них приготовленный раствор.
На улице вопили женщины, что-то недоброе выкрикивали немцы. Долго гонялся растерянный скотник за бугаем, пока, наконец, не ухватил его за протянутое в ноздри кольцо. Ласково погладил по шее, успокоил Озорника и повел его в коровник.
Только теперь доярки и немцы возвратились в помещение.
Через полчаса стадо, пощипывая на ходу траву, нехотя выходило со двора. Мимо него, вспугивая коров, по дороге быстро промчалась машина, груженная бидонами. Немцы торопились. Молоко офицерам необходимо было доставить вовремя, к завтраку, а тут, как нарочно, задержка с бугаем.
Бессонная ночь, проведенная Володей на ферме, давала о себе знать. Устало брел за стадом пастух, глаза его слипались. И когда коровы как ни в чем не бывало вышли на пастбище, он примостился на старом глинище, прячась в затишье от пронизывающего ветра, и задремал… Проснулся, а ноги и спина задеревенели, словно не свои.
Мальчишку порядком знобило. Вылез из глинища. Пошел к стаду, едва переставляя ноги, спотыкаясь.
Не прошел даром сон на сырой земле. Вечером больного Володю дед Михаил отвез на подводе домой.
ГДЕ ДОСТАТЬ ВЗРЫВЧАТКУ!
Пришла поздняя неприветливая осень. Большие стаи ворон низко проносились над землей. В полдень из-за туч едва пробивалось солнце, которое так и не успевало высушить омытые дождями окна. За лесом устраивались на ночлег тяжелые серые тучи.
Надоедливо, день за днем, моросил мелкий холодный дождь. Потонуло село в хлюпкой грязи.
Рано наступила ночь. Мокрый слепой сумрак сразу покрыл хаты, пристанционные здания, железнодорожные насаждения. Тихо. Медленно, с шелестом сеял дождь, и вдоль насыпи время от времени раздавались шаги немецких патрулей.
За семафором в кустах колючего боярышника лежали двое. Тесно прижавшись друг к другу, оба дрожали.
— Вить, а Вить… — прошептал один.
— Чего тебе?
— Почему мы не взяли Ивана с собой?
— Он был с нами в прошлый раз. Тише! Не слышишь — вышел!
— Кто вышел?
— Эшелон из Ракитного.
— Эх, сейчас бы взрывчатку!
— «Взрывчатку, взрывчатку»… Как будто я против? Вот только где ее взять! Четвертый раз эшелон встречаем, оружие есть, патроны есть, а взрывчатки ни грамма.
— Страшно, Витя, — откровенно признался паренек.
— А ты думал, что с гармошкой на гулянку пойдем?
Лежа на влажной земле, ребята уловили далекий, все нарастающий шум приближающегося поезда. А потом различили усталое шипение паровоза и все усиливающийся стук колес.
Едва вышел поезд за семафор, как оба парня подползли поближе к рельсам, вскочили на ноги и бросились к тормозной площадке.
Сердце стучало так, словно било в набат. Ловко уцепился Виктор за поручни, подтянулся, нащупал ногами ступеньку, оттолкнулся и лихо взлетел на площадку. Неудачно схватился Петр за поручень, отбросило его куда-то в сторону, и никак он не мог отыскать ступеньки.
Эшелон быстро набирал скорость. Все тело Петра, точно неживое, отяжелело, болтались ноги, и их затягивало под вагон.
Ловко одной рукой схватил Виктор товарища за воротник, другой — за плечо и, собравшись с силами, вытянул его на площадку. С минуту оба тяжело дышали.
— Лезем на крышу… — прошептал Виктор. — В первом вагоне на тормозной площадке вооруженный немец. В последнем — тоже. Начнем с последнего. Без моего разрешения не стрелять. Действовать будем тихо.
Ползут парни по мокрой, скользкой крыше вагона, держась середины, чтоб не скатиться случайно вниз. А вот и последняя площадка… Донеслось какое-то бормотание, потом мурлыканье, очень похожее на песню. При тусклом свете фонаря отчетливо просматривается сгорбленная фигура немца. Часовой надвинул пилотку на уши, поднял воротник шинели и в такт движению вагона качает головой.
У самых ног его лежит огромная овчарка. Спокойно положив голову на лапы, она дремала.
Виктор достал из кармана двухфунтовую гирю на длинном ремне, сделанном из сыромятной кожи, размахнулся и ударил по голове часового.
Немец упал.
Виктор спрыгнул на площадку и в то же мгновение почувствовал, как его рука попала в пасть. Собака железными челюстями сжимала руку.
Петр сверху свалился прямо на овчарку и обеими руками, как клещами, сдавил ей горло.
Виктор почувствовал, как слабеет хватка овчарки, и, пересиливая боль, резким движением освободил руку. Потом вместе с Петром они схватили собаку за ноги и выбросили на ходу с площадки.
— Больно? — спросил Петр.
Ребята взяли у мертвого часового автомат, электрический фонарик, вытащили из кармана документы, отцепили с кителя железный крест.
— Награду получил не только от фюрера, но и от нас тоже. Лишь с той разницей, что от них железный крест, а от нас — деревянный, — говорит Виктор.
И — снова на крышу. Ползут к первому вагону. А там, на площадке, никого нет. Наверное, немец забрался на паровоз погреться. Оттуда доносились протяжные, жалобные звуки губной гармошки.

Проверили сцепления между вагонами. Эге, голыми руками не оторвешь!
— Прыгай, — прошептал Виктор, — скоро Ольшаницкий блокпост, а там — караул. Пойдем домой.
— А может, добраться до Ольшаницы и прямо к тому пареньку? У него и заночуем.
— К какому?
— К Володе Бучацкому.
— Хороший мальчуган. Аида к нему!
Две тени оторвались от эшелона и растворились в темноте.
Володя рад был приходу товарищей.
— Где вы были? — неторопливо спросил он.
Ничего не утаили парни от него.
— Везет вам, — тяжело вздохнул Володя. — Хорошо бы мне с вами!
— Где там везет, — махнул рукой Петр. — Только часового убили, а сцепления подергали. Эх, взрывчатку бы нам… Вот достанем ее, тогда и тебя возьмем…
ДОМА
Володя лежал на печке и наблюдал сквозь маленькое окошко все, что делается во дворе. Опершись подбородком на кулак, прижимался животом к теплой лежанке. И вдруг заметил: по дорожке кто-то приближается к будке.
— Мама, — крикнул он с печи, — сейчас все новости узнаете! К нам «радио» идет!
— Какое радио? — засуетилась мать.
— Тетка Прасковья.
Прасковью в селе знали все. Оттого, что она часами не умолкала, у нее всегда болело горло.
Она решительно все знала и обо всем везде, рассказывала: когда кто женился, кто кого оставил, кто что купил или продал, кто поссорился, кому и как нагадала цыганка… За глаза тетку Прасковью дразнили ветряной мельницей. Вот и сейчас, не успела она войти в хату и поздороваться, как уже, вытерев кончиком платка губы, застрекотала:
— Ирина нового мужа пригрела, а у кума самогонка не получилась, здорово подгорела… У Настасьи курица петухом запела. Хоть и отрубили ей голову, все равно беды не избежать… Немцы деда Демида собирались расстрелять. Искали в кладовке сало, а нашли старую кожаную фуражку и решили, что раньше он был комиссаром и чекистом. Хорошо, соседи вступились за старика и спасли его от беды… А недавно встретила старосту. Идет улицей, а за ним следом два немца. Как дойдут до двора, немцы присядут возле ворот, а староста — во двор. Достанет из кармана просо, бросит на землю — кур скликает. Сбегутся куры, староста — со двора, а немцы давай по ним стрелять… Пусть только сунутся ко мне, — грозилась тетка, — не испугаюсь, глаза выцарапаю!
Сначала Володя не обращал никакого внимания на разговоры, но потом все-таки стал прислушиваться.
— Была еще нынче на станции… А там переполох. Немцев понаехало, полиции, на вокзал никого не пускают. Знакомый полицай по секрету сказал, что в Мироновке с эшелона сбросили мертвого немца. Поговаривают, будто того немца убили какие-то подпольщики между Ракитным и Карапышами, и это уже не первый случай. Так гадам и надо! — закончила она. — Боком выйдет им мой поросенок!
Поделилась тетка Прасковья новостями, и на душе полегчало. Потом вдруг опомнилась и, прощаясь, пошла к двери.
— Да посидите немного, куда вы так торопитесь, — сказала мать.
— Ой, голубушка, не просите — некогда. Надо еще успеть на Рогозянку к куме сбегать, нужно и ей рассказать.
Володя перевернулся на другой бок. Уже три дня не выходит он на улицу — болеет. Голова горячая, в груди жжет. Мать поила его крепким чаем с липовым цветом, растирала тело самогонкой. Немного отлегло. Но во всем теле по-прежнему чувствует слабость, а когда спустился с печи, едва на ногах устоял.
Новость, которую принесла тетка Прасковья, приятно удивила Володю. Значит, парни еще раз забрались на поезд. Молодцы! Проклятая болезнь! Если бы не она, сейчас бы обязательно подался в Молчановку. Или к Георгию Павличенко зашел бы, но нет уже его в живых. Арестовали его немцы, жестоко пытали, и он, не выдержав издевательств, сошел с ума. Но потом его все же расстреляли. Заодно и всех родственников — как близких, так и дальних. Разыскали их всех до единого.
А Георгия на станции взяли совсем случайно: не мог спокойно смотреть, как полицаи издеваются над людьми, кинулся защищать их. Когда Павличенко арестовали, то в сарае нашли автомат…
Володя ворочался с боку на бок и время от времени стонал:
— Что же делать?..
Гудит в сенях ручная мельница, стучит, скрежещет, когда уставшая мать забывает туда добавить сухой ячмень. Тепло на печи. Глаза сами слипаются. И парнишке кажется, что он сидит под березой, рядом с дедом Михаилом. Володя уже выкупался и теперь лежит на горячем песке под синим куполом высокого неба.
В осоке играет рыба, лениво квакают лягушки: «Кум-кум… Кум-кум…» Тихо плетет в траве свою длинную тоскливую песню кузнечик…
Гудит ручная мельница. Володя просыпается. Сон его хоть и оборвался, но он по-прежнему остается мыслями с дедом. Вспоминает, как привезли в село «Щорса».
Три сеанса подряд крутил механик кинокартину, и в сельском клубе негде было яблоку упасть.
Володя сидел рядом с дедом и не мог оторвать глаз от экрана.
Когда вышли на улицу, старик долго молчал и наконец сказал:
«Не все показали. Забыли Ольшаницу, например… И меня…»
Володя удивился:
«Вы у Щорса были? Или у Боженко?»
«У Гребенко!»
И вот рассказывает дед Михаил, как во время первой империалистической войны кайзеровцы дошли до самой Ольшаницы. На станции высаживались войска — кавалеристы, артиллеристы, пулеметчики. Во дворе у Лучка повесили штандарт — место расположения штаба. А потом вереницей потянулись на запад эшелоны. С пшеницей, салом, скотом…
А по мостовой, от Ольшаницы по направлению к Таращи, двигались броневики.
Но вот по селам разнеслась радостная весть: «Повстанцы…»
Фронтовик, бывший офицер Гребенко, организовал Первый повстанческий Таращанский отряд. Небольшой отряд, состоящий сначала из пятнадцати человек, обезоружил «государственную стражу», захватил оружие и, пополнив свои ряды, двинулся в поход. В Буках отряд уничтожил немецкий гарнизон и установил революционную власть. По призыву Букского революционного комитета в отряд вступило еще восемьсот добровольцев, которые принесли с собой четыре пулемета, около трехсот винтовок.
На железнодорожной станции Поташ отряд пустил под откос немецкий военный эшелон, а потом захватил Лысянку. Немцы не на шутку встревожились. За голову Гребенко обещали десять тысяч рублей. Из Богуслава, Мироновки, Ольшаницы к Лысянке подтягивались немецкие войска. Но партизаны разделали их что надо…
Рассказывал еще дед Михаил, как через мост пронесся какой-то немецкий всадник. Проскочив мост, конь, загнанный в мыло, замертво упал на землю; едва успел всадник соскочить с лошади и, не останавливаясь, огородами побежал в усадьбу Лучка, где развевался штабной штандарт. Немецкий генерал, прочитав депешу, доставленную гонцом, носился по двору как угорелый, рвал на голове седые волосы, то и дело выкрикивая:
«Майн готт, енедигер фатер!»[14]
Не зря генерал выходил из себя.
Под Калиновым Кустом отряд Гребенко полностью уничтожил стрелковый батальон и эскадрон конницы, под Стеблевым осталось лежать на поле боя пятьдесят оккупантов, несколько орудий, десятки пулеметов…
— Ты спишь, Володя? — спрашивает мать.
Володя медленно поднимает голову с подушки, с трудом раскрывает тяжелые веки. Мать просевает муку через сито.
— Уснул, спрашиваю? — смотрит она в глаза ласково, нежно, точно теплой волной омывает. — Спи, сынок, в наше суровое время только во сне, пожалуй, и хорошо…
Ответить тяжело, язык отнялся, во рту пересохло. Еле открывает веки, а они, непослушные, опять закрываются. Володя переворачивается на другой бок и уже слышит голос деда:
«В жизни будь твердым, ни перед кем не гнись! Землю родную люби. Сколько кровушки за нее пролито! Посмотри вот туда. — И он показывает на горизонт, где Рось проходит прямо к опушке леса, а рядом с высоким крутым берегом подымается высокий вал. — За валом теперь бахча. А было время, когда стояла одна крепость. Еще князь киевский Ярослав строил здесь форпост на Роси. А когда двинулся Батый на Киев, не один завоеватель здесь голову положил. Там, у самого синего леса, возле Одая, гетман Богдан после победы над шляхтой раскинул свой лагерь. А вон там, где пруд, в двадцатом году крестьяне белополяков разгромили… Ты спи, внучек, — тихо шепчет дед, — а я пойду верши проверю».
Желтый диск ромашки, украшенный белыми лепестками, качаясь на ветру, склоняется над Володей, и парнишка погружается в забытье. Засыпает.
НЕКРАШЕНЫЙ ПЕС
«Пану гебитскомиссару Белоцерковского округа
доктору Штельцеру
от следователя Ракитянской
районной полиции Ивана Божко
Жалоба
Я неоднократно имел возможность засвидетельствовать свое глубокое уважение немецким властям и лично пану гебитскомиссару. Неустанная работа вот уже в течение двух лет вместе с теми, кто исполняет и претворяет в жизнь высокую политику фюрера на освобожденных землях, и дает моральное право обратиться именно к Вам по столь важному для меня делу.
На территории Ракитянского района, особенно в последнее время, активизировали подрывные действия вражеские элементы. Это требует усиления деятельности полиции с целью предупредительных мер, направленных на полное выявление комиссаров и их пособников.
Однако начальник районной полиции пан Сокальский после проведения операции «Шверт» (об этом я имел возможность лично доложить пану гебитскомиссару донесением № 96 от 7 ноября 1942 года) и после награждения его медалью стал вести себя слишком высокомерно: не советуется со своими коллегами и не принимает во внимание их предложения.
Осмелюсь обратить Ваше внимание на тот факт, что, проявив бдительность и инициативу, я на свой страх и риск занялся проверкой жителей района, которые, возможно, причастны к этим злодеяниям. В результате принятых мер было арестовано пять жителей села Молчановки Ракитянского района. Следствием установлено, что все они являются участниками молодежной подпольной группы, что все они совершали организованные нападения на эшелоны с военными грузами, принимали участие в убийстве охраны, в похищении оружия. Так, например, у Ивана Молчана при обыске обнаружили дневник. В нем зарегистрированы все основные действия, которые производились на территории гебита с целью вооруженного свержения нового строя. Упоминается заодно и Ваша фамилия. Арестованный на допросе показал, что нашим освободителям в скором времени будут предъявлены обвинения в каких-то серьезных злодеяниях, совершенных, извиняюсь, по его словам, на «временно оккупированной немецкими захватчиками советской территории». Отдельно составлен список лиц, «сотрудничавших с фашистами». В нем числюсь и я. Иван Молчан на допросе добавил, что этим людям счет будет предъявлен особый и партизанами и советской властью, которая, извиняюсь, по его словам, «обязательно вернется с победой». С целью психологического воздействия на арестованных комсомольцев Ефименко Степан был расстрелян, член подпольной группы Яценюк Иван после активного допроса умер в камере. Остальные арестованные — Виктор Борщенко, Иван Молчан и Петр Якименко — до сих пор находятся под усиленной охраной.
Но что делает пан Сокальский? Он присутствует на допросах и собственноручно воздействует на арестованных. То, что он до сих пор не доложил Вам о раскрытии преступников, очень настораживает, тем более что это есть прямое нарушение служебных обязанностей. Не о себе болею, пан гебитскомиссар. У меня все есть, и всем я доволен. Беспокоит меня халатность и недобросовестность, которые могут привести в конечном итоге к тяжелым последствиям и нанести вред нашему общему делу. Я заканчиваю свою жалобу твердой уверенностью в победу фюрера и верой в справедливость Вашего правосудия».
Божко поправил очки, откинулся в кресле, любуясь своим ровным и четким почерком. Потом осторожно почистил бумажкой перо, размашисто подписал жалобу и бережно положил ее в конверт. Потирая руки, будто под умывальником, он, довольный, сказал:
— Теперь будет вам, Михаил Кононович, еще одна медаль! — Зеленоватые глаза следователя хищно сверкнули. — Желторотый пацан из Ольшаницы, сын коммуниста Бучацкого, и тот заметил, что я должен быть начальником. — И открыв дверь, брезгливо крикнул: — Василия ко мне!
Через минуту Божко, покровительственно похлопывая по плечу рябого полицая, приказал:
— Ну, земляк, важное поручение. Только никому не болтай. Быстрей готовь коня и скачи в Белую Церковь. Передашь пакет этот в руки самому гебитскомиссару.
Полицай расстегнул китель и, спрятав пакет во внутренний карман, сказал:
— Будет исполнено, Иван Ефимович!
Через час Сокальский пришел к Божко. Как всегда, его короткая и толстая шея багровела, прикоснись к ней — так и брызнет кровь. Не здороваясь, он смерил серыми пьяными глазами своего подчиненного и нехотя бросил:
— Донесение гебитскомиссару готово?
— Михаил Кононович, необходимо еще раз допросить арестованного. Возможно, получим дополнительные сведения, — с достоинством объяснил Божко.
— Затянули дело! Пора кончать. А то ведь так можно и все награды упустить.
Божко ехидно сощурился, но пьяный Сокальский, к счастью, этого не заметил.
— Михаил Кононович, не беспокойтесь, взгляните лучше на фотокарточки.
— Какие еще там фотокарточки? — вспылил Сокальский.
— Из Таращи прислали.
Вспомнил Сокальский, как охотились они однажды в лесу на партизан и там как раз с таращанским начальником полиции и сфотографировались. А сейчас он прислал снимки. Присел Сокальский у стола, разглядывает внимательно карточки и улыбается. А потом вдруг помрачнел и недовольным тоном спросил:
— Что это такое? — И он ткнул толстым пальцем.
Божко склонился над фотографией. Рядом с немецкой овчаркой, заложив руку за борт шинели, позировал Сокальский. Угодливый фотограф подрисовал овчарку в рыжий цвет.
— Отличная фотокарточка, ничего не скажешь! — не понял Божко.
— «Отличная, отличная»! — рассердился Сокальский. — Мерзавцы! Собаку могли сделать цветную, а меня не захотели?
— Какие пустяки, Михаил Кононович. В другой раз и вас сделают в цвете, — пытается успокоить Божко своего начальника.
— Когда же в другой раз? — уставил на него глаза Сокальский.
— При первом удобном случае. Вам самим, наверное, неудобно, так я подскажу кому следует.
Сокальский поднялся и, пожимая Божко руку, с уважением произнес:
— Я очень вам признателен, Иван Ефимович, желаю успеха!..
«Я ИВАН!»
Гебитскомиссар доктор Штельцер быстро снял пенсне, положил на стол и нервно зашагал по кабинету.
У дверей лежала овчарка. Она поднялась, подошла к хозяину и покорно лизнула ему носок сапога.
Доктор был крайне взволнован и не мог скрыть своих переживаний. И как всегда, когда он нервничал, большая блестящая лысина покрывалась вдруг красными пятнами. Киевский генерал-комиссар Магуния е такие минуты шутил: «О доктор! По пятнам на вашей голове можно без труда изучить географию, здесь есть все: и острова, и материки, и моря, и даже заливы». Подхалимы угодливо подхихикивали, и это было доктору особенно неприятно.
Что же сейчас так взволновало доктора?
Жалоба следователя полиции. Да-да, именно жалоба, что лежит на столе. Правда, не вся, лишь одно место в ней.
Доктор шагал по мягкому ковру и думал. Что за страна, что за люди? Сколько их уже расстреляно, сколько отправлено в рейх! Казалось, не должно быть никаких препятствий на нашем пути. Все уничтожено. А здесь какой-то Иван Молчан вносит его, гебитскомиссара, в один ряд с другими фамилиями в список и угрожает предъявить обвинение за совершенные злодеяния. Какое неслыханное нахальство!
Он будет уничтожен, стерт в порошок! А может, не только этот Иван занес гебитскомиссара в список? И сколько здесь этих Иванов?
И стучит горячая кровь в седеющих висках доктора. А отовсюду доносится:
«Я Иван!»
«Я Иван!»
«Я Иван!»
«Я Иван!»
Штельцер в страхе закрывает глаза и видит окровавленное лицо подпольщика, которого расстреляли в его присутствии. Тот тоже угрожающе хрипит:
«И я Иван…»
«Какой ты Иван? Ты же Степан!» — возражает ему доктор.
«Все одно Иван, мы все Иваны! И мы всем вам, душегубам, еще поотрываем головы!»
«Но у меня есть свой Иван, наш Иван Божко!» — кричит гебитскомиссар.
«То не Иван, то Каин!»
Гебитскомиссар бросается к своему столу и нажимает черную кнопку. Овчарка напряженно всматривается в лицо хозяина. Ей тоже передается его беспокойство. В кабинет входит солдат.
— Хайль Гитлер!
— Хайль…
— Вызывали, герр гебитскомиссар?
— Вызывал… Как тебя зовут?
— Иоганн, герр гебитскомиссар.
— Вон!
Солдат уходит. Услыхав крик, сразу же появляется дежурный офицер.
— Принеси мне кофе!
— С молоком?
— Молоко? — вскочил на ноги Штельцер. — Может, еще к тому же из офицерской столовой?.. Крепкий черный кофе! И срочно позови доктора из военного госпиталя — невропатолога Тешнера…
Черный кофе благотворно влияет на нервы Штельцера, и он немного успокаивается, садится за стол. Глубокая морщина появляется на лбу, медленно бледнеют пятна на лысине, а на жалобе появляется резолюция:
«Трех подпольщиков повесить на площади села Ракитное с табличкой «Убийцы». Следователя Божко представить к награде.
Сокальского сурово наказать, но освобождать его с занимаемой должности нецелесообразно. Они с Божко конкуренты. Чем больше будут они соперничать, тем больше пользы это принесет нашему делу. А потому начальнику полиции за несвоевременную подачу сведений объявить выговор».
Штельцер поднял голову.
«Хоть и паршивый конь, — продолжает думать о Сокальском гебитскомиссар, — но пока тянет, не выпрягать же его из саней?»
Потом склоняется над жалобой и медленно выводит: «Срок исполнения распоряжения три дня!» Осторожно открываются двери. Штельцер быстро поворачивается и видит па пороге доктора Тешнера.

— Разрешите? — спрашивает Тешнер.
— Да-да, заходите. Я вас давно жду. Хочу с вами посоветоваться. Нервы не выдерживают… Что у вас нового?
— Я только что собрался к вам. Вчера в госпитале скончалось восемь офицеров.
— Из тех, что пили молоко?
— Да. Экспертиза дала заключение: у всех отравление мышьяком…
Гебитскомиссар обессиленно опустился в кресло, бледными губами прошептал:
— Проклятая страна… Чудовищные люди!
СЛЫШИШЬ, ГОРНЫ ЗАИГРАЛИ…
Сокальский неистовствовал. С пеной у рта, с налитыми кровью глазами, с обнаженной грудью, со взъерошенными волосами, он был страшен в порыве охватившей его ярости.
— Кто? — хрипел он.
В ответ — молчание. Ни слова, ни стона. И это еще больше приводит начальника полиции в бешенство. Он весь вспотел от бессильной злости. А потом его голос сорвался и перешел на поросячий визг:
— Всех уничтожу! Всех повешу! Кто научил? Кто еще был с вами?
В который раз хватал Виктора Борщенко за воротник и бил головой об стену:
— Говори!
Но Виктор молчал…
Сокальский устало присел возле стола. Наполнил стакан водой, жадно выпил. Вытер с лица густой пот и со злорадством посмотрел на изнывающую от жажды жертву.
Виктор раскрыл рот, точно хотел что-то сказать.
— Воды? — спросил Сокальский. — Расскажешь — вдоволь напьешься.
В комнату быстро вошел Божко. Посмотрел на Борщенко, перевел взгляд на Сокальского.
— Не мучайте себя, Михаил Кононович… — успокаивает начальника полиции следователь и, уже обращаясь к Виктору, говорит: — Боишься, что предателем назовут? Напрасно. Степана Ефименко уже давно расстреляли. Иван Яценюк умер при допросе. Им теперь уже все равно. А тебе еще жить да жить надо. Спасай себя! Расскажешь — отпустим домой. А все будут знать, что вашу тайну выдали Ефименко и Яценюк.
И снова Божко напомнил, как недавно они казнили Ефименко. Пять пуль прошили тело смельчака, а он стоял лицом к стене и не падал.
Суетился Сокальский, приказывая полицаю, кричал:
«В затылок, в затылок целься!»
«Я бы не промахнулся, я бы тебя, мерзавца, первый прикончил бы… — прошептал Степан. — Жалко, что не успел…»
Сухо треснул шестой выстрел, и Ефименко по стене медленно сполз вниз.
«Земля родная…» — и не закончил.
— Изверги! — с ненавистью выдохнул Виктор. — Чего вы издеваетесь надо мною?! Ничего я вам не скажу.
Он обвел палачей сухим взглядом своих изуродованных во время допроса глаз и харкнул кровью на стол, за которым сидели его палачи. Потом, превозмогая боль, устало закрыл глаза.
Удар Сокальского — и Виктор упал на пол, сразу потеряв сознание.
Сокальский поднялся, подошел к сейфу. Загремел ключами.
Достав пухлую папку с надписью сверху справа «Совершенно секретно», а под нею «Молодежь, опасная новому строю», он медленно развернул ее.
«Раздел первый. Казненные».
Тихо шелестят страницы под толстыми пальцами начальника.
«87. Чередниченко Анна Семеновна…
193. Павличенко Георгий…
Раздел второй. Отправлено в Германию».
И снова шелест страниц.
«Раздел третий. Находятся под подозрением.
246. Яценюк Иван».
Сокальский взял карандаш и напротив фамилии написал: «Арестован. Не выдержал допроса, умер».
«247. Ефименко Степан. Арестован, расстрелян.
248. Борщенко Виктор — арестован.
249. Молчан Иван — арестован.
250. Якименко Петр — арестован».
На этой странице Сокальский подписал: «Совершали вооруженные нападения на эшелоны, убийства солдат и офицеров, диверсии на железной дороге. После активного допроса, выявления их пособников, как они, так и те, кто им помогал, должны быть расстреляны».
Сокальский перевернул страницу.
«261. Бучацкий Владимир. Закончил четыре класса в сорок первом году, пионер, на базаре пытался достать части к радиоприемнику. Обыск положительных результатов не дал, если не считать того, что найдена на чердаке книга Аркадия Гайдара под названием «Школа». Замечено его появление накануне ареста у бывшего партийного работника Чередниченко Анны. Сама арестованная какую-либо причастность Бучацкого к подполью опровергла. Не раз его встречали на железнодорожной станции возле эшелонов. Зафиксирована его встреча с Георгием Павличенко, который на допросах отказался что-либо говорить о Бучацком.
Несколько раз Бучацкий появлялся в Ракитном и в Молчановке. Истинная цель прихода в город и в село, а также его связи с местными коммунистами до сих пор не установлены. На ферме в Шарках пас стадо, подозрений не вызывал…»
Подняв голову, Сокальский посмотрел на следователя, затем перевел взгляд на потерявшего сознание Виктора Борщенко. Плеснул водой из ведра, приказал встать. Потом поднес стакан воды.
Удивленно посмотрел Виктор на Сокальского, взял дрожащими руками стакан. Мелкой дрожью стучали зубы о стекло. Сокальский забрал стакан, поставил свой стул напротив Борщенко.
— Арестованный Владимир Бучацкий, — спокойно начал начальник полиции, — на допросе показал о своих связях с тобой, Яценюком, Молчаном, Якименко и Ефименко. Почему ты молчишь об этом?
У Виктора будто что-то оборвалось внутри. «Неужели и его взяли? — Но сразу овладел собой: — Провокация».
— Никакого Бучацкого я не знаю, — отрезал Виктор.
— А кого ты знаешь?
— Я вас не понимаю.
— Из Ольшаницы, я спрашиваю, кого знаешь? — повторил, скрипя зубами, начальник полиции.
— Из Ольшаницы? — переспросил Виктор. И, немного подумав, сказал: — Следователь Божко ольшаницкий…
Сокальский вскочил со стула:
— Следователь Божко?! — закричал он в ярости, повалил Виктора на пол и дважды ударил сапогом в грудь. — Говори: Бучацкого знаешь? Знаешь или нет?!
— Нет, — прошептал Виктор и опять потерял сознание.
— Надо было покончить с ним еще тогда, когда на рынок приходил, — с трудом перевел дыхание Сокальский.
— Нехитрое дело — волку съесть ягненка, — спокойно объяснил Божко.
— Но ждать, когда у этих ягнят вырастут зубы, у меня нет ни времени, ни желания.
— Успеем, не волнуйтесь. Сколько там из третьего раздела на очереди?
Сокальский Заглянул в дело:
— С полсотни наберется.
— Вот и хорошо. Раза три закинем невод, и Бучацкий обязательно попадет в нашу сетку. Так что не беспокойтесь, Михаил Кононович. Мы его не упустим…
Когда Борщенко увели, Божко спросил Сокальского:
— Что же дальше?
— «Дальше, дальше»… — с раздражением сказал начальник полиции. — Сколько здоровья у меня отняли эти бандиты… — На минуту умолк, а потом: — Будем выполнять приказ Штельцера. Вешать их надо сразу всех троих: Борщенко, Молчана и Якименко.
— Когда?
— Сразу на рассвете.
— Удивляет меня, Михаил Кононович… — как-то тихо, немного испуганно произнес Божко.
— Что вас удивляет?
— Какой фанатизм! И откуда он берется? Во что они верят? На что надеются? Взять хотя бы этого пацана. Что он видел? В колхозе колоски собирал, босоногим в школу бегал, повязав на шею пионерский галстук… Нет, я решительно отказываюсь понимать этих голодранцев.
— И не надо, — пробормотал Сокальский.
— Что не надо?
— Не надо их понимать. Просто надо всех уничтожить — сразу, до последнего колена.
— Не так все просто, — вздохнул Божко и тихо вышел из комнаты.
* * *
Всю ночь моросил холодный дождь. Неподвижно повисло над Ракитным тоскливое небо, покрытое тяжелыми серыми тучами. В городе по-прежнему царила тревога.
…Они не спотыкались. Шли уверенно и гордо. А рядом с Сокальским и переводчиком Лауренцем в тяжелом раздумье брел усталый Божко.
«Как они могут так идти? Где только силы у них берутся? — удивлялся следователь. — Скотина и та ревет, вырывается, когда чует, куда ее ведут. Не могу понять их…»
Рассвело. Виктор шел первым. Иногда он поворачивал голову, глаза его скользили по лицам конвоируемых и наконец остановились на следователе. От его взгляда Божко становилось жутко…
Их вели под конвоем на площадь. Туда, где еще вечером построили виселицу.
Ветер — холодный и злой. Чеканя шаг коваными сапогами, по мостовой маршировали немцы. Следователь ежился, пряча лицо под воротник.
А эти трое шли как ни в чем не бывало, шли в плохоньких рубашках, босые, русоволосые. Шли измученные, обреченные, но не покоренные… Виктор Борщенко, Петр Якименко, Иван Молчан…
На площади, возле виселицы, их остановили.
Ветер притих и стал вдруг ласковым и нежным. А может, им это только показалось.
И увидел Божко: парни напружинились, словно туго натянутая струна, смело подняли головы вверх. Слушали и жадно ловили каждый звук, даже легкий шелест ветра в голых ветках. Засветились глаза великой надеждой…
И теперь все услышали: оттуда, с берегов Днепра, донесся глухой орудийный гул.
Видел Божко, как сразу оживились глаза у Виктора и он смело шагнул навстречу немцам. Лауренц испуганно схватился рукой за автомат, но юноша остановился.
Вскинул парень руку вверх, указал в ту сторону, откуда слышались взрывы, и громко спросил:
— Слышишь?
Посмотрел на палачей своих глазами, полными ненависти и презрения, но в которых не было места раскаянию.
— Слышишь, горны заиграли?!
Орудийный гул все нарастал и нарастал. Тяжело выползали из-за леса разорванные тучи и расползались, точно стадо, по всему небу.
Высокими призраками чернели на площади три виселицы.
А за Росью светлел горизонт.
Медленно наступало утро…

НАД ПРОПАСТЬЮ
Скрепил медной проволокой Володя подошву башмака и еще сверху стянул крепкой бечевкой.
— Куда ты так рано? — забеспокоилась мать.
— Пойду на ферму.
— Ты же больной, подождал бы еще день. Посмотри в окно, какая непогода, — пробует уговорить сына мать.
— Ничего, как-нибудь доберусь.
Сунул в карман краюху хлеба, накинул на ходу брезентовую куртку и быстро вышел в сени.
Поднялся по лестнице на чердак, вынул из дымохода два камня, а потом достал котомку, в которой был спрятан радиоприемник. Подключил антенну, надел наушники. Прежде чем отнести радиоприемник подпольщикам, не мешает еще раз послушать… Сначала раздалось тихое попискивание, а потом далекий голос:
«…Войска Степного фронта после трехдневных ожесточенных боев сломили сопротивление противника и 29 сентября штурмом овладели городом Кременчуг.
На Киевском направлении наши войска в результате ожесточенных боев вышли на укрепленные рубежи в районе Дарницы и, отбросив немцев на правый берег Днепра, овладели железнодорожным узлом… и укрепленными пунктами на левом берегу реки — Выгуривщиной, Трухановым островом, Поздняками, Осокорками.
В течение 28 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили сорок шесть немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито пятьдесят два самолета врага…»
«Ага, наша берет!» — обрадовался Володя. Спрятал приемник под куртку, слез с чердака и вышел на улицу.
Моросил мелкий холодный дождь, низко ползли серые тяжелые тучи. Совсем развезло дорогу.
За переездом быстро повернул налево, добрался огородами до берега, осторожно ступая, пошел по мостку.
После болезни мальчуган чувствовал себя неуверенно, дрожали ноги, кружилась голова.
Вышел на окраину, обошел старую вербу. Слева синели молодые насаждения, чуть дальше дыбилась зубчатая стена темного леса.
Понуро раскинулись вокруг просторы, и тень запустения, точно печальная скорбь, пробегала по одиноко заброшенным нивам. С криком кружились стаи грачей над черной пашней. Под ногами тяжело хлюпала грязь.
Вот и Ракитное, за ним Молчановка.
Шел по селу Володя унылый, глядя себе под ноги. Лишь на площади поднял голову. И сразу стал как вкопанный: перед ним на виселицах тихо покачивались тела казненных. Почерневшие, в багровых синяках, в легких рваных рубашках, босые… Против каждого повешенного — палка, торчащая из земли, на которой прибит кусок фанеры с надписью: «Бандит. Убийца».
Он узнал. Узнал тех, с которыми давал присягу до последней капли крови бороться с врагами. Володя метнулся в сторону. Осмотрелся — нигде ни души. У старой палатки наклонился и засунул в мусор под ржавый лист железа котомку с радиоприемником. Неожиданно из-за угла показался рябой полицай с карабином.
— А ну уходи отсюда! — закричал. — Чего здесь шляешься? Или, может, и ты из этой компании? — и непристойно выругался.
Володя свернул в переулок и почувствовал, как что-то горячее подкатило к горлу — не передохнуть. Устало прислонился к забору и закрыл глаза.
— Чего тебе, мальчик? — раздался совсем рядом добрый женский голос.
Раскрыл глаза — во дворе стояла женщина.
— Тетя, тетя, — быстро заговорил взволнованный Володя, — когда же их?..
Женщина подошла поближе.
— Господи, да ты же совсем горячий! — всплеснула она руками. — Пойдем со мной, сынок, в хату. — И она ласково взяла Володю за руку, повела в дом. — Откуда ты?
— Из Ольшаницы.
— Снимай свой пиджак, присаживайся к столу, обедать будешь.
Женщина засуетилась у печи, поставила на стол тарелку борща, нарезала хлеб.
— А может, у тебя тиф? — настороженно спросила она.
— Нет, простуда… На площади был… Я их всех знал…
— Год тому назад к ним из Ольшаницы девушка приходила, Анна Чередниченко, до войны она у нас в редакции работала.
— В прошлом году ее и забрали. Говорят, казнили в Белой Церкви.
— Ты к ним шел? Володя кивнул головой.
— Не ходи. Полиция там засаду устроила. Всех подозрительных задерживают, издеваются… Их повесили на рассвете.
Мальчишка приложил руку ко лбу. Рука дрожала и была как огонь.
…Возвращаясь домой, Володя переулками пробирался на площадь. У шалаша поднял лист железа, разгреб мусор. Котомки с радиоприемником не было. Выглянул из-за угла: по-прежнему возле виселицы ходил полицай.
«Кто-то из своих забрал, — подумал Володя. — Если бы взял полицай или немцы, обязательно устроили бы засаду…»
Эта мысль дошла до сознания мальчишки только тогда, когда он уже выбрался на дорогу.
«А если засада?..» — подумал он и вздрогнул, вспомнив троих повешенных парней, босых, в легоньких рубашках…
Тучи клубились на небе. Осеннее бледное солнце медленно ползло к горизонту.
ГОЛЫЙ ДОБЫВАЕТ СЕБЕ СОРОЧКУ
Наконец медаль получил и Божко. И хоть обещал Сокальский, что после награждения наступит сладкая жизнь, но она стала еще горше. Нелегко было пану следователю.
За последний месяц он здорово похудел и состарился. Лицо побледнело. Теперь следователя мучили сомнения: два года служил верой и правдой, а зачем? Днем ходил точно лунатик, стараясь уйти от прошлого, а оно, как призрак, преследовало его. Ночью не мог уснуть, сон пропадал, и вдруг возникали замученные, обреченные, повешенные. Приходили незвано, непрошено, ничего не спрашивали, ни о чем не просили. Молча выходили из углов и в упор глядели на следователя районной полиции. Гнал он их от себя, а они стояли — стояли измученные, окровавленные, с перекошенными от нечеловеческих пыток глазами и подолгу, упрямо смотрели на него…
Не выдерживали нервы у следователя.
— Чего вам от меня надо? — как-то после бессонной ночи закричал он.
И в комнате шепотом ответило эхо:
«Мщения…»
А однажды пришел и тот, с татуировкой на руке. «Шагула!» — сразу узнал его Божко.
«А ты чего?» — ужаснулся он.
«За что вы меня?.. — шепотом спросил убитый. — Я же был ваш. Под Житомиром командира орудия сержанта Воронина, раненного, в окружении бросил, из Красной Армии дезертировал. Разве Сокальскому и вам я не преданно служил? Сколько людей продал, а вы мне чем заплатили?.. Просил землицы, а вы мне — пулю в лоб…» Шагула шагнул к Божко и осторожно присел на край кровати. Следователь отшатнулся от него и проснулся в холодном поту…
Немцы отступили за Днепр. Если рано утром хорошо прислушаться, то можно услышать — там, на Днепре, как какой-то великан крутит гигантские жернова войны.
Нет, не радовал сейчас следователя приказ о награждении его медалью. Божко ждал ее немного раньше. А теперь для чего она ему? Лишнее доказательство верной службы врагам Советской власти. Мысленно он уже не считал немцев освободителями. Он называл их, как и все население, оккупантами. На службе чувствовал себя подавленным и вялым. Снова тянуло в лес, где проработал почти двадцать лет, где знал каждую поляну, каждую тропку. Хотелось бросить все это и убежать туда, где никто не обидит, где ничто не напомнит ему о двух годах крови и страданий.
«Не обидит, говоришь?» Перед глазами следователя встал окровавленный Борко.
«Не напомнит?» — спрашивает Молчан.
«Я ведь не только смерть сеял, не только кровь проливал, — оправдывается Божко, — я и добро людям делал…»
«А что?»
«Я же пионера от смерти спас…»
«Какого?»
«Ну того, мальчишку из Ольшаницы… Бучацкого… Да-да, кажется, Володей его зовут…»
Следователь встал из-за стола, подошел к окну и долго смотрел, как тополя тихо роняют на землю мертвые листья.
«Надо вызвать его к себе, поговорить, напомнить. Может, пригодится».
Скрипнула дверь. Божко вздрогнул и быстро повернулся. Просунув голову, в кабинет заглянул полицай.
— Чего тебе?
— К вам пришли.
— Кто?
— Говорит, по секретному делу.
— Давай!
Следователь пригладил левой ладонью брови, потер виски и сел за стол. Приняв серьезный вид, он деловито склонился над бумагами. А когда поднял глаза, то увидел перед собой незнакомого мужчину в брезентовом плаще. Глубоко запавшие глаза его враждебно глядели на следователя, правую руку он держал в кармане. Это насторожило Божко, и он его спросил:
— Что тебе?
— Большой секрет.
— Тогда садись.
Но неизвестный по-прежнему стоял, продолжая держать руку в кармане. Божко заволновался и поднялся.
— Чего ты? — повысил голос. Неизвестный резко выдернул руку из кармана.
— А вот чего! — наставил он на следователя пистолет.
«Вот оно, мщение…» — промелькнула молнией мысль.
Божко присел, рванулся из-за стола, прыгнул вперед и ловким движением сбил направленное на него дуло. Правой рукой схватился за пистолет, левой — сильно сжал незнакомца за горло.
Не ожидая такого решительного нападения, тот упал и потянул за собой следователя. Божко старался вырвать пистолет, но неизвестный крепко держал его.
«Только не кричать, не звать на помощь! — лихорадочно пронеслось в голове следователя. — Это или моя смерть, или спасение. Лучше я его сам обезоружу. Потом допрошу и сразу же отпущу. Пускай идет, откуда пришел. Во время расплаты у меня будет два спасенных человека: Бучацкий и этот…»
Следователь и неизвестный катались по полу кабинета, тяжело дышали, хрипели. Божко сдавал.
Отпустив горло неизвестного, Божко обеими руками вцепился в пистолет. И вдруг внезапно раздался выстрел.
Неизвестный охнул, сразу обмяк и разжал руку. Божко вскочил на ноги и, держа наизготовку оружие, встал над ним. Дрожали колени, во рту пересохло, лоб покрылся каплями соленого пота. Ногой толкнул еще податливое мертвое тело. К столу медленно поползла узенькая струйка крови.
Скрипнула дверь. В кабинет вбежали часовой, начальник полиции Сокальский, следователь Корчак.
Сокальский посмотрел на Божко, сразу побледнел и бросился к нему:
— Иван Ефимович! Вы живы?
— Еще немного, и уже был бы мертвым, — облизав сухие губы, перевел дыхание Божко.
— Не может быть, не может быть.
— Вы жалеете, что я не убит?
— Что вы, Иван Ефимович! Как вы могли так подумать! — замахал руками Сокальский.
Потом подошел поближе и торжественно сказал:
— Поздравляю вас, Иван Ефимович! Обезвредили еще одного сельского коммуниста. Пускай околеют все, как этот. Имейте в виду, сегодня же о вашем подвиге будет известно самому пану гебитскомиссару.
— Не надо, — лениво и безразлично ответил Божко. — Хватит с меня ваших наград! — повысил он голос. И сразу почувствовал, что сейчас сорвется, и, не в силах сдержать себя, закричал: — Хватит!
— Я вижу, вы сильно взволнованы, — спокойно сказал Сокальский. — Я понимаю, вам грозила смерть… Но в присутствии подчиненных вести такой разговор о награждении не следовало бы. Вы подаете плохой пример. Об этом тоже будет известно. Не пану гебитскомиссару, а пану гебитсполицайфюреру.
— Ваше дело…
— Не мое, а наше, общее, — поучал Сокальский.
— Не делайте этого, Михаил Кононович. Не надо, — тихо произнес Божко и устало присел на стул.
— Не надо, говорите? — угрожающе спросил Сокальский. — Почему не надо? Вам все сходит. А меня это не устраивает. Кто родился не в рубашке, тот должен ее сам добывать. А я вот родился без нее. Совсем голым. Понимаете, го-лым. Поэтому и добываю ее.
— Снимая с ближнего… — отрубил Божко.
— А ты? — побагровев от злости, вспыхнул Сокальский. — А вы? Я могу припомнить, как и вы ту рубашку добывали…
Да-да, и тоже с ближнего!.. Давно вы христосиком стали? За шкуру свою боитесь, Иван Ефимович? Сладеньким хотите быть? А доносы гебитскомиссару кто пишет? А начальником полиции кто хочет быть? А кто «на собственное усмотрение», как вы писали, выловил комсомольцев и отправил их на виселицу? А операцию «Шверт», а моего лучшего агента Шагулу забыли? Сами себе яму роете! Пан Штельцер лучше знает Сокальского, чем вы все, вместе взятые, так что тайных донесений на меня не потребуют. Моему успеху завидуют все. В том числе и вы, Иван Ефимович. Но имейте в виду, что у нас с вами больше врагов, чем друзей. Зачем вам эта мышиная возня?
Следователь съежился, как под ударами хлыста.
— У вас, Михаил Кононович, есть основания сомневаться в моей верности нашему общему делу? — пошел на примирение следователь. — Этот труп, — ткнул пальцем, — свидетельствует о том, что я до последнего дыхания предан фюреру.
— В отношении вас у меня нет никаких сомнений, — махнул рукой Сокальский. — Но характер у вас тяжелый. — Потом обратился к Корчаку и дежурному полицаю: — Выйдите!
Плотно прикрыл за ними дверь, сел напротив Божко.
— Ссориться нам, Иван Ефимович, нет никакого смысла! Только прошу вас: поддерживайте мой авторитет снизу, а я буду защищать вас сверху. Не сейте раздора. Помогайте мне. Врагов и завистников у нас с вами хоть отбавляй. Продвигаясь вперед, всегда наживаешь врагов. Но я никогда их не боялся и не боюсь. Я им еще покажу! Шеф меня поддерживает. Обещал через месяц «мерседес» черного цвета передать в мое личное распоряжение.
— Вы до сих пор бредите легковой машиной?
— Живой о живом думает, Иван Ефимович. Вот тем, что на площади повесили, и этому, что на полу валяется, им уже ничего не надо.
Наступила тишина. И лишь большая зеленая муха, угодив в паутину, надоедливо жужжала за портретом Гитлера.
— Суровое время наступает, пан начальник, — первым нарушил молчание следователь. — Сейчас такое время, что надо во что бы то ни стало заиметь лисий хвост и волчью пасть…
Убитого обыскали. Вывернули карманы, ощупали каждую складку одежды, раздели догола, осмотрели портянки, проверили голенища старых кирзовых сапог. Самосад в сатиновом сером кисете, огниво, кусок газеты «Новое украинское село» для цигарок. Бумажка, а на ней карандашом нарисована схема Ракитного и три серых крестика — квартиры Сокальского, Божко и бургомистра Пустовета.
И напечатанная листовка: «Ко всем полицаям….» Какой-то Хитриченко писал:
«…Предлагаю задуматься над тем, что прочтете.
…Красная Армия, освободив тысячи населенных пунктов, продвигается на запад. Близок час уничтожения немецкого фашизма. Тысячи партизанских отрядов бьют врага с тыла.
…Вам не следует забывать, что, ведя борьбу против партизан, вы тем самым помогаете фашистам отправлять в Германию ваших братьев и сестер, расстреливать советских людей, сжигать села. Я уполномочен товарищем Ковпаком уверить вас в непобедимости наших отрядов.
Не стреляйте в партизан, переходите на нашу сторону. Партизаны уничтожают только тех, кто будет сопротивляться, кто навсегда продал Отчизну, свой народ и стал немецким прихвостнем. Всех, кто честно пришел к нам, Отчизна простит.
Тех, кто будет сопротивляться, уничтожим. Нас много, и весь народ с нами…
Прочитай и передай другому…»
Докладную записку о том, что произошло, листовку-обращение, оружие, схему городка с вестовым отправили гебитсполицайфюреру.
…В тот вечер Сокальский вернулся домой злым. Огрел палкой пса, ластившегося к хозяину, обругал жену, приказал подать ему водки.
Опорожнил два стакана. Голова сразу пошла кругом, привалился на стол.
— Такой план… про…валился, — едва ворочал языком Сокальский.
И в затуманенной голове отрывками одна за другой вырисовывались картины недавних дней, когда еще только-только рождался так неожиданно провалившийся план. А как хорошо было все придумано!
…Вызвал начальника полиции гебитскомиссар Штельцер в Белую Церковь. Ожидал его Сокальский в приемной до самой ночи. Наконец произошел разговор. Да разве это разговор? Кричал пан Штельцер. Грязной свиньей обзывал его, начальника районной полиции, человека, перед которым весь район дрожал. Угрожал расстрелом, пугал снятием с должности. Сокальский сидел на стуле, как черт на сковородке. За что такая немилость? Ну конечно же, во всем Божко виноват! Не иначе как его докладная записка гебитскомиссару. И Штельцер действительно показал заявление с жалобой на Сокальского… А под конец беседы гебитскомиссар сказал:
— Если так и дальше будешь работать, сниму с должности, будешь рядовым полицаем, а начальником назначу Божко. У него голова на плечах, а у тебя?..
Как вспомнит Сокальский эти слова, так кровь к голове приливает, сразу в жар бросает.
— Своими дрязгами губите все дело, — раздраженно говорил Штельцер.
— Это неправда, пан гебитскомиссар, — пробовал оправдаться Сокальский. — У нас единство. Мы советуемся…
— Советуетесь! Как кошка с собакой?..
Всю дорогу, до самого Ракитного только и думал о Божко — что ему сделать, как «отблагодарить». В голове мысли роились, как осы в потревоженном гнезде…
Совсем потерял покой Сокальский. Не знал, откуда ждать новой напасти — или от партизан, или от гебитскомиссара, или от Божко. Подозрения и постоянный страх постепенно рождали в нем лютую злобу. Не раз закрывался на ключ, доставал фотокарточку своего врага — завистника Божко и, тыкая ему под нос шиш, плевал прямо в лицо. «Эх, — вздыхал он, — если бы был жив Шагула! Он для меня бы все сделал. Хороший агент был, а погиб из-за этого проклятого следователя».
Через неделю после разговора со Штельцером Сокальский пришел домой поздно ночью. Только сел ужинать, как во дворе залаяла собака, загремела цепь. В дверь кто-то осторожно постучал. Вышел в сени. Долго стоял, прислушивался.
— Кто там? — наконец спросил он, набравшись смелости.
— Это я, бедолага ваш Алекса, из-под Кобыляк.
И вспомнил Сокальский «бедолагу». Год тому назад случайно повстречался с ним в Черниговских лесах. Тогда немцы на партизан все силы бросили. Были полицаи и из Полтавщины. Сокальский сошелся с одним из них — Алексою, который прихватил с собой две грелки с самогоном… Заболел Алекса в лесах расстройством желудка и отослали его, беднягу, домой. А Сокальский со своими полицаями едва живым вышел. Как вспомнишь об этом, мурашки по коже пробегают.
Открыл дверь, сказал хмуро:
— Проходи!
Грязный, осунувшийся, вошел Алекса в хату,
— Дали бы белье какое-нибудь. Вши совсем заели, — сказал он вместо приветствия. И попросил поесть…
А потом, уже сидя за столом во всем чистом и с аппетитом уплетая борщ, Алекса жаловался:
— Мы же им и душой и телом служим. Вместе с ними и отступали на правый берег. А они возле Переяслава отобрали у нас лошадей, продукты и послали под Ржищев окопы рыть. Голодом морили, издевались. К своим податься — страх за душу берет. Не простят ведь, а? С немцами — тоже верная смерть. Эх, собачья наша жизнь! Вот вспомнил, что вы в Ракитном, убежал от немцев — и сразу к вам. Может, какой совет дадите?.. Вот подобрал в поле листовку. Пишет какой-то партизан по фамилии Хитриченко. Говорит, будет прощение, если мы вовремя опомнимся…
Прочитал листовку Сокальский. Задумался. Вот тогда и созрел у него тот план.
— С голыми руками, — сказал он, — к партизанам идти — все равно что в петлю лезть. Есть у меня заклятый враг — следователь полиции Божко. Возьми с собой оружие и листовку в карман положи. Больше ничего не надо. Документы оставь у меня. В полдень иди в полицию и просись на прием к Божко. Дежурному скажешь, что есть секретное дело. А как зайдешь в кабинет, так молча стреляй в него прямо из пистолета. Наповал негодяя!.. А потом можно и к партизанам. За Божко они тебе все грехи простят.
— А если ваши меня убьют? — сжавшись от страха, спросил «бедолага» Алекса.
— Не бойся. Я буду с тобой рядом, — успокоил его Сокальский. — А если и задержат, не волнуйся. Я тебе побег организую. Партизанам сам все расскажешь. И заодно обо мне слово замолвишь. Я готов перейти к ним. Все секретные документы им передам.
Алекса согласился. На этом и порешили.
Однако до чего долгая осенняя ночь. Сокальский внес в план некоторые изменения. Алексе не сказал ни слова…
«Ну погоди, я тебе еще отомщу, — по-прежнему тешил он себя мыслью, готовя хитрую западню Божко. — Руками Алексы сотру в порошок! А убежит «бедолага» к партизанам, сохранит себе жизнь, расскажет обязательно и обо мне. Вот только помилуют ли меня?.. Всё они знают, всех припомнят — и старых и малых. Нет, не с ними мои пути-дорожки, если жить хочу. А как хочу! — едва не вскрикнул Сокальский в темноте. — Алекса после убийства убежит, а меня немцы повесят. Штельцер за Божко не помилует. Может еще догадаться, чья это работа. Вот будет на весь район позору! Днем, в самом помещении полиции партизан убивает лучшего следователя района и преспокойненько убегает…»
И созрело решение:
«После убийства следователя «бедолага» Алекса живым оставаться не может. Как это Божко меня учил? «Свидетель должен молчать. Только мертвый не предаст…» — улыбнулся Сокальский, довольный самим собой. — Ученому, Иван Ефимович, ума у других не занимать. Ваш ученик еще кое на что способен… Как только в кабинете следователя раздастся выстрел, я сам первым брошусь в комнату и уничтожу Алексу. «Колокол свободы» напечатает статью «Поединок пана Сокальского с бандитом»; в районной газете скажу, чтоб передовую озаглавили «Победа». Сам Штельцер меня отметит… Как все-таки вовремя появился этот «бедолага», — думает Сокальский и засыпает безмятежным сном.
…Сокальский поднял тяжелую голову. Хмельными глазами смотрит он на стол, на пустой стакан.
— Та-ко-ой план… про…про…валился… — и снова тянется к бутылке.
…Не спал этой ночью и Божко. Совсем стемнело, когда добрался он до Ольшаницы. Тускло дымил фонарь в здании полиции, куда зашел следователь. Рябой полицай с похмелья не сразу взял в толк, кто вошел. Щелкнув затвором карабина, едва не пристрелил следователя.
Божко послал его за Бучацким.
— Лошадей запряги, подвезешь, — сухо сказал полицаю.
— Лошадями еще их развозить, — огрызнулся рябой, — что-то забарствовали…
— Не твоего ума дело, болван! — рассердился Божко. Рябой полицай торопливо вышел.
— Нет порядка, совсем распустились, дисциплину забыли!.. — ворчал Божко.
Подошел к стене и прочитал уже известное ему распоряжение.
«…Мною установлено, — писал гебитсполицайфюрер, — что за последнее время отдельные полицаи при встрече не здороваются поднятием руки и выкриком «Хайль Гитлер!».
Приказываю довести до сведения всех полицаев мои требования, а руководителям призвать всех подчиненных к исполнению своих обязанностей.
Напоминаю: приветствие должно быть исполнено движением руки — быстрым и резким. Тех, кто нехотя подымает руку, или тех, кто с трудом ее подымает, будто страдает ревматизмом, я прикажу в кратчайший срок вылечить от этой болезни.
Всех, кто до сих пор еще не научился здороваться таким образом, предупреждаю и напоминаю, что сверху падает не только дождь, снег и жареные куропатки, но иногда и град из шомполов, способный быстро восстановить память тем, у кого она пропадает…»
— До чего дожили, — качает головой следователь.
Часа через два заскрипела несмазанными колесами подвода, и в комнату вошел Володя. Заспанный, в больших отцовых сапогах, в материном жакете. Снял фуражечку:
— Здравствуйте…
— Здравствуй, паренек, здравствуй! — приветливо говорит Божко и поднимается со скамьи. — А ты куда лезешь! — обратился он к полицаю грубо. — Подожди на конюшне. Да смотри не распрягай лошадей. Скоро отвезешь парня домой.
«Здорово! — подумал Володя. — Что-то новое…»
— Садись, Володя!
— Ничего. Я могу постоять…
— В ногах правды нет.
— А где же она теперь есть? Божко словно и не расслышал.
— Поди, набегался за стадом?
— Я уже не пасу. Болею.
— Ну садись, — взял его ласково за плечи следователь, посадил на стул и сам присел рядом. — Нашел камушек? — спросил он мальчугана шепотом.
— А я думал, что вы уже забыли. Нашел. Очень хорошо им огонь высекать.
— Я не о зажигалке. Я спрашиваю: к приемнику подобрал камушек?
— К какому приемнику? — ощетинился Володя. — Не знаю никакого приемника.
— Не веришь мне? — обиделся Божко. — Я же тебя спас…
— Это я помню…
— Вот и хорошо, что помнишь. Никогда не забывай… И когда наши придут, тоже не забудь. А насчет того, что не доверяешь, правильно делаешь. Теперь самому себе нет веры.
— Почему же так? — удивился Володя. — Честным всегда надо верить. Без этого нельзя жить. Немцы посеяли подозрения и отучили верить в людей.
— Значит, ты мне тоже не веришь?
— Я вам этого не сказал.
— Я знаю, что у тебя был приемник, но не было камушка. Я давно достал для тебя, да за делами все некогда передать, — уже шепотом продолжает Божко. Сунул руку в карман, достал что-то завернутое в серый кусок бумаги и незаметно протянул Володе: — Бери, будешь потом слушать передачу.
Володя вскочил как ошпаренный:
— Нет у меня никакого приемника! Ничего мне не надо!
— Замолчи, сумасшедший! — зашипел Божко. — Люди услышат, еще и я с тобой в историю влипну. Я же тебя не заставляю… Может, матери дров надо? Так я сейчас выпишу.
— Не надо нам ничего.
— Ну что ж, парень, я ведь хотел по-хорошему. Не надо так не надо. А будет нужда — все равно приходи. Отец твой настоящим человеком был, вот и я решил о вашей семье позаботиться. Погоди, я вам еще пригожусь. Гора с горой, говорят, не сходится, а человек с человеком… Помни, что я дружил с твоим отцом. Только смотри не скажи, что я тебя предупредил не бродить без надобности, особенно возле железной дороги. Не забудь — никому ни слова.
Открыл дверь, переступил порог, крикнул в темноту:
— Василий, отвези парня!..
Проскрипел воз и затих, а Божко стоял возле окна, напряженно вглядывался в темноту и время от времени повторял:
— Какое одиночество, какой ужас…
Володя, взволнованный ночным вызовом, необычным разговором, никак не мог сообразить: что же все-таки случилось, какая беда подстерегает его? И лишь возле пруда, на перекрестке, к нему неожиданно пришла мысль:
«Крысы убегают с тонущего корабля… Где-то я читал… где, в какой книге?..» — пробовал припомнить Володя.
И еще: «Волк меняет шерсть, а не повадки!»
РЯБОЙ ПОЛИЦАЙ
«Неужели я один остался из членов подпольной группы? — думает с волнением Володя. — Знал пятерых — все погибли. А у нас даже обыск не делали… Выходит, не предали ребята, не испугались смерти, выдержали пытки. «А если я не выдержу и предам, — вспоминает мальчуган слова присяги, — пускай мое имя навеки покроется позором!» Нет-нет, не может быть, чтобы я только один из всей группы остался на воле. Как же быть? Не сидеть сложа руки до самого прихода Красной Армии!»
Вечером пробрался к криничке. Пересохла вся. Последний раз Володя брал воду из нее для Гайдара, а потом отвел ручеек в болото… И вот остановился парень под самой ольхой:
— Аркадий Петрович! Наступило мое время. Клянусь выполнить присягу! Обещаю отомстить за кровь и смерть моих друзей. Ничто меня не испугает!..
А по железной дороге, мимо колодца, грохотали воинские эшелоны с техникой. Немцы поспешно перебрасывали войска из-под Корсуна на запад.
В этот вечер Володя долго возился в кладовке. Разыскал чудом сохранившийся инструмент отца — ключи для подвинчивания рельсовых гаек, молоток. Заткнул за пояс, накинул брезентовую куртку. Мать бросилась следом, закричала:
— Ты куда? Вернись! — и схватила за руку.
Володя не вырывался. Серьезно посмотрел матери в глаза, ласково сказал:
— Мама, не мешай!
Прокатилась горячая слеза по щеке матери.
— Будь осторожен, сынок… — и горько заплакала.
— Буду, мама, — прошептал Володя и быстро пошел к берегу.
Не вернулся Володя той ночью домой. И на следующую не вернулся.
…Грохочут эшелоны. А там, далеко-далеко на горизонте, где должна быть Белая Церковь, стоит зарево. Прошли еще два эшелона, с тех пор как Володя за блокпостом притаился в кустарнике. Дважды подползал к рельсам, пальцы разбил до крови, орудуя ключом. По одной гайке осталось на стыках. И сразу же после второго эшелона Володя змеей подполз к рельсам. Отвинтил последние гайки.
Уже возле самой Рогозянки услышал, что пошел эшелон на Белую Церковь. Пошел, но не дошел. Загрохотало, загремело, с вагонов застрочили автоматы.

Володя бросился к берегу, ног под собой не чуял. Только сердце билось в груди: так-так, так-так!.. Возле моста перед ним выросла фигура.
— Стой! — раздался выкрик.
Володя замер. Перед ним стоял рябой полицай.
Крепко схватил мальчишку за плечо.
— Кто такой? — спросил сурово.
Володя молчал.
Полицай направил на него фонарик:
— А, старый знакомый!
Володя не мог произнести ни слова. Привычным движением полицай обшарил карманы, а потом вытащил из-за пояса молоток и ключ. Еще раз осветил его фонариком, подозрительно оглядел руки. Они были в мазуте, пальцы разбиты в кровь.
— Ах ты, щенок! Рельсы разбирал?! Это тебе уже не камушек к радиоприемнику!.. Чего ты возле виселиц шатался? Видать, из одной компании! А я его еще и на подводе по приказу следователя возил. Вот погоди!..
«Теперь конец!» — больно заныло в груди.
— Пойдем в полицию, — прохрипел рябой, — уж я там с тобой разберусь!
Дернул за рукав и потащил мальчишку на дорогу. «Что делать, как выкрутиться?»
Рассчитывать не на кого. Мысли беспорядочно проносились в голове, точно ласточки возле разрушенного гнезда. Неожиданно Володя остановился.
— Ты чего? — удивился рябой.
— Я, дядя, дальше не пойду! — решительно сказал мальчишка.
— Как?! — закричал рябой.
— Я вам не Шагула! — громко заявил.
— Цыц! — зашипел полицай и шепотом спросил: — Какой еще Шагула?
— Дезертир, что возок тащил, а вы уселись на тот возок — и в полицию. Шагулу убили, а объявили — парашютиста поймали. Я все знаю.
Рябой утих, словно вор, пойманный в чужой кладовке.
— Я еще и не то знаю! — хвастливо прибавил Володя.
— Ну что еще? — вздрогнул рябой.
— Не отпустите меня — завтра же вас расстреляют! — смело объяснил мальчишка.
— Ты смотри!.. Меня? Завтра? Да я тебя сейчас пристрелю! — и, толкнув мальчугана в спину, полицай щелкнул затвором карабина.
У Володи заныло под ложечкой: «А что, если и на самом деле убьет?..» Но он взял себя в руки.
— Вы, дядя, своей пушкой напрасно пугаете. Обо мне ваши знают. И я убегать никуда не собираюсь! Ведите в полицию!
Рябой вскинул карабин на плечо.
— Кто знает?
— Следователь Божко!
— Иван Ефимович?
— Ага. Это его работа.
— Какая работа?
— А ключ и молоток, которые вы у меня отобрали.
— При чем здесь пан следователь и ключ с молотком? — удивленно пожал плечами рябой. — Ничего не понимаю.
— Помните, три дня тому назад вы меня привозили на подводе к следователю?
— Как же, хорошо помню. Привозил.
— И отвозили?
— Ну и что?
— Он со мной разговаривал, а вас выгнал! Правильно?
— Не выгнал, а попросил в конюшне обождать.
— Молоток, ключ и еще кое-что дал мне как раз ваш следователь!
— Для чего?
— Чтоб выполнить приказ и сделать то, что я сегодня сделал. Я разобрал колею, и поезд сошел с рельсов.
— А ты не врешь?
— Проверяйте. Только я вам не имел права об этом говорить. И вы тоже никому не рассказывайте. Можете позвонить следователю. Он сразу поймет, в чем дело.
— Пойдем, вишь, в полицию! Пускай он сам с тобой разберется. Я позвоню в Ракитное.
В полицию шли молча. Возле потрескавшегося помещения кустовой полиции Володя, обращаясь к полицаю, сказал:
— Кроме вас, здесь меня никто не должен видеть.
— Знаю! — сердито ответил рябой. — Яйца курицу не учат.
Привел Володю к сараю, достал из глубокого кармана ключ, отомкнул замок, ногой толкнул дверь:
— Останешься здесь, а я доложу следователю.
За Володей закрылась дверь, стукнул тяжелый замок.
Долго крутил полицай ручку телефона, но Ракитное упрямо молчало.
Только через полчаса дозвонился рябой, попросил к телефону следователя Божко.
— Иван Ефимович, — сказал полицай, — за блокпостом военный эшелон сошел с рельсов!
— Знаю, — сердито ответил следователь. — На место выехала ремонтная команда, начальник полиции и усиленный наряд жандармерии.
— Я задержал преступника, — скороговоркой сказал рябой в трубку. — У него ключ и молоток, которые вы дали, — перевел дыхание полицейский.
— Какой ключ, какой молоток? Что ты мелешь? Что с тобой? Ты пьян?!
— С самого утра и капли не было во рту! А он говорит — ключ, молоток ему дали вы и приказали разобрать рельсы.
— Брехня! — прохрипело в трубке. — Снова Сокальский под меня яму роет.
— Да не Сокальский, — вспотел от напряжения полицай, — вишь ты, Бучацкий.
— Бучацкий? Какой Бучацкий?
— Володя, тот мальчишка, которого я три дня тому назад к вам привозил!
Трубка надолго умолкла. Наконец будто из погреба донеслось:
— Ты меня слышишь, родненький? — изменился в голосе Божко.
— Слышу, Иван Ефимович, слышу!
— Где он?
— Я его, вишь, замкнул на замок!
— Об этом никто не знает?
— Нет!
— Свяжи ему руки, тряпкой заткни рот, на подводу — и немедленно ко мне. И никому ни слова.
Полицай повесил трубку, снял шапку, вытер густой пот со лба.
— Ничего, вишь, не понимаю, — пробормотал рябой под нос и пошел открывать сарай.
Снял замок, толкнул ногой дверь.
— Выходи! — крикнул.
Но из темноты никто не выходил и не отзывался.
— Выходи, говорю тебе! — опять окликнул полицай.
И снова молчание.
Полицай включил фонарик, вошел в сарай, осмотрел все углы и остолбенел. На полу валялся замасленный брезентовый плащ, куски битого стекла от разбитого под самым потолком оконца. Рябой поднялся на цыпочки.
— Да здесь же и кот не пролезет! Как же он смог? — испуганно прошептал.
С неба сквозь разбитое окно полицаю игриво подморгнула звезда, словно издевалась над ним…
Вышел на улицу, снял карабин с плеча и трижды выстрелил вверх.
«Что же я скажу следователю?» — мучился рябой, направляясь в помещение полиции.
А в тесной накуренной комнате жалобно надрывался телефон.
Полицай подошел и как-то нехотя снял трубку.
— Ольшаница, Ольшаница! — кто-то кричал безнадежно.
— Я слушаю! — ответил рябой.
— Это Ольшаницкая кустовая полиция?
— Ольшаницкая, Ольшаницкая!
— Передаю приказ: с сегодняшнего дня объявлена эвакуация всех учреждений, полиции тоже. Направление движения на Таращу. Красные стремительным штурмом захватили Белую Церковь и идут на Ракитное.
Рябой побледнел. Ударил трубкой о стену и бросился к двери.
Теперь ему было не до Володи…
ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ НАСТАЛО
— Н-но, гнедые! Н-но, родненькие!.. — нетерпеливо дергая вожжами, размахивает кнутом дородный мужчина.
А в ответ мягкий перестук комьев снега о днище саней.
Мелькают вдоль дороги запорошенные снегом деревья.
Вся земля вокруг занесена снегом — изрытая, ископанная, металлом испорченная, огнем сожженная…
В синем небе, отливая прозрачным светом, повисла над Ольшаницей луна.
Сильный порыв ветра, с боку налетевший на сани, бросил в лицо большую охапку снега. И снова приглушенное:
— Но-о, родненькие!..
А в ответ ворон с высокой ветки: «Кар-р… Кар-р…»
— Будьте вы прокляты! — подбадривая себя, громко выругался дородный, ударил кнутом гнедого и оглянулся.
Утопая в глубоком снегу, стоят старые вербы, а между ними в разных направлениях петляют заячьи и лисьи следы.
Ветер снегом метет, сугробы наносит, дорогу преграждает.
Сани легко съехали с бугра, и полозья мягко покатились по гладкому зеркалу озера.
Забеспокоились гнедые, захрапели и остановились.
Дородный вытащил из-под дерюги автомат, присел возле саней.
На дороге, за кустом ракитника, что-то темнеет. Вдруг ночную тишину, как ножом, разрезал протяжно-долгий вой: «У-у-у-у-у…»
«Волк! — быстро сообразил дородный. — Волк… Впрочем, сейчас лучше с волком повстречаться, чем с человеком», — подумал он.
Навел автомат на куст, долго целился.
Та-та-та-та… — послышалось вокруг.
Волк подскочил, но тут же упал и больше не подымался.
Вздрагивая, рысцой побежали лошади.
«Сейчас волки злые, — подумал дородный, — да и сам я теперь, как волк!»
Луна скатилась с высоты, зацепилась за ветви и повисла на них; зловещий лес подступил с обеих сторон, подошел к самой дороге.
Натянул дородный вожжи, ударил батогом один раз, другой… Кони рванули — едва удержался в санях — и дружно взяли вскачь.
Рассвело.
Выскочили лошади за поворот и чуть было не врезались в завал.
— Стой! — раздался голос, прозвучавший как взрыв. Дородный кинул батог, схватил автомат и бросился в лес.
— Стой, стрелять буду! — снова прокатилось эхо. Притаился за деревом, прижал автомат и, не целясь, застрочил.
Потом осторожно отполз к сосне и послал вторую очередь.
Завязалась перестрелка. Теперь уже с обеих сторон неслись автоматные очереди. Подымали пули сухой колючий снег, ударялись о вековые сосны, словно майские жуки о стены.
А когда взошло солнце, стрельба прекратилась.
К сосне подошли трое. Дородный лежал неподвижно. Склонившись над трупом, один из них поднял автомат. Второй снял свою шапку с красной лентой.
— Эх, мать родная, такую шапку испортил! Три дырки.
— Шапку жалеешь? О голове своей лучше побеспокойся!
— Что голова! Голова цела. Если бы голову изрешетил… Вот и выходит, шапка мне сейчас больше всего нужна.
— Брось зубоскалить. Поищи документы. Но документов у убитого не нашли.
— Шапка ему теперь ни к чему, — сказал один и поднял меховую заячью шапку, лежавшую в стороне на снегу. Ощупал ее.
— Да здесь что-то есть! — обрадовался второй. — Вспорол ножом подкладку и вытащил какую-то бумажку. Пробежал глазами, побледнел, протянул старшему:
— Читай!
В удостоверении значилось: «…партизан Алекса Иванович Сивоконь отбывает в Каменец для связи с местным подпольем. Командир партизанского отряда. Начальник штаба». Подписи неразборчивые.
— Как же это так, неужели ошибка? — удивился партизан с продырявленной шапкой.
— «Ошибка, ошибка»… — бросил старший. — Живым надо было брать!
— Живым! — покачал головой третий. — Попробуй возьми… Нас троих мог уложить, а сам — убежать. А ну давай сюда шапку!
Взял шапку убитого, долго возился, пока не нашел еще один маленький кусочек бумажки. Тщательно осматривал, изучал, а потом старшему сказал:
— Ошибки не произошло, посмотри! — протянул бумажку.
Старший пробежал глазами и прочитал: «…коронок золотых — 37, перстней — 42, часов в железной оправе — 16, часов золотых — 3, денег советских — 89 325 рублей… Пулемет ручной — один, автоматов — 6, пистолетов — 12, патронов — 4 ящика. Одай, от креста 24 влево 7 прямо 12».
— Наверное, тот, кого ждали, но почему из Ракитного на Таращу через Ольшаницу? Кто же так ездит?
— Дороги, конечно, бывают разные. Особенно когда собьешься с прямой и пойдешь в объезд. А таких удостоверений партизанам у нас не дают. Фальшивое оно. Наверное, один из тех, кто врагу служил, а теперь убегает. Надеется еще вернуться! Поэтому и закопал в лесу на Одае те золотые коронки и оружие. Жаль, живым не взяли, много чего рассказал бы…
— Так кто же он?
— Сообщили, что начальник полиции Сокальский должен выехать. Может, он и есть? Правда, я его никогда в лицо не видел…
Хрустнула ветка в густых зарослях. Трое схватились за оружие, спрятались за дерево.
— Кто?
— Свои! — донеслось из-за кустов.
— Пароль?
— «Звезда»!
— Проходите!
На дорогу вышло двое: с автоматами через плечо, за поясом гранаты, на шапках красные ленточки.
— Это ты, Федя? — спросил старший.
Русоволосый крепыш вытер рукавом пот со лба, добродушно поздоровался и сказал:
— Услышали стрельбу — и быстрей сюда…
Партизан посмотрел на лошадей, сбившихся с дороги, на пустые сани и спросил:
— Убежал?
— Да нет… Лежит у дерева, не удалось живым взять. Не знаем кто. Видать, не простая штучка. Много беды мог бы натворить.
Русоволосый посмотрел на убитого и вскрикнул:
— Бог ты мой! Так это же мой «крестный»!
— Кто?
— Следователь Божко.
— Не ошибаешься?
— О! Он так «окрестил» меня в полиции — четырех зубов не досчитываю. Не один я его «крестный сын».
— Возвращайся в отряд. Пришли людей с лопатами…
В РАЗВЕДКЕ
«Седьмого января войска Первого Украинского фронта продолжали наступление и овладели… районными центрами Киевской области городами Ржищевом, Ракитным, а также с боями заняли больше семидесяти других населенных пунктов, среди них… Ольшаница…»
Из оперативного сообщения Совинформбюро от 7 января 1944 года.
Трижды прошел по улице дед Михаил, поглядывая на железнодорожную будку. Но, как нарочно, оттуда никто не выходил. Наконец на четвертый раз увидел дед Ирину, мать Володи.
— Не волнуйся, Володя у меня, — сказал старик вместо приветствия. — Убежал из-под ареста и теперь прячется. Обыск у тебя делали? Засады нет?
— Обыска не было, и засады нет.
— Видно, им сейчас не до нас. Драпают… Готовь, Ирина, ужин. Как стемнеет, вернется домой твой сын.
— Спасибо вам, дедушка Михаил.
— Не за что, доченька, не за что…
Как только Володя пришел домой и поужинал, сразу же уснул. Проснулся на рассвете.
Утро робко заглядывало в окна. Володя услышал какой-то непонятный шум, а потом бряцание оружия возле железнодорожной насыпи и на огородах. Припал к стеклу. За окном унылый рассвет. Ветер пригоршнями бросает снег в окна, шуршит сухими кукурузными листьями у забора.
У речки на пути от железнодорожного до деревянного моста движутся темно-зеленые фигуры. Нагибаясь, время от времени они разгребают снег и прячут в ямки какие-то подозрительные предметы.
«Немцы дороги минируют», — сразу догадался Володя, приметив, что немного вправо от колодца узенькая дорожка осталась незаминированной.
Выскочил на порог и увидел, как в хату тети Марты тенью прошмыгнула фигура. А потом услышал приглушенное:
— Шнель, шнель! Доннер веттер![15]
Присел гитлеровец под оградой, блеснуло пламя зажигалки, вспыхнул в руках факел, и красным языком огонь лизнул соломенную крышу.
Потом немец побежал дальше. Не пропускает ни одного двора. Одна за другой вспыхивают крытые соломой хаты. Море огня волнами разливается по Корчаковке, Слободе, Загребле, за прудом, и темно-красное зарево повисает над Комендантским районом. Там догорает.
С криком и плачем выбегают женщины и дети из хат, горит на них одежда. Босыми бегут они по снегу.
Володя долго не раздумывает. Некогда.
Бросился он к ближайшей хате в самое пламя. Из сундука охапкой хватал нищенские пожитки и относил в погреб. Подбежал к другой хате. Там уже хозяйничал дед Михаил.
Ни голода, ни усталости не ощущает Володя. Не чувствует и боли в обожженных руках…
К своей будке, покрытой черепицей и потому чудом уцелевшей от огня, мальчуган вернулся только в сумерках.
Не раздеваясь и не снимая сапог, устало повалился Володя на топчан.
Проснулся в полночь. Онемела рука — будто не своя, деревянная.
Осторожно поднялся.
Чутко спит мать после дня, до предела наполненного тревогами и страданиями. Посмотрел в окно — то и дело взлетает в небо ракета, и холодный белый свет выхватывает из ночного мрака очертания школы, силуэты деревьев, выстроившихся в ряд вдоль берега. Иногда густую темноту прорезает пулеметная очередь.
Тихо скрипнула дверь. Володя вышел на порог крыльца. Полной грудью вдохнул он морозный воздух. В темно-синем небе гнал ветер снеговые тучи.
Горькие запахи пожарищ, бензина, угарного дыма, все еще идущего от непрогоревшей соломы, пьянили запахом голову. Першило в горле.
Выглянул Володя из-за сарая, прислушался… Ни души.
Лег на землю и пополз по меже, густо поросшей бурьяном, по направлению к речке. Шуршит снег под локтями, шелестит жесткой от мороза ботвой.
Когда вспыхивает ярким огнем ракета, мальчуган еще плотнее прижимается к земле, замирает.
Вот и кусты, криничка, из которой Гайдару воду приносил.
— Пришло уже мое время, Аркадий Петрович! — прошептал он и пополз дальше. Скоро. Уже совсем скоро речка. В кустах ползти тяжелее, зато надежнее — не заметят.
Лишь бы на мину не нарваться. Вроде хорошо высмотрел из окна проход…
Болят ладони, горят руки, поцарапанные до крови. Но все дальше упрямо ползет Володя по минному полю к осокорю. А кажется, ползет не по жесткому снегу, а по жарким углям.
Бывало, летом не один раз с этого берега возле осокоря нырял он в речку. И вот сейчас Володя мягко скатился на лед.
Во рту пересохло; лизнул языком льдину. Ухо уловило: под корягой течение лед размыло, тихо журчит ручеек. Подполз поближе, прикоснулся сухими губами к ледяной воде и жадно, небольшими глотками долго пьет ее.
Утолив жажду, лег навзничь. Сквозь рваное облако в глубоком темном небе увидел маленькую звездочку.
Отдохнул.
И снова пополз. Уже за рекой, на огородах, наткнулся на засаду. Два бойца подхватили его под руки, один прошептал:
— Мы уже полчаса наблюдаем за тобой. Кто такой?
— Ведите к командиру меня.
— Проводи, я буду один, — приказал старший.
Через час Володя вышел от командира. О чем они разговаривали, никто не знал. Командир сам провел его к засаде, крепко обнял на прощание.
Тихо скрипнула дверь.
— Кто там? — испуганно спросила мать.
— Это я, — отозвался Володя. — Во двор выходил.
— Поберегись, сынок. Теперь такое время — погубишь себя, — жалобно попросила мать.
Володя молча разделся, прилег на топчан и тут же, подхваченный на легкие крылья сна, понесся к маленькой яркой звезде, которая освещала ему путь в темной ночи.
В полдень проснулся, густо сдобрил корку хлеба крупной солью и съел ее медленно, запивая холодной водой. Матери не было дома: наверное, пошла проведать соседей, которые прятались от немцев в погребе.
Потом достал с печки мешочек, положил в него краюху хлеба, кусочек сала, что мать приберегла на черный день, две луковицы, завязал в тугой узелок, сунул за пазуху и быстро вышел из хаты.
Прошел разбитую железную дорогу, добрался к насаждениям.
— Ложись! — словно выстрел раздался из-за куста, и на него уставился черный глаз автомата.
Володя лег.
Неуклюже ступая соломенными лаптями по снежному насту, подошел солдат. Ощупал карманы, вытащил из-за пазухи узелок, развязал. Губы растянулись в довольной улыбке:
— О! Шпик, хлеб, цибуля! Зер гут!
Привязал узелок к поясу с металлической пряжкой, на которой Володя прочитал: «Готт мит унс!»[16]
— Чего ходишь? — угрожающе спросил фашист.
— Сестренку ищу, — сказал Володя.
— Сестру? Ауфштеен, вставай! Шнель! Шнель!
Толкнул прикладом в спину и повел на другую улицу, вьющуюся на гору, с которой все видно как на ладони. Во дворе подошли к погребу, оттуда выглянула испуганная женщина. Гитлеровец ее спросил:
— Вы этот мальчишка знайт?
— Знаем, знаем, а как же! Это ж наш, Володя Бучацкий, — заторопилась женщина.
— Он ищет сестру. Он имеет сестру?
— Имеет, имеет.
— Помоги ему найти сестру!..
Немец направился к лесополосе. Возле пояса Володин харч, через плечо перекинут мешочек, чем-то туго наполненный, а к нему привязан котелок с флягой.
— Курощупы проклятые! — с ненавистью шепчет женщина. А к Володе: — Ты сам ищи сестренку, а то и меня с тобой черт попутает. Зачем ищешь приключения?..
Завтракал Володя по другую сторону реки. Вместе с капитаном.
— Ну, а теперь рассказывай, — попросил командир.
— Прямо за лесонасаждениями — немецкие часовые, — с волнением начал Володя. — Один меня задержал, а потом отпустил… В овраге, за хатами, видел орудия. Лошади стоят в сараях, солдаты — в хатах, а хозяйка — в погребе. На горе, рядом с высоким осокорем, его видно отсюда, под навесом закопан танк, а подальше метров на двадцать — еще один. Там, где улица выходит на широкую дорогу, за хатой стоит машина. Над нею антенна, а к хате с трех сторон провода протянуты. Возле дверей немец с автоматом как столб торчит. На колхозном дворе, за фермами, пятнадцать автомашин, покрытых брезентом, а возле них солдаты…
Капитан обратился к телефонисту:
— Вызовите пятнадцатого из «Бури»!
Через минуту телефонист передал комбату трубку:
— Пятнадцатый на проводе.
— Немедленно ко мне! Огурцы подвезли?.. Хорошо!.. Жду. Не успел Володя доесть котелок густой каши, которой его угостил телефонист, как на пороге выросла коренастая фигура.
— Товарищ сержант? — от удивления вскрикнул Володя, быстро вскочил на ноги и, смутившись, сразу умолк.

На погонах Воронина, которого они с матерью спасли в страшную осень 1941 года, сверкали три звездочки. Воронин бросился к Володе, крепко прижал его к себе и только потом, поставив парня на ноги, взял под козырек и четко отрапортовал капитану:
— Командир третьей батареи старший лейтенант Воронин по вашему приказанию явился! Только что подвезли еще по два боекомплекта на каждое орудие!
…Первый раз в жизни Володя был на наблюдательном пункте.
Рядом находились капитан — командир батальона и командир батареи Воронин.
— Как вы поседели… — удивился мальчишка.
— Люди на войне, Володя, рано седеют, — печально произнес капитан. — Ну показывай!
Володя жадно припал к стереотрубе, пристально вглядываясь в знакомые места. Слева широко раскинулся пруд, за ним — колхозный двор. Здесь на дворе Володя впервые увидел Божко и слушал его выступление. За двором — ферма.
— Орудия как раз за этим садом, за той высокой акацией, метр'ов пятьдесят, наверное, от поля, — уверенно объясняет Володя.
Командиры делают на планшетке соответствующие пометки.
Все неприятельские цели, обнаруженные Володей — танки, пушки, автомашины, вражеский штаб, — были нанесены на карту.
Вызвал полковник капитана, а Воронин остался с Володей.
— Ну, разведчик, — улыбнулся Воронин, — встретились! Расскажи, как вы здесь бедствовали.
Не торопясь, как взрослый, говорит Володя сначала о матери, о деде Михаиле, потом о ребятах из Молчановки — словом, обо всех.
Слушает Воронин мальчугана внимательно, не перебивает.
— А вы ничего про Аркадия Петровича не слышали? — закончив, спросил Володя.
— К сожалению, нет. Ходили слухи, будто бы остался он в партизанском отряде.
Ночью Вороний провел Володю к переднему краю.
— Не ходи по селу без дела! — строго приказал ему командир! — Все указанные тобой вражеские объекты будем уничтожать. Потом встретимся. Иди!
А Володя не уходил.
— Чего ты?
— Иван Петрович, дайте мне, пожалуйста, на память звездочку.
— Звездочку? — переспросил Воронин. — Это можно. — Снял с шапки красную пятиконечную звезду, протянул ее Володе, крепко на прощание прижал к себе мальчишку, потом слегка подтолкнул вперед: — Ну, разведчик, тебе пора!
* * *
На третий день вздрогнула, загудела под ногами земля. Выскочил Володя из погреба.
Стреляли из-за речки.
За железной дорогой все застлано завесой пыли. Медленно к небу поднималось желтое облако дыма, как раз на том месте, где Володя видел танки, автомашину с антенной, часового возле двери.
Фьюй, фью-у-у… — свистели над головой снаряды. А там, на горе, сначала вырастали черные кусты, потом раздавались взрывы, и эхо далеко разносило их оглушительный гул.
Огненный шквал нарастал. Основной удар был направлен на объекты, указанные Володей.
Здесь, ближе к переднему краю, засуетились немцы. Выбегали из жарко натопленных хат, залегали в окопах, на ходу заряжали оружие, готовили к бою гранаты — ждали атаки.
Но никакого наступления не было.
Артиллерийский обстрел внезапно прекратился. И сразу наступила какая-то необычная, жуткая тишина.
…Третий раз в ночное время переходит Володя нейтральную полосу — ничью землю. Но почему ничью? Это же наша земля, родная! На сей раз он идет не один. За ним в темноте ползут бойцы. Им необходимо проникнуть в расположение немцев.
А какое у них задание, этого, конечно, Володя не знает. Он никогда не был трусом. Но сейчас, когда рядом слышно дыхание бойцов, мальчуган чувствует себя еще увереннее.
Уже на усадьбе Ткалыча неожиданно, почти в упор, застрочил немецкий автоматчик, совсем близко разорвалась граната, и Володя вдруг провалился в темную бездну.
Сколько он пробыл без сознания, неизвестно, но когда пришел в себя, увидел троих немцев, возившихся возле погибших бойцов. Двое снимали сапоги, третий выворачивал карманы.
Поднял голову, хотел незаметно отползти — и вскрикнул от боли.
Тот, который выворачивал карманы, подошел поближе.
— Тише, швайне!..[17] — прошипел он над самым ухом и ударил Володю прикладом.
ЗАПАДНЯ
Удобно развалившись в кресле, гауптман Вернер поучал: — Вы ошибаетесь, герр Шифке, солдат, хороший немецкий солдат, должен быть обязательно еще и психологом. Я уже не говорю — педагогом. Да-да, педагогом. Особенно здесь, на Востоке. Надо уметь правильно разгадать славянскую душу. А у ребенка она особенно загадочная и таинственная. — Улыбнувшись, Вернер снисходительно продолжает: — В данном случае ваш метод неприемлемый. Майн готт! Подумать только — бить, обижать маленьких детей… Вы его изругаете и ничего толком от него не добьетесь. А нам необходимо кое-что узнать. Не забывайте, что мухи летят на сладкое, а не на уксус. Парень сейчас самостоятельный. Обычная любезность и доброта растапливают даже лед, и он без принуждения сам охотно расскажет нам сразу обо всем, что так нас интересует. Мы должны использовать его преданность родине в своих интересах… — И уже после паузы добавил: — Я счастлив, что мне представился случай продемонстрировать эксперимент перед моим уважаемым коллегой.
Довольный гауптман любовно провел ладонью по свежевыбритой щеке и, спрятав квадратный подбородок в меховой воротник, резко повернулся к солдату, стоящему у двери, и уже другим, повелительным тоном приказал:
— Привести арестованного!
Вытянувшись, солдат простуженным голосом прохрипел:
— Слушаюсь!
Из-за реки доносилась стрельба, глухие взрывы, какой-то невыразительный шум. А здесь царствовала тишина, и лишь ветер на верхушках деревьев выводил что-то печальное.
Тяжело переступил Володя порог комнаты. Недоверчиво, исподлобья взглянул на Вернера и вдруг почувствовал, как теряет сознание. Перед ним поплыли разноцветные круги, закачался пол, еще невыносимее зажгло в груди…
— Ой, мальчик! Ты, наверное, плохо себя чувствуешь? — бросился к нему Вернер, осторожно поддержал за плечи и медленно подвел к стулу. — Садись! Сейчас же принесите какао и шоколад. Шнель! — крикнул офицер в сени.
Володя устало опустился на стул.
— Тебя били? Сильно, мой мальчик, били? — сочувствует гауптман. — Что поделаешь! И у нас, как говорят, есть дураки. Я уже приказал наказать всех тех, кто мучил тебя: сегодня же отправим в штрафной батальон.
Незаметно наблюдал гауптман, какое произведет впечатление на Володю это сообщение.
— Ты боишься? — тихо спросил офицер.
Володя по-прежнему молчал.
— Я знаю, что красную звезду, которую нашли у тебя, ты получил на той стороне фронта. Ты можешь не говорить мне об этом… — Вернер предложил Володе какао и большую плитку шоколада. — Пей! Я хочу тебе помочь и заодно кое-что рассказать. У вас разные люди, и у нас тоже. Тебя, наверное, удивляет, что я свободно владею русским? Но я прожил в Советском Союзе не один год. Я бы давно мог по-прежнему жить в Москве, но я нужен здесь. Надеюсь, ты меня понимаешь?..
Володя слышал ровный, немного вкрадчивый голос гауптмана и никак не мог понять, что же немцу от него нужно. Если этот долговязый офицер хочет ему помочь, то почему он не отпустит его?
Но тот словно отгадал мысли Володи.
— Так просто я не могу тебя отпустить, — объяснил Вернер и придвинул свое кресло поближе к Володе. — Сам понимаешь, что причиной твоего ареста была не только красная звезда. Ты не один раз перебирался через речку, ты разведчик и выполнял порученное тебе задание.
Вернер любовно положил руку мальчишке на плечо, ласково заглянул в глаза:
— Я вынужден тебе довериться. Иного выхода не вижу. Есть очень важные сведения. Их необходимо немедленно передать на другую сторону. Они составляют для нас большую ценность. За последний месяц отступления я потерял связь с советским командованием. Эти сведения ты должен как можно скорее передать на тот берег. Расскажешь только одному человеку — командиру дивизии… И больше никому. Слышишь? Там в штабе работает переброшенный абвером[18] опытный шпион. Кто он такой, я еще толком не выяснил. Но если обо мне он узнает, мне расстрел обеспечен. И тогда я никогда не увижу своего мальчика Отто…
Гауптман достал из внутреннего кармана кителя кожаное портмоне и бережно вытащил оттуда фотокарточку, на которой улыбался белокурый мальчуган с живыми, веселыми глазами.
— Но это не главное. Советское командование потеряет своего разведчика. Здесь, в отборной дивизии фюрера. А Отто… я верю, что ты с ним обязательно встретишься, но случится это немного позднее, после нашей победы. Знаю — вы обязательно подружитесь. Я просто уверен!
Гауптман нежно поглядел на фотографию сына, его голос потеплел, взгляд затуманился.
— Ты знаешь, я очень соскучился. Война нас разлучила. Не знаю, когда еще придется с ним встретиться. У тебя, Володя, нет отца… — не то утверждал, не то спрашивал гауптман.
— Мой отец умер перед самой войной.
— Я знаю, он был коммунист, партизанил в гражданскую войну на Дальнем Востоке.
— Откуда вы знаете? — удивился Володя.
— О, я много чего знаю! Но не обо всем можно говорить вслух. Придет время, закончится война, и со многих событий спадет покрывало военной и государственной тайны. Тогда-то я тебе, мальчик, подробно расскажу обо всем… А красную звезду, которую тебе дали на той стороне, уж так и быть, я оставлю себе на память. Она у меня…
Володя был потрясен. Перед ним стоял неплохой человек в мундире врага, фашиста. Как он не похож на всех остальных! Гауптман защитил его от пыток и так хорошо сейчас с ним обращается. А может, и в самом деле это наш разведчик? Имеет важные сведения, и их необходимо немедленно передать нашему командованию…
— Я согласен доставить сведения на тот берег, — после некоторых колебаний соглашается Володя.
— От сына партизана, от советского пионера другого ответа я и не ожидал.
Гауптман достал из планшета топографическую карту, сложенную в гармошку, и быстро развернул ее на столе.
— Там, где лес вплотную подходит к реке, сосредоточены танки. С этого места они пойдут на исходный рубеж для атаки. Потом контрнаступление развернется на Белую Церковь и дальше на север, где танки должны соединиться с армейской группой, которая ведет сейчас бои в районе Житомира.
Гауптман говорил с Володей, как с равным. Разгладив рукой карту, он продолжал дальше:
— Склады боеприпасов замаскированы возле лесной дороги с Ольшаницы на Саварку, в трех километрах от опушки, артиллерийские позиции — за высоким валом. — Вернер снисходительно улыбнулся Володе. — Я не могу, мальчик, сам написать об этом. Агент абвера в вашем штабе может меня разоблачить. А потом и здесь установят мой почерк. Ты подумал, что будет со мной потом?.. Бери бумагу, карандаш и напиши своей рукой все, что я тебе говорил. Ночью мои люди тебя переведут на другой берег.
Володя принялся за работу. На приставном столике запищал зуммер. Вернер поднял телефонную трубку, несколько минут внимательно слушал, а потом ответил:
— Все идет согласно намеченному плану. Ваше задание будет выполнено. — Положил трубку, обратился к Володе: — Закончил?
— Да.
— Чтоб не вызвать подозрения, — сказал гауптман, — тебя сейчас отведут в сарай. Будешь пока находиться там под стражей. Я с тобой встречусь, когда стемнеет… — и, распахнув дверь, крикнул: — Заберите арестованного!
Под дулом автомата часовой вывел Володю из комнаты.
А гауптман срочно вызвал лейтенанта технической службы Раймана.
— Вам необходимо, — обратился он к лейтенанту, — не теряя времени, немедленно обеспечить прибытие пяти тракторных тягачей в семнадцатый и тридцать пятый квартал леса. Когда стемнеет, они должны по очереди, один за другим, через каждые десять — пятнадцать минут проходить вот по этому маршруту, а потом возвращаться обратно. И так до рассвета. Мы должны заставить всех на правом берегу поверить в то, что здесь, в лесу, сосредоточивается танковое соединение. Таков приказ штаба дивизии. Исполнение моего распоряжения контролируйте лично. Здесь концентрируются значительные силы русских. Мы должны задержать их продвижение, помешать им замкнуть кольцо окружения в районе Корсунь — Лысянка. Думаю, вы поняли всю важность полученного задания?
— Да.
— Исполняйте.
Вернер поднял телефонную трубку:
— Обер-фельдфебель Кольгас? Через пятнадцать минут пришлите ко мне ефрейтора Рейзиха… Да-да, снайпера Рейзиха из второй роты.
Потом взял дневник и записал:
«Когда наши войска вновь заняли Житомир, настроение у всех заметно поднялось. Фюрер приказал развернуть наступление и любой ценой взять Киев. Зимний поход на столицу Украины — наша последняя надежда. Но русские спутали нам все карты. Войска Первого и Второго Украинских фронтов пытаются сомкнуть кольцо окружения. В мешке может оказаться около десяти дивизий. Наша задача — приковать к этому участку как можно больше сил врага. Я уже разработал план. Его необходимо выполнить».
Вернер пододвинул зеркальце и принялся разглядывать свое лицо так, словно видел его впервые.
В дверь кто-то осторожно постучал.
— Войдите! — недовольно буркнул Вернер и отложил зеркало.
— Ефрейтор Рейзих прибыл по вашему приказанию, герр гауптман, — вытянувшись по стойке «смирно», доложил сухощавый снайпер.
Вернер встал, внимательно оглядел Рейзиха и спросил:
— Снайперская винтовка у вас в порядке?
— Так точно, герр гауптман, в порядке. Бьет без промаха.
— Вам поручается очень важное и ответственное задание. Выполнять его будете вдвоем. У вас есть надежный товарищ?
— Да, герр гауптман, снайпер Вилли Хоппе. Почти полгода мы с ним вместе охотимся на советских офицеров.
— Сегодня в полночь на участке роты лейтенанта Клинга, метров сто левее разрушенного железнодорожного моста, будет обеспечен переход через линию фронта мальчишке лет тринадцати. Вам следует залечь возле железнодорожной насыпи, пропустить его на правый берег реки, и ни в коем случае не дальше… — Вернер искоса посмотрел в зеркальце и сказал: — Русские должны подобрать его тело.
— Итак, его надо убить?
— Ефрейтор, никогда не употребляйте подобных слов. Нужно, чтобы те, к кому идет он, получили его мертвым. Повторяю: не раненым, а мертвым. Надеюсь, вы все поняли?
— Так точно, герр гауптман.
— Можете идти.
Вернер еще раз посмотрел в зеркальце. Чудесно! Все шло по плану, который разработал он — гауптман вермахта Вернер.
МАСКА СОРВАНА!
Володю мучили сомнения. Кто этот необычный немецкий капитан? Если враг, то почему он, как тот палач Шифке, не пытается узнать у Володи, где находится штаб? Ни одного вопроса не услышал он от него о том, что видел в расположении советских войск, о чем разговаривал с советским командиром, какое получил от него задание и как его выполнил.
Странно… Но сведения, которые ему передал немецкий офицер, очень важные. Танки… Володя слышит беспрерывный шум моторов именно там, где говорил гауптман. Об этом обязательно узнают наши. И фашисты за все получат по заслугам. О, как Володя ненавидит их!..
Немцы… В Германии родился Маркс, Энгельс был немец. А Тельман? Великий Эрнст Тельман, чьи пламенные выступления стали началом к сочинению Володи о солидарности международного рабочего класса. Нет, не так просто во всем разобраться. Не каждый немец фашист… А может, и гауптман такой же?.. Но как узнать? С кем посоветоваться? С темнотой, что медленно окружает сарай?..
И вдруг в голове возникает неожиданная мысль: неужели у гауптмана нет другой возможности, чтобы передать советскому командованию секретные данные?
И тут же находит ответ: а если их надо передать срочно?
По-видимому, так: срочно!
Тогда почему гауптман предложил записать все на лист бумаги? Я и так запомнил бы и рассказал там, за рекой.
Нет, правильно сделал гауптман. А если несчастный случай?
Война.
Все будет хорошо. Разве ему впервые переходить линию фронта? Утром старший лейтенант Воронин внимательно посмотрит в глаза, положит на плечо руку, как когда-то делал отец, и ласково скажет: «Как дела, разведчик? А ну докладывай». Володя молча достанет лист, положит ему на стол и все по порядку расскажет.
Закололо в груди. Володя перевернулся на другой бок, зашелестела солома.
А мысли-воспоминания роились в голове, как волны; набегают одна за другой, проплывают прямо перед ним, совсем как на экране. Экран… Белое полотно в сельском клубе. Там шел фильм «Болотные солдаты». О немцах, боровшихся за коммунизм. О немцах-коммунистах. А если гауптман коммунист? Может, он вовсе и не немец?..
В голове, точно в ветряной мельнице, промелькнет мысль и исчезнет, за ней вторая, третья… Будто крылья мельницы.
Вот промелькнула самая мучительная — как там без меня мать? Разрешат ли на минуту зайти домой, хотя бы увидеть ее…
Возле двери время от времени слышно поскрипывание снега под сапогами часового. Из щелей тянет холодом, гуляет ветер по каморке, тешится пламенем маленького каганца. И язычок дрожит, качается из стороны в сторону; только удивляться приходится, какая сила его заставляет держаться, раз он до сих пор не погас.
Услышал — отомкнули замок, кто-то с тихим стоном упал возле Володи. Володя поднялся на локоть. На лице нового арестанта запекшаяся кровь, дышит тяжело, в груди что-то хрипит, клокочет, на губах, вместе с выдохом, появляется розовая пена.
— Кто вы? — спрашивает Володя.
Вопрос лишний — мальчуган сразу догадался. Такие маскировочные халаты, ватные куртки он видел на советских разведчиках по ту сторону реки.
— Меня раненого захватили немцы… — пересохшими губами прошептал разведчик.
— Над вами издевались, били?
— Допрашивали. Гауптман Вернер злобствовал. Страшный человек… Не человек — зверь.
— Не может быть! — невольно вырвалось у Володи.
— Что не может быть? — спросил недоверчиво раненый.
— Чтоб бил вас гауптман. Это же наш немец! — решительно возразил ему Володя.
— Какой там наш! — по-прежнему ничего не понимает разведчик.
Володя наклонился к самому уху разведчика и, волнуясь, проглатывая концы слов, подробно рассказал сначала о себе, потом о задании Вернера.
Через минуту разведчик спросил:
— Где тот лист?
— У меня.
— Дай сюда.
Володя неторопливо достал вчетверо сложенный лист бумаги и протянул его разведчику.
— Подай мне огонь, — попросил он. Володя приблизил каганец…
— Вранье, провокация, — чуть слышно прошептал разведчик. — Послушай, там нет ни пушек, ни складов с боеприпасами, ни танков. Гауптман хочет ввести в заблуждение наше командование. Схема, написанная твоей рукой, ни в коем случае не должна попасть нашему командованию. Ты говорил, что был там несколько раз и что-то писал. Значит, твою руку, твой почерк знают. Поверят… Немцы могут тебя убить, а схему каким-то иным способом переправить на нашу сторону. Этот лист надо уничтожить. Сам понимаешь…
Собрав последние силы, разведчик поднес бумагу к каганцу.
И упал на солому.
Володя наклонился, голову его положил на колени и едва услышал разведчика:
— Обо мне не беспокойся, мне уже ничего не поможет… — И через секунду, еще тише, едва выговаривая слова, произнес: — Отвоевался… Уми…рать буду, ска…ска…скажи…
И умолк. В уголках рта заалела кровь. Что он хотел сказать в последний раз, кому и что передать?
Унес разведчик тайну с собой…
БАГРЯНЫЕ ЗОРИ
Прислонившись головой к лежанке, в ожидании Володя задремал. Внешне он был спокоен. Только мысли по-прежнему, словно большой мохнатый клубок, медленно разматываются в голове.
«Может, ошибается наш разведчик? Может, гауптман как раз и говорил правду?..» — пытают, мучают мальчугана сомнения.
В сенцах раздались шаги, скрипнула дверь. Володя вздрогнул. Вернер отряхнул снег с шапки и мехового воротника и, приятно улыбнувшись, учтиво спросил:
— Ну как, отдохнул?
— Холодно здесь и темно, — признался Володя.
— Ничего. Скоро встретишься со своими. Как бы я хотел быть на твоем месте! Ну что ж, собирайся. Я тебя сам проведу.
— Не беспокойтесь. Я сам дорогу найду.
— Нет-нет, одного я тебя не пущу. Могут солдаты задержать. И мало ли еще что может случиться! Нет, я пойду с тобой.
— Тогда разрешите мне хотя бы мать повидать, домой зайти, поговорить с ней, чтоб не беспокоилась, — попросил Володя Вернера.
— У меня кончается терпение, мой мальчик, — с трудом скрывая раздражение, продолжает Вернер, — Разведчик не имеет права задавать лишних вопросов. Ты получил задание, в первую очередь должен его выполнить. И немедленно.
— Но я вас не знаю… Я никуда не пойду. Я вам не верю!.. — смело говорит Володя.
— Пять минут на размышление. Уберите его! — крикнул часовым. — Пускай в другой комнате подождет. Коменданта штаба ко мне!
Прибежал комендант штаба, приземистый обер-фельдфебель.
— С кем разговаривал задержанный? — угрожающе спросил Вернер, когда вывели мальчишку.
И неожиданно увидел в углу труп.
— Кто это? — завизжал гауптман.
— Советский разведчик! — ответил обер-фельдфебель.
— Кто?! — побледнел Вернер и вдруг набросился на обер-фельдфебеля с кулаками. — Кретин, баран! Ты спутал все мои карты! Кто тебе разрешил в одном помещении с мальчишкой держать еще кого-то! Кто ты такой?
— Обер-фельдфебель Лютце, герр гауптман, — дрожащим голосом объясняет комендант штаба.
— Нет!
— Военнослужащий вермахта, герр гауптман.
— Нет!
— Солдат фюрера, герр гауптман.
Вернер ударил коменданта рукой по вспотевшему лицу, потом сорвал с фельдфебеля один погон, затем другой.
— Ты осел! Пойдешь в штрафную роту. Теперь тебе не увидеть дорогого фатерланда.
— А мы и так все в штрафной роте, в штрафном батальоне, полку, дивизии. И вся наша армия штрафная. Не сегодня-завтра все мы погибнем в этом мешке! — не выдержал Лютце.
— Молчать, негодяй! — пришел в бешенство Вернер. В комнату заглянул испуганный телефонист:
— Герр гауптман, вас вызывает в штаб дивизии герр оберст.
— Что я ему сейчас скажу?! Что?! — забегал по комнате Вернер. Ткнув фельдфебеля кулаком в зубы, сказал: — Мальчишку расстрелять немедленно!
Надел шинель и торопливо вышел из комнаты.
* * *
— Ауфштеен![19] — ворвалось в открытую дверь.
Володя поднялся.
— Ком мит унс, ком! Форвертс![20]
Вышли. Лес затаился в глубоком молчании. Только встревоженные белки прыгают с ветки на ветку, царапают коготками столетние стволы. Протоптанной тропинкой шагают по снегу трое. Впереди Володя, следом за ним немцы. Тропинка очень знакомая и родная, по которой не один раз ходил Володя. Тропинка, по которой, может даже завтра на рассвете, пройдут красные.
Выстрела Володя не слышал. Точно электрический ток пробежал по всему телу. Подкосились ноги. Еще увидел: в чистом зимнем небе высоко мигали большие звезды. Они росли, приближались и краснели, словно наливались кровью, а потом красным покрывалом тихо опускались на Володю.
Багряные звезды. Последние звезды.
Последние в человеческой жизни звезды.
Долго и тоскливо подвывает зимний ветер на верхушках высоких деревьев. А под ними пожелтевшими листьями шелестит молодой дубок. Дрожат под ветром хрупкие мерзлые листья, но никакая метель их не оторвет. Ранней весной дубок сам те листья тихо уронит на землю, чтоб потом потянулись к солнцу новые зеленые лепестки…

«СВОБОДА!»
Гауптман Вернер совсем потерял покой. Пожалуй, только он и еще несколько офицеров штаба знали, что сегодня все-таки сомкнулось кольцо окружения. Хотели утешить самих себя: дескать, фюрер не допустит повторения сталинградской трагедии, и войска, которые оказались в котле, обязательно попытаются спасти.
Конечно, и самим надо действовать.
Во что бы то ни стало надо выискивать слабые участки в расположении красных и осуществить прорыв.
Не раздеваясь, Вернер прилег на кровать. Хотя бы поспать часок. Но предчувствие обреченности отгоняет сон. Утром отступление на Мироновку, затем на Богуслав. И, возможно, последний шанс — прорваться на Лысянку.
Ни одного человека не оставлять живым. Сожженные хаты и пустыри — вот что останется большевикам после нашего отступления!
Всю ночь доносились стоны, крики детей, женский плач, треск автоматных очередей. Из подвалов и погребов выгоняли людей, выстраивали в длинные колонны и гнали на станцию.
Вернер услышал, как к складу со взрывчаткой подъехали сани. Зафыркали лошади, засуетились люди. Поднял тяжелую, точно не свою, голову, прислушался. И сразу же вскочил на ноги, припал к стеклу. Солдаты грузили на сани ящики со взрывчаткой.
Вышел на улицу, спросил у солдат:
— Кто старший?
— Лейтенант Шпрингер, герр гауптман, — последовал четкий ответ.
— Куда вывозите взрывчатку? — поинтересовался Вернер.
— Приказ штаба дивизии: всех местных жителей собрать на станции у складов «Заготзерно» и подорвать. К рассвету, герр гауптман, приказ ваш будет выполнен, — бойко отрапортовал лейтенант Шпрингер.
— Об этом солдатам известно?
— Известно!
— И как они восприняли?
— Никак. Они выполняют приказ.
— Не теряйте времени, лейтенант. К рассвету все надо закончить, — сказал Вернер, потирая замерзшие руки, и быстро пошел в хату.
«Да, все свершится, как намечено по плану, — думает Вернер. — Пусть зона пустыни встречает Красную Армию». Гауптман поднял телефонную трубку.
— Соедините меня с пятидесятым!.. Герр оберет! Докладывает гауптман Вернер. Ваш приказ получен. Склады «Заготзерно» с живым товаром взлетят в воздух ровно через два часа. Но я прошу отменить приказ.
— Почему вы вмешиваетесь не в свое дело? — возмутился оберет.
— А вы считаете, что это только ваше дело? Нам нужно вырваться из окружения. Людей, которых вы приказали взорвать, мы имеем возможность использовать более рационально. Уничтожить их мы всегда успеем, — спокойно отвечает Вернер.
— Что вы там мудрите? — выходит из себя оберет.
— Во время прорыва окружения мы бросим их на минные поля противника, а сами пойдем следом за ними. Советская артиллерия и танки не откроют по ним огня. А министерство доктора Геббельса будет иметь возможность объявить всем, что мирное население отступает вместе с нами. Всех, кто останется в живых, мы расстреляем, а потом сообщим, что это дело рук большевистских комиссаров, — продолжает все так же сдержанно Вернер.
— Мне нравятся сообразительные люди, герр гауптман, — сразу согласился оберст и положил трубку.
…Серой разорванной лентой колонна беженцев повернула от станции и медленно потянулась длинной цепочкой по степи. Вилась, изгибалась дорога на Карапыши.
Молчаливые, хмурые, перепуганные люди несли на руках детей, котомки с продуктами, то и дело поглядывая с ненавистью на вооруженных фашистов. Кое-кто тащил за собой санки, на которых всхлипывали маленькие дети, с головой закутанные в старое тряпье. У кого не было санок, тянули за собой по снегу деревянное корыто.
Растянулась колонна на целую версту.
Уже за перекрестком, как только вышли из села, из-за облака вынырнули три самолета и низко-низко пролетели над землей. На крыльях самолетов были видны красные звезды. Посветлели хмурые лица. На какое-то мгновение люди забыли про фашистов, несущих им горе и смерть, и, закинув назад голову, машут летчикам. И летчики, пролетая над колонной, в свою очередь приветливо покачивают им крыльями — по-видимому, обещают долгожданную свободу.
Едва переставляя ноги, не чувствуя мороза, безучастная ко всему происходящему, в самом хвосте колонны идет Володина мать. Большое, нечеловеческое страдание больно сжимает материнское сердце и никак не отпускает: «Где мой Володя? Что с ним стало? Что сделали с сыном гитлеровцы?..»
— Шнеллер! — заорал рядом идущий немец.
Будто очнувшись ото сна, подняла мать седую голову. Колонна медленно входила в большое село. На окраине его стоит покосившийся столб с прибитой фанерой, где крупными буквами выведено: «Карапыши».
Остановили колонну на площади. Немцы шарят по избам, сараям — ищут поживы, а заодно разыскивают, не остался ли кто случайно в селе.
Холодно вспыхнула желтая ракета и тихо растаяла над землей. Засуетились немцы, сбились в одну кучу. Высокий сухощавый офицер, размахивая руками, что-то объясняет солдатам. Движения его рук чем-то напоминают крылья летучей мыши. Офицер говорит, что советские танки прорвали оборону и перерезали дорогу на Корсунь. Получен приказ: колонна движется в направлении на Богуслав. Охрану поручить одному отделению, а остальным солдатам приготовиться к возможным боям и потому срочно прибыть в Мироновку.
Воспользовавшись ослабленной охраной и наступившими сумерками, люди незаметно забегали в пустые дворы, прятались в погребах, в сараях, на чердаках. Те, кому не удалось убежать, потянулись унылой вереницей на Богуслав.
С волнением ожидали беглецы наступления утра. Теперь уже совсем отчетливо доносится канонада из Ольшаницы, беспрерывно гремит у Корсуня. А здесь, в Карапышах, ни немцев, ни наших. Одни головы коров, насаженные на острие высоких частоколов, смотрят вдаль своими печальными, туманными глазами. Всю скотину извели, а головы выставили всем напоказ…
В воскресенье утром пришли разведчики, а за ними и танки. Женщины, старики, дети выбегали на улицу, плакали от счастья, обнимали, целовали солдат…
В полдень собрались люди на площади, на той самой, где еще совсем недавно стояли они с поникшими головами под охраной гитлеровских автоматчиков.
Молодой стройный капитан приветствовал жителей прямо с танка. Тепло поздравил он собравшихся с освобождением и предупредил, чтобы не сразу домой возвращались: все дороги заминированы. Лучше подождать, пока пройдут минеры…
Напрасно убеждал капитан — никакая сила уже не могла удержать людей. Сначала поодиночке, потом группами потянулись они в родное село. Ирина Ивановна — первая. Хотелось побыстрее узнать, что случилось с Володей, где ее сын…
Идут бои под Богуславом, над Росью, возле Стеблева, в окрестностях Корсуня.
А по старой карапышской дороге домой, в сожженные и разрушенные гнезда, журавлиным косяком возвращаются люди.
По белому снегу тянутся длинные траншеи, точно глубокие черные шрамы. А вокруг, на сколько хватает глаз, раскинулась заснеженная степь.
Там, под Корсунью, злобствует вьюга — крутит смерч, белым саваном покрывает некогда радужные надежды фашистов на свое господство. И вот эти люди, еще недавно угоняемые гитлеровцами, по-настоящему почувствовали дыхание весны,
Рвет крутой ветер полы тулупа, бросает сухие колючие комья снега в лицо старику, который, будто журавель с подбитым крылом, отстал от стаи, тащит из последних сил сани. А на санях — внук.
Истощенные, землистого цвета лица… У всех — и у деда Михаила, и у Ирины Бучацкой, и у этих женщин с детьми… Зато глаза горят, светятся — наступило долгожданное освобождение! Они ждали, они надеялись, они верили!
Торопитесь, дедушка! Не скоро вернутся ваши сыны… Домой им не близкий путь, не одни сапоги разобьют, не один раз перед атакой припадут грудью к земле. А пока вам придется с такими же седыми, как и вы, женщинами-солдатками да инвалидами подымать из развалин разоренное село, засевать поля…
Остановился всадник отдохнуть под стволом старой вербы. Приметал деда Михаила, устало притулившегося подле своего четырехлетнего внучонка: одеяльце осторожно поправляет на малыше, растирает снегом щечки…
— Отец, здорово! — крикнул гонец, и оба протянули одновременно друг другу руки.
Закурили крепкой махорки.
— Скоро немцам под Корсунью конец придет, — улыбаясь, утверждает всадник.
— Доброго пути вам, дети мои, кончайте побыстрее войну да живыми к родителям своим вертайтесь! — желает на прощание дед.
— У меня нет родителей, — вздохнул тяжело солдат, — погибли в Ленинграде во время блокады.
— Сыновья мои тоже под Ленинградом. Как думаешь, придет весть от них?
— Придет, отец, обязательно придет!.. — Всадник порылся в кармане, достал несколько кусочков сахара и протянул малышу: — Возьми!
— Не хочу я сахар, — ответил мальчик и посмотрел с недоверием на белый кусок.
— А чего ты хочешь?
— Картошки.
Не видели дети сахара и вкус его забыли за два с половиной года.
Поехал старик с внуком дальше. Глядит им вслед всадник, долго глядит.
«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!»
Мороз сковал оттаявшую землю. Северный ветер медленно гнал по небу тяжелые снежные тучи. Надвигалась метель. Комбат-3 только что пришел из штаба на свой наблюдательный пункт. В ушах все еще звучат отрывистые фразы командира артиллерийского полка:
«Петля затягивается. Здесь, на корсуньских полях, решается судьба окруженных оккупантов и начинается освобождение Правобережной Украины. Уже восемь дивизий первой танковой армии генерал-полковника Хубе подошли к Лысянке. Конечно, генерал Штеммерман бросит окруженные в корсуньском мешке войска ему навстречу. Фашисты пойдут напролом… Враг не должен прорваться на твоем участке, товарищ старший лейтенант Воронин! Готовь людей к трудному бою».
«Есть!» — козырнул комбат.
Он заранее расположил батарею за холмом, привел в боевую готовность. Позади раскинулась широкая долина, за нею — Журженцы. Наблюдательный пункт на пригорке, у самой дороги. Вместе с комбатом в окопе радист, телефонист и несколько артиллерийских разведчиков.
Напряженно всматривается Воронин в холодную тревожную ночь, потом включает радиостанцию и торопливо подносит к губам микрофон:
— «Буря», «Буря», «Буря»! Я — «Маяк», я — «Маяк», я — «Маяк»! Как меня слышите, как меня слышите? Перехожу на прием!
Ворвался чужой голос, он умолял:
— Ахтунг, ахтунг! Ее шприхт Хубе, хёрт Хубе: Ес блайбен цен километер. Комт цу мир! Комт цу Лысянка дурх! Комт аус дем кессель![21]
— Зашевелились, гады! — прошептал комбат и поправил настройку рации.
— «Маяк», «Маяк»! — раздалось будто совсем рядом. — Я — «Буря», я — «Буря»…
— Будь наготове! — передавал шифром Воронин. — Будь наготове!..
На рассвете докатился до наблюдательного пункта глухой шум. По-видимому, слева ветер донес гулкие выстрелы «тигров» и «пантер».
Комбат напряженно всматривался в бинокль. Через минуту рассмотрел темную зловещую массу, которая медленно выплывала из ночи.
— Ракету! — крикнул он разведчикам.
— «Буря», «Буря»! — металлом звучал приказ комбата. — Я — «Маяк»! Я — «Маяк»! Слушай мою команду! По пехоте, взрыватель осколочный, заряд первый, основное направление — влево два ноль-ноль, уровень тридцать — десять, прицел триста шестьдесят пять, батарея десять залпов — огонь!
Застрочили немецкие автоматы и пулеметы с бронетранспортеров, весь огонь направили на наблюдательный пункт. И сразу же из-за холма дружно отозвались орудия.
Первые ряды врага были сметены шквалом огня, факелами вспыхнули бронетранспортеры. Поле почернело от вспаханной земли, от обгоревших трупов. Отступили. А потом новая атака под прикрытием танков двинулась на наблюдательный пункт, обкатывала слева и справа, плыла стальной лавиной. И снова разрывы снарядов сотрясают землю, вздымая кверху высокие клубы черного дыма. Вот прямо на комбата с грохотом, лязгая гусеницами, наползает широкая громада танка.
— Гранаты! — кричит комбат, хватает со дна окопа связку и бросается навстречу головному танку. Упал, размахнулся и швырнул гранату под гусеницы.
После взрыва наступает удивительная тишина. Комбат видел, как вздрогнул и остановился танк. Но ничего уже не слышал: оглох. Посмотрел направо: из оврага приближалась вторая колонна пехотинцев, к пылающему танку медленно подползали бронетранспортеры. Разведчики автоматным огнем косили вражеские ряды. И вдруг заметил, как долговязый немецкий офицер бросил гранату в окоп разведчиков. Раздался взрыв.
Широкими прыжками подбежал Воронин к окопу.
«Не выдержим, прорвутся! — мелькнула мысль в голове комбата. — А как же приказ?!»
— Не пройдете, гады! — закричал он и скатился в окоп. Схватил микрофон: — «Буря», «Буря», я — «Маяк»! Вызываю огонь на себя, вызываю огонь на себя! Квадрат тридцать четыре — двадцать! Батарея, беглый огонь!
И в это время на комбата с бруствера бросилось что-то тяжелое и темное, сбило с ног, повалило на землю… Комбат выдернул придавленную правую руку, скользнул по меховому воротнику немецкой офицерской шинели и сжал хрящеватый кадык. Но тут же точно током обожгло сначала правый бок, потом грудь…
Кругом по-прежнему бушевал огонь…
ЗАВЫВАЕТ ПУРГА
Возвратившись в расположение своих войск, всадник спешился, зашел в штаб. Как корреспондента дивизионной многотиражки его познакомили с последними донесениями, с документами, только что захваченными у врага.
«Из боевого донесения командира артиллерийского полка, — прочитал он про себя.
Семнадцатого февраля комбату-3 гвардии старшему лейтенанту Воронину Ивану Петровичу было приказано не дать врагу прорвать кольцо окружения на участке дороги Комаровка — Журженцы.
На рассвете при продвижении двух немецких колонн в направлении высоты 236,0, где находился наблюдательный пункт комбата-3 Воронина, от огня его батареи враг понес большие потери.
Когда колонны фашистов прорвались на наблюдательный пункт, их уничтожали огнем ручного оружия, а потом по рации Воронин вызвал огонь батареи на себя.
Враг, предпринявший прорыв обороны, на участке гвардии старшего лейтенанта Воронина не прошел. В районе высоты 236,0 осталось лежать 750 убитых немецких солдат и офицеров. Остатки разрозненных колонн были уничтожены и захвачены в плен бойцами Двенадцатой гвардейской казачьей кавалерийской Донской Краснознаменной дивизии.
В районе высоты, в окопе наблюдательного пункта третьей батареи, погибли бойцы взвода управления батареи и комбат-3 Воронин. Немецкий офицер — гауптман Вернер — нанес ножом три смертельных ранения Воронину, но и сам был задушен Ворониным здесь же, на наблюдательном пункте.
У гауптмана Вернера найдены дневник, письма из Германии, фотокарточка сына и пятиконечная звезда. Где и для чего он добыл красную звезду, объяснить трудно…»
Корреспондент раскрыл дневник гауптмана Алоиза Вернера, офицера штаба 112-й пехотной дивизии:
«…Еще на левом берегу Днепра, под Полтавой, командир дивизии генерал-лейтенант Форст приказал беспощадно применять оружие, в плен не брать. С целью улучшения условий зимнего размещения войск все забирать из селений.
Старик был прав. В этой войне выживает тот, кто больше уничтожит».
На минуту журналист оторвался от дневника, прислушался. За окном тоскливо, как голодная волчья стая, завывала пурга. Завывала так, словно кого-то здорово оплакивала.
Перевернул корреспондент страницу:
«…Скоро нас живьем съедят вши. Из-за них я когда-нибудь сойду с ума. Условия жизни описать подробно — не в силах. Настроение у солдат отвратительное. Много простуженных и больных. Третий год воюю в этой стране. Не могу понять ни ее, ни людей. Здесь не только взрослые, каждый ребенок — наш скрытый смертельный враг.
Именно поэтому их надо всех до единого уничтожать. И чем быстрее, тем лучше. Только так мы сохраним жизнь. Свою и своих детей.
Недавно схватили подростка-пионера. Несколько раз пробирался он через линию фронта. А мы всё искали причину, почему советские артиллеристы так безошибочно обстреляли и уничтожили наш штаб, пункт связи с радиостанцией, замаскированные танки и бронетранспортеры.
Никакие угрозы не заставили его рассказать тайну, выдать расположение советских войск. На рассвете его расстреляли. Красную звезду, которую отобрали у этого пионера, я забрал себе. Сувенир для моего Отто».
Корреспондент склонился над столом и старательно записал: «Выяснить, что за мальчик».
На последней странице корреспондент прочитал:
«…Огонь русской артиллерии нанес нам сильные потери. Командные и наблюдательные пункты уничтожены.
Несмотря на наше упорное сопротивление, мы все-таки оказались в «котле».
Генерал Штеммерман сообщил, что из Звенигородки на Лысянку идет к нам на помощь танковая армия. Ее командующий генерал-полковник Хубе передал радиограмму: «Держитесь. Я вас выручу».
Танковая армия далеко. А красные — рядом. Мой Отто, увижу ли я когда-нибудь тебя?..»
На этом дневник обрывался.
Корреспондент взял в руки письмо и прочитал:
«…Мой любимый Алоизе! Я и Отто не можем больше жить без тебя. Не хватает ни сил, ни нервов. Как ты там, дорогой? В последних боях погибло много твоих товарищей по школе. Война с большевиками принесла нам только горе. Погиб Пауль, единственный сын тети Фогель тоже не вернулся. Последнее время ты не присылаешь нам ни одной посылки. Жить стало очень тяжело. Эта проклятая русская земля стоит нам дороже, чем все другие, вместе взятые. Так дальше жить невозможно. Сохрани себя и для Отто и для меня. Прошу тебя. Очень прошу».
Дневник, блокнот, письмо, фотокарточку и красную звезду корреспондент аккуратно завернул в газету и положил в полевую сумку.
К утру надо успеть попасть в боевые порядки пехоты.
Корреспондент встал, подвернул фитиль «катюши», дымившийся на столе, теплой рукой провел по автомату и, осторожно перешагивая через тела спящих товарищей, вышел на улицу.
* * *
Усталая возвратилась Ирина Ивановна домой. Не чуяла под собой ног. Кинулась к опушке леса.
— Сынок мой!.. — шептала она в слезах. Спешила — утопала по колени в сугробах. Снег набивался в рваные сапоги, но она ничего не чувствовала.
Сердце материнское подсказывало — здесь ищи своего сына.
Поднялся ветер. Печально шумят деревья. Недалеко от лесничества, возле изгороди, на снегу за голыми кустами что-то темнело. Подбежала мать и припала щекой к заледеневшему лицу сына…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вот уже больше чем четверть века прошло с тех пор, как вспыхнуло вечным огнем любви к людям, к своей Отчизне сердце Володи Бучацкого. Вспыхнуло и погасло. Но его огонь, как свет далекой звезды, не гаснет, доносит до нас биение человеческого сердца через расстояния и годы…
То и дело на линейке Ольшаницкой средней школы раздается:
— Пионерский отряд имени Володи Бучацкого, стройся!
А в сентябре, в первый день учебы, дети дарят учителям цветы. И вспыхивают тогда желто-багровые цветы на столах учителей. И педагоги рассказывают ученикам о высоких звездах. О звездах, которые никогда не гаснут, вечно светят человечеству, потому что за них отдают жизнь миллионы таких как наш обыкновенный пионер из Ольшаницы. Приносят мальчики и девочки цветы на могилу героя. В торжественном молчании золотые буквы на белом мраморном обелиске складываются в слова:
«Здесь погиб от рук немецко-фашистских захватчиков пионер-разведчик Володя Бучацкий».
Обелиск венчает багряная звезда…
Ольшаница — Киев
1966–1969
