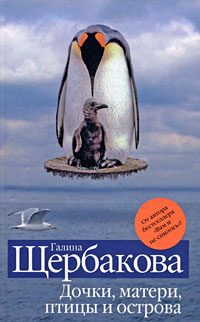
Галина Щербакова
Шла и смеялась, шла и смеялась…
Первый раз Лиза Самойлова выходила замуж по уму. С любовью ей все было ясно до противности, и, если кто начинал на эту тему лялякать, Лиза поднимала растопыренную ладошку, как бы отбивая мяч, и заявляла:
– Вот про что, про что, а про это не надо… Институты кончали и диссертации писали… Маточной кровью, между прочим…
И все замолкали. Лизину историю знали не просто в подробностях. Ее знали в запахе и цвете, бывало, придет в отдел новый человек, в смысле мужчина. Лиза носом потянет и говорит: «Барахло… „Шипр“. Помните моего Виталия? У него был „Шипр“».
Никто Виталия в глаза не видел. Все было и прошло много лет тому назад. У них в отделе люди сменились на сто процентов, но и те, прежние, и уже эти, нынешние, знали: у Виталия был одеколон «Шипр». Трусы и майка в клеточку. Волосяной покров мощный и жесткий, локти и колени очень мосластые. И носом он шмыгал, особенно когда задумывался мыслью.
Таков он был в чисто материалистическом, так сказать, виде, без анализа и оценки моральных доспехов. Но и про них окружающий Лизу народ знал. Доспехи были никудышные. Выученная многократным повторением история Лизы звучала так:
– Он за мной ходил с пятого… Что у нас в уборных было написано? Лиза + Виталий = Любовь. Я что, сама писала? Пионеры писали, потому что все было видно невооруженным глазом. На что у меня мама – женщина железный Феликс – каждый вечер трусики проверяла, но и она Виталию сдалась. В девятом сказала: «Так тебя никто любить не будет». Правда, я как чувствовала, как чувствовала… Он мне букет, а у меня под ложечкой тянет, тянет… Разве мы только мозгами думаем? Глупости это… Иногда тело тебе такой бином Ньютона выдаст, что хоть стой, хоть падай… Но мы же на это – фу! Откуда, мол, мясу тела знать? А мое мясо знало и под ложечку мне, дуре, стреляло… На майские в десятом поехали открывать дачу. Родители у меня молодцы, хорошую избушку отстроили, не стыдно показать хоть кому. Но поимели на всю жизнь страх. Чтоб ее не спалили зимой. Вы же знаете, наш народ по природе своей злоумышленник… Поехали на праздник сдирать с окон железные щиты, собирать стекло. Папа по периметру забора хорошо насыпал битого стекла, а бутылочные горлышки острым вверх насаживал прямо на штакетник. Можно подумать, спасение. Но каждый раз весной надо было тщательно все прибирать, чтоб самим жить. Виталий поехал с нами, порядков наших не знал и напоролся рукой на горло от шампанского так, что чуть кисть не отвалилась. Мама у меня ловкая, первую помощь оказала квалифицированно, до медпункта на станции добежали, там привязали покрепче и валите, мол, дальше, в настоящую больницу. Ну и кто с ним поехал? Я, конечно… Родители остались, а мы после больницы вернулись к нам домой. Ручка левая у мальчика перевязана, жить будет, но страху мы натерпелись. А самое для меня плохое – возникло единение в момент опасности. Как на войне. Мой организм перестал подавать мне сигналы под ложечку, и Виталик мой добропорядочный одной рукой сделал со мной то, что двумя не мог. Оглянуться не успела, а уже оглядываться не на что… Уплыла, растворилась в тумане моя девичья честь, осталось на пледе пятно, формой острова Сахалин. Знаете, там такая перемычка на его югах. На этом месте у меня – капельки… И я, значит, вся такая из себя новая, с порухой навсегда. Потекла я слезой жалобной… Спрашиваю, когда будем жениться – после выпускного или когда поступим в институт. А он своей ручкой единственной «молнию» ширк, ширк… Кнопочками на курточке клац, клац… Ноги в ботинки вжик – и только я его и видела первого мая того самого года. Второго не появился, не позвонил. Там еще и третье попало в выходные – ни звука. И вот я, ничего не понимая ни телом, ни мозгами, звоню ему сама. Думаю: а вдруг на почве руки началось общее заражение крови? Отвечает его маман: Виталик у соседей на вечеринке. Ничего себе, да? И все. Всю его любовь корова языком слизала. В школе на меня смотрит не глазами, а щелями. У него веки, когда он меня видит, опадают. Как у гоголевского Вия. И он, значит, через реснички свои редкие меня фиксирует, но не больше. Ну, думаю! И гордо так себя повела, гордо! Прохожу мимо и притронуться локтем как бы гребую. А потом смотрю – и он так же. Класс, конечно, обалдел! Не потому что я, а потому что он… С другой же стороны, время – последние дни школы. Кутерьма и суета. Где-то в конце мая мама меня спрашивает: «У тебя в этом месяце задержка?» А я и не знаю, что сказать. Я и тяжелое нарочно поднимала, и в горячей ванне парилась. У меня ведь всегда точно… День в день… Я говорю маме: «Это на нервной почве… Перед экзаменами». – «Подождем, – сказала мама и тут же: – Что это Виталика давно у нас не было… Вы не поссорились?» – «Да ну его! – говорю. – Деловой стал, сил нет…» Вижу – мама задумалась. Не сильно пока, не так, чтоб не спать, но что-то и у нее возникло под ложечкой. Все-таки мы с ней одно дерево. Уже во время экзаменов она потащила меня к врачу, и все тайное стало явным. Опускаю крики, слезы и мордобой. Было в количестве. Но одно сразу решили: Виталия мы выводим за скобки раз и навсегда, аборт делаем после выпускного вечера, поруху мою забываем напрочь и живем как бы с девственностью и честью. Все так и было. Маточной кровью я это решение подписала.
На этом месте Лиза всегда замолкала и ждала эффекта. Когда эта история была народом изучена до подробностей стирания кровяного пятна в образе острова Сахалин и комплиментов абортирующего доктора по поводу Лизиных интимных прелестей: «Ишь, какая меховая киска! А после бритья, знаешь, как разрастется? До самого пупочка!» – так вот, слушая историю раз в…надцатый, люди уже научились «производить эффект» после слов о «маточной крови», кляня и костеря мужиков. Это было дешевле, чем если Лиза начнет сначала, «чтоб пробрать и достать как следует». В конце концов смысл всех историй в накапливании воспитательного результата. Как бы через тернии (маточная кровь) к звездам (фиг воспользуешься моей слабостью впредь. Не на ту напал, мужик-сволочь).
Больше десяти лет после окончания института Лиза несла в себе убеждение: любовь для дур. Это им надо слова говорить, хвост пушить, а женщине с мозгами – это не только ни к чему, это ей даже противно, так как она знает – идет агитационная кампания. Конечно! Конечно… Старость – вещь паскудная, и хорошо бы к ней иметь опору в виде хорошей дочери, как она своим родителям. Да и папе уже трудно кувыркаться на даче, он даже на крышу не может влезть для профилактического осмотра. А крыша – это крыша.
На этих жизненно важных мыслях Лиза подтянулась, взбодрилась и оглянулась окрест. Хороший бросила взгляд, ухватистый. Если бы они знали – носители штанов – сколько их сразу осыпалось наземь. Как шелуха от семечек: момент – и на полу. Конечно, были и такие, что в поле зрения остались. Но они все были женатые, а Лиза твердо сказала: ношеных ей не надо. Б/у, секонд-хенд – это для других. У нее же высокие требования, муж первого призыва, и она отступать не будет.
Сергей Николаевич возник как по заказу: и планово, и строго по требованию. Он был холост. Имел техническую степень. Однокомнатную квартиру. Маму на далеком расстоянии и под присмотром вполне здоровой сестры. Был практически не пьющ, кто же считает рюмку-две на праздники и события? У него был рост. Ноги и руки большие, что для мужчины ни в коем случае не минус. Объективно были и минусы. Оклад-жалованье у него был ниже, чем у Лизы, которая хорошо воспользовалась незамужеством для продвижения по службе. Еще у него был незначительный дефект – сжеванное ухо, результат младенческой травмы. На дефект ниспадали довольно приличные волосы, что вводило людей простых в заблуждение – его принимали за человека свободной профессии. Журналиста там или художника. Это смешило Лизу. Что мы за дикий народ? У нее был знакомый художник – абсолютно лысый, а журналисты – вообще пьянь, сравнение с ними для Сергея Николаевича просто оскорбительно. С журналистами у Лизы был свой, давний счет. Еще в институте приходила к ним одна. Все чего-то спрашивала, выискивала, а потом сказала: «До чего же вы скучный и серый народ, братцы!» А вечером ее видели поддатой в студенческом общежитии, и были неприятности политического свойства. Этого еще не хватало в жизни! Сергей же Николаевич даже в стенгазету не стал бы писать заметки, несмотря на пышные свои волосы. Дело было в ухе. Его надо прикрывать.
Лиза тогда сильно сконцентрировалась и, чтоб уж совсем не ошибиться, сходила к одной ясновидящей, к которой даже большие-большие начальники наведывались, принимая государственное решение – пустить там реки вспять или идти в Афганистан. Пошла и Лиза. Ясновидящая пользовалась сразу всем. И чаем, и кофе, и фасолью, и картами, и даже волос жгла на свече. Это, естественно, насторожило. Лиза всегда считала, что в своем деле надо быть специалистом узким. А когда и фасоль, и карты – это несерьезно. Но пришла так пришла.
– Я у вас вижу круг, – сказала гадалка.
– Это хорошо или плохо? – прямо спросила Лиза. Не философствовать же пришла, пришла за прямым ответом.
– Ничего плохого. У вас длинная и спокойная жизнь. Просто она идет по кругу.
– Ну и пусть идет! – засмеялась Лиза. – Если длинная и спокойная, то я согласна. – И она встала, считая разговор оконченным. Даже руку-ладошку вперед выставила: мелких подробностей будущего не надо. Мне достаточно.
И они сыграли свадьбу. Не на всю Европу, для самых близких. Родители безропотно переехали в квартиру Сергея Николаевича, Сергей Николаевич, естественно, на их место. Началась правильная со всех точек зрения жизнь, муж, жена… Лиза убедилась в том, о чем подозревала и раньше. Слухи о любовном кайфе не просто преувеличены, а полный бред. «Ну скажи мне, что в этом такого?» – каждый раз спрашивала Лиза мужа, и уже раз на пятый или седьмой он на нее гавкнул что-то вроде того, что у человека слух или есть, или нет. Лиза возмутилась: при чем тут слух? А тут еще в постельной суете обнажилось сжеванное ухо, едва удержалась, чтоб не поддеть его за больное место: чья бы корова мычала о слухе… Но сдержалась… И даже научилась не возникать с этим острым вопросом после.
Но дело… Дело было не в том. Сергей Николаевич оказался до омерзительности скуп. До неприличия. До тошноты.
Сказалась, видимо, долгая, одинокая и небогатая холостяцкая жизнь, когда приходится думать, что копеечка рубль бережет.
Во-первых, он, как голубь, подбирал крошки со стола в рот. Заварку чая он считал свежей три дня, еще три полусвежей и только один день спитой. Короче, чай заваривался по утрам в воскресенье на всю неделю. Вначале Лиза этого не заметила. Она пила кофе. Но однажды в четверг ей захотелось чаю, и она выплеснула старый. Вот тут она и увидела первый раз лицо мужа. Цвет молодого салата и пуговиц от исподнего… Он смотрел, как она полощет чайник, и из него – из салатного! – как из Лазо в горячей топке, шел рев, смысла которого Лиза постичь не могла. У нее возникло замыкание ума. «Тебе что – жалко чая?» – «Жалко. Я не Онассис какой-нибудь». – «Но я не могу пить такой чай!» – «Тебе придется усмирить свои амбиции». – «Чай – амбиция?» – «Чай – роскошь. Наши предки заваривали траву». – «Я зарабатываю на чай». – «Тебе это только кажется. Я могу доказать».
Всегда перво-наперво надо, чтоб был запущен механизм. Сергей Николаевич, дорвавшись – наконец! Слава, слава чаю! – до возможности сказать наболевшее, заветное, дорогое, нарисовал Лизе картину их будущей, безусловно, прекрасной жизни, в которой всего-навсего не должно быть места подвигам, чаю, кофе, конфетам, косметике, книгам, театрам, отбивным, винам, мехам, кожаным сумкам, немецкому белью, сырокопченой колбасе, химической завивке, твердым сырам… эт сетера. Оказывается! Оказывается, что за все то время, что они прожили столь расточительно, у него обострился на нервной почве гастрит и он вообще на пределе. «Прости, но так жить нельзя».
Сказалось отсутствие опыта жизни с мужчиной. Лиза, пережив первый шок, отважно решила: «Перевоспитаю. Я буду поить его хорошим чаем, я объясню ему преимущество вкусного».
Коварная это вещь – отсутствие опыта. Кажется, какая такая трудность: берешь скрипку, прижимаешь левой щекой и туда-сюда смычком. Ну, на первый раз не получится, но со второго-то! Тут можно рассказывать подробно, как она вставала раньше его, и распаривала заварной чайник, и кидала листочек мяты, как твердый сыр она резала тоненько только на сырной дощечке, как наливала сливки в фарфоровый мейсенский молочник, который в единственном виде остался у них от какого-то бартера во время эвакуации. То ли пшено на мейсена, то ли картошка… То ли родители съели полный сервиз, а молочник куда-то завалился, то ли, наоборот, он им случайно обломился. Но это не важно. Это лишние подробности. А в двух словах – фокус не получился, и Лиза разошлась с Сергеем Николаевичем через полгода, не доживя до лета и не попробовав его возможностей на поверхности дачной крыши.
Родители вернулись в квартиру, Сергей Николаевич к себе, Лиза выдохнула из себя разочарование брака и ощутила – вот ведь странности природы человека – ощутила азарт.
Теперь она точно знала, кто. Мужчина, который обеспечен, – это и во-первых, и во-вторых, и в-третьих… Потому что бедность – это всегда скрытая угроза спитого чая, конечно, есть вариант богатого скупердяя. Но это-то она поймет сразу. На это у нее уже есть нюх.
Тут хочется потоптаться на свойствах русской женщины, которая если уж сподобится чему-нибудь обучиться, то нет ей равных, но как бы не задеть этим национальные свойства других женщин. Они ведь супротив этого аргумента могут выставить свой. Какая-нибудь американка скажет: «Да я до русских глупостей просто изначально не могу дойти!» А еврейка вообще может позволить хамство в виде заявления, что у русских все мимо рта, а гойка, так та испокон соображает медленней времени. Но это между делом. Антракт к третьему акту. Вернее, второму. Второму мужу в законе нашей не бедной и не несчастной Лизы, а очень энергичной и уверенной на этот раз в себе женщины, знающей кого и знающей как…
Да, он был обеспечен, Павел Кузьмич. Он купил халупу в их дачном поселке и за лето (!) превратил ее во дворец. Машины мотались туда-сюда, звенели сгружаемые металлические решетки с собачьими мордами в орнаменте, кирпич как бы сам собой складывался в арку, догоняя по росту рябину и, безусловно, соревнуясь с ней в цвете. Радость души возникала, когда виделась такая спорость в деле. И если не стоять долго и не ждать, когда радость, скособочившись, превратится в зависть, то возникновение Павла Кузьмича на сорок пятом километре Ярославской дороги можно было считать безусловным благом.
Лиза пережила два чувства последовательно – радость красоты (отягощенная плодами рябина в кирпично-терракотовом проеме арки) и зависть: живут же люди! И все у них, сволочей, есть. Хорошую бы бомбу на этот участочек и его хозяина, а тут хозяин вышел и – хотите верьте, хотите нет – на серебряном подносе вынес глубоко задумавшейся женщине яблоки «Слава победителю».
Роман сразу набрал большую скорость, а потому миновал многие остановки пути: ухаживание, знакомство с интересами, изучение характера и даже – смех! – сближение телами.
Когда мчишься с горки – не до этого. После Сергея Николаевича с его расписанием заварки чая Павел Кузьмич с его серебряным подносом, на котором всегда лежало что-то изысканное, не из сельмага и даже не от Елисея, конечно, притупил рецепторы Лизы. Отставник, вдовец, дети при деле, достатке и очень далеко – это же все положительные стороны, как их ни поворачивай. «Хорошая пара», – сказала мама, а материнский инстинкт – это почти наука. Сергей Николаевич так воспринят не был. Мама, надо сказать, губки на него поджимала. Чувствовала.
И была свадьба. И пронес он ее через арку, хотя было уже холодно, и Лиза была в тяжелом длинном осеннем пальто, которое слегка волокнулось по земле в момент поднятия драгоценной ноши. Конечно, своя ноша как бы не тянет, но Павел Кузьмич лицом слегка набряк, однако дело недолгое, вот уже Лиза на своих ногах, Павел Кузьмич сделал незаметную для других дыхательную гимнастику, лицо вернулось к естественным формам, и тут… Даже неизвестно, как тактично перейти от такого хорошего и умного начала к быстрому и глупому концу. А перейти надо… Такова паскудность обстоятельств.
Павел Кузьмич только и умел, что строить арки и проносить сквозь них женщин на руках. На этом арочном моменте отношения его с женщинами кончались. Лиза удивилась несказанно. Не потому, что ей так хотелось – объясняла она сотрудницам в отделе, но есть же какие-то нормы отношений! Мама же была возмущена Лизой. «Господи? О чем ты говоришь? Когда все есть! Когда дом – чаша. Подумай головой, отбрось глупости. Они не для нас». Что имела в виду мама, Лиза догадывалась. Бедная мама, бедная Жертва коммунально-квартирного брака. Но она-то, Лиза, – другая! Женщины в отделе сказали: «Заведи… это дело не в семье получается лучше».
Павел Кузьмич претензиями Лизы был оскорблен до глубины души. Он сказал ей прямо: «Ты же не девочка. Если бы у меня фурычило, я бы взял двадцатилетнюю. Я бы целочку взял, а может, и не женился бы, а просто брал их и брал, брал и брал… И кушал с маслом. Но у меня – ё-моё! – ракетно-ядерное прошлое. Вот моя покойная жена это понимала». – «Она успела родить детей», – резонно заметила Лиза. «Неужели бы я пошел на производство детей в своем возрасте? – возмутился Павел Кузьмич. – Я еще нахожусь в мозгу».
Когда Лиза выходила из отдела, женщины смеялись. «Это же надо! Не выяснить такое дело до венца». (Это в фигуральном смысле. Лиза не венчалась, потому как ракетно-ядерный Павел Кузьмич был крутым атеистом, матерым, можно сказать. И то! Можно ли быть верующим, если мир видишь в дырочку ядерного прицела или что там у них вместо дырочки-мушки?) Так вот, женщины в отделе смеялись над Лизой, и им было хорошо. Всегда приятно, когда другой, не ты, простодырый, мягко говоря.
Опускаем, как Лизе искали любовников, как она оскорбилась, узнав об этом, как перестала дружить из-за этого с лучшей подругой. Как затаилась на Лизу мама, взрастившая в себе чувство о порочности дочери. Ведь была же, была та история, в десятом классе. Девочка, ребенок, пошла на такое, страшно вспомнить этот аборт и эту тайну, которая, как ни странно, тайной осталась и на Лизином вороте не повисла, но что с того, если по прошествии лет, и каких лет, порок вылез и обнародовался. Мама от этих мыслей просто закипала.
А время шло. И уже забылось, почему столько лет не разговаривают в отделе две женщины. Мало ли причин и оснований. У всех нервы как оголенные провода.
Однажды в парфюмерном отделе Лиза увидела гадалку-ясновидицу, которая пообещала ей долгую и спокойную жизнь. Гадалка покупала самые дорогие духи, а Лиза только что подумала, что теперь она может себе позволить только четверть суммы, а было время – французскими духами заливалась. Возникло сразу два, даже три раздражения против гадалки. Что врунья. Что может себе позволить любую цену. И еще… Сказала что-то про круг, а не разъяснила. Лиза забыла, что ушла тогда от подробностей сама. Она ведь как думала? Надо знать главную дорогу. А кучерявые детали на этой дороге она создаст сама. Это ее дело, а не судьбы там или провидения. Как это теперь называется… Но тут всплыло про круг, и Лиза пошла наперерез гадалке.
Сколько лет прошло! У гадалки волосы стали седыми, и вес возник возрастной, и подбородок бесстыдно лег на воротник.
– Здрасьте! – сказала Лиза. – Что вы имели в виду, говоря мне про круг? Я у вас была… Помните?
Ясновидица развернулась так, чтобы пройти, не затронув Лизу. Как бы она боялась замараться, а на Лизе, между прочим, было новое и довольно дорогое итальянское пальто. Лиза этот жест-движение заметила, более того, в душе просто возмутилась, но она знала главный закон жизни: ради большой цели мелочью можно пренебречь. Даже если это чья-то брезгливая морда. Не баре, перетерпим…
Гадалка уходила от Лизы споро, как будто она и не полная, и не шестидесятилетняя, пришлось пойти ей наперерез и загнать между стеной дома и телефонной будкой.
– Вы меня помните? – безоговорочно спросила Лиза. Конечно, у загнанной в угол женщины, кто бы она ни была, был беспроигрышный вариант: не помню, не знаю, много вас тут ходит, если каждого держать в голове, то какую же это надо иметь голову… И так далее. Но ясновидица, не глядя Лизе в лицо и сдувая с воротника нечто невидимое, ответила, что помнит и что знает…
– Будете ходить по кругу, пока не поймете, – сказала она.
– Что? – железно спросила Лиза. – Что это такое я должна понять?
Но гадалка, как оказалось, уже выходила из западни и теперь уже смотрела Лизе в глаза, смотрела прямо и даже как бы ощупывала симпатичный Лизин овал, слегка обмякший в процессе жизни.
– Какая законченность типа, – пробормотала ясновидица. – Долгий, долгий путь…
– Это я уже слышала, – ответила Лиза. – А дальше?
– Жить! – засмеялась гадалка. – Жить!
И она просто прыгнула в толпу, замечательное место, чтоб тебя не достали.
А вечером Лизу побил пьяный. Он шел ей навстречу и кричал песню. Лиза почувствовала, как в ней подымается и растет классовое чувство. Эти алканы. Этот мусор жизни. Вот кого надо в газовые камеры… И думать нечего. На этой христианской мысли Лиза и получила в ухо. Не боль, не гнев – изумление было первым Лизиным чувством. Какая четкая последовательность, она подумала – он ответил. Незамедлительность результата. Пьяный уходил с той же песней, Лиза терла ухо, потом она споткнулась о задравшийся край асфальта, едва не упала, домой вернулась с тахикардией и сказала маме: «Пьяного встретила, он меня ударил». Мама взбутетенилась, подвела Лизу под лампу, но никаких следов не нашла.
– А были бы?.. – философски заметила Лиза.
Весь вечер она была тихая, задумчивая, смотрела телевизор и вздыхала, вздыхала…
Слава богу, к утру все забылось, кроме бешеных цен на французские духи. Это надо до такой степени издеваться над народом!
А через некоторое время, год или месяц, случилась у Лизы встреча. Тоже вечером, тоже шел навстречу, но песни, правда, не орал, Виталий. Просто шел навстречу, а получилось по судьбе.
– О! – сказал он. – Какие люди!
Лиза вся заледенела. Во-первых, быстро не сосчитаешь, сколько прошло лет. Много. Во-вторых, чистая правда, что тогда вместе с маточной кровью она исторгла из себя все воспоминания о нем. Там, где когда-то было Виталево место, значилось одно коротенькое слово: гад. Правда, первые годы она много о нем говорила-рассказывала как о мужской особи как таковой, но потом поняла – не стоил он тех ее слов. Гад, и все. У трех букв есть особая сила экспрессии. Тут есть тема для лингвистического эссе, но у нас тут вовсю булькает жизнь, и Лизе надо как-то выходить из оцепенения, потому что Виталий – оказывается! – уже обнимает ее за плечи и махорочно целует в щеки, как какую-нибудь племянницу из Талдома.
– Ну ты прямо… – сказала Лиза.
Они пошли рядом, и в небрежном изложении событий прошедшая жизнь Виталия выглядела так: женат вторым разом, но уже на грани краха и эта попытка. Двое сыновей. От первой взрослый, студент. От второй школьник… Жалко мальчишечку, но когти рвать придется. Сволочная оказалась девушка-мать. Недовольна всем на свете, а виноват муж. В смысле профессии тоже разрушение судьбы. Всю жизнь работал на войну, и хорошо работал, а она, зараза, возьми и кончись. Война. А что он умеет? Да ничего! Он – первоклассный истребитель населения.
– Ты такое молотишь! – возмутилась Лиза. – В военно-промышленном комплексе большой потенциал.
– Это да, – засмеялся Виталий.
В конце концов поговорили хорошо, по-человечески, с пониманием. Прошлого деликатно не касались. Да и что такое их прошлое супротив других проблем. Так, брызга!
А через несколько дней он пришел к ним домой, и мама вскрикнула, как раненная насмерть птица. Папа же шумно засопел носом и не знал, куда деть ноги в носках. Но это в первый момент. Потом атмосфера разрядилась, вспоминали класс. Виталий спросил про дачу, папа оживел, влез в подробности, а мама на кухне сказала Лизе:
– Конечно, знать бы его намерения…
– Но он же женат! – воскликнула Лиза.
– Ах, детка! – вздохнула мама. – Это для нашего поколения что-то значило… У вас иначе. Ну, женат… Разженится…
И все к тому шло. Пришла весна, и надо было раздевать дачу от щитов и битого стекла. В этом смысле не только ничего не изменилось – стало гораздо проблемней. Папа теперь ставил капканы на человеческую подлость, а моток колючей проволоки ему привез мужик с химкомбината за две пол-литры и сто рублей еще теми деньгами.
Виталий сам вызвался помочь. А на Лизу нашел сумрак, и она как бы забыла ту историю, мама, правда, со значением кашляла и стучала ложечкой по блюдечку, а Лизе хоть бы что – поехали на дачу.
Нет, нет… Не до такой степени шло повторение. Виталий остался невредимый: не порезался, не укололся, щит на него не падал, в капкан нога не сунулась. Выпили после весенне-дачных работ по рюмахе. Маму с папой развезло, они просто захрапели, едва прилегли. Пришлось закрывать одни двери и другие, чтоб не слышать именно храп. Сидели на террасе, слушали дальний перестук электричек и ближнюю гулянку, на которой отчаянно боролась чья-то гармошка с рок-козлом. Козел побеждал, но сволочь от народа возникала снова и снова, и кто-то просил придушить дядю Ваню, его, видимо, душили, и тогда взмывал козел-победитель. Лиза думала, пусть будет козел, главное, чтоб окончательно, нельзя же дергать человека за нервы, но тут оклемывался дядя Ваня, и это было долго, если не сказать бесконечно…
Случившееся на террасе было столь мгновенным и столь никаким, что Лиза даже решила: надо сделать вид, что ничего не было. Натянула плед до ушей и щелкнула приемничком, на другом конце дивана накрылся пиджачком Виталий.
…Козел, дядя Ваня, музыка советского кино и двое валетом, не считая вдруг проснувшейся мамы, которая, увидев закрытую дверь, замерла от неопределенности сознания. Таков пейзаж.
А дальше было, как раньше.
Виталий, вернувшись с дачи, исчез. То позванивал, если не приходил, а тут – канул. Конечно, не тот случай, что…надцать лет тому. Но мама, живущая по правилам и календарям, спросила Лизу, собирая стирку.
– У тебя задержка?
«Стареет мама, – подумала Лиза. – Теряет время».
Дело в том, что она уже неделю думала на эту тему. Она думала о двух своих официальных мужьях, которые прошли в ее жизни как с белых яблонь дым. А Виталий – не муж, зато как попадает в цель. Какой гад! Какая сволочь! Навела справки и выяснила: все у него с женой наладилось и с работой тоже. Хорошо зацепился в конверсии, делает не то утюги, не то лыжи, купил новый телевизор.
Лиза сходила к врачу. Взяла направление на аборт. Никто ее не отговаривал – не молоденькая, раз просит направление, значит, знает, что надо. Сходила в больницу, назначили ей день: «Приходите со своими пеленками».
На улице было полно тополиного пуха. Почему-то от его всепобеждаемости собственная жизнь увиделась бессмысленной и пустой. Ни с того ни с сего посчиталось: если бы тогда, в десятом, она родила, то могла бы быть уже бабушкой. «Сволочь, – подумала она. – Гад».
Мама сварила рассольник, который Лиза любила, но требовала, чтоб огурцы – причину рассольника – ей в тарелку не клали.
Так бывает сплошь и рядом. Именно причину выкидываем к чертовой матери, а хлебаем исключительно следствия. Мама отцеживала бульон в Лизину тарелку, мама старалась, у мамы почему-то тряслись руки.
– Пока ты есть и на ногах, – вдруг твердо сказала Лиза, – рожай. У дачи появится смысл. А так смысла нет, колотимся, колотимся… И не отговаривай меня! – закричала она рассольнику. – Ты помнишь, сколько мне лет? Помнишь? Ну вот и кончен разговор. А туда надо нести свои пеленки. Я смеялась всю дорогу. Пеленки, чтоб не было ребенка. Понимаешь? Чтоб НЕ…! Я шла и смеялась, шла и смеялась… Представляешь? И не смей плакать! Не смей! Не…