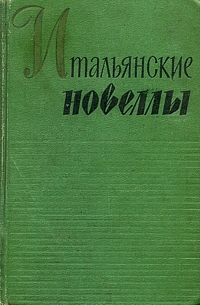
Габриэле д'Аннунцио
РЕЧНАЯ ЭКЛОГА
Он лежал на носу баркаса, растянувшись на груде старых канатов, как сонливый кот, но не спал, а смотрел сквозь якорные клюзы на молодой месяц, опускавшийся за Монтекорно, и слушал плеск воды под килем, похожий на прищелкиванье языка в жадно пьющем рту. Красноватый серп новой луны, проглядывая сквозь туман, зыбко отражался на самой середине Пескары и забрасывал искры даже на темные полосы воды у берегов. Вдали в розоватом тумане высились стволы тополей и, чуть ближе, реи, отсвечивавшие мертвым цинковым блеском.
У самого устья реки ясное величие звездного неба как бы охраняло торжественный покой уснувшего моря.
Йори не спал. Новолуние источало какую-то таинственную негу, в которой перед ним отчетливо выступал образ Милы: ее темно-синие глаза смеялись, сквозь лохмотья просвечивала кожа теплого, оранжеватого оттенка, обожженная ласками солнца. Такой он увидел ее впервые в сентябрьский полдень на левом берегу реки: она стояла у цыганского шатра, кругом пощипывали травку лохматые жеребята, из-под медных котлов валил дым. Такой он увидел ее впервые: передник у Милы был полон незрелых еще яблок, и она вонзала зубы в их зеленую мякоть с жадностью изголодавшейся белки. Голова ее была в тени, открытая грудь цвела юной прелестью. Она уплетала яблоки среди полуденной тишины и показалась ему красавицей.
Когда же она обернулась, заметив, что издали на нее загляделся народ, ее голова с парой крупных круглых серег в ушах, очутившаяся вдруг на самом свету, напоминала отлитую из золота голову древнего варварского идола, пряди черных волос волной спускались на шею, вспыхивали в солнечных лучах, переплетались, спадая на лицо. Когда она отводила глаза в сторону, белки на горячем золоте лица сверкали эмалевым блеском.
Мимо нее пробежал гнедой жеребенок. Она отрывисто крикнула, подзывая его. Жеребенок замер перед нею на своих длинных тонких ногах и слегка ржал от удовольствия, пока она гладила ему шею и бока: ноздри его трепетали, шея изгибалась под ласкающей рукой цыганки. Обнажая розовые десны, жеребчик потянулся к яблокам. Цыганка, повернув лицо к солнцу и звонко хохоча, принялась тереть огрызками его зубы. В ушах ее блестели серебряные кружки серег, на шее, дрожащей от смеха, позвякивали амулеты.
Такой Йори увидел ее впервые.
Так Мила и цвела, словно растение, словно молодое деревцо, радостно пускающее ростки, так цвела она на благодатном воздухе, под благодетельным солнцем, смутно ощущая, как из самой глубины ее существа бьет родник жизни. В этом женском теле уже победоносно закипали здоровые юные соки. Здоровье придавало ее душе чистоту и учило девственно ясному взгляду на окружающую жизнь. В ней уже торжествовала вся пышность женского расцвета, но сама она еще невинно дремала, но задумываясь в простоте душевной над своим расцветом, не осознавая его и не страшась.
И все же зарю ее юности нередко заволакивал туман печали. Во время долгих скитаний по неведомым странам, среди чужих людей, когда приходилось часами скакать верхом навстречу ветру, скрываться от людей и далеко объезжать некоторые места, в пестрой смене всевозможных превратностей, бед, козней, даже преступлений, ее часто угнетала глубокая тоска. Это было неясное чувство — не то просто стремление обрести покой, не то позыв, который может быть и у растения, ощущающего, что жизненные силы начинают в нем постепенно угасать, и жаждущего солнечных лучей. В Миле тоже дремали некие силы, и в дремоте этой совершалась некая медленная работа, которая порою давала о себе знать, волнуя еще не пробужденную душу девушки внезапными дуновениями зноя и аромата. Тогда она замыкалась в сумрачной суровости: фиалки ее глаз меркли, словно отцветая. Целыми часами могла она молча глядеть вдаль, в каком-то священном оцепенении, словно бронзовый идол с эмалевыми глазами среди безмолвно белеющих шатров. Но в такие мгновения ею овладевали не мысли и она погружалась не в думы: все существо ее томилось таинственным ощущением жизни, что-то неведомое влекло ее и, не раскрывшись, ускользало прочь…
А потом ее опять захватывала древняя дикарская страсть, опять жеребцы, опять полуденное солнце, протяжные песни, яркие побрякушки. Ей доставляло наслаждение вцепляться в косматые гривы, когда табун рысью летел навстречу ветру и пыли, подгоняемый хворостиной Зизы.
Оливково-смуглый Зиза был ее маленьким рабом, который воровал для нее кур на гумнах и извлекал из лютни особенно сладостные звуки. Когда цыгане верхом на лошадях, опускавших головы от нестерпимой жары, ехали по горячим пыльным дорогам между замершими в знойной истоме кустами живых изгородей, Зиза вдруг исчезал и вскоре, запыхавшись, возвращался, неся в руках пригоршни ягод или недозрелых фруктов.
— Вот, Мила, бери, — говорил он смеясь.
И она уплетала фрукты, изредка со смехом бросая мальчику огрызок. Но любви к нему у нее не было.
Однажды они вместе удрали из табора на добычу. Это было в теплый мартовский полдень. Под щедрым весенним солнцем хорошо зацветал лен, а кончики зеленых колосьев начали уже принимать желтоватый оттенок. Молча, пригнувшись, пробирались Мила и Зиза вдоль живых изгородей. Сквозь ветви деревьев, еще безжизненные, смеясь, струились нежаркие лучи. От пучков травы поднималось свежее дыхание. Миле было весело. Когда они проходили под миндальным деревом, Зиза вдруг схватился за ствол и начал изо всех сил трясти его. Розовый благоухающий дождь цветов посыпался им на головы, и среди этого дождя зазвенел, заблестел их смех. Потом они замолчали и тихонько подкрались к забору, окружавшему гумно. Куры, не чуя беды, мирно копошились в соломе под растрескавшейся глинобитной стенкой. Пес, растянувшись на куче сухого камыша, блаженно дремал на солнце. Из низенькой хижины доносилось только равномерное поскрипывание качавшейся люльки да протяжная колыбельная песня.
Зиза вытянул из-под рубахи длинную нитку с нанизанными на нее зернами кукурузы, подкрался, как лисица, к самому забору, остановился там и принялся волочить нитку по земле. Одна курица пожадней бросилась на скользящие зерна. Зиза не шевелился, не дышал: и зрачках, устремленных на добычу, сверкала воровская алчность.
А когда курица проглотила первые зерна, он, вздрогнув от радости, потянул нитку к себе и крепко сжал обеими руками еще хлопавшие крылья добычи.
— Держи, Мила, — шепнул он присевшей на корточки цыганке: на губах ее искрился смех, на серебряных дисках в ушах — солнце.
Она взяла задушенную курицу, еще теплую, у которой маленькие глазки уже подернулись пленкой, а из открытого клюва сочилась каплями кровь.
— Еще, Зиза, еще! — шепнула она, стоя на четвереньках и прижимаясь к нему.
Он снова начал ту же игру. Белая курица с большим свисающим гребешком пошла на приманку; сперва остановилась, прислушиваясь, потом, прежде чем клюнуть, повернула голову туда, где таилась измена. В засаде все было тихо — ни шороха, ни вздоха.
— Держи!
Она схватила курицу и, забывшись от радости, вся высунулась из-за забора.
— Беги, Мила, беги! — закричал испуганный мальчик под яростный лай устремившегося в погоню пса. — Беги!
Он схватил ее за руку, увлек за собой, и они побежали через засеянное ячменем поле, не оглядываясь и вспугивая на бегу целые стаи воробьев.
Очутившись в безопасности, они остановились, задыхающиеся, раскрасневшиеся, не в силах даже громко расхохотаться.
Вдалеке затихал собачий лай. Косые лучи солнца пронизывали дымку, окутавшую поле. По ясному небу проплывали золотистые облака, а под ними, напевая, неторопливо шагала парочка. Мила обнимала своего соучастника за плечи, и два голоса, смешиваясь, уносились в сырую вечернюю даль.
Но любви к нему у нее не было.
Как-то в другой раз они укрылись в тени, за шатром. Над ними расстилалась полуденная синева июньского неба. От жары истомно клонились к земле колосья, деревья вдалеке казались отлитыми из металла. Присев на корточки, Зиза пощипывал струны лютни и напевал, склонив голову набок и устремив на Милу взгляд, затуманенный чарами ее красоты и растекающихся звуков песни. Она стояла подле него, покачивая в такт головой; летаргия лучистого полудня придавала ее взорам ленивое томление. Из-под темно-зеленой юбки виднелись голые ноги. Под складками полотняной рубашки трепетала грудь, нежная, как уснувший цветок. Зиза играл и пел. Кругом бродили кони. Песня замирала под акациями, и с этих высоких цветущих акаций нисходила таинственная тишина — какая-то сила, животворная и вместе с тем девственная, мягкая, словно дыхание ребенка, струилась с этих белых гроздьев, похожих на крылышки мотыльков, неподвижно висящих в пронизанном солнцем воздухе.
Зиза играл и пел, а его живой безмолвный идол упивался негой звуков. То был как бы природный родник песен, из которого порою выделялись отдельные слова. Вдохновение певца прорывалось наружу, потому что Мила была так прекрасна, потому что небо над ними сияло. Просто так.
Внезапно, в порыве желания, Мила склонилась над мальчиком, сжала обеими руками его курчавые виски и застыла над ним, приоткрыв рот и хищно сверкая острыми зубами, готовая и укусить и поцеловать. Мальчик, оторопело дрожа, не сопротивляясь, смотрел снизу вверх на это лицо, словно отлитое из темного золота, на щеки, о которые бились крупные круглые серьги. Он ощутил горячее дыхание и в нем — какой-то новый аромат. Под его судорожно сжавшимися пальцами струны лютни издали протяжный жалобный звук.
Мила не поцеловала его. Она медленно выпрямилась: глаза помутнели, грудь тяжело дышала. Она испытывала странное изумление перед тем, что с ней произошло, и непривычная дрожь недомогания пробежала по всему ее телу.
Ей показалось, что в этот миг глаза ее застлал густой туман, а все фибры ее существа охватил озноб, от которого она ощущала и наслаждение и муку.
— Мила, почему? — спросил в смятении Зиза, все еще глядя на нее.
Она не могла объяснить и не ответила. Не отворачиваясь от него, она сделала движение, словно собираясь вернуться в шатер.
Но Зиза, пытаясь удержать Милу, схватил ее за ногу — нога была обнажена.
— Придвинься ближе.
— Ладно, Зиза, милый, пусти меня, — умоляющим голосом прошептала цыганка.
— Сядь со мной. Я тебе спою.
Ароматное дыхание акаций струилось в неподвижном воздухе.
— Нет, Зиза.
— Ну, иди.
Он разжал пальцы. И долго сидел в одиночестве, задумчиво прижимая к телу свою лютню.
Теперь Мила расцветала и телом и душою по милости одного человека. Она любила Йори, любила красавца рыбака, от которого шел такой свежий запах его морского улова, который так ясно улыбался сквозь медный блеск усов и бороды.
Они встречались по вечерам, когда широкая пепельная тень нисходит с Монтекорно на Пескару, а красный фонарь на мачте баркаса алой раной пылает на бледном небе. Он возвращался с моря весь пропитанный солью, и даже в расширенных зрачках его светилось море. Дышал он едким запахом табака, и цыганка еще издали чуяла его приближение.
Над ними в прозрачном сумеречном небе шелестели высокие густолиственные тополя; тут, у одинокой запруды среди камышей, где лишь изредка проходило возвращающееся с пастбища стадо овец, их не могли увидеть цыгане.
— О Йори! — шептала Мила и протягивала к нему руки, откинув назад свою прекрасную голову. Она прижималась к его груди с цепкой страстностью плюща, нежная, ласковая, исподлобья глядя на него затуманенным томным взором и покорно улыбаясь. Ради него она хотела быть кроткой, слабой, хотела принести ему в жертву всю свою силу, ощущать его властную ласку. Она замирала на этой широкой груди, прислушиваясь к биению его сердца, утопая в запахе водорослей, исходившем от его одежды. А когда Йори, охватив ей ладонями виски, пытался приподнять ее голову, она ласково противилась, боязливо поглядывая на него и стараясь спрятать лицо, как прячет мордочку сонная кошка.
— Не надо, пусти, я хочу еще побыть… вот так.
Он отпускал ее, гладил ей волосы, говорил нежные слова. Он был такой ласковый, сердце у него было большое, как море.
Потом они еще долго сидели на траве. Луна струила свое сияние в безмолвии ночи, а кусты и деревья на противоположном берегу казались узорами темной яшмы на бледном перламутре неба.
— Мила! — шептал иногда Йори с дрожью в голосе как бы про себя. И он смотрел на эту высокую девушку с телом смугло-золотым и с именем таким звучным и странным.
Она начинала говорить. Это было мелодичное журчание, в котором по временам выделялись какие-то резкие ноты, возникали слова, непонятные для Йори, — это был гармоничный перелив, напоминавший медленные варварские напевы под аккомпанемент ребека.[1]
— Ты уходишь в море, любимый, ты уходишь далеко, далеко в море, у которого цвет твоих глаз. Вчера лодка уносила тебя вдаль, а сердце мое летело вслед за тобой… Хочешь, чтобы я была с тобой в лодке? Бирюзовая вода так чудесно пахнет. Возьми меня с собой, Йори!
Ее любовник молчал. В жилах его замирало биение крови, уже не бежала по ним огненная дрожь. Медленная истома, которую наводил на него голос женщины, покоряла его жизненную силу.
Он молчал. Ласку этого голоса он хотел ощущать, как прикосновение, он хотел, чтобы эти огромные глаза заворожили его.
— О мой любимый, почему ты смотришь так на меня? Я опалена солнцем, я ведь бегаю на солнце, как жеребцы; жеребцы — это моя страсть. Ты видел апельсины? Зиза в своих песнях говорит, что мое лицо — золотистое, как апельсин. Но Зиза мне не нужен. Я хочу тебя, твоя борода ярче меди, ты сильный, ты нежный. Возьми меня с собой, Йори!..
Она пела. Обнимала его за шею обнаженными руками, с каким-то сладострастно-кошачьим изгибом тела, а когда приближала к нему смеющееся лицо, звенели и сверкали серебряные диски серег. Потом откидывалась назад, зарывалась в прохладную траву, с ног до головы окунаясь в лунный свет, и лежала па спине, в блаженном опьянении, а сквозь ресницы вспыхивали на миг ее зрачки, чтобы тотчас же закатиться под веки, раствориться в белке, словно две черные капли в крынке молока.
— Мила, что с тобой, что с тобой? — бормотал он, встревоженный этим долгим забытьём, жадно ища ртом другой влажный рот и теплую атласную шею.
Над любовниками в мягком сиянии лупы засыпали тополя — стволы их уходили высоко в небо, кора блестела, как тонкий серебряный панцирь, макушки терялись в лунном тумане.
— Мила, что с тобой?
Она не отвечала. Глаза ее снова раскрылись, как два цветка, искра смеха блеснула в них, как молния, и томная пелена желания снова заволокла их.
Прозрачный утренний воздух ложбины задрожал от конского ржанья. Прохладный туман поднимался от реки между длинными грустными ее берегами к бледно-голубому небу, цепляясь, словно кисейное покрывало, за стебли тростника, за ивовые ветки. Солнце должно было вот-вот появиться: на девственно чистой опаловой глади моря уже трепетала зыбкая золотистая дымка.
— Пора поить коней. Пойдешь на реку, Зиза? — крикнула цыганка.
Она стояла среди табуна, гибкими руками укладывая свои волосы.
Мальчик услышал. Он еще досыпал последний сон под пологом шатра, и голос Милы ворвался, словно колокол, в пестрый поток его грез. Он поднял голову и прислушался.
— Ну что, Зиза, идешь?
Он сразу вскочил и, увидев ее, такую прекрасную, гордую, счастливую среди весело ржущих коней, среди мягкой прелести утра, почувствовал, как сердце его захлестнула радость.
— О, Мила, я видел во сне твои глаза, которые как две фиалки!
Он подошел к девушке, звонким голосом бросив ей эти слова, столь естественные в устах мальчика, влюбленного в лютню и песни.
Цыганка рассмеялась и одним прыжком вскочила на спину коня. Короткая юбка не скрывала ее голых ног, которыми она била по бокам лошади. Удары разъярили жеребца, он встал на дыбы. Девушка вцепилась ему в гриву, по ветру летел ее звонкий хохот, ветру она подставила шею, ветер развевал ее кудри. Амулеты и диски серег звенели и сверкали. Одна грудь с розовым соском выскользнула из-под рубашки, словно лопнувшая весенняя почка. И она смеялась, смеялась… И первые стрелы бога солнца ударили в эти два сплетенные тела — женщину и коня.
— Ударь его хворостиной, Зиза! — задыхаясь, крикнула всадница.
Почувствовав удар, конь помчался по белой дороге, в облаках пыли, за ним с громким топотом устремился весь табун. Они пронеслись через прогалину и углубились в густые прибрежные лозняки. Кони рассыпались среди влажных речных зарослей. Под напором табуна, под ударами копыт молодые ветки гнулись, трещали, ломались. Желтые прутья ивы раздвигались и снова cмыкались, хлеща коней по крупам. Вскоре в просветах густого кустарника виднелись уже одни только темные конские головы, потом и головы склонились к земле, заросшей сочной травой.
Зиза пробрался сквозь лозняки с ловкостью леопарда и приблизился к цыганке, которая, сидя верхом на коне, царила надо всем в победоносном сиянии солнца. Они молчали. В устье реки, смиряя быстроту ее течения, зеленело море; оттуда доносился его мерный ропот.
— Сегодня ночью ты не спала в шатре, — внезапно проговорил он, подняв голову и глядя ей прямо в лицо своими огромными глазами, горевшими ревностью и желанием. — Ты была где-то с другим… Не отпирайся.
Мила почувствовала, как кровь ударила ей в лицо. Она сжала колени, лошадь перестала щипать траву, подняла морду и насторожилась.
— Откуда ты знаешь? — тихо спросила она и улыбнулась, поводя своими фиалковыми глазами.
— А вот знаю. Доко остановил меня, когда я шел за табуном, и сказал мне. Он еще посмеялся надо мной, когда я убежал. Мила, не отрицай.
Но цыганка вместо ответа наклонилась к нему, схватила его за волосы и, смеясь, слегка куснула за шею.
Потом, продолжая смеяться, погнала лошадь прямо в реку, туда, где обдавало холодными брызгами, где громче журчала вода, размывая гальку, где ярче сверкали солнечные блики. Кони в лозняке громко заржали, и весь табун с ужасающим шумом устремился вслед за конем цыганки.
Полуголый Зиза тоже бросился в самую мешанину коней и волн за беглянкой, уносившейся в вихре смеха, за своей дикарской любовью.
— Колдунья! Колдунья! — кричал он, отравленный этим сладострастным укусом. Он настиг ее, когда вода поднялась уже до груди коня, и одним прыжком тоже вскочил ему на спину. Конь, почувствовав новую тяжесть, яростно поднялся на дыбы. Победоносный Зиза обвил своими голыми ногами голые ноги Милы, сжал в объятиях тело испуганной красавицы: волосы ее щекотали ему лицо, пышная грудь трепетала под его пальцами, запах женщины наполнил его ноздри. Кони плескались кругом с бурным наслаждением, холодные струи пенились под лучами солнца, ясного и могучего сентябрьского солнца. В устье входил баркас под красным парусом, разрывая жемчужную гладь реки и отражаясь в ней кровавой полосой.
— Я победил тебя! Я победил тебя!
И Зиза покрывал поцелуями плечи своей пленницы, опьяненный победой, как сокол, когтящий добычу.
— Я победил тебя!
— Нет!
Два юных, сильных существа вступили в веселую схватку. Он — здоровый, мускулистый, во внезапном порыве желания обретший свою мужскую зрелость, она — здоровая, пышная, в девственности своей еще не осознавшая собственных страстных влечений. Конь старался освободиться от сжимающих его живых клещей, из раздутых ноздрей бурно вырывалось горячее дыхание, жилы на шее вздулись, хвост поднялся от страха.
— Нет! — раздался отчаянный крик цыганки, и, сделав последнее усилие, она вырвалась из объятий Зизы. Тот, потеряв от резкого толчка равновесие на скользком крупе коня, раскинул руки и навзничь свалился в воду под насмешливый хохот Милы:
— Попей водички, Зиза, попей водички!
Побежденный встал на ноги, вода доходила ему до груди, — встряхнул мокрыми кудрями, еле переводя дух после того, как едва не захлебнулся в холодной воде, и поплыл к берегу, озаренный, словно пламенем, отражением алого паруса. Стыд и солнце слепили ему глаза, со всех сторон сыпались на него колющие удары водяных брызг. Следуя его примеру, весь табун тоже повернул назад и стал с топотом и плеском выбираться на берег.
В одно мгновение кони заполнили прибрежную рощу. Они вылезали из воды, фыркая, вытягивая шеи, беспокойно раздувая ноздри, словно их кусал овод, и останавливались, чтобы стряхнуть воду со своих грив и обогреться на утреннем солнце. Тела их издавали грубый, но здоровый и теплый запах. И от этих испарений казалось, что здесь расстилается огромное пустынное побережье, где целый день пробыли какие-то первобытные толстокожие гиганты.
Лежа в тени шатра, Зиза напевал старинную песню, принесенную цыганами с их далекой родины, протяжную, печальную, извлекая одновременно из своей лютни резкие, металлические минорные звуки. Его блаженная детская жизнерадостность рассеялась в то сентябрьское утро среди густых лозняков Пескары над ковром отцветающего клевера. Теперь он все время находился в каком-то болезненном оцепенении, в тяжком унынии, как зверь в клетке, одинокий и тоскующий о вольных любовных играх в родном лесу. Звуки лютни баюкали его, как наркоз, медленно растекающийся по всем фибрам тела. Кругом царила цепенящая полуденная тишина. Река как бы застыла, она казалась замкнутым каналом, где ровная блестящая поверхность дает зеркальные отражения. Под арку моста убегали оба берега, поросшие тополями и тростником, и цыганские шатры среди деревьев казались гигантской паутиной. Лето умирало мирной, безболезненной смертью. От земли к солнцу поднималась сладостная прохлада.
Но песня постепенно затихала на устах певца. Стихи как бы тонули в звуках, переходящих в неясное гортанное клокотанье. Струны, которых он едва касался, звенели чуть слышно: вот прозвучали только три, вот всего две, а вот и последняя струна жалобно, тонко зазвенела от прикосновения Зизы, передавая свою дрожь нерпам пальцев и руки. И тогда легкий трепет возник в его крови, разлился по всем его жилам, внезапной судорогой остановился у сердца и достиг мозга, рождая головокружение. И этот трепет, сохраняя в себе звучание песни и металлическое дребезжание струны, как бы разносил их по всему телу Зизы. Он был словно эхом песни, ее последним внутренним отзвуком в сознании, вызывающим из недр души уснувшие там образы. Образы эти в полуденном зное и блеске поднимались ленивым роем бабочек, только что появившихся из куколок, рассыпались в пестром полете и исчезали, оставляя после себя лучистый след. Беспокойное сладострастное чувство пробегало по всему телу: казалось, будто кровь, растекаясь по жилам, встречает на своем пути узлы, сгущается вокруг них и бродит, словно сок молодого дерева. В этих местах начинал ощущаться зуд, переходивший потом на кожу. Но внезапно возникало новое победоносное чувство облегчения: по телу равномерно разливалась какая-то теплая волна. Образы прояснялись, в них было теперь больше чистоты, больше человечности. Оцепенение переходило в настоящий сон… Но вот новый судорожный трепет, внезапное смятение, пугающие образы. Из глубины его существа вновь поднимается сладострастная отрава, овладевая юношеским телом, таким прекрасным и сильным.
Перед ним возникла женская фигура — стройная, гибкая, все движения ее были полны жгучего чувственного соблазна. В прозрачном лучистом вихре по-змеиному извивались обнаженные руки и ноги, словно жадно стремясь оплести, обвиться, обжечь, кожа отливала золотыми и оранжевыми тонами, губы раскрылись, как свежая рана, дрожа от желания впиться, всосаться, красные, напрягшиеся соски грудей вздувались. И все это возбуждение, все это чувственное исступление было каким-то судорожным, обманчивым. Но Зиза неистово устремился в погоню за призраком своей цыганки, обнимая его руками, словно затвердевшими от наслаждения, искал пылающим взором самые сокровенные прелести, вдыхал ее аромат… И вдруг мрачное предчувствие сдавило ему горло; кровь, казалось, застыла в жилах. Призрак как-то побледнел, очертания женской фигуры задрожали, смешались, краски поблекли, жизнь оставляла его. И жестокая тоска нахлынула на Зизу. Нет, она не принадлежала ему, не хотела принадлежать, с царственным презрением бросала она ему в лицо свой металлический смех. Почему? Кто был тот, другой? Кто был тот человек с голубыми глазами и рыжей, как медь, бородой?
И когда перед ним появился этот новый образ, дрожь пронизала все его члены, к горлу подступила горькая волна ненависти и злобы. И вместе с тем он чувствовал свою слабость, чувствовал, что его одолевает этот ясный уверенный взгляд, эта спокойная улыбка человека, привыкшего к борьбе. Он пытался стряхнуть с себя наваждение, но тщетно: мало-помалу, почти украдкой, сквозь бурные приливы гнева начала проступать тонкая струйка нежности, растекаясь постепенно по всем тончайшим изгибам души. Теперь он видел перед собою лишь смутное сияние, что-то неясно дрожало у него перед глазами — может быть, слезы… Его охватило ощущение одиночества, уныние, бессознательный детский ужас. В этот миг вернулись к нему все давящие горести, все беспричинные страхи детских лет. Ему казалось, что он близок к смерти… Он открыл глаза, и из них по щекам его скатились две горячие слезы. Кругом царила величавая, как бы снежная, ясность: легкий туманный покров источал странную сонливость, от которой оцепенели верхушки деревьев, светлая гладь воды неподвижно застыла, все шумы и голоса ослабели и смолкли.
Когда Йори сказал цыганке, что готов взять ее с собой в лодке на реку, она порывистым движением охватила его шею, и фиалковые глаза ее сверкнули радостью.
— С тобой? На реку? — переспросила она задыхаясь. Лицо ее зарделось от удовольствия, как алый цветок, грудь вздымалась от желания.
Они отправились. В сладостном сиянии дня уже постепенно проступали золотисто-розовые вечерние тона, в воздухе все более и более властно ощущались вечерние запахи. Над морем бирюзовая небесная синева переходила в зеленоватую прозрачность берилла, еще выше обретала ровный аспидный оттенок и растворялась над Монтекорно в переливной золотой дымке. Из этой дымки выступали облака сонмом остроконечных шпилей, словно огромный лес сталагмитов, отраженный в ясной глубине вод, где они казались развалинами какого-то древнего города, затонувшими руинами пагоды, сложенной из топазовых плит, обломками гигантских варварских идолов, которые уже много веков пеленою забвения покрывает река. Челнок легко скользил по сверкающей глади вод, разрезая ее острием носа. Весла в руках Йори ударялись о воду и взлетали вверх, разбрасывая искрящиеся брызги.
— Греби, любовь моя, греби! — говорила Мила. Она лежала на корме, откинув назад голову и опустив руки в кильватерную борозду. Знойное солнце заливало ее оранжевым светом, словно пламенем пожара, играло в ее кудрях, обжигало шею. Красивые серебряные диски сверкали у щек, прекрасные глаза раскрылись, как лучистые венчики цветов. Она была счастлива. Чувство блаженства рождало в душе ее нежность ко всему, что окружало их в этот час, когда начинался сладостный поединок дня и ночи и блистанию мира вскоре предстояло померкнуть.
— Греби, любовь моя!
Лодка неслась вперед, вдоль самого берега среди свежего благоуханного шелеста оборванных и упавших в воду веток. Вросшие в запруду корни старых ив походили на свернувшихся змей, стволы их странно изгибались, словно скрюченные от горя человеческие тела, а от этих стволов шли молодые побеги, робко тянувшиеся к воде. Кругом плавали островки сбившихся в кучу зеленых листьев, уступая только яростным ударам весел, которые разбивали и рассеивали их. Выше дремали цветущие тростники — воздушный лес пушистых метелок, которого не тревожило ни дуновение ветерка, ни взмах птичьего крыла; еще выше скорбным сном объяты были деревья, которые не хотели умирать. На эти тростники и деревья понемногу, незаметно начало уже спускаться покрывало сумерек.
Над лиловатой горой высились алые облачные обелиски, а древний город в глубине вод был словно объят пламенем. Но сумеречный покров все опускался, но на полях, уже местами погрузившихся в тень, воцарялось безмолвие, но чары тишины уже охватили реку.
Весла уже не рассекали воду. Лодка свободно, бесшумно плыла по течению.
— Ты устал, бедненький мой, любимый, — прошептала Мила, наклоняясь к рыбаку и перебирая пальцами завитки его влажных от пота волос, от чего по жилам его разливалось наслаждение.
— Нет. Вот видишь! — ответил он, поднимая голубые смеющиеся глаза и в порыве желания крепко стискивая ее в объятиях.
— Ты прекрасна, прекрасна, прекрасна! — повторял он бледный, дрожащий от страсти, ласково опрокидывая ее на дно лодки, чтобы совершить жертвоприношение любви. — Ты прекрасна, прекрасна!
Они находились в извилистой бухте, тихой словно озеро. Берег перед ними казался сплошной зеленой оградой, где высокие стволы деревьев тянулись длинным рядом колонн под хрустальным и металлическим сводом: прорезанное агатовыми жилками небо между этими колоннами мягче светилось сквозь темную листву. С густолиственных деревьев, с небосвода на реку сходил великий покой. В воздухе плыла молочная и золотистая дымка, истома последней нежности, в которой все сущее обретает сладостный сон, утрачивая ощущение жизни. Но этот сонный мир источал некую бессознательную гармонию. Широкая нежная волна звуков поднималась к пустынному сумеречному небу от земли, истомленной своим мощным осенним плодородием.
— Ты прекрасна, прекрасна, прекрасна!
Впереди снова открылись прямые, уходящие вдаль берега. Река снова торжествовала. В печальном безмолвии устремлялись к морю холодные волны, в безмолвии несли они первые павшие деревья, которые не хотели умирать.
— Мила, ты слышишь? — спросил вдруг Йори. Он высунулся из лодки и прислушался.
У мрачной запруды в камышах послышался вдруг шум и треск подмятых стеблей, как будто дикий зверь преследовал там добычу. Из образовавшейся просеки выскочил конь, несущий на себе всадника, и в неистовом порыве бросился в закрутившуюся, запенившуюся воду.
— Зиза, Зиза! — завопила цыганка. Она выпрямилась па коленях в лодке и, оцепенев от ужаса, протягивала руки к водовороту, где обезумевший парень на коне старался выплыть из захлестывающих его волн и добраться до лодки.
В этот миг проявились душевная сила и благородство моряка.
— Тише, Мила, — сказал он и, вместо того чтобы уходить на веслах от врага, протянул ему свою сильную руку.
Но Зиза, ослепленный гневом и жаждой мести, собрав последние силы, вцепился ему в шею, впился ногтями в живое тело, увлекая его в ненасытные холодные волны. И в сумеречной тишине, в ласковом сиянии восходящей медно-красной полной луны, благостно завладевающей пространством, завязалась эта короткая борьба двух человеческих существ.
Лодка уплывала по течению все дальше и дальше. У Милы, охваченной отчаянием, не вырвалось ни крика, ни рыдания. Она сидела неподвижно, словно бронзовая статуя, устремив остановившийся взгляд в смутно бурлящую воду, где неподалеку плавала выбившаяся из сил лошадь, глядя на нее большими глазами, в которых предсмертная судорога зажгла последнюю искру света. Мила была одна, одна в беспредельности, в чистой беспредельности вечера.