
Многоликий Габриеле Д’Аннунцио
На берегу живописного озера Гарда в Ломбардии, окаймленного ожерельем старинных маленьких городков, неподалеку от «гротов Катулла», где уединялся римский поэт, расположена вилла-поместье с пышным названием Витториале. Это довольно манерный поэтический неологизм, производное от слова «Виттория» — «победа». Так наименовал свою резиденцию поэт, романист и драматург Габриеле Д’Аннунцио, когда он, получивший от итальянского короля титул князя Монтеневозо, в зените своей шумной славы писателя, авиатора, завоевателя дамских сердец и далматинских территорий, поселился здесь после мировой войны. Он скончался в своем имении в 1938 г., полузабытый, переживший свою литературную известность, утративший ореол долго окружавшей его легендарности. Д’Аннунцио широковещательно принес в дар итальянскому государству свою Витториале еще в те времена, когда выстроил и разукрасил виллу и парк по своей прихоти. Он оставил здесь архив, переписку, великолепную библиотеку, свои коллекции и художественные ценности, весь неповторимый «реквизит эпохи». Тогда, в 20-е годы, Д’Аннунцио, разумеется, рассчитывал, что Витториале превратится в музей и место паломничества. Но вышло иное: подарку, как и ему самому, суждено было долгое забвение. Бенито Муссолини, который при случае именовал Д’Аннунцио своим другом и «поэтом нации», так и не открыл музея (по какой причине — мы увидим позже). Лишь несколько лет назад вилла стала доступной для посетителей.
«Витториале — это своеобразный мавзолей, набитый добычей всей жизни», — замечает автор исследования о Д’Аннунцио Ф. Жюлльен. Странное, двойственное впечатление оставляет эта резиденция «принца декадентства». Анфилада комнат, погруженных в полумрак (в иных нет окон), освещенных дымно-красным и мерцающе-фиолетовым светом; диваны, покрытые причудливо вышитыми тканями, обитые тисненой кожей; двери задрапированы тяжелыми портьерами. На столах, этажерках, консолях — груды альбомов, стилизованных сувениров, антикварного фарфора. Стены сплошь увешаны портретами, фотографиями с автографами знаменитостей. Эклектичность этого декора явственно говорит о снобизме владельца, доходившем иногда до комического. Так, в одной из комнат стоит… гроб, убранный парчой и бархатом. Д’Аннунцио однажды объявил, что поэт чувствует себя мертвецом среди буржуазной прозы жизни, и не преминул материализовать метафору в меблировке!
А на холме в дальнем углу парка воздвигнуто сооружение совсем иного рода: Д’Аннунцио установил здесь на маленьком плато палубу, мачту и рулевую рубку, демонтированные с итальянского крейсера «Апулия», на борту которого он некоторое время провоевал. Стоя на носу, около небольшой пушки, глядя сквозь деревья на водную гладь озера, невольно испытываешь ощущение, будто корабль вот-вот вырвется на морской простор, неся на мачте флаг Италии — он и вправду на ней развевается.
Оказывается, все совсем не так просто и прямолинейно.
Этот дом с его интерьером в стиле модерн загромождают строгие полки, заполненные прекрасными книгами: классика на многих языках, редкое собрание литературы первой трети XX века. На стенах рядом с претенциозными фотографиями — потускневшие венецианские зеркала, рисунки художников-прерафаэлитов; античный мраморный бюст и изящная старинная лампа соседствуют с набором экзотических вычурных кальянов. Манерность обстановки кричаще противоречит собранным здесь прекрасным произведениям искусства и литературы, преклонение перед которыми явственно просвечивает у владельца этого странного конгломерата.
Так было и в творчестве Габриеля Д’Аннунцио, и в самой его жизни, яркой и экстравагантной, которую он тщился построить «как произведение искусства», и в путанице его идей. Д’Аннунцио был прежде всего богато одаренной поэтической натурой, сильными сторонами которой являлись эмоциональность, восприятие действительности в ее чувственном, плотском аспекте. Ему присущи замечательное импрессионистское мастерство в передаче оттенков жизни природы и переменчивости человеческих чувств, колорит и пластика образа, безупречное владение арсеналом поэтической метрики. Презрение к эпигонству и культурному провинциализму Италии конца века, сочетавшееся с преклонением перед великой ренессансной национальной традицией, толкнуло Д’Аннунцио к широкому усвоению современной ему европейской культуры. Мопассан и Золя, Бодлер и Гюисманс, Уайльд и прерафаэлиты, Ницше и Вагнер, Метерлинк и искусство Сары Бернар, наконец, русский роман в лице Достоевского и Л. Толстого — вот источники идейно-художественных воздействий, которые итальянский писатель ассимилирует, преобразуя их по-своему, претворяя в свое собственное, оригинальное.
Но, оттесняя плодотворные художественные начала, в творчестве Д’Аннунцио многократно одерживали верх декадентские идейно-эстетические постулаты, составляющие так называемый даннунцианский миф, который явился причиной и недолгой громкой славы Д’Аннунцио, и последующего пренебрежительного забвения. Главный момент этого мифа — культ «свободной личности», утонченной индивидуальности, которая видит цель существования в упоенности жизнью, во всеобъемлющем наслаждении искусством, любовью, красотой вещного мира. В отличие, к примеру, от гюисмансовского Дез Эссента из романа «Наоборот» эстетизация жизни для героев Д’Аннунцио — не бездейственность. Свободная личность постепенно превращается в творчестве Д’Аннунцио в «сверхчеловека», волевого и активного «аристократа духа и породы», предназначение которого — возродить культурную миссию Италии в мире, увлечь нацию имперской идеей величия «Третьего Рима». Здесь выразилась одна из характерных черт национально-исторической специфики итальянского декаданса.
Эмоциональность и честолюбие, искренняя убежденность в своем призвании «поэта нации» и «глашатая Обновления», врожденная любовь к актерству в жизни сцементировали это кредо Д’Аннунцио, человека и писателя. И в результате Габриеле Д’Аннунцио, выходец из самой застойной, традиционалистской среды захолустного итальянского Юга, внезапно сделался властителем умов, законодателем литературных вкусов и образа жизни. Свой миф он воплощал в собственной пестрой и цветистой жизни: некрасивый внешне, стал неотразимым возлюбленным знатных дам и знаменитых актрис, мелкий буржуа по происхождению оказался мужем титулованной наследницы, светский эстет превратился во время войны 1914–1918 гг. в героя-летчика и кондотьера… В зените своей славы, в 1919 г., когда Д’Аннунцио, встав во главе добровольческого отряда демобилизованных молодых солдат, оккупировал город Фиуме (итальянское название города Риеки в Далмации) и в течение 15 месяцев удерживал его наперекор всей Европе, он на какой-то момент стал в глазах широких кругов итальянской националистически настроенной молодежи «народным героем».
Время быстро произвело суровый отбор. Декадентские издержки Д’Аннунцио перевесили надолго его художественный дар, им же самим скомпрометированный: плохо переваренные ницшеанские идеи привели его на склоне лет к восторгам перед демагогией Муссолини о воссоздании величия «Средиземноморской итальянской империи». В результате имя Д’Аннунцио на долгие годы оказалось прочно связанным с трагическим фарсом фашизма.
Свою европейскую славу он утратил быстрее, чем приобрел. Отошли в область истории литературы почти все его нашумевшие романы и драмы. Особенно прочно его изъяли из памяти в послереволюционной России, где он перед первой мировой войной пользовался огромной популярностью. И поэтому сегодня нам особо надлежит разобраться, справедливо ли такое забвение и что же на самом деле являет собою творчество этого многоликого Габриеле Д’Аннунцио.
* * *
Габриеле Д’Аннунцио родился в 1863 г. в маленьком городке Пескара в провинции Абруцци. Этот край еще оставался тогда замкнутой полуфеодальной окраиной, где в деревне сохранялись основы средневекового уклада. В Абруццах не проявил себя итальянский Ренессанс, и позже Д’Аннунцио говаривал, что единственным прекрасным произведением искусства в его краях были разноцветные паруса рыбацких лодок. С тем большей силой рвался необыкновенно способный мальчик из скромной мелкобуржуазной семьи к культуре, к большому миру. Уже в 16 лет не закончивший курса учения лицеист публикует свой первый сборник стихов «Primo vere». Под этим латинизированным названием скрываются стилизованные гимны, элегии, мифологические сценки, обнаружившие жаркий поэтический темперамент автора и отличное знание античности.
Д’Аннунцио едет в Рим, где сотрудничает в декадентских изданиях, а после выхода второго сборника стихов становится модным поэтом.
В 1882 г. появилось первое прозаическое произведение Д’Аннунцио — сборник новелл «Девственная земля», посвященный жизни родного края — Абруццам, Пескаре. Д’Аннунцио сохраняет здесь некоторые черты веристской[1] новеллистической традиции (картины жизни рыбаков, деревенского быта), но его новаторство в разработке этой тематики и в самом видении мира и природы несомненно. Оно проявляется прежде всего в осязаемой образности воссоздаваемого пейзажа, который является наиболее значительным компонентом всех новелл. По существу, это небольшие, по нескольку страничек, поэмы в прозе, образы зримой, многокрасочной природы. «Пейзаж у Д’Аннунцио — само дыхание юной страстности автора», — писал Фр. Флора. Новеллы проникнуты своеобразной лирической чувственностью, они воспевают изначальные — если не примитивные — ощущения человека, охваченного радостью слияния с природой в ее бурном цветении. Особенно выразительна для передачи этого общего мировосприятия новелла «Девственная земля».
Молодой свинопас Тулеспре и пастушка Фьора бродят со своими стадами в дубовой роще над рекой. Все вокруг возбуждает в парне страсть: багровый от зноя воздух, поле, разогретое солнцем, аромат цветущих деревьев, песня Фьоры, ее движения, придающие ей сходство с пантерой. Проза Д’Аннунцио словно смодулирована в ритме этой яркой, без светотеней, могучей жизни натуры.
Прежде так в Италии писать не умели. Тяжелая каденция письма, найденная здесь, со своей особенной мелодикой характерна и для позднейшей прозы Д’Аннунцио.
Во внешности персонажей своих новелл Д’Аннунцио также подчеркивает слияние с природой. Такова новелла «Дельфин» — о парне, похожем на дельфина, бесстрашно ныряющем с утеса, когда «солнце как огромный красный глаз зажглось над фиолетовым морем». Глаза у Дельфина — как у акулы, он рычит, «как леопард в сетях», а у его возлюбленной, Дзарры, гибкость пантеры, готовой укусить. Д’Аннунцио мифологизирует отношения между человеком и природой. В крошечной новелле «Цветики-цветочки» молодая крестьянка Мара поет немудреную песню, работая в огороде — красочном, «фигуративном», словно натюрморты Сезанна и Матисса, среди тыкв, похожих на желтые черепа, и арбузов, блестящих, как лакированные. И муж ее, под палящим зноем в поле, слышит — вернее, ощущает — песню жены словно свежий холодный ночной родник.
В определенном отношении здесь можно усмотреть уроки Золя с его прославлением плодоносной силы природы в романе «Проступок аббата Муре». Но пейзаж Д’Аннунцио еще более экспрессивен, он тщательно подбирает эпитеты и глаголы, нагнетающие красочность и силу ощущения.
В сборнике есть и мрачные новеллы, в которых отразился вкус молодого писателя к эстетизированному описанию темных, уродливых сторон жизни и гибели «всякой плоти». В новелле «Колокола» любовь звонаря Биаше и Дзольфины «росла вместе с травой», расцветая из аромата боярышника и миндаля, но девушка умерла от оспы, ее тело гноится, разлагается со зловоньем, а Биаше повесился на веревке колокола. Здесь явен вкус к декадентскому сопряжению прекрасного и уродливого, из которого, однако, можно тоже творить искусство.
За первым сборником последовали еще два, и все они были объединены в 1902 г. в единый сборник «Пескарские новеллы». В нем в полной мере сказалось высокое мастерство Д’Аннунцио, который проявил себя как «испытатель» самых различных форм и видов новеллы. В сборнике есть и стилизованная хроника, и жизнеописание, и брызжущий боккачианским юмором анекдот, и психологический рассказ, и картины нравов родного Юга с его религиозным фанатизмом и закоснелыми предрассудками. Таков рассказ «Идолопоклонники», где автор описывает кровавое побоище — соперничество между двумя деревнями из-за «собственных святых», чьи статуи рубят на куски.
К сожалению, позже писатель расстается с жанром новеллы. В 1889 г. выходит его первый роман «Наслаждение», в котором появляется герой совершенно иного рода — эстет, светский лев и дилетант в искусстве Андреа Сперелли: он должен олицетворять образ «свободной личности».
Утонченность любовных страстей, которыми живет этот герой, блеск эрудиции, обаятельная внешность и изысканность вкусов сделали его своеобразным эталоном, фальшивым идеалом в снобистских кругах Италии того времени.
Интрига романа начинается с разрыва между героем и его любовницей Эленой, связь с которой была для него настоящим пиршеством изысканных чувств, эстетического сладострастия. С потерей Элены Андреа утрачивает не столько любимую женщину, сколько целый комплекс телесных и эстетических наслаждений, неповторимых ощущений. По существу, подлинной любви он не знает. По характеристике самого автора, это человек, у которого разрушена нравственная основа.
Роман долго «топчется на месте», распадается на отдельные сцены, описания, эпизоды. После дуэли, на которой Андреа серьезно ранен, период выздоровления он проводит на вилле у моря, где происходит встреча Андреа с Марией, олицетворяющей чистоту и женское целомудрие. Представляя себе свою возможную связь с этой женщиной как своеобразное святотатство, кощунство, Андреа находит в этом новое, еще не изведанное сладострастие.
По возвращении в Рим Андреа становится любовником Марии, которая верит, что спасает своей чистотой падшего. Она любит его горячо, искренне, а Андреа, принимая Марию в той же комнате, что и Элену, находит тайное, извращенное наслаждение в том, чтобы в своем воображении соединять, совмещать обеих женщин. Во время свидания с Марией он однажды невольно называет ее Эленой. Оскорбленная, страдающая Мария навсегда покидает Андреа. Для него остается пустота, которую больше нечем заполнить.
Таким образом, «свободная личность» терпит моральный крах, от которого не спасает ни эстетство, ни культ наслаждения.
Главные пороки романа «Наслаждение» — манерность, статичность, безжизненность персонажей. Нет единой художественной логики и в образе главного героя.
Д’Аннунцио не считается с жанровыми принципами романа, в его романе нет композиционного единства, нет кульминации; повествование растекается в подробностях. Лучшие его страницы — это описания природы, музыки, произведений искусства. Именно растворение эпической формы, распад характера, превращение героя лишь во вместилище ощущений и дали возможность критике, как русской, так и итальянской, причислить роман Д’Аннунцио к декадентскому искусству. Образ Андреа Сперелли оказался лишь вариантом образов Дориана Грея Уайльда и Дез Эссента Гюисманса, но пришелся по мерке итальянскому декадентству.
* * *
В феврале — марте 1891 г. на страницах одного из итальянских журналов была опубликована повесть Д’Аннунцио «Джованни Эпископо». В 1892 г. она появилась отдельным изданием, почти одновременно с которым вышел новый роман Д’Аннунцио — «Невинный» (переводился также под названием «Невинная жертва»). Оба эти произведения внутренне связаны новой для писателя проблематикой (хотя, конечно, в них есть продолжение и прежних, ранее наметившихся тенденций) и стоят особняком в его творчестве. Это наиболее интересный и плодотворный этап развития Д’Аннунцио как прозаика. Как в «Джованни Эпископо», так и в «Невинном» с большой силой сказалось воздействие на итальянского автора идей и художественной манеры Достоевского. Известный писатель и критик конца XIX века Луиджи Капуана писал о воздействии «Кроткой» на «Джованни Эпископо»: «Наваждение было так велико, что Д’Аннунцио не заметил, как его Эпископо приобрел иностранный акцент… бормотал не о своих чувствах».
Сюжет повести, как и ее композиционная структура и стилистический строй, действительно свидетельствует об «учебе» Д’Аннунцио у автора «Кроткой» и «Братьев Карамазовых».
Сам он отнюдь не скрывал ни того огромного впечатления, которое произвело на него чтение произведений Достоевского, ни своего стремления овладеть определенными «секретами» его формы, стиля, повествовательными приемами.
Повесть «Джованни Эпископо» — рассказ от первого лица самого героя о своем трагическом уделе. Джованни — мелкий чиновник, робкий, слабовольный человек, подпавший под влияние своего сослуживца грубого и деспотичного Ванцера. Он женится на распутной Джиневре, прислуживающей в маленьком ресторанчике, посетители которого поочередно пользуются ее «милостями». Джиневра, цинично издеваясь над любовью Джованни, заставляет его пройти все ступени нравственного и гражданского падения: он опозорен не только ее поведением, но прежде всего своим смирением, покорством, которое все считают трусостью и подлостью. Джованни терпит все это ради своего маленького сына, который для него — единственная цель жизни, но отцовская любовь становится новым источником мучений, когда чуть подросший Чиро начинает все понимать и стыдится отца. Но однажды Джованни, увидев, как Ванцер поднял руку на ребенка, совершает свой единственный поступок — убивает Ванцера. Однако ни ребенок, ни отец не могут перенести ужаса убийства. Умирает Чиро, умирает и Джованни при последних словах своего рассказа-исповеди.
Уже из канвы сюжета видно, как своеобразно контаминируются здесь прежняя даннунцианская концепция непреодолимости, фатальности плоти и тема страдания униженных и оскорбленных, воспринятая у Достоевского. Весь художественный строй повести с совершенной очевидностью вдохновлен прежде всего «Кроткой» с ее задыхающейся, разорванной исповедью — внутренним монологом героя, стремящегося осознать Происшедшее, повествующим не по порядку, а вперебивку, ибо рассказчик часто «теряет нить» рассказа (и слова-то Достоевского!). Та же судорожная интонация, те же повторы, метания, обращения к слушателю. Однако арсенал психологического анализа и мастерство внутреннего монолога, усвоенные у Достоевского, служат у Д’Аннунцио для того, чтобы Джованни убедился в существовании непреодолимой, роковой силы, заставившей его покориться Ванцеру, влюбиться в Джиневру. Герой Д’Аннунцио не доискивается причин именно такого своего поведения; он повествует о своем внутреннем состоянии как о многолетнем роковом наваждении. Таков его фатум, которому он и не пытается больше сопротивляться.
Таким образом, психологическая нагрузка «исповеди» героев Д’Аннунцио и Достоевского принципиально разная. У Д’Аннунцио герой как бы «задан» со своим врожденным, неотвратимым комплексом приниженности и неполноценности. Герой Достоевского — «человек из подполья», остро мыслящий и социально детерминированный.
Подкрепленный открытиями творческой лаборатории Достоевского, талант Д’Аннунцио в этой повести достигает больших художественных высот. Таковы страницы, где автор сумел выразить щемящую, нестерпимую душевную боль, страдания ребенка и его отца, бессильного в своем стыде и горе.
Самый сильный и искренне звучащий мотив повести — это сочувствие к маленькому человеку, одинокому и приниженному, но сохранившему в отчаявшейся душе жертвенную любовь к сыну. Ребенок в повести «Джованни Эпископо» — мера всех вещей, детское страдание — тягчайшее преступление жизни. Этот «урок Достоевского» сделал повесть Д’Аннунцио не просто «опытом ассимиляции чужой формы», а гуманистическим призывом к состраданию и жалости.
Роман «Невинный», как и предыдущая повесть, написан в форме исповеди. Молодой аристократ Туллио Эрмиль излагает свою историю продуманно и четко; ибо страшное преступление, в котором он сознается, убийство ребенка — также было совершено им с выдержкой и спокойствием. Признание для него становится непреодолимой моральной потребностью.
Герой беспощадно судит собственную натуру, обуреваемую жаждой наслаждений, «любопытством развращенного ума».
Этот мотив самоосуждения, проходящий через все произведение, свидетельствует — об этом позже говорит и сам герой — о воздействии на него (и конечно, прежде всего на автора книги) этических взглядов Л. Толстого. Туллио рассказывает, как они вместе с женой читали «Войну и мир» и размышляли над словами старика масона, спросившего Пьера Безухова: «Довольны ли вы собой и своей жизнью?» Перед Туллио был также живой пример его брата Федерико, целиком отдавшегося труду в сельском хозяйстве. «Лев Толстой, поцеловав его в прекрасный белый лоб, назвал бы его своим сыном», — убежденно заявляет Туллио.
Но сам герой, восхищаясь душевной цельностью брата, не в состоянии пойти по этой дороге. Свою беспорядочную жизнь он оправдывает красивыми теориями о том, что, будучи незаурядным человеком, он свободен от общепринятых условностей и имеет право жить «сообразно своей природе».
Вместе с тем Туллио уже не тот эстет и «творец своей жизни», каким был герой «Наслаждения». Эрмиль — тип быстро реагирующего на чувственные и интеллектуальные импульсы человека, вместилище противоречивых страстей. Вместе с тем ему присуща проницательная интроспекция. Поддаваясь целой гамме вытесняющих друг друга чувств, он в то же время в состоянии внимательно следить за их сменой в своем сердце, констатировать собственное непостоянство, не будучи, однако, в силах воспрепятствовать ему.
Туллио тщится добиться полного самоотречения своей жены Джулианы, которая должна оставаться верной ему в то время, как он открыто изменяет ей. Однако, поехав с Джулианой на виллу, где они когда-то провели медовый месяц, полную весенней цветущей прелести (в описании переливов красок сиреневого сада Д’Аннунцио — колорист и пластик, — как всегда, торжествует победу), Туллио и Джулиана переживают пьянящее возвращение былой страсти. Тем горше наказание: Джулиана признается, что она ждет ребенка от другого — это плод отчаяния и одиночества, которые толкнули ее на измену без любви. Она на пороге самоубийства. А для Туллио наступает моральный кризис. В ушах его звучит безмолвный вопрос, который слышался из мертвых уст «маленькой княгини» Лизы Болконской: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» Он осознает свою вину и свой долг: воздать жене прощением за прощение, спасти ее и завоевать новое счастье, которого не могло бы быть без подлости всей его предшествующей жизни.
Такого героя в итальянской литературе еще не бывало. При некоторой смутности, перебивчатости психологической линии банальная адюльтерная история скручивается в сложный психологический узел. Туллио, преодолевший чувство ревности, не в силах перебороть нарастающую в нем ненависть к ребенку, подкрепляемую услужливыми доводами рассудка: смерть малыша принесет покой в душу Джулианы, в душу его самого. И в рождественскую ночь, когда все домочадцы в церкви, Туллио хладнокровно выставляет обнаженное тельце новорожденного на холод и снег в открытое окно. Тайна смерти ребенка остается нераскрытой. Но тут наступает третья, решающая стадия моральных пыток Туллио. Глядя на бледное личико в гробу, Туллио снова слышит вопрос мертвых губ: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?»
Рефлектирующий, эгоистичный, обуреваемый плотскими страстями герой осознал недозволенность убийства, бесчеловечность, неправедность насилия над беззащитными. И он громко спрашивает присутствующих на отпевании: «Знаете ли, кто убил этого невинного?» — вызывая ассоциации с евангельской притчей о младенцах.
Снова Д’Аннунцио разрабатывает великую тему Достоевского. Концовка «Невинного» варьирует финал «Преступления и наказания», когда Раскольникова в ссылке озаряет моральное просветление. Но для героя Д’Аннунцио ни покаяние перед судом, ни покаяние перед Богом ничего не дадут, он отвергает суд людской и небесный, он сам осудил и свое преступное деяние, и самого себя. Возвышенная моральная идея побеждает догму «вседозволенности», столь привлекательную для «избранных душ».[2]
Опыт Достоевского и Толстого открывал для Д’Аннунцио плодотворные творческие перспективы. Но два последующих романа конца века — «Триумф смерти» (1894) и «Девы скал» (1895) — показали, что иное начало возобладало в авторе и увело его от «русских ориентиров».
И не только от русских. В 1893 г. появились три статьи Д’Аннунцио «Мораль Эмиля Золя». Со своей способностью остро ощущать зарождающиеся идейные и художественные тенденции, автор засвидетельствовал «смерть» натурализма и позитивизма, кризис рационалистических рецептов прогресса. Он писал:
«Опыт закончен. Наука неспособна вновь заселить опустевшее небо, вернуть счастье душам, которых она лишила наивного мира. Мы больше не хотим правды. Дайте нам мечту. Мы обретем отдых только под сенью Непознанного».
Мечта, Идеал, Красота, Тайна, торжество индивидуализма, противопоставляемые материалистическому познанию, — таковы новые мифы, в которые в Италии облекается идеология этой эпохи, в парадоксальной форме возвещаемая декадентством. Эти риторические постулаты рождались в культуре конца прошлого века из яростного отрицания нищей, заурядной официальной Италии и ее парламентской системы, разъеденной коррупцией. Тем ослепительнее выглядели мечты об иной Италии, об ее античных традициях, о величии и престиже латинской расы, мечты, облаченные в одежды даннунцианского эстетизма. Неустанный экспериментальный поиск приводит Д’Аннунцио к модели ницшеанского сверхчеловека, в котором он увидел воплощение собственного витализма — идеи «дионисийской», плотской жизненной силы, — и автор выступает здесь как глашатай и проводник этих идеологических позиций.
Роман «Девы скал», не внося ничего существенно нового в закрепившуюся структуру даннунцианского романа, уже более детально представляет образ героя, проповедующего пышные постулаты «сверхчеловеческого» мессианства латинской расы и зовущего к энергическим действиям, хотя сам молодой аристократ духа совершенно бездеятелен и даже не в состоянии помочь своим кузинам — «девам скал» — выйти из круга одиночества.
Д’Аннунцио создает здесь шедевр описания бьющих фонтанов старого замка. Это, пожалуй, вершина художественного изображения языковыми средствами звуков, форм, движения.
Несколько особняком стоит в творчестве Д’Аннунцио роман «Пламя» (1900), в котором автор с эпатирующей откровенностью изобразил свою связь с великой актрисой Элеонорой Дузе — ей он был обязан очень многим в своей карьере драматурга. Разрыв между ними и публикация романа стали международным светским скандалом, на что Д’Аннунцио, впрочем, охотно шел, создавая свой «имидж». Однако, несмотря на скандальную славу романа, великая трагическая актриса Форнарина (под этим именем выведена Дузе), с ее талантом, гордостью, упоением своим трудом, чувством любви, — пожалуй, единственный обаятельный женский образ во всей прозе Д’Аннунцио. Перед нею меркнет обаяние главного героя — поэта и трибуна Стелио, в котором автор изобразил себя, присвоив себе атрибуты и любовника, и сверхчеловека. Его пышные речи бледнеют в сравнении с простым рассказом Форнарины о ее нищем детстве в повозке бродячего театра. Это — подлинная правда жизни, которая — в сочетании с великолепными описаниями художественных памятников Венеции обеспечила успех романа и доныне спасает его от забвения.
Последний из романов Д’Аннунцио, написанный незадолго до первой мировой войны, «Быть может — да, быть может — нет» (1910), наглядно свидетельствует о том, как комплекс идей расового превосходства и завоевательных притязаний губил то живое и талантливое, что содержалось в художественном мастерстве писателя. Главный герой этого романа — летчик Паоло, воплощающий все тот же идеал «сверхчеловека латинской расы». Д’Аннунцио восхищается работами в авиационном ангаре, картинно описывает «красоту» торпедной атаки подводной лодки. Воспевание техники, скорости, риска роднит эстета-декадента Д’Аннунцио с футуристом Маринетти — здесь они, пожалуй, впервые «выходят на одну прямую».
Рядом с образом героя-сверхчеловека возникает «сверхженщина» с ее комплексом «любви-ненависти» — демоническая Изабелла, которую ее сестра Вана ревнует к победительному Паоло. Развязка романа, как всегда распадающегося на плохо скрепленную цепь картин, — самоубийство Ваны и сумасшествие Изабеллы. А Паоло совершает в годовщину гибели его друга-летчика смертельно опасный полет и поднимается на еще никем не достигнутую высоту. Увы, сам Д’Аннунцио как художник испытал в этом романе несомненное падение…
А ведь Д’Аннунцио был искренне увлечен авиацией. Готовясь к созданию своего «икарийского романа», он стал обучаться пилотажу. Но и тут остался верен себе: он эстетизирует даже авиаполет. «Я полечу только на моноплане Блерио, — писал он своей подруге, русской княгине Голубевой, — он единственный обладает прекрасной линией — похож на стилизацию египетского священного ястреба».
В 1910–1915 гг. Д’Аннунцио живет во Франции и, спасаясь одновременно от многочисленных долгов, ставит одну за другой свои драмы на парижской сцене. Это период интенсивного поэтического творчества. Д’Аннунцио открывает для себя новый жанр ритмической поэтической прозы, в значительной степени освободившейся от риторики и сохранившей все искусство пластического изображения живой природы. Лучшее, что создано им в этом жанре, — «Леда без лебедя» (1913), публикуемая в сборнике.
Творчество Д’Аннунцио было прервано войной, участие в которой стало для него не только делом патриотизма, но и формой героического самоутверждения. Он храбро сражался на море и в воздухе, потерял на войне глаз. После Версальского мира автор «Наслаждения» и «Пламени» в начале 20-х годов попал на гребень волны молодежного недовольства и попытался даже конкурировать с фашизмом, стать своего рода «третьей силой» в политической борьбе. Его оппозиция по отношению к Муссолини продолжалась вплоть до 1925 г., и «дуче» знал о популярности «затворника Витториале», то и дело выступавшего с туманными декларациями о «братстве свободных и бедных народов» и о «труде как основе жизни», подсылал к нему шпионов и в конце концов открыто приставил к поэту комиссара полиции. Пытался Муссолини и подкупить Д’Аннунцио: приобрел за крупную сумму для государства рукописи его драм, предлагал ему во владение старинную римскую виллу Фальконьери за символическую сумму в одну лиру.
Но Д’Аннунцио долго фрондировал; ему претил кровавый балаган фашизма, а подлое убийство депутата-социалиста Маттеотти по личному указанию «дуче» поэт публично назвал «зловонным делом». На телеграмму Муссолини, где упоминалась пресловутая «одна лира» в качестве платы за виллу, Д’Аннунцио телеграфно же ответил так: «Столь неожиданно прося у меня одну лиру ты подразумеваешь мою семиструнную цитру точка я имею то что подарил (речь идет о Витториале, которую Д’Аннунцио именно тогда передал в дар итальянскому народу. — 3. П.) и не хочу иметь того что мне дарят точка надеюсь быть понятым точка обнимаю тебя».
Утвердив свою диктатуру с помощью чрезвычайных законов, жестоко репрессировав левую оппозицию, Муссолини не стал прямо мстить Д’Аннунцио; он предпочел воздать ему почести, тем самым привязав поэта к своей триумфальной колеснице. Но он не простил ни дерзких колкостей своего соперника, ни дружеского визита народного комиссара иностранных дел России Чичерина в Витториале после генуэзской конференции 1922 г. по личному приглашению Д’Аннунцио, ни участия последнего в помощи голодающим Поволжья. Режим «забыл» про Д’Аннунцио-художника, который замкнулся в мрачном мирке Витториале. Доживая в одиночестве свой век, перестав быть неустанным новатором стиха, он в последние годы жизни много болел, не писал почти ничего, кроме воспоминаний…
Теперь, спустя более чем полвека, можно окончательно отсеять зерна от плевел. Никогда не умирало наследие Д’Аннунцио-поэта, автора прекрасных лирических стихотворений, неизменно включаемых в антологии и хрестоматии. Поэзией народной жизни проникнута его стихотворная драма «Дочь Иорио» — уникальное явление итальянского театрального жанра XX века. Великолепны деревенские новеллы, в которых Д’Аннунцио новаторски развивает многовековую традицию итальянского короткого рассказа.
Лирико-философские эссе, ритмическая проза его «Леды» и притч оказались даже более созвучны нашему времени, чем началу века, когда были созданы. А гений Лукино Висконти вернул «Невинного» широчайшим массам кинозрителей во всем мире.
Надеемся, что предлагаемый сборник «Леда без лебедя» не оставит русского читателя равнодушным к творчеству Габриеле Д’Аннунцио.
Невинный
© Перевод Н. И. Бронштейна
Блаженны непорочные…
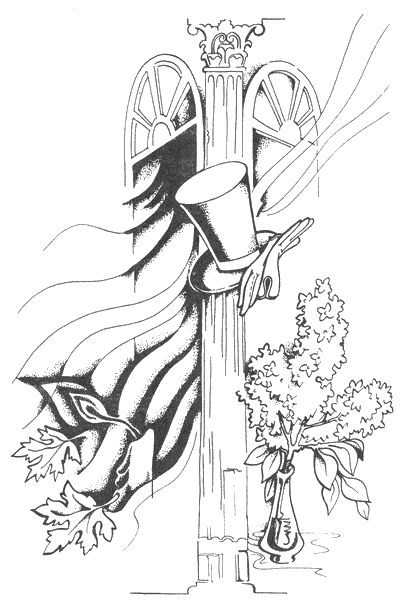
~~~
Прийти к судье, сказать ему: «Я совершил преступление. Это бедное дитя не погибло бы, если бы я не убил его. Я, Туллио Эрмиль, я сам убил его. Задумал убийство в своем собственном доме. Совершил его с полной ясностью сознания, по заранее рассчитанному плану, в полнейшей безопасности. И после этого продолжал жить со своей тайной, в своем доме, целый год, до нынешнего дня. Сегодня — годовщина. И вот я — в ваших руках. Выслушайте меня. Судите меня». Могу ли я прийти к судье, могу ли я говорить с ним так?
Не могу и не хочу. Суд людской — не для меня. Никакой земной суд не мог бы судить меня.
И все же я должен обвинить себя, исповедаться. Я должен раскрыть кому-нибудь свою тайну.
Кому?
~~~
Вот первое воспоминание.
Это было в апреле. Уже несколько дней мы жили в деревне: я, Джулиана и наши две девочки, Мария и Наталья; мы проводили праздники Пасхи в доме моей матери, в большом, старом доме, в имении, называемом Бадиола.[3] Шел седьмой год нашего брака.
Прошло уже три года после другой Пасхи, ставшей для меня настоящим праздником прощения, мира и любви в этой белой и уединенной, как монастырь, вилле, пропитанной ароматом левкоев; Наталья, моя младшая дочь, только что вышедшая из пеленок, как цветок из завязи, начинала ходить, а Джулиана выказывала мне полную снисходительность, правда, с несколько меланхоличной улыбкой. Я вернулся к ней, раскаявшийся и покорный, после первой серьезной измены. Моя мать, ничего не знавшая, своими заботливыми руками прикрепила оливковую ветвь к изголовью нашей постели и снова наполнила святой водой маленькую серебряную кропильницу, висевшую на стене.
Но сколько перемен за эти три года! Между мной и Джулианой произошел окончательный и непоправимый разрыв. Число моих проступков по отношению к ней увеличивалось все более и более. Я оскорблял ее самым жестоким образом, без стеснения, без удержу, увлекаемый своей алчностью к наслаждениям, быстрой сменой своих увлечений, любопытством своего извращенного воображения. Я был любовником двух близких ее подруг. Жил несколько недель во Флоренции с Терезой Раффо, пренебрегая всякой предосторожностью. Дрался на дуэли с самозваным графом Раффо, после чего, благодаря стечению разных курьезных обстоятельств, мой злосчастный противник сделался общим посмешищем. И все это было известно Джулиане. И она страдала, но с необыкновенной гордостью, почти молча.
Разговоры между нами по этим поводам были весьма немногочисленны и кратки; объясняясь с нею, я никогда не лгал, думая искренностью уменьшить свою вину в глазах этой кроткой и благородной женщины, которую считал очень умной.
Я в свою очередь знал, что она признавала превосходство моего ума и отчасти извиняла извращения моей жизни не лишенными правдоподобия теориями, защищаемыми мною в противовес нравственным учениям, исповедуемым большинством людей только для виду. Уверенность, что она не будет судить меня, как обыкновенного человека, облегчала в моем сознании тяжесть моих заблуждений. «Ведь она, в конце концов, понимает, — думал я, — что я, будучи не похож на других людей и имея особенный взгляд на жизнь, могу, по справедливости, игнорировать обязанности, которые другим хотелось бы возложить на меня, могу, по справедливости, презирать мнение других и жить вполне искренно, согласно моему природному призванию».
Я был убежден не только в особенном призвании моего ума, но и в его исключительности; и думал, что эта исключительность моих ощущений и моих переживаний облагораживала, выделяла всякий мой поступок. Гордясь и чванясь этой исключительностью, я не был способен понимать идею жертвенности или самоотречения, как не был способен отказывать себе в выражении или проявлении своих желаний. Но в глубине всех этих тонкостей моей натуры лежал лишь страшный эгоизм, так как, пренебрегая обязанностями, я пользовался выгодами своего положения.
Мало-помалу, переходя от одного злоупотребления к другому, я и в самом деле добился для себя с согласия Джулианы первоначальной свободы, без лицемерия, без уверток, без унизительной лжи. Я изо всех сил старался оставаться во что бы то ни стало искренним, в то время как другие в подобных случаях прибегают к притворству. Пользовался всеми поводами, чтобы установить между мною и Джулианой новый договор братства, чистой дружбы. Она должна была быть моей сестрой, моим лучшим другом.
Моя единственная сестра, Костанца, умерла девяти лет от роду, оставив в моем сердце бесконечное сожаление. Часто, с глубокой тоскою думал я об этом маленьком существе, которое не могло еще предложить мне сокровищ своей нежности, сокровищ, казавшихся моему воображению неисчерпаемыми. Среди всех человеческих чувств, среди всех земных привязанностей любовь сестры всегда казалась мне самой возвышенной и утешительной. Я часто думал о великом утраченном утешении с печалью, которую непреложность смерти делала почти мистической. Где найти на земле другую сестру?..
Естественно, предметом этих сентиментальных чаяний стала Джулиана.
Относясь отрицательно к смешению различных чувств, она уже отказалась от всякой ласки, от малейшего проявления страсти. Да и я с некоторых пор не испытывал уже ни тени чувственного возбуждения вблизи нее: чувствуя ее дыхание, вдыхая ее запах, глядя на маленькое темное пятнышко у нее на шее, я оставался совершенно холодным. Мне казалось невозможным, что это та самая женщина, которая некогда бледнела и замирала в моих пылких и страстных объятиях.
Итак, я предложил ей свои братские чувства, и она приняла их, приняла просто. Когда она бывала печальна, мне становилось еще тяжелее при мысли, что мы похоронили нашу любовь навсегда, без надежды на ее воскрешение; при мысли, что наши уста, быть может, не сольются больше никогда, больше никогда… И в слепоте моего эгоизма мне казалось, что она должна хранить в своем сердце благодарность за эту печаль мою, которую я считал неизлечимой; и еще казалось мне, что она должна быть удовлетворена и утешена этой печалью, как отзвуком далекой любви.
Когда-то оба мы мечтали не только о любви, но и о страсти до самой смерти, usque ad mortem. Оба мы верили в нашу мечту и не раз, в опьянении, произносили два великих обманчивых слова: Вечно! Никогда! Кроме того, мы верили в сродство наших тел, в это необычайно редкое и таинственное сродство, связывающее два человеческих существа страшными узами ненасытного желания; мы верили в это потому, что острота наших чувств не уменьшилась даже тогда, когда, с рождением нами нового существа, таинственный Гений рода достиг при нашем посредстве своей единственной цели.
Иллюзии рассеялись; пламя страсти погасло. Душа моя (клянусь в этом) искренно плакала над руинами. Но как противиться необходимости? Как избежать неотвратимого?
Конечно, было великим счастьем, что после смерти нашей любви, благодаря роковому стечению обстоятельств и к тому же без вины кого-либо из нас, мы могли еще жить в одном и том же доме, сдерживаемые новым чувством, быть может, не менее глубоким, чем прежнее, но, конечно, более возвышенным и необыкновенным. Было великим счастьем, что новая иллюзия возникла взамен первоначальной и установила между нашими душами обмен чистых переживаний, нежных волнений, утонченных печалей.
Но на самом-то деле, какой цели достигала эта платоническая риторика? Добиться того, чтобы жертва, улыбаясь, шла на заклание.
На самом-то деле новая жизнь, не супружеская, а братская, всецело строилась на одном основании: на абсолютном самоотречении сестры. Я вновь возвращал себе свою свободу, мог искать новых острых ощущений, в которых чувствовали потребность мои нервы, мог влюбиться в другую женщину, надолго оставлять свой дом и вновь находить там ожидающую меня сестру, находить в моих комнатах явные следы ее забот, находить на моем столе вазу с розами, сорванными ее руками, находить всюду порядок, изящество и чистоту, словно в обители какой-нибудь Грации. Не завидно ли было мое положение? Не была ли особенно драгоценною женщина, соглашавшаяся пожертвовать для меня своей молодостью, довольствуясь пить благодарным и почти благоговейным поцелуем в гордый и нежный лоб?
Моя благодарность становилась порою такой горячей, что выражалась в бесконечных заботах, нежных и сердечных. Я умел быть лучшим из братьев. В разлуке я писал Джулиане длинные письма, полные грусти и нежности, нередко отправляя их вместе с письмами к своей любовнице, которая не могла бы ревновать меня к ним так же, как не могла ревновать меня к памяти Костанцы.
Все же, даже погружаясь с головой в свою обособленную жизнь, я не мог избегнуть вопросов, по временам всплывавших в моей душе. Чтобы выдерживать эту чудовищную силу самопожертвования, Джулиана должна была любить меня неземною любовью; и, любя меня и имея возможность быть только моей сестрою, она должна была таить в себе смертельное отчаяние. Не безумцем ли был человек, без зазрения совести приносивший в жертву грязным и пошлым страстям эту женщину, скорбную в своей улыбке, простую в своем героизме? Помнится мне (и моя тогдашняя извращенность не укладывается теперь в моей голове), помнится мне, что в числе аргументов, которыми я сам себя успокаивал, самым неопровержимым был следующий: «Так как нравственное величие измеряется силой перенесенных страданий, то ей для того, чтобы воспользоваться случаем быть героиней, необходимо было перенести все те страдания, которые я причинял ей».
Но однажды я заметил, что это отражается и на ее здоровье; я заметил, что ее бледность становится более зловещей, переходя порой в род мрачной тени. Не раз на лице ее я подмечал судороги еле сдерживаемой муки; не раз, в моем присутствии, она не в силах была преодолеть неудержимый трепет, от которого вся содрогалась, и зубы у нее стучали, как в неожиданном пароксизме лихорадки. Однажды вечером из отдаленной комнаты до меня донесся ее раздирающий крик; я бросился туда и увидел ее прислонившейся к шкафу; лицо ее перекосилось, и тело судорожно извивалось, как будто она приняла яд. Схватив мою руку, она сжала ее, как в тисках.
— Туллио! Туллио! Какой ужас! Ах, какой ужас!
Она пристально глядела на меня; не сводила с моих глаз своих расширившихся зрачков, которые в полумраке казались мне необычайно огромными. И я видел, как в этих расширенных зрачках подымались волны неведомого страдания; и этот взгляд, упорный, невыносимый, вдруг пробудил во мне безумный ужас. Были вечерние сумерки, окно было раскрыто, занавески с шумом колыхались, на столе перед зеркалом горела свеча; и, не знаю почему, шум занавесок, быстрое колебание пламени свечи, отраженного бледным зеркалом, показались мне зловещим предзнаменованием, усилили мой страх. У меня мелькнула мысль о яде; в это мгновение она опять не могла сдержать крика; и, обезумев от муки, бросилась в отчаянии ко мне на грудь.
— Ох, Туллио, Туллио! Помоги мне! Помоги!
Застыв от ужаса, я целую минуту не в силах был вымолвить ни слова, не мог шевельнуть рукой.
— Что ты сделала? Что сделала? Джулиана! Скажи, скажи… Что ты сделала?
Пораженная глубокой переменой моего голоса, она немного отстранилась и посмотрела на меня. Должно быть, лицо мое исказилось и стало белее ее лица, потому что она тут же упавшим голосом быстро проговорила:
— Ничего, ничего, Туллио, не пугайся. Это ничего, видишь… Это мои обычные боли… знаешь, мои обычные припадки… которые проходят. Успокойся…
Но я, охваченный ужасным подозрением, не верил ее словам. Мне казалось, что все вокруг меня говорит о чем-то трагическом, и какой-то внутренний голос твердил мне: «Из-за тебя, из-за тебя она хотела умереть. Ты, ты толкнул ее на смерть». Я взял ее за руки и почувствовал, что они были холодны, и увидел, что со лба ее скатывается капля пота…
— Нет, нет, ты обманываешь меня, — воскликнул я, — ты обманываешь меня! Умоляю тебя, Джулиана, душа моя, скажи, скажи! Скажи мне: что ты… Молю тебя, скажи мне; что ты… выпила?
И мои искаженные ужасом глаза искали кругом каких-нибудь следов на мебели, на ковре, повсюду…
Тогда она поняла. Снова упала ко мне на грудь и проговорила, содрогаясь и заставляя меня трепетать, проговорила, прильнув губами к моему плечу (никогда, никогда не забуду необыкновенного выражения этих слов):
— Нет, нет, нет, Туллио, нет.
Ах, что в целом мире могло сравниться с головокружительным ускорением нашей внутренней жизни? Мы безмолвно застыли в этой позе среди комнаты; и непостижимо обширный мир чувств и мыслей забушевал во мне, с ужасной яркостью сосредоточившись на одном вопросе. «А если бы это была правда? — спрашивал голос. — Если бы это была правда?»
Джулиана все еще трепетала на моей груди; лицо ее было еще скрыто, и я знал, что она, продолжая испытывать физические муки, думала только о моем подозрении, думала только о моем безумном ужасе.
С моих губ готов был сорваться вопрос: «Чувствовала ли ты когда-нибудь искушение?» И потом другой: «Могла бы ты поддаться искушению?» Я не произнес ни того ни другого, и, однако, мне казалось, что она угадала их. Нами обоими уже овладела эта мысль о смерти, этот образ смерти; нами обоими овладела реальность трагедии, и мы забыли о породившем ее заблуждении, утратили сознание действительности. И Джулиана вдруг зарыдала, и ее рыдание заставило и меня заплакать; мы смешали наши слезы, горячие слезы, но — увы! — они не могли изменить нашей судьбы.
Я потом узнал, что она уже несколько месяцев страдала женской болезнью, одним из тех ужасных скрытых недугов, которые нарушают в организме женщины все жизненные отправления. Врач, к которому я обратился, дал мне понять, что на довольно долгое время мне придется отказаться от всякой интимной близости с больной и избегать даже самой легкой ласки; и объявил мне, что новые роды могут оказаться для нее роковыми.
Это обстоятельство опечалило меня, но в то же время избавляло меня от двух беспокойств: я убедился, что не был виноват в недуге Джулианы, и получил возможность самым простым образом объяснить моей матери отдельные спальни и прочие перемены, происшедшие в моей домашней жизни. Моя мать как раз в это время должна была приехать в Рим из провинции, где, после смерти моего отца, она проводила большую часть года с моим братом Федерико.
Моя мать очень любила свою молодую невестку. И в самом деле, Джулиана была в ее представлении идеальной женой, желанной подругой сына. Она не могла себе представить женщины красивее, нежнее, благороднее Джулианы. Для нее было бы непонятно, что я мог желать других женщин, забываться в объятиях других, засыпать на груди других. Прожив в течение двадцати лет с любимым человеком, относившимся к ней с неизменным обожанием и неизменной верностью до самой смерти, она не знала пресыщения, отвращения, измены и тому подобных пошлостей и низостей, которые таятся в брачном ложе. Она не знала мучений, которые я причинял и продолжал причинять этому дорогому невинному существу. Обманутая великодушным притворством Джулианы, она еще верила в наше счастье. Горе, если бы она узнала!
В то время я был еще во власти Терезы Раффо, жестокой чаровницы, оживлявшей для меня образ чаровницы Мениппа. Помните? Помните слова Аполлония Мениппа в опьяняющей поэме: «О beau jeune homme, tu caresse un serpent; un serpent te caresse!»[4]
Судьба мне благоприятствовала. Смерть какой-то тетки заставила Терезу уехать из Рима и расстаться со мной на некоторое время. Я мог необычным ухаживанием за своей женой заполнить огромную пустоту, оставленную в моем времени Беляночкой. Да и потрясение того вечера еще не заглохло во мне; и что-то новое, неопределенное зародилось с той поры между мной и Джулианой.
Так как ее физические страдания усиливались, то мы с матерью, правда с большим трудом, но все же добились ее согласия на необходимую для нее хирургическую операцию, сопряженную со многими неделями абсолютной неподвижности в постели и заботливого ухода. У бедной больной и без того нервы были чрезвычайно напряжены. Долгие приготовления истомили ее и довели до такого отчаяния, что она несколько раз пыталась сброситься с постели, сопротивлялась, не давая себя подвергнуть этой грубой пытке, которая ее оскорбляла, унижала, позорила…
— Скажи, — как-то спросила она меня с горечью, — когда ты думаешь об этом, я не становлюсь тебе противной? Ах, какая гадость!
И лицо ее исказилось гримасой отвращения к самой себе; она нахмурилась и замолчала.
На другой день, когда я входил в ее комнату, она заметила, что меня передернуло от запаха лекарств. И вне себя она закричала, побелев, как ее рубашка:
— Уходи, уходи, Туллио! Прошу тебя. Уезжай! Вернешься, когда я выздоровею. Если ты останешься здесь, то возненавидишь меня. Я теперь так противна, так противна… Не смотри на меня.
Рыдания душили ее. Потом, в тот же самый день, несколько часов спустя, когда я молча стоял возле нее, думая, что она уснула, я услышал зловещие слова, которые она произнесла со странным выражением, словно во сне:
— Ах, если бы я в самом деле сделала это! Это была хорошая мысль!..
— Что ты говоришь, Джулиана?
Она не отвечала.
— О чем ты думаешь, Джулиана?
Она ответила только движением губ, которые должны были изобразить улыбку, но не могли изобразить ее.
Мне показалось, что я понял. Бурная волна жалости, нежности и сострадания нахлынула на меня. Я отдал бы все, чтобы она могла читать в моей душе, чтобы ей понятно стало мое волнение, неуловимое, невыразимое и потому тщетное. «Прости, прости меня. Скажи, что сделать мне, чтобы ты простила меня, чтобы ты забыла все зло… Я вернусь к тебе и буду только твоим, навсегда. Только тебя одну в жизни любил я настоящей любовью; и только тебя одну люблю. Всегда душа моя возвращается к тебе, ищет тебя, тоскует по тебе. Клянусь тебе: вдали от тебя я никогда не испытывал истинной радости, ни на один миг не доходил до полного забвения; никогда, никогда; клянусь тебе в том. Ты одна на свете — воплощение доброты и нежности. Ты — самое доброе и самое нежное существо, которое я мог когда-либо представить себе; ты — Единственная. И я мог оскорблять тебя, мог причинять тебе страдания, мог довести тебя до мысли о смерти, как о чем-то желанном! Ах, ты простишь меня, но я никогда не смогу простить себе; ты забудешь, но я не забуду. Мне всегда будет казаться, что я недостоин тебя; и также будет казаться мне, что преклонение перед тобой в течение всей моей жизни не вознаградит тебя. И с этих пор, как когда-то, ты будешь моей возлюбленной, моим другом, моей сестрой; как прежде, ты будешь моим хранителем и руководительницей. Я все скажу тебе, все открою. Ты будешь моей душой. И ты выздоровеешь. Я исцелю тебя. Ты увидишь, на какую нежность я буду способен, чтобы вылечить тебя… Ах, ты знаешь это. Вспомни! Вспомни! И тогда ты была больна и хотела, чтобы только я один лечил тебя. И я не отходил от твоего изголовья, ни Днем, ни ночью. И ты говорила: никогда Джулиана не забудет этого, никогда. И слезы струились из глаз твоих, и я с трепетом пил их. Святая! Святая! Вспомни… И когда ты встанешь, когда начнешь выздоравливать, мы уедем туда, вернемся в Виллалиллу. Ты будешь еще немного слаба, но тебе будет так хорошо… И сразу вернется к тебе твоя прежняя жизнерадостность, и я заставлю тебя улыбаться, заставлю тебя смеяться. К тебе вернется твой чарующий смех, который вливал свежесть в мое сердце; ты снова станешь прежней восхитительной девочкой, снова будешь носить спущенную косу, как мне нравилось. Мы молоды. Если хочешь, мы снова обретем счастье. Будем жить, будем жить…» Так говорил я про себя, но слова не срывались с моих губ. Я был взволнован, глаза мои были влажны, и все же я знал, что это волнение было преходящим и что эти обещания были лживы. И знал я также, что Джулиана не поддалась бы обману и ответила бы мне своей слабой недоверчивой улыбкой, уже не раз появлявшейся на ее устах. Эта улыбка говорила: «Да, я знаю, что ты добр и не хотел бы причинить мне страдания; но ты не хозяин своей воли, ты не можешь противиться влекущей тебя судьбе. Зачем же ты хочешь, чтобы я обманывала саму себя?»
В этот день я молчал; и в следующие дни, хотя я несколько раз испытывал то же самое волнующее меня смутное желание покаяния, строил планы и переживал нелепые грезы, я не осмеливался сказать себе: «Чтобы вернуться к ней, ты должен оставить все, что тебе нравится, бросить женщину, которая тебя развращает. Хватит ли у тебя силы сделать это?» И я отвечал самому себе: «Кто знает!» И жаждал со дня на день возврата этой силы, но она не возвращалась; ждал со дня на день события (сам не знаю какого), которое вызвало бы мою решимость, сделало бы ее неизбежной. И старался вообразить себе нашу новую жизнь, медленный расцвет нашей законной любви, необыкновенное ощущение некоторых возобновленных переживаний. «Вот мы отправимся туда, в Виллалиллу, в тот дом, где хранятся наши наиболее светлые воспоминания; и мы будем там только вдвоем, а Марию и Наталью оставим вместе с моей матерью в Бадиоле. Стоит мягкая погода; и выздоравливающая все время опирается на мою руку, и мы ходим по знакомым тропинкам, где каждый шаг наш пробуждает какое-нибудь воспоминание. И я вижу, как время от времени на твоем бледном лице внезапно вспыхивает легкий румянец; но мы будем чуть робкими друг с другом; порой будем казаться задумчивыми; будем иногда избегать смотреть друг другу в глаза. Почему?.. Но вот наконец, возбужденный напоминаниями этих мест, я осмелюсь заговорить о нашем безумном упоении былых времен. „Ты помнишь? Помнишь? Помнишь?“ И мало-помалу мы оба почувствуем, как растет в нас возбуждение, становится неудержимым; и оба, в один и тот же миг, в забвении бросимся друг к другу в объятия, будем целовать друг друга в губы, и нам покажется, будто мы лишаемся чувств. Она и в самом деле лишится чувств; и я поддержу ее своими руками, называя ее именами, которые первыми придут на ум, подсказанные величайшим приливом нежности. Она вновь откроет глаза, взгляд которых утратит пелену, вольет на мгновение в меня свою душу, покажется мне преобразившейся. И так нас охватит прежняя страсть, и мы вновь очутимся во власти великих грез. Нами овладеет одна-единственная, неотступная мысль; будет волновать нас необъяснимое беспокойство. Я с дрожью в голосе спрошу ее:
— Ты выздоровела?
И она по тону моего голоса угадает смысл, скрытый в этом вопросе. И, будучи не в силах сдержать трепет, ответит:
— Нет еще!..
И вечером, расставаясь, расходясь по своим комнатам, мы почувствуем, что умираем от томления. Но вот, как-нибудь утром, глаза ее скажут мне неожиданным взглядом: „Сегодня, сегодня…“ И, боясь этой божественной и страшной минуты, она под каким-нибудь ребяческим предлогом будет избегать меня, чтобы продлить наши мучения. Она скажет:
— Идем, идем куда-нибудь…
Мы выйдем из дому: будет облачный день, весь белый, полный легкой истомы, несколько душный. Будем ходить до утомления. Вот на наши руки, на наше лицо начинают падать теплые, как слезы, капли дождя… Я говорю ей изменившимся голосом: „Вернемся“. И у самого порога неожиданно заключаю ее в объятия, чувствую, как она замирает, словно лишаясь чувств; несу ее по лестнице, не ощущая никакой тяжести. „Наконец-то, наконец!“ Сила моего желания ослабляется опасением причинить ей боль, вырвать из ее уст крик страдания. Наконец! И тела наши толкнет друг к другу божественное и страшное чувство, никогда не изведанная страсть, и они замрут в истоме. И потом она будет казаться мне почти умирающей, с лицом, омытым слезами, бледным, как подушка».
Ах, такой же, умирающей, казалась она мне в то утро, когда врачи усыпляли ее хлороформом и она, ощущая, что погружается в бесчувствие смерти, пыталась два-три раза протянуть ко мне руки, пыталась назвать меня по имени. С искаженным от боли лицом я вышел из комнаты и увидел хирургические инструменты, какую-то острую ложку, марлю, вату, лед и другие предметы, приготовленные на столе. Два долгих, бесконечных часа прождал я, усиливая свои страдания приливом разыгравшегося воображения. И все существо мое было охвачено безумной жалостью к этой женщине; инструменты хирурга не только терзали ее бедное тело, но и копались в тайниках души, в самых сокровенных переживаниях, свойственных женщине. Жалость к этой и другим женщинам, волнуемым смутными стремлениями к идеальной любви, обманутым лукавыми мечтами, какими окутывает их мужское вожделение, жаждущим подняться высоко и вместе с тем, благодаря неизменным законам природы, таким же слабым, нездоровым и несовершенным, как другие самки. Природа навязывает им права продолжения рода, терзает их женские органы, мучит их ужасными болезнями, подвергает их всяким испытаниям. В этой женщине, как и во всех прочих, я с ужасной ясностью, трепеща всеми фибрами, увидел тогда изначальную язву, постыдную, вечно зияющую рану, «кровоточивую и зловонную»…
Когда я вернулся в комнату Джулианы, она находилась еще под действием хлороформа, без сознания; без слов; она все еще была похожа на умирающую. Мать моя была еще страшно бледна и взволнованна. По-видимому, операция прошла благополучно; врачи, казалось, были довольны. Воздух был пропитан запахом йодоформа. В углу сестра милосердия, англичанка, наполняла льдом пузырь; ассистент свертывал бинт. Мало-помалу все успокаивалось и приходило в порядок.
Больная долго оставалась в этом сонном состоянии; поднималась легкая лихорадка. Ночью, однако, у нее начались боли в желудке и неудержимая рвота. Лекарства не успокаивали ее. И я, вне себя, при виде этих нечеловеческих страданий и думая, что она умирает, не помню, что говорил, не помню, что делал. Я умирал вместе с ней.
На следующий день состояние больной улучшилось, и затем, изо дня в день ей становилось все лучше и лучше. Силы медленно восстанавливались.
Я не отходил от ее изголовья. Старался всеми моими действиями напомнить ей свое поведение во время первой ее болезни; но чувство теперь было иное, неизменно братское. Часто, читая ей какую-нибудь любимую ею книгу, я ловил себя на том, что мысль моя была занята какой-нибудь фразой из письма отсутствовавшей любовницы, которую я не мог забыть. Порой, однако, когда я с неохотой отвечал на ее письма и чувствовал к ней почти отвращение, в эти странные минуты, присущие даже самой сильной страсти во время разлуки, я повторял самому себе: «Кто знает!»
Однажды моя мать сказала Джулиане в моем присутствии:
— Когда ты встанешь и будешь в состоянии передвигаться, мы все вместе переедем в Бадиолу. Не правда ли, Туллио?
Джулиана взглянула на меня.
— Да, мама, — ответил я, не колеблясь и не задумываясь. — А мы с Джулианой поедем как-нибудь и в Виллалиллу.
Она снова взглянула на меня и вдруг улыбнулась неожиданной, неописуемой улыбкой, с выражением почти детской доверчивости; улыбка эта напоминала улыбку больного ребенка, которому неожиданно много пообещали. И опустила глаза; и продолжала улыбаться с полузакрытыми глазами, которые видели что-то далекое, очень далекое. И улыбка становилась все слабее и слабее, не исчезая полностью.
Как я восхищался ею! Как обожал ее в эту минуту! Как живо чувствовал, что ничто на свете не стоит простого волнения, вызываемого чувством доброты!
Бесконечная доброта исходила от этой женщины, переполняла все мое существо, проникала в мое сердце. Джулиана лежала на постели, опираясь на две или три подушки, и лицо ее, обрамленное распущенными каштановыми волосами, начинало приобретать необычайную тонкость, какую-то видимую нематериальность. Рубашка была застегнута у шеи и у кистей рук; руки ее лежали крест-накрест поверх простыни, такие бледные, что только голубые жилки отличали их от полотна.
Я взял одну из этих рук (моя мать уже вышла из комнаты) и чуть слышно проговорил:
— Значит, вернемся… в Виллалиллу?
Выздоравливающая ответила:
— Да.
И мы умолкли, чтобы продлить свое волнение, чтобы сохранить свою иллюзию. Оба мы сознавали глубокое значение, скрытое за этими немногими словами, которыми мы обменялись вполголоса. Острое, инстинктивное чувство предупреждало нас: не настаивать, не договаривать, не идти далее. Если бы мы продолжали говорить, то очутились бы перед реальностью, несовместимой с иллюзией, в которую погружались наши души, начинавшие мало-помалу упиваться очарованием.
Это упоение благоприятствовало мечтам, благоприятствовало забвению. Целый день после этого мы оставались почти совсем одни, читая с перерывами, наклоняясь вместе над одной и той же страницей, пробегая глазами одну и ту же строку. У нас был какой-то томик стихов; и мы вкладывали в стихи значение, которого они не имели. Молча говорили мы друг с другом устами чарующего поэта. Я отмечал ногтем строфы, которые, казалось, соответствовали моему еще скрытому чувству.
Je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces,
Par toi conduit, о main où tremblera ma main.
Marcher droit, que ce soit par des sentiers de mousses
Ou que rocs et cailloux encombrent le chemin.
Oui, je veux marcher droit et calme dans la Vie…[5]
И она, прочитав эти строки, на мгновение откинулась на подушки, закрывая глаза, с чуть заметной улыбкой.
Toi la bonté, toi le sourire,
N’es tu pas le conseil aussi,
Le bon conseil loyal et brave…[6]
И я видел, как на груди ее поднималась рубашка в ритм ее дыхания, с какой-то мягкостью, которая начинала волновать меня, как и легкий аромат ириса, которым были пропитаны простыни и подушки. Я желал и ждал, чтобы она, охваченная внезапной истомой, обвила мою шею рукою, прижала свою щеку к моей так, чтобы я почувствовал прикосновение угла ее губ. Она положила свой тонкий указательный палец на страницу и стала отмечать ногтем на полях, руководя моим взволнованным чтением.
La voix vous fut connue (et chère?)
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée…
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c’est notre vie…
Elle parle aussi de la gloire
D’être simple sans plus attendre,
Et de noces d’or et du tendre
Bonheur d’une paix sans victoire.
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf êpithalame,
Allez, rien n’est meilleur à l’âme
Que de faire une âme moins triste![7]
Я взял ее за руку и, медленно склоняя голову, пока не коснулся губами ее ладони, прошептал:
— Ты могла бы забыть?
Она закрыла мне рот и произнесла свое великое слово:
— Молчание.
Тут вошла моя мать и сообщила, что пришла госпожа Таличе. Я прочел на лице Джулианы неудовольствие и сам почувствовал глухое раздражение против назойливой гостьи. Джулиана вздохнула:
— О Боже мой!
— Скажи ей, что Джулиана отдыхает, — почти с мольбой подсказал я матери.
Она жестом дала мне понять, что гостья ждет в соседней комнате. Нужно было принять ее.
Эта госпожа Таличе была злой и надоедливой болтушкой. Она то и дело поглядывала на меня с видимым любопытством. Когда моя мать во время беседы случайно сказала, что я сижу возле больной почти все время с утра до вечера, госпожа Таличе, взглянув на меня, воскликнула с нескрываемой иронией:
— Вот это образцовый муж!
Мое раздражение усилилось до того, что я, воспользовавшись каким-то предлогом, решил уйти.
Я вышел из дому. На лестнице встретил Марию и Наталью, возвращавшихся в сопровождении гувернантки. Они по обыкновению бросились ко мне с бесконечными ласками; Мария, старшая, передала мне несколько писем, взятых ею у швейцара. Между ними я сейчас же узнал письмо любовницы, которая была далеко. Почти с нетерпением я освободился от ласк детворы. Вышел на улицу и остановился, чтобы прочесть письмо.
Это было краткое, но страстное послание из двух или трех полных необычайной остроты фраз, которыми Тереза умела волновать меня. Она сообщала мне, что между 20-м и 25-м числами этого месяца будет во Флоренции и желала бы встретиться там со мной, «как бывало». Обещала дать мне более точные сведения относительно свидания.
Все призраки грез и недавних волнений разом отхлынули от моей души, как цветы дерева, затрясшегося от сильного порыва ветра… И как упавшие цветы не возвращаются на дерево, так и эти призраки покинули душу мою: они стали для меня чужими. Сделал над собой усилие, попробовал взять себя в руки; ничего не вышло. Принялся бесцельно бродить по улицам, зашел в кондитерскую, потом в книжный магазин; машинально купил конфет и книги. Смеркалось; начинали зажигать фонари; улицы наполнились гуляющими; две-три дамы ответили на мой поклон из своих экипажей; болтая и смеясь, быстро прошел мимо меня один из приятелей под руку со своей возлюбленной, державшей в руках букет роз. Тлетворное дыхание городской жизни окутало меня, вновь пробудило во мне любопытство, жадность, зависть. Моя кровь, воспламененная воздержанием последних недель, словно вспыхнула внезапным огнем. С необычайной ясностью в мозгу моем промелькнули одни за другими образы. Отсутствующая несколькими словами своего письма вновь завладела мной. И все желание мое без удержу понеслось к ней.
Но когда первое возбуждение улеглось, я, поднимаясь по лестнице своего дома, понял всю важность того, что случилось, что я сделал, понял, что несколько часов назад я все-таки опутал себя новой связью, связал себя словом, дал какое-то обещание, молчаливое, но торжественное обещание существу, еще слабому и больному; понял, что не мог бы отступить, не совершив подлости. И тут я пожалел, что не отнесся с недоверием к тому обманчивому волнению, пожалел, что чересчур поддался этой сентиментальной слабости! Тут же проверил свои поступки и свои слова за этот день с холодной расчетливостью лукавого купца, выискивающего, к чему бы придраться, чтобы расторгнуть уже заключенный договор. Увы! Мои последние слова были слишком многозначительны. Эта фраза: «Могла бы ты забыть?» — произнесенная тем тоном, после чтения тех стихов, равнялась окончательному закреплению договора. А разве это «молчание» Джулианы не было подобно печати?
«Неужели, однако, — думал я, — на этот раз она действительно поверила в мое исправление? Разве не относилась она всегда несколько скептически к моим благим побуждениям?» И снова представилась мне ее слабая, недоверчивая улыбка, уже не раз появлявшаяся на ее губах. «Если бы она в глубине души не поверила мне, если бы ее иллюзии вдруг исчезли, быть может, мое отступление не было бы ей ударом, не задело бы ее, не слишком возбудило бы ее негодование; и этот эпизод не имел бы никаких последствий, а я вновь стал бы свободным, как прежде. Виллалилла снова сделалась бы лишь ее мечтой». И опять мне представилась другая улыбка, новая, доселе незнакомая, доверчивая улыбка, которая показалась на ее губах при упоминании о Виллалилле. «Что делать? Что предпринять? Как сдержать себя?» Письмо Терезы Раффо невыносимо жгло меня.
Войдя в комнату Джулианы, я по первому взгляду на нее понял, что она ждала меня. Она показалась мне оживленной, глаза ее блестели, бледность была более одушевленной, более свежей.
— Туллио, где ты был? — смеясь, спросила она меня.
Я ответил:
— Меня обратила в бегство госпожа Таличе.
Она продолжала смеяться звонким молодым смехом, который совсем преображал ее. Я подал ей книги и коробку конфет.
— Для меня? — воскликнула она, сияя от радости, словно маленькая лакомка; и торопливо принялась открывать коробку, сопровождая свои движения маленькими грациозными жестами, вновь пробуждавшими в моей душе обрывки далеких воспоминаний. — Для меня?
Взяла конфету, поднесла было ее ко рту, немного поколебалась, уронила ее, отодвинула коробку и проговорила:
— Потом, потом…
— Знаешь, Туллио, — заметила мне мать, — она еще ничего не ела. Решила ждать тебя.
— Ах, я еще не сказала тебе… — произнесла Джулиана, покраснев, — я еще не сказала тебе, что в твое отсутствие у меня был доктор. Он нашел, что мне значительно лучше. В четверг я могу встать. Понимаешь, Туллио? В четверг я могу встать… — И прибавила: — А через десять, самое большее через пятнадцать дней я могу уже ехать в поезде.
И после некоторого раздумья проговорила тихим голосом:
— Виллалилла!
Значит, она ни о чем другом не думала, мечтала только об этом. Она поверила, продолжала верить. Я с трудом скрывал свою тревогу. Занялся, быть может, с излишним усердием приготовлением к ее незатейливому обеду, собственноручно положил на ее колени доску, заменявшую стол.
Она следила за всеми моими движениями ласковым взглядом, причинявшим мне страдания. «Ах, если бы она могла догадаться!» Вдруг моя мать воскликнула полным искренности голосом:
— Как ты красива сегодня, Джулиана!
В самом деле, какое-то необычное воодушевление оживляло черты ее лица, зажигало ее глаза, молодило ее. Услышав восклицание моей матери, она покраснела, и след этого румянца весь вечер оставался на ее щеках.
В четверг я встану, — повторяла она. — В четверг, через три дня! Пожалуй, я не буду в состоянии двинуться с места…
Она то и дело возвращалась к своему выздоровлению, к нашему близкому отъезду. Расспрашивала мою мать, не изменилось ли что-нибудь на вилле, в саду.
Я посадила росток ивы у самого пруда, в последний раз, когда мы там были. Помнишь, Туллио? Кто знает, найду ли я ее там?..
— Да, да, — прервала ее мать, сияя, — ты найдешь ее там; она выросла, превратилась в дерево. Спроси Федерико.
Правда? Правда? Скажи-ка мне, мама…
Казалось, эта маленькая подробность имела для нее в эту минуту неоценимую важность. Она стала разговорчивою. Я удивился, что она так поддалась иллюзии, удивлялся, что мечта так преобразила ее. «Почему, почему на этот раз она поверила? Как она позволила себе так увлечься? Кто влил в нее эту необычную веру?» И мысль о том, что я в ближайшем будущем совершу подлость, и быть может, неизбежную подлость, леденила меня. «Почему неизбежную? Значит, я никогда не сумею освободиться? Я должен, я должен сдержать свое обещание. Мать моя была свидетельницей моего обещания, и я сдержу его во что бы то ни стало». И, сделав над собой усилие, встряхнув, если можно так выразиться, свою совесть, я размел вихрь сомнений; я вернулся к Джулиане, почти совершив насилие над побуждениями своей души.
Она еще восхищала меня, вся возбужденная, оживленная, помолодевшая. Она напоминала мне прежнюю Джулиану; сколько раз, среди спокойного течения семейной жизни, я неожиданно поднимал ее на руки, словно охваченный внезапным безумием, и стремительно уносил на брачное ложе…
Нет, нет, мама, не заставляй меня больше пить, — просила она, удерживая мою мать, которая подливала ей вина. — Я незаметно слишком много выпила. Ах, это «шабли»! Помнишь, Туллио?
И засмеялась, заглядывая мне в глаза, вызывая во мне воспоминание о нежной сцене, над которой носился аромат этого прелестного вина, горьковатого и золотистого, самого любимого ее напитка.
— Помню, — ответил я.
Она полузакрыла веки; ресницы у нее слегка дрожали. Потом проговорила:
— Здесь жарко. Правда? У меня горят уши.
И сжала голову ладонями, чтобы почувствовать жар. Горевшая у постели лампа бросала яркий отблеск на продолговатую линию лица, озаряла несколько светло-золотых прядей ее густых каштановых волос, среди которых алело маленькое, прозрачное ушко.
Вдруг, когда я помогал ей убирать посуду (моя мать и горничная на минуту вышли в соседнюю комнату), она тихо позвала меня:
— Туллио!
И, порывисто привлекши меня, поцеловала в щеку.
Не должна ли была она этим поцелуем снова навсегда овладеть мною, всецело, душой и телом! Не означал ли этот поступок столь сдержанной и гордой женщины, что она хотела забыть все, что она уже забыла, чтобы начать со мной новую жизнь? Могла ли она вновь отдаться моей любви с большим очарованием, с большей доверчивостью? Сестра вдруг снова начала превращаться в возлюбленную. Безгрешная сестра сохранила в своей крови, в более глубоких тайниках своего существа, память о моих ласках, эту память чувственных переживаний организма, столь живучую и столь постоянную в женщине. Оставшись наедине со своими думами, я был весь охвачен видениями давнишних дней, давнишних вечеров. Июньские сумерки, жаркие, розовые, насыщенные таинственными ароматами, страшные для одиноких, для тех, кто оплакивает или жаждет. Я вхожу в комнату. Она сидит у окна, с книгой на коленях, изнемогающая от истомы, бледная, как будто близкая к обмороку.
— Джулиана! — Она вздрагивает и поднимается. — Что с тобой?
Отвечает:
— Ничего. И чуть заметная тень, словно стремление заглушить страдание, проходит в ее черных глазах. Сколько раз со дня полного расторжения нашего союза она испытывала подобные муки в своем бедном теле? Моя мысль остановилась на образах, вызванных тем давним малозначащим фактом. Это необычайное возбуждение Джулианы напомнило мне некоторые случаи чрезмерной остроты ее физической чувствительности. Болезнь, быть может, увеличила, обострила эту чувствительность. А я, развращенный до мозга костей, подумал, что хрупкая жизнь выздоравливающей могла бы вспыхнуть и запылать под моими ласками; я подумал еще, что сладострастие в том образе могло бы получить почти привкус кровосмешения. «А если она умрет?» — подумал я. И мне вспомнились предостерегающие слова хирурга. Но вследствие жестокости, которая в скрытом виде свойственна всем чувственным людям, опасность не испугала, а еще сильнее привлекла меня. Я принялся изучать свое чувство с каким-то горьким наслаждением, смешанным с отвращением, которое я испытывал при анализе всех внутренних проявлений, являвшихся, как мне казалось, доказательством коренящейся в глубине человека низости. «Почему натуре человеческой свойственна эта ужасная способность чувствовать большую остроту наслаждения тогда, когда сознаешь муки жертвы, от которой берешь свое наслаждение? Почему зародыш столь гнусной физической извращенности гнездится в каждом человеке, который любит и жаждет удовлетворения своей страсти?»
Эти размышления скорее, нежели первоначальное непроизвольное чувство доброты и жалости, эти полные искусственности размышления привели к тому, что в эту ночь укрепилось во мне решение, благоприятное для поддавшейся иллюзиям женщины. Отсутствующая продолжала отравлять меня даже издали. Чтобы победить сопротивление своего эгоизма, мне пришлось противопоставить образу чарующей развращенности этой женщины образ новой, неизведанной развращенности, которую я собирался культивировать без опасности для себя, в стенах собственного дома. И вот, со своего рода искусством алхимика, я сопоставил разнообразные изыскания своего духа, проанализировал ряд особых «душевных состояний», вызванных во мне Джулианой на различных стадиях нашей совместной жизни, и извлек из них некоторые элементы, которые могли бы послужить мне для создания нового положения, искусственного, но особенно пригодного для нарастания интенсивности тех ощущений, какие мне хотелось пережить. Так, например, намереваясь придать большую остроту «вкусу кровосмешения», которое привлекло меня, возбуждая мое преступное воображение, я старался представить себе моменты, когда с большей глубиной оживало во мне «братское чувство» и когда отношение ко мне Джулианы как сестры казалось мне наиболее искренним.
И тот, кого занимали эти недостойные изыскания рафинированного маньяка, был тем самым человеком, который несколько часов назад чувствовал, как сердце его трепетало от простого прилива доброты, от света неожиданной улыбки! Из таких противоречивых побуждений составлялась его жизнь! Нелогичная, отрывочная, бессвязная. В нем уживались стремления всякого рода, всевозможные противоположности, и среди этих противоположностей — все последовательные их ступени, и среди этих стремлений — все сочетания их. Сообразно времени и месту, сообразно различному сцеплению обстоятельств, маловажных фактов и слов, сообразно сокровенным внутренним влияниям неустойчивая основа его существа облекалась в переменчивые, зыбкие, странные образы. Особое органическое состояние его существа усиливало те или иные стремления его, становившиеся центром притяжения, к которому тяготели состояния и стремления, находившиеся в прямой ассоциативной связи с первыми, и постепенно эти ассоциации захватывали все больший и больший круг. Тогда центр тяжести его личности оказывался перемещенным, и она становилась другой. Безмолвными волнами крови и идей на подвижной основе его существа созидался постепенно или мгновенно расцвет новой личности. Он был многолик.
Я останавливаюсь на этом эпизоде, потому что он на самом деле был решающим прологом к дальнейшему.
Проснувшись на следующее утро, я сохранил лишь смутное представление о происшедшем. Томительная жажда порока вновь овладела мной, лишь только я взглянул на второе письмо Терезы Раффо, в котором она назначила мне свидание во Флоренции на 21-е число, давая мне точные наставления. 21-го была суббота, а 19-го, в четверг, Джулиана в первый раз должна была подняться с постели. Я долго взвешивал все возможности. Взвешивая их, начинал поддаваться. Да, сомнения нет: разрыв необходим, неизбежен. Но каким образом устроить его? Под каким предлогом? Могу ли я простым письмом уведомить Терезу о своем решении? Мой последний ответ еще дышал горячей страстью, безумным желанием. Как оправдать эту внезапную перемену? Заслуживает ли моя бедная подруга такого неожиданного и грубого удара? Она очень любила меня и любит; ради меня она пренебрегла даже опасностью. Я тоже любил ее… люблю ее. Наша великая и своеобразная любовь известна всем; ей даже завидуют, даже подкапываются под нее… Сколько мужчин добиваются чести заступить на мое место! Бесчисленное множество. Я быстро перечислил наиболее опасных соперников, наиболее вероятных преемников, представляя их в своем воображении. Найдется ли в Риме блондинка очаровательнее и соблазнительнее Терезы? И снова внезапная вспышка, воспламенившая вчера вечером мою кровь, пробежала по всем моим жилам. И мысль о добровольном отречении показалась мне нелепой, недопустимой. Нет, нет, у меня никогда не хватит сил, не захочу, никогда не смогу!
Преодолев волнение, я продолжал бессмысленное обсуждение своего положения, глубоко уверенный в том, что с наступлением рокового часа я не буду в состоянии остаться дома. Все-таки я имел мужество, выйдя из комнаты выздоравливающей и еще весь дрожа от чувства жалости, написать той, которая звала меня: «Не приеду». Придумал предлог; и, хорошо помню, почти инстинктивно выбрал такой, который не показался бы ей слишком важным. «Ты, значит, надеешься, что она не обратит внимания на этот предлог и настоит на твоем приезде?» — спросил меня внутренний голос. Этот сарказм не давал мне покоя; раздражение и жестокое беспокойство овладели мной и не покидали меня. Я делал неимоверные усилия, чтобы притворяться перед Джулианой и матерью. Старался избегать уединения с бедной обманутой женщиной, и всякий раз мне казалось, что в ее кротких, влажных глазах я читаю начало сомнения и вижу какую-то тень, омрачающую ее чистое чело.
В среду я получил повелительную и грозную телеграмму (разве я не ожидал ее?): «Или приедешь, или больше не увидимся. Отвечай». И я ответил: «Приеду».
Тотчас же после этого поступка, совершенного в состоянии такого же бессознательного возбуждения, каким сопровождались все решительные поступки моей жизни, я почувствовал необычайное облегчение, видя, что ход событий становится более определенным. Чувство собственной безответственности, сознание неизбежности того, что происходило и должно произойти, превратились во мне в глубочайшие переживания. Если, даже сознавая причиняемое зло и осуждая самого себя, я не могу поступить иначе, значит, я повинуюсь какой-то высшей, неведомой силе. Я жертва жестокой, насмешливой и непобедимой Судьбы.
Тем не менее, переступив порог комнаты Джулианы, я почувствовал на сердце страшную тяжесть и, шатаясь, остановился за скрывавшими меня портьерами. «Достаточно ей взглянуть на меня, чтобы угадать все», — подумал я в страшном волнении. И уже готов был вернуться назад. Но она спросила меня голосом, который никогда еще не казался мне таким нежным:
— Туллио, это ты?
Тогда я сделал еще шаг. Увидав меня, она закричала:
— Туллио, что с тобой? Тебе дурно?
Головокружение… Но оно прошло, — ответил я и, успокоившись, подумал: «Она не догадалась».
Она в самом деле была далека от подозрения, и мне это казалось даже странным. Следовало ли мне приготовить ее к тяжелому удару? Должен ли я говорить откровенно или, из сострадания к ней, прибегнуть к какой-нибудь лжи? Или уехать неожиданно, не предупредив ее, оставив ей письмо с признанием? Какой выход предпочесть, чтобы облегчить себе стремление вырваться, а для нее — смягчить неожиданность?
Увы, обдумывая это трудное положение, я, благодаря прискорбному инстинкту, заботился не столько об ее облегчении, сколько о своем. И конечно, избрал бы неожиданный отъезд и письмо, если бы меня не удержало уважение к матери. И на этот раз я не избег внутреннего сарказма. Какое великодушное сердце! Однако ведь этот испытанный способ так удобен, так устраивает тебя… И на этот раз, если ты захочешь, жертва, чувствуя приближение смерти, будет стараться улыбаться. Итак, доверься ей и не заботься ни о чем другом, великодушное сердце.
Поистине, иногда человек находит какое-то особенное удовольствие в искренном и беспощадном презрении к самому себе.
О чем ты думаешь, Туллио? — спросила меня Джулиана, приложив указательный палец к моему лбу, между бровями, как бы для того, чтобы этим нежным жестом остановить течение мысли.
Я взял ее за эту руку, не отвечая. И одного этого молчания, казавшегося томительным, достаточно было для того, чтобы снова изменить состояние моего духа; нежность голоса и жеста ничего не подозревавшей женщины смягчила меня, вызвала во мне то трепетное чувство, которое рождает слезы, которое называется жалостью к себе. Я почувствовал острое желание вызвать к себе сострадание. В то же время кто-то внутри меня нашептывал мне: «Воспользуйся создавшимся настроением, воздержись пока от откровенности. Усиливая его, ты можешь легко довести себя до слез. Ты хорошо знаешь, какое необычайное впечатление производят на женщину слезы любимого человека. Джулиана будет взволнована ими, и ей покажется, что тебя терзает жестокое страдание. А завтра, когда ты ей скажешь правду, воспоминание об этих слезах возвысит тебя в ее душе. Она может подумать: „Ах, вот почему вчера он так безудержно плакал. Бедный друг!“ И тебя не сочтут отвратительным эгоистом; будет казаться, что ты тщетно боролся изо всех сил против какого-то неведомого, мрачного рока; будет казаться, что ты одержим какой-то неизлечимой болезнью и носишь в своей груди истерзанное сердце. Пользуйся же, пользуйся!»
— У тебя есть что-нибудь на сердце? — спросила Джулиана тихим, ласковым голосом, полным доверчивости.
Я продолжал стоять опустив голову; и был, конечно, взволнован. Но подготовление к этим полезным для меня слезам отвлекло мое чувство, задержало свободное развитие его и потому замедлило физиологический феномен слез. «А что, если я не смогу заплакать? Если слезы не выступят у меня?» — подумал я со смешным и ребяческим ужасом, как будто все зависело от этого ничтожного материального явления, которого моей воле не удавалось вызвать. А некто, все тот же, продолжал нашептывать: «Экая жалость! Экая жалость! Более благоприятного момента и быть не может. В комнате почти ничего не видно. Как эффектно: рыдание в полумраке!»
— Туллио, ты мне не отвечаешь? — добавила, помолчав, Джулиана, проводя рукой по моему лбу и волосам, чтобы я поднял голову. — Мне ты можешь сказать все. Ты знаешь это.
Ах, поистине, никогда после этого я не слыхал больше столь нежного человеческого голоса. Даже моя мать не умела так говорить со мной.
Глаза мои стали влажными, и я ощутил между ресницами теплоту слез. «Вот, вот — момент разразиться рыданиями…» Но это была лишь одна слезинка, и я (стыдно признаться, но это правда: подобными проявлениями исчерпываются многие человеческие переживания и волнения в самый свой разгар) — я поднял лицо, чтобы Джулиана заметила эту слезинку, и несколько мгновений испытывал ужасное беспокойство, боясь, что в темноте она не заметит ее блеска. И для того чтобы обратить ее внимание, я сильно втянул в себя воздух, как делают, когда хотят подавить рыдание. И она, наклонив свое лицо к моему, чтобы поближе рассмотреть меня, так как я продолжал молчать, повторила:
— Ты не отвечаешь?
Она заметила слезу; и чтобы убедиться, подняла мою голову и запрокинула ее почти резким движением.
— Ты плачешь?
Голос ее изменился.
И вдруг я вырвался, поднялся, чтобы бежать, как человек, который не в силах более совладать с нахлынувшим на него горем.
— Прощай, прощай. Пусти меня, Джулиана. Прощай.
И поспешил выйти из комнаты.
Оставшись один, я почувствовал к себе отвращение.
Был канун знаменательного дня для выздоравливающей. Когда несколько часов спустя я снова явился к ней, чтобы присутствовать при ее обычном скромном обеде, я нашел ее в обществе моей матери. Увидя меня, мать воскликнула:
— Итак, Туллио, завтра — праздник!
Мы с Джулианой смущенно взглянули друг на друга. Потом, с некоторым усилием, немного рассеянно, я заговорил о завтрашнем дне, о часе, когда ей можно будет встать, и о прочих подробностях. И я про себя желал, чтобы мать не оставляла нас наедине.
Судьба улыбалась мне: мать вышла из комнаты лишь один раз и сейчас же вернулась обратно. В эту минуту Джулиана быстро спросила меня:
— Что было с тобой раньше? Ты не хочешь мне этого сказать?
— Ничего, ничего.
Видишь, как ты портишь мне праздник.
— Нет, нет. Скажу тебе… скажу… потом. Не думай об этом теперь, прошу тебя. Будь добр!
Мать вернулась с Марией и Натальей. Интонация, с которой Джулиана произнесла эти несколько слов, убедила меня, что она была далека от истины. Не думала ли она, что эта грусть была отражением тени моего неизгладимого и неискупаемого прошлого? Не думала ли она, что меня мучило раскаяние в причиненном ей горе и опасение не заслужить за все это ее прощения?
Еще раз я испытал сильное волнение на другой день утром (чтобы доставить ей удовольствие, я ждал в соседней комнате), когда услышал, что она зовет меня своим звонким голосом:
— Туллио, иди сюда.
И я вошел; она уже встала и казалась мне выше, худее, почти хрупкой. Она была одета в своеобразную широкую ниспадающую тунику с длинными прямыми складками и улыбалась, едва держась на ногах, пошатываясь, приподнимая руки как бы для того, чтобы удержать равновесие, поворачиваясь то ко мне, то к моей матери.
Мать глядела на нее с неописуемым выражением нежности, готовая поддержать ее. Я тоже протянул руку, чтобы дать ей опору.
— Нет, нет, — просила она, — оставьте меня. Я не упаду. Я хочу сама дойти до кресла.
Она подняла ногу, сделала тихонько один шаг. Лицо ее озарилось детской радостью.
— Осторожнее, Джулиана!
Она сделала еще два или три шага; потом, охваченная внезапным страхом, панической боязнью упасть, поколебалась мгновение, стоя между мной и матерью, и бросилась в мои объятия, на мою грудь, всей своей тяжестью, содрогаясь, как от рыданий. На самом же деле она смеялась, несколько возбужденная страхом. Так как на ней не было корсета, мои руки сквозь тонкую материю чувствовали ее всю, гибкую и стройную, грудь моя чувствовала ее тело, трепещущее и замирающее; я вдыхал запах ее волос и снова видел на ее шее маленькую темно-коричневую родинку.
— Я боялась, — отрывисто говорила она, смеясь и задыхаясь, — я боялась упасть.
И так как она запрокидывала голову, чтобы взглянуть на мою мать, не отрываясь от меня, я заметил ее бескровные десны, белки ее глаз и что-то судорожное в ее лице. И я понял, что держал в своих объятиях бедное, ослабленное существо, глубоко потрясенное болезнью, с разбитыми нервами, с источенными жилами; быть может, пораженное неисцелимым недугом. Я вспомнил, как вся она преобразилась в тот вечер от неожиданного поцелуя; и вновь показалось мне прекрасным дело сострадания, любви и покаяния, от которого я отказывался.
— Доведи меня до кресла, Туллио, — проговорила она.
Поддерживая ее рукой за талию, я тихонько повел ее, помог ей усесться в кресло, положил на его спинку подушки; припоминаю даже, что выбрал более изящную подушку, на которую она положила голову. И еще, чтобы подложить подушку под ноги, я стал на колени и увидел ее чулок лилового цвета, ее маленькую туфельку, которая прикрывала эту ножку чуть повыше большого пальца. Как в тот вечер, она следила за всеми моими движениями ласковым взглядом. И я намеренно медлил… Придвинул к ней маленький чайный столик, на который поставил вазу со свежими цветами, положил несколько книг, ножик из слоновой кости, невольно вкладывая в эти заботы некоторую долю показного усердия.
Ирония вновь пробудилась во мне. «Ловко! Очень ловко! Весьма полезно, что ты делаешь все это на глазах у твоей матери. Как станет она что-нибудь подозревать, присутствуя при этих твоих нежностях? Немного услужливости не повредит. К тому же у нее не очень острое зрение. Продолжай, продолжай. Все идет великолепно. Смелее!»
— О, как мне хорошо тут! — воскликнула Джулиана со вздохом облегчения, полузакрыв глаза. — Спасибо, Туллио.
Минуту спустя, когда моя мать вышла и мы остались одни, она повторила, с более глубоким чувством:
— Спасибо.
И протянула мне ладонь, чтобы я взял ее в свои руки. Так как рукав был широк, то рука обнажилась до локтя. И эта белая и верная рука, которая приносила любовь, прощение, мир, грезы, забвение, столько дивных, прекрасных вещей, дрогнула на мгновенье в воздухе, приближаясь ко мне как бы для высшей жертвы.
Я думаю, что в час смерти, в тот миг, когда я перестану страдать, я вновь увижу одно это движение; из всех бесчисленных образов минувшей жизни я вновь увижу одно только это движение.
Припоминая тот день, я никогда не могу отчетливо представить себе тогдашнее состояние своего духа. Могу лишь с уверенностью утверждать, что и тогда я понимал необычную важность момента и особенное значение того, что происходило и должно было произойти. Проницательность моя была, или мне казалось так, совершенной. Два процесса развертывались в моем сознании, не смешиваясь друг с другом, самостоятельные, параллельные. В одном господствовало, вместе с состраданием к существу, которому я готовился нанести удар, острое чувство сожаления по поводу дара, который я готов был отвергнуть. В другом преобладало — вместе с тайным желанием обладать далекой любовницей — эгоистическое чувство, укрепившееся благодаря холодному исследованию обстоятельств, благоприятствовавших моей безнаказанности. Этот параллелизм доводил мою внутреннюю жизнь до какого-то высшего напряжения, до какой-то невероятной ускоренности.
Настал решительный момент. Я должен был ехать завтра и не мог более медлить. Чтобы это решение не показалось непонятным и слишком внезапным, нужно было в то же утро, за завтраком, сообщить матери об отъезде и привести благовидный предлог. Нужно было даже раньше, чем матери, сообщить о нем Джулиане, чтоб не произошло каких-нибудь нежелательных последствий. «А если Джулиана в конце концов не выдержит? Если, в порыве горя и негодования, она откроет моей матери всю правду? Как добиться от нее обещания молчать, нового акта самоотречения?» Я обдумывал все это до последней минуты. «Поймет ли она сразу, с первого слова? А если не поймет? Если наивно спросит меня о цели моей поездки? Как ответить ей?.. Но она поймет. Невозможно, чтобы она не знала уж от кого-либо из своих приятельниц, хотя бы от этой самой Таличе, о том, что Терезы Раффо нет в Риме».
Мои силы начинали уже изменять мне. Я не мог дольше сдерживать волнение, возраставшее с минуты на минуту. Чувствуя, как напряглись мои нервы, я решился, и, так как говорила она, я стал ждать, чтобы она сама предоставила мне подходящий повод выпустить стрелу.
Она говорила о многих вещах, касающихся исключительно будущего, с необычным возбуждением. Что-то судорожное в ней, уже замеченное много раньше, показалось мне более очевидным. Я еще стоял за ее креслом. До этого момента я избегал ее взгляда, нарочно двигаясь по комнате все время позади кресла, то поправляя занавески окна, то приводя в порядок книги на маленькой полочке, то подбирая с ковра лепестки, упавшие с букета увядших роз. Остановившись позади нее, я стал смотреть на пробор ее волос, на длинные изгибы ее ресниц, на слегка трепетавшую грудь и на ее руки, ее прекрасные руки, лежавшие на ручках кресла, поникшие, как в тот день, бледные, как в тот день, когда «только голубые жилки отличали их от простыни».
Тот день! Не прошло еще и недели. Почему же он казался таким далеким?
Стоя позади нее, в крайне нервном напряжении, словно в засаде, я думал, что она, быть может, инстинктивно чувствовала над своей головой угрозу; и мне казалось, что я угадываю в ней какую-то неопределенную тревогу. Еще раз у меня нестерпимо сжалось сердце.
Наконец она проговорила:
— Завтра, если мне будет лучше, ты перенесешь меня на террасу, на воздух…
Я прервал ее:
— Завтра меня здесь не будет.
Она вздрогнула от странного звука моего голоса.
— Я уезжаю, — прибавил я, не дожидаясь ответа. И еще прибавил, с усилием произнося каждое слово, содрогаясь, как человек, который должен нанести смертельный удар жертве: Уезжаю во Флоренцию.
— Ах!
Она поняла сразу. Обернулась быстрым движением, вся изогнулась на подушках, чтобы взглянуть на меня; и благодаря этому резкому обороту я снова увидел белки ее глаз, ее бескровные десны.
— Джулиана, — пробормотал я, не зная, что сказать ей, и наклонился к ней, боясь, как бы она не упала в обморок.
Но она опустила веки, овладела собой, опять отвернулась, сжалась вся, как будто охваченная сильным холодом. Оставалась так несколько минут, с закрытыми глазами, со сжатым ртом, неподвижная. Только видимое пульсирование сонной артерии на шее и судорожные подергивания рук указывали в ней на признаки жизни.
Не было ли это преступлением? Это было первое из моих преступлений; и, может быть, не самое меньшее.
Я уехал при ужасных обстоятельствах. Мое отсутствие продолжалось более недели. Когда я вернулся, то в следующие за моим возвращением дни я и сам удивлялся моему почти циническому бесстыдству. Мною овладел род колдовства, уничтожавшего во мне всякое нравственное чувство и делавшего меня способным на самую вопиющую несправедливость, на самую чудовищную жестокость. Джулиана и на этот раз выказала удивительную силу воли; и на этот раз она сумела молчать. Она казалась мне замкнувшейся в своем молчании, словно в твердой, непроницаемой броне.
Она уехала с дочерьми и с моею матерью в Бадиолу. Их сопровождал мой брат. Я остался в Риме.
С этого времени начался для меня самый печальный, самый мрачный период, воспоминание о котором еще и теперь наполняет меня чувством отвращения и стыда. Находясь во власти того чувства, которое более всякого другого подымает в человеке присущую ему грязь, я испытал все страдания, которые женщина способна доставить слабой, страстной и вечно беспокойной душе. Страшная чувственная ревность, вспыхнув благодаря какому-то подозрению, разлилась во мне, иссушив все мои внутренние благие источники, питаясь всей грязью, залегшей в недрах моего животного естества.
Никогда Тереза Раффо не казалась мне столь желанной, как теперь, когда я не мог отделить ее от похотливого, пошлого образа. И она пользовалась самим моим презрением, чтобы обострить мое вожделение. Жестокие конвульсии, жизненные радости, позорная зависимость, гаденькие условия, предложенные и принятые без краски стыда, слезы горше всякой отравы, внезапные неистовства, толкавшие меня на грань безумия, падения в пропасть разврата, столь стремительные, что оставляли меня на много дней как бы оглушенным, все ничтожество и весь позор чувственной страсти, подогретой ревностью, — я все это изведал. Мой дом стал чужим для меня, присутствие Джулианы сделалось мне неприятным. Иногда проходили целые недели, в течение которых я не обращался к ней ни с одним словом. Погруженный в свои внутренние мучения, я не видел ее, не слышал ее. Случайно поднимая глаза на нее, я поражался ее бледности, выражению ее лица, каким-то особенным изменениям его, как чему-то новому, неожиданному, странному, и мне не удавалось составить ясного представления о ее переживаниях. Все проявления ее существования оставались мне неизвестными. Я не чувствовал никакой потребности расспрашивать ее, допытываться; не ощущал никакого беспокойства за нее, никакой тревоги, никакого страха. Неизъяснимая жестокость настраивала против нее мою душу. Порой даже я испытывал к ней какое-то неопределенное, невыразимое раздражение. Однажды я услышал, как она смеялась, и смех этот рассердил меня, почти вывел меня из себя. В другой раз я весь задрожал, услышав в отдаленной комнате ее пение. Она пела арию Орфея:
«Что буду делать я без Эвридики?»
В первый раз после долгого промежутка времени она пела так громко, расхаживая по комнатам; в первый раз, после необычайно долгого перерыва, я вновь услышал ее голос. Почему она пела? Стало быть, ей было весело? Какое состояние души отражалось в этом необычном проявлении? Неизъяснимое волнение овладело мной. Недолго думая, я подошел к ней, окликнул ее по имени.
Увидя, что я вхожу в ее комнату, она остановилась в изумлении; на несколько мгновений она застыла от удивления, явно пораженная моим приходом.
— Ты поешь? — проговорил я, чтобы сказать что-нибудь, несказанно удивляясь своему собственному неожиданному поступку.
Она улыбнулась неопределенной улыбкой, не зная, что ответить, не зная, как ей держаться со мной. И мне показалось, что в глазах ее я прочел какое-то мучительное любопытство, уже не раз вскользь подмеченное мной: то сострадательное любопытство, с каким глядят на человека, подозреваемого в сумасшествии, на безумного. В самом деле, в зеркале, напротив, я заметил свое отражение; я узнал свое исхудалое лицо, свои запавшие глаза, свой распухший рот, весь этот лихорадочный облик, который я обрел уже несколько месяцев назад.
— Ты одевалась, чтобы выйти? — спросил я ее, все еще в недоумении, почти робко, не зная, о чем спросить ее, и желая прервать молчание.
— Да.
Было ноябрьское утро. Она стояла у столика, убранного кружевами, на котором было разбросано множество блестящих модных безделушек, предназначенных для ухода за женской красотой. На ней было темное вигоневое платье, а в руках светлый черепаховый гребень с серебряным ободком. Платье, самого простого фасона, гармонировало с изящной гибкостью всей ее фигуры. Большой букет белых хризантем высился на столе, достигая ее плеч. Солнце бабьего лета бросало через окно косые лучи, пропитанные, казалось, запахом не то пудры, не то духов, — запахом, который я не мог распознать.
— Какими духами ты пользуешься теперь? — спросил я ее.
Она ответила:
— Grab-apple.
— Мне они нравятся, — прибавил я.
Она взяла со стола флакон и подала его мне. И я долго нюхал его, чтобы что-нибудь делать, чтобы иметь время приготовить еще какую-нибудь фразу. Мне не удалось рассеять свое смущение, быть по-прежнему непринужденным. Я чувствовал, что всякая интимность между нами исчезла. Она казалась мне другой женщиной. И в то же время ария Орфея продолжала еще волновать мою душу, еще беспокоила меня.
Что буду делать я без Эвридики?..
В этом золотистом и теплом свете, в этом столь мягком аромате, среди всех этих предметов, пропитанных женской грацией, звуки старинной мелодии, казалось, пробуждали трепет сокровенной жизни, разливали тень неведомой тайны.
— Какую красивую арию ты пела сейчас! — проговорил я, повинуясь побуждению, рожденному беспокойством.
— Очень красивую! — воскликнула она.
И с уст моих готов был сорваться вопрос: «Почему же ты пела?» Но я удержался и вновь стал доискиваться причины этого мучившего меня любопытства.
Наступило молчание. Она проводила ногтем большого пальца по зубьям гребенки, производя легкий скрип. (Этот звук с какой-то необычайной ясностью сохранился в моей памяти.)
— Ты одевалась, чтобы уйти. Продолжай же, — сказал я.
— Мне осталось надеть лишь жакетку и шляпу. Который час?
— Без четверти одиннадцать.
— Ах, неужели так поздно?
Она взяла шляпу и вуаль и села перед зеркалом. Я смотрел на нее. И новый вопрос застыл на моих губах: «Куда ты идешь?» Но и на этот раз я удержался, хотя вопрос мог бы показаться естественным. И продолжал со вниманием смотреть на нее.
И вновь она представилась мне такой, какой была в действительности: молодой, в высшей степени изящной с нежной и благородной фигурой, женщиной, полной естественного обаяния и украшенной возвышенными духовными качествами; одним словом, восхитительной женщиной, которая, короче говоря, могла бы быть очаровательной любовницей и телом, и душой. «А если она и вправду чья-нибудь любовница? — подумал я вдруг. — Конечно, невозможно, чтобы у других к ней неоднократно не вспыхивало желание. Слишком известно было мое равнодушие к ней; слишком известна была моя виновность. А если она уже отдалась кому-нибудь? Или готова была отдаться? Если сочла, наконец, безумным и несправедливым жертвовать своей молодостью? Если, в конце концов, ее утомило долгое самоотречение? Если познакомилась с кем-нибудь лучше меня, с каким-нибудь утонченным и опытным соблазнителем, который снова сумел возбудить ее любопытство и заставил забыть неверного? Что, если я уже окончательно потерял ее сердце, слишком часто попираемое мною без сожаления и без угрызения совести?» Внезапная тревога овладела мною; и приступ ее был так силен, что я подумал: «Вот, вот, тут же признаюсь ей в своих сомнениях. Загляну в глубь ее зрачков и спрошу: „Чиста ли ты еще?“ И узнаю правду. Она неспособна лгать. Неспособна лгать? Ха-ха-ха! Она ведь женщина!.. Что знаешь ты о ней? Женщина способна на все. Припомни-ка, ведь не раз величественная мантия героини служила для того, чтобы прикрыть полдюжины любовников. Жертва! Самоотречение! Притворство! Слова! Кто может когда-либо знать истину? Поклянись, если можешь, в верности своей жены в прежнее время, до болезни. Клянись же в ее беззаветной верности, если можешь…» И коварный голос (ах, Тереза, как действовал ваш яд), вероломный голос как будто заморозил меня.
— Пожалуйста, Туллио, — сказала почти робко Джулиана, — приколи вот здесь шпилькой вуаль.
Она подняла руки, изогнув их по направлению к верхней части головы, чтобы придержать вуаль; и тщетно старалась прикрепить ее своими белыми пальцами. Ее поза была полна грации. Ее белые пальцы заставили меня подумать: «Сколько времени уже мы не пожимаем друг другу рук! О, сильные и горячие пожатия рук, которыми она когда-то словно уверяла меня, что не таит никакой вражды ко мне ни за какую обиду! А теперь, быть может, рука ее нечиста?» И, прикалывая ей вуаль, я почувствовал внезапное отвращение при мысли о возможном падении Джулианы.
Она встала, и я помог ей надеть жакет. Два или три раза взоры наши было встретились; и еще раз я прочел в ее глазах род беспокойного любопытства. Она, быть может, спрашивала самое себя: «Зачем он пришел сюда? Зачем остается здесь? Что означает его смущенный вид? Что ему надо от меня? Что с ним случилось?»
— Прости… одну минутку, — проговорила она и вышла из комнаты.
Я услышал, как она звала мисс Эдит, гувернантку. Когда я остался один, глаза мои невольно остановились на ее маленьком письменном столике, заваленном письмами, записками, книгами. Я подошел к нему; и вот глаза мои стали блуждать по бумагам, словно пытаясь обнаружить… «Что такое? Неужели доказательства?» Но я подавил в себе низкое и глупое желание. Взглянул на книгу в полотняном переплете под старину с кинжальчиком, вложенным между страницами. Она, по-видимому, дочитала книгу до середины. Это был последний роман Филиппо Арборио, «Тайна». Я прочел на титульном листе посвящение, написанное рукой автора: «Вам, Джулиана Эрмиль Turris Eburnea,[8] я, недостойный, дарю. Ф. Арборио. День всех святых, 85».
Значит, Джулиана была знакома с романистом? Какое отношение могла иметь к нему Джулиана? И я представил себе изящную и обольстительную фигуру писателя, которого иногда видел в общественных местах. Конечно, он мог нравиться Джулиане. Поговаривали, что он нравился женщинам. Его романы, изобилующие сложной психологией, иногда весьма утонченной, часто фальшивой, волновали сентиментальные души, возбуждали беспокойные фантазии, с необычайным изяществом внушали презрение к обыденной жизни. «Агония», «Рьяная католичка», «Анжелика Дони», «Джорджио Алиора», «Тайна» превращали жизнь в яркое видение, обширный калейдоскоп бесчисленных, пылающих образов. Каждый из его героев сражался за свою Химеру в отчаянном поединке с действительностью.
Не распространял ли своего очарования также и на меня этот замечательный художник, вознесшийся в своих книгах до чисто духовного естества? Не называл ли я его «Джорджио Алиора» «близкой по духу» книгой? Не находил ли я в некоторых героях его произведений поразительное сходство с моим внутренним существом? А что, если именно странное сходство между нами способствовало делу обольщения, быть может уже пущенного в ход? А если Джулиана уже отдалась ему, подметив в нем некоторые из тех самых привлекательных качеств, благодаря которым она когда-то преклонялась предо мной? — подумал я с новым ужасом.
Она вернулась в комнату. Увидя эту книгу у меня в руках, она сказала со смущенной улыбкой, слегка покраснев:
— Что ты смотришь?
— Ты знакома с Филиппо Арборио? — вдруг спросил я ее, но без всякого изменения в голосе, самым обыкновенным и спокойным тоном, каким только мог.
— Да, — непринужденно ответила она. — Его представили мне в доме Монтеризи. Он несколько раз был и здесь, но не имел случая встретиться с тобой.
Из моих уст готов был сорваться вопрос: «А почему ты не говорила мне об этом?» Но я удержался. Как могла бы она говорить мне об этом, если я своим поведением уже давно прервал между нами всякий обмен новостями и дружескую доверительность.
— Он гораздо проще своих книг, непринужденно добавила она, медленно надевая перчатки. — Ты читал «Тайну»?
— Да, уже прочел.
— Тебе понравилось?
Не подумав, из инстинктивной потребности подчеркнуть перед Джулианой свое превосходство, я ответил:
— Нет. Посредственная книга.
— Я ухожу, — сказала она наконец и повернулась к двери.
Я проводил ее до передней, идя в полосе чуть слышного аромата, который она оставляла за собой. Поравнявшись с лакеем, она сказала только:
— До свидания.
И легким шагом переступила через порог.
Я вернулся к себе в комнату. Открыл окно, высунулся наружу, чтобы видеть ее на улице.
Она шла своей легкой походкой по солнечной стороне тротуара; шла прямо, не поворачивая головы, не оглядываясь. Бабье лето разливало тончайшую позолоту на хрусталь неба; и спокойная теплота смягчала воздух, вызывая ощущение запаха отцветших фиалок. Безмерная грусть давила меня, словно пригвоздив к подоконнику; мало-помалу она стала невыносимой. Редко приходилось мне в жизни страдать так сильно, как из-за этого сомнения, сразу сокрушившего мою веру в Джулиану, веру, не угасавшую в течение стольких лет; редко душа моя кричала так сильно вслед за исчезающей иллюзией. Неужели, однако, она исчезла-таки без возврата? Я не мог, не хотел уверить себя в этом. Вся моя грешная жизнь сопровождалась этой великой иллюзией, отвечавшей не только требованиям моего эгоизма, но и моей эстетической мечте о нравственном величии. «Нравственное величие измеряется силой перенесенных страданий, и потому, чтобы воспользоваться случаем быть героиней, она должна была выстрадать все то, что я заставил ее выстрадать».
Эта аксиома, которою мне неоднократно удавалось успокаивать свою совесть, глубоко укоренилась в моем уме, зародив в нем идеальный призрак, возведенный лучшей частью моего существа в своего рода платонический культ. Мне, развращенному, лживому и дряблому, нравилось видеть в круге моего существования душу строгую, прямую и сильную, душу неподкупную; и мне нравилось быть предметом ее любви, быть вечно любимым ею. Вся моя порочность, вся моя низость и вся моя слабость находили опору в этой иллюзии. Я думал, что для меня могла бы превратиться в действительность мечта всех интеллектуальных людей: быть постоянно неверным женщине, постоянно верной.
«Чего ты ищешь? Всех опьянений жизни? Иди же, опьяняйся! В твоем доме, как прикрытый образ в святилище, ждет существо безмолвное и помнящее. Лампада, в которую ты не наливаешь больше ни капли масла, никогда не угаснет. Не это ли мечта всех интеллектуальных людей?»
Или же: «В какой бы то ни было час, после каких бы то ни было скитаний, вернувшись, ты найдешь ее. Она была уверена в твоем возвращении, но не расскажет тебе о своем ожидании. Ты положишь голову ей на колени, и она кончиками своих пальцев проведет по твоим вискам, чтобы унять твою скорбь».
Именно такое возвращение и жило в моем предчувствии; окончательное возвращение, после одной из тех внутренних катастроф, что преображают человека. И все мои мучительные переживания укрощались таившейся в глубине уверенностью в неизменности убежища; и в бездну моего позора спускался хоть некоторый свет от женщины, которая из любви ко мне и благодаря моему поведению достигла высоты, вполне соответствующей образу моего идеала.
Достаточно ли было одного сомнения, чтобы разрушить все в одну секунду?
И я вновь стал думать обо всей этой сцене, происшедшей между мной и Джулианой, с момента моего прихода в ее комнату до момента ее ухода.
Хотя я приписывал большую часть своих внутренних переживаний особенному, временному нервному состоянию, все же я не мог рассеять странного впечатления, точно выраженного словами: «Она казалась мне другой женщиной». Конечно, в ней было что-то новое. Но что именно? Не несло ли посвящение Филиппо Арборио успокоение? Не подтверждало ли оно именно неприступность Turris Eburnea? Этот прославляющий эпитет мог быть подсказан ему просто молвой о чистоте Джулианы Эрмиль или же попыткой неудавшейся осады и, быть может, отказом от предпринятой осады. Стало быть, «Башня из слоновой кости» должна была быть еще и башней неприступной.
Рассуждая таким образом, чтобы заглушить боль подозрения, я в глубине души испытывал смутную тревогу, как будто боялся, что тут же подступит какое-нибудь ироническое возражение. «Ты же знаешь: кожа Джулианы необычайно бела. Она поистине бледна, как ее рубашка. Священный эпитет мог скрывать в себе какое-нибудь оскверняющее значение…» Но это недостойно? «Эх, сколько придирок!..»
Гневный порыв нетерпения прервал это унизительное и бессмысленное рассуждение. Я отошел от окна, нервно пожал плечами, два или три раза прошелся по комнате, машинально раскрыл книгу, отбросил ее. Но неуравновешенное состояние не проходило. «В сущности, — подумал я, останавливаясь, словно желая стать лицом к лицу с невидимым врагом, — к чему все это можно свести? Или она уже пала, и потеря необратима; или она-в опасности, и я в настоящем своем положении не могу ничего предпринять для ее спасения; или же она чиста и достаточно сильна, чтобы сохранить себя чистой, а тогда — ничего не изменилось. Во всяком случае, с моей стороны нет надобности в каком-нибудь действии. То, что есть, необходимо; то, что будет, будет необходимо. Этот приступ страдания пройдет. Нужно подождать. Как были красивы белые хризантемы на столе Джулианы! Пойду и куплю много, много таких же. Свидание с Терезой сегодня — в два часа. Остается еще почти три часа… Не сказала ли она, в последний раз, что хотела бы застать камин затопленным? Это будет первый огонь зимы, в такой теплый день. Она, кажется мне, теперь в периоде „доброй недели“. Если бы так было дальше! Но я при первом же случае вызову на дуэль Эдженио Эгано». Моя мысль приняла новое направление, с внезапными остановками, с неожиданными уклонениями. Среди образов предстоящего сладострастия промелькнул другой нечистый образ, которого я боялся, от которого хотел избавиться. Некоторые жгучие и смелые страницы «Рьяной католички» пришли мне на память. Одна судорога вызывала другую. И я смешивал равно оскверненных женщин Филиппо Арборио и Эдженио Эгано, хотя и не с одинаковой болью, но с одной и той же ненавистью.
Кризис миновал, оставив в моей душе какое-то смутное презрение, смешанное со злобой по отношению к сестре. Я все больше отдалялся от нее, становился все более жестоким, более невнимательным, более замкнутым. Моя горькая страсть к Терезе Раффо становилась все более исключительной, овладела всеми моими помыслами, не давала мне ни часу отдыха. Поистине, я превратился в какого-то одержимого, охваченного дьявольским безумием, разъедаемого неведомым и ужасным недугом. Воспоминания об этой зиме в моем уме как-то смутны, несвязны и прерываются какими-то странными промежутками мрака.
В ту зиму я ни разу не встречал у себя дома Филиппо Арборио; изредка видел его в общественных местах. Но однажды вечером я встретился с ним в фехтовальном зале; и там мы познакомились; учитель представил нас друг другу, и мы обменялись несколькими словами. Свет газа, скрип пола, звон и блеск клинков, разнообразные позы фехтующих, неуклюжие или изящные, быстрые притаптывания всех этих изогнутых ног, теплое и едкое испарение тел, гортанные выкрикивания, грубые восклицания, взрывы смеха — все это восстанавливает в моей памяти с поразительной ясностью обстановку вокруг нас в тот момент, когда мы стояли друг перед другом и учитель назвал наши имена. Я вижу жест, которым Филиппо Арборио снял маску, открывая разгоряченное, покрытое потом лицо. Держа в одной руке маску, в другой рапиру, он поклонился. Он тяжело дышал, был утомлен и немного взволнован, как человек, непривычный к мускульным упражнениям. Инстинктивно я подумал, что он не был бы страшен в поединке. Я держался с ним даже несколько высокомерно; нарочно не сказал ему ни слова, намекавшего на его известность, на мое восхищение им; я держал себя так, как вел бы себя по отношению ко всякому незнакомцу.
— Итак, — спросил меня учитель, улыбаясь, — до завтра?
— Да, в десять.
— У вас дуэль? — спросил Арборио с нескрываемым любопытством.
— Да.
Он поколебался немного, потом добавил:
— С кем? Если это не нескромный вопрос.
— С Эдженио Эгано.
Я заметил, что ему хотелось бы знать немного больше, но его удерживало мое холодное и явно невнимательное обращение.
Учитель, пятиминутная атака, — сказал я и повернулся, чтобы пройти в раздевальную. Дойдя до порога, я остановился, оглянулся и увидел, что Арборио снова принялся фехтовать. Одного беглого взгляда было мне достаточно, чтобы убедиться, что он плоховат в этом деле.
Когда я начал атаку с учителем, на глазах у всех, мною овладело какое-то особенное, нервное возбуждение, удвоившее мою энергию. И я чувствовал на себе пристальный взгляд Филиппо Арборио.
Потом мы снова встретились в раздевальной. Слишком низкая комната была уже полна дыму и очень едкого, тошнотворного запаха человеческого тела. Все находившиеся там, полураздетые, в широких белых халатах, медленно растирали себе грудь, руки и плечи, курили, громко болтали, давая в непристойной беседе выход своим животным побуждениям. Шум воды, льющейся из умывальников, чередовался с циничными взрывами хохота. И два-три раза, с бессознательным чувством отвращения, с содроганием, как если бы мне нанесли сильный удар, я увидел тощее тело Арборио, на котором невольно останавливался мой взгляд.
После того у меня не было другого случая ближе познакомиться или даже встретиться с ним. Меня это и не интересовало. К тому же я не замечал ничего подозрительного в поведении Джулианы. Вне того все более суживавшегося круга, в котором я вращался, ничто не было для меня ясно и доступно пониманию. Все внешние впечатления касались моего мозга так, как на раскаленную плиту падают капли воды, отскакивая или испаряясь.
События шли с головокружительной быстротой. В конце февраля, после последнего и позорного доказательства неверности, между мной и Терезой Раффо произошел окончательный разрыв. Я уехал в Венецию один.
Я оставался там около месяца в состоянии какого-то непонятного недуга; в каком-то столбняке, усиливавшемся благодаря туманам и безмолвию лагун. Я сохранил лишь чувство своего одиночества среди неподвижных призраков окружающего меня мира. В течение долгих часов я не ощущал ничего, кроме тяжелой, давящей меня неподвижности жизни и легкого биения пульса в висках. В течение долгих часов мной владело странное очарование, производимое на душу непрерывным и монотонным движением чего-то неопределенного. Моросило. Туман на воде принимал порой зловещие формы, расстилаясь медленно и торжественно, как шествуют привидения. Часто в гондоле, словно в гробу, я сталкивался с чем-то вроде воображаемой смерти. Когда гребец спрашивал меня, куда везти, я почти всегда делал неопределенный жест и в глубине души понимал искреннее отчаяние, сквозящее в словах: «Куда бы ни было, но за пределы мира».
В последних числах марта я вернулся в Рим. У меня было какое-то новое ощущение действительности, как после долгого затмения сознания. Порой мной овладевали вдруг робость, смущение, беспричинный страх; и я чувствовал себя беспомощным, как дитя. Я все время смотрел вокруг себя с необычайным вниманием, чтобы вновь понять истинное значение вещей, чтобы постичь нормальные соотношения их, чтобы отдать себе отчет в том, что изменилось, что исчезло. И по мере того, как я обращался к общей жизни, в моем уме восстанавливалось равновесие, пробуждалась некоторая надежда, воскресала забота о будущем.
Я нашел Джулиану очень ослабевшей, с пошатнувшимся здоровьем, печальной, как никогда раньше. Мы мало говорили, избегая смотреть друг другу в глаза, не раскрывая своих сердец. Мы оба искали общества наших девочек; а Мария и Наталья, в счастливом неведении, наполняли безмолвие своими свежими голосами.
— Мама, — спросила как-то Мария, — мы поедем в этом году на Пасху в Бадиолу?
Я ответил, не колеблясь, вместо матери:
— Да, поедем.
Тогда Мария, увлекая за собой сестру, начала радостно прыгать по комнате. Я взглянул на Джулиану.
— Хочешь, чтобы мы поехали? — спросил я робко, почти смиренно.
Она в знак согласия кивнула головой.
Я вижу, что тебе нездоровится, — добавил я. Она лежала в кресле, положив свои белые руки на подлокотники кресла; и ее поза напомнила мне другую позу: позу выздоравливающей в то утро, когда она уже встала с постели, но после моего рокового сообщения.
С отъездом было решено. Мы стали готовиться к нему. Надежда светила в моей душе, но я не смел ей довериться.
I
Вот — первое воспоминание.
Когда я начал свой рассказ, я хотел этой фразой сказать, что это — первое воспоминание, относящееся к ужасному событию.
Итак, это было в апреле. Уже несколько дней мы жили в Бадиоле.
— Ах, дети мои, — сказала моя мать со свойственной ей откровенностью, — как вы отощали! Ах, этот Рим, этот Рим! Чтобы поправиться, вам нужно оставаться со мной в деревне очень долго… очень долго…
— Да, — улыбаясь, проговорила Джулиана, — да, мама, мы останемся, сколько тебе будет угодно.
Эта улыбка стала часто появляться на устах Джулианы в присутствии моей матери; и хотя грусть в глазах оставалась неизменной, эта улыбка была столь нежной, была полна столь глубокой доброты, что я сам поддался иллюзии. И осмелился довериться своей надежде.
В первые дни моя мать не расставалась с дорогими гостями; она, казалось, хотела насытить их нежностью. Несколько раз я видел, замирая от невыразимого волнения, как она ласково проводила своей рукой по волосам Джулианы. Однажды я услышал, как она спросила ее:
— Он все еще продолжает любить тебя?
— Бедный Туллио! Да, — ответил другой голос.
— Так, значит, это неправда…
— Что такое?
— То, что мне передали.
— Что же тебе передали?
— Ничего, ничего. Я думала, что Туллио огорчил тебя…
Они разговаривали в оконной нише, за колышущимися занавесками, в то время как за окном шумели вязы. Я подошел к ним прежде, чем они заметили меня; поднял занавеску и очутился возле них.
— Ах, Туллио! — воскликнула моя мать.
И они обменялись несколько смущенным взглядом.
— Мы говорили о тебе, — добавила моя мать.
Обо мне? И дурно? — с веселым видом спросил я.
— Нет, хорошо, — сейчас же сказала Джулиана; и я подметил в ее голосе желание успокоить меня.
Апрельское солнце било своим светом в подоконник, отсвечивало в седых волосах моей матери, стелилось тонкими, светлыми полосками на висках Джулианы. Ослепительно белые занавески колыхались, отражаясь в сверкающих стеклах. Большие вязы на лужайке, покрытые маленькими, свежими листочками, шелестели то сильно, то слабо, в такт большему или меньшему колебанию теней. От самой стены дома, обвитой бесчисленным множеством желтофиолей, подымалось пасхальное благоухание, точно невидимое воскурение ладана.
— Какой тут острый аромат! — чуть слышно проговорила Джулиана, проводя пальцами по бровям и полузакрывая веки. — Одурманивает.
Я стоял между ней и моей матерью, несколько позади. У меня явилось желание нагнуться к подоконнику и обнять ту и другую. В это простое проявление добрых чувств мне хотелось вложить всю нежность, переполнявшую мое сердце, передать Джулиане множество невыразимых переживаний и завоевать ее всю одним этим движением.
— Смотри, Джулиана, — сказала моя мать, указывая на одну точку холма, — твоя Виллалилла. Видишь ее?
— Да, да.
И, прикрываясь от солнца рукой, она стала всматриваться, а я, наблюдавший за ней, заметил легкую дрожь ее верхней губы.
— Различаешь кипарис? — спросил я ее, желая этим, имеющим особое значение, вопросом усилить ее смущение.
И я снова увидел в своем воображении старый, величественный кипарис, с кустом роз у подножия и соловьиным гнездом на вершине.
— Да, да, различаю… чуть-чуть.
Виллалилла белела среди холмов, очень далеко, в прогалине. Цепь холмов развертывалась перед нами благородной и спокойной линией, на которой оливковые деревья казались необычайно легкими и были похожи на серо-зеленый туман, застывший в неподвижных формах. Деревья в цвету своими белыми и розовыми куполами нарушали однообразие пейзажа. Казалось, будто небо непрерывно бледнело, словно на его влажной поверхности разливалось молоко.
— Мы поедем в Виллалиллу после Пасхи; она будет вся в цвету, — сказал я, стараясь вернуть ее душе мечту, так грубо вырванную мною.
И я осмелился подойти еще ближе, обнять Джулиану и мою мать, нагнуться к подоконнику, просунув голову между их головами так, чтобы волосы той и другой касались меня. Весна, этот благотворный воздух, это благородство пейзажа, это мирное преображение всех живых существ материнской силой и это небо, божественное своей бледностью и по мере усиления этой бледности все более возвышенное, давали мне столь новое ощущение жизни, что я с внутренним трепетом подумал: «Но возможно ли это? Возможно ли? Значит, после всего, что случилось, после всего, что я выстрадал, после стольких уклонений в сторону, после стольких позорных поступков я могу еще найти в жизни такую радость! Я могу еще надеяться, могу еще иметь предчувствие счастья? От кого же я получил это благословение?» Казалось, все существо мое разрасталось ввысь, вглубь и вширь, переходя свои границы, с тонким, быстрым и непрерывным трепетом. Ничто не может дать понятия о том, во что превращалось во мне едва заметное ощущение, произведенное волоском, коснувшимся моей щеки.
Несколько минут оставались мы в таком положении, не нарушая молчания. Вязы шумели. Дрожание бесчисленных желтых и фиолетовых цветов, обвивавших стену под окном, чаровало мои глаза. Сгущенный и теплый аромат подымался к солнцу в ритм дыханию.
Вдруг Джулиана подняла голову, отстранилась, побледнела и с потемневшими глазами, исказившимся, как от тошноты, ртом сказала:
— Этот запах ужасен. От него кружится голова. Мама, тебе не становится дурно от него?
И повернулась, чтобы уйти; пошатнулась, сделала несколько неуверенных шагов; потом поспешно вышла из комнаты, а за ней вышла и моя мать.
Я смотрел им вслед, находясь еще во власти первоначального ощущения, во власти грез.
II
Моя вера в будущее росла с каждым днем. Я почти ни о чем не помнил. Слишком утомленная душа моя забывала страдать. В некоторые часы полной беспомощности все куда-то уходило, рассеивалось, таяло, погружалось в первоначальный поток, становилось неузнаваемым. Потом, после этого странного внутреннего разложения, мне казалось, что в меня входило новое начало жизни, что мною овладевала новая сила.
Мое реальное существование составлялось из множества невольных, самодовлеющих, бессознательных, инстинктивных ощущений. Между внутренним и внешним миром установилась какая-то игра мгновенных, едва уловимых действий и реакций, вибрирующих бесконечными отражениями; и каждое из этих неисчислимых отражений превращалось в изумительное физическое явление. Все существо мое менялось от того, что происходило вне меня: от легкого дуновения ветра, от тени, от вспышки света.
Тяжелые болезни души, как и болезни тела, обновляют человека; и духовные выздоровления не менее телесных выздоровлений полны сладостных переживаний восторга. Перед цветущим кустом, перед веткой, покрытой маленькими почками, перед побегом, выросшим на старом, почти высохшем стволе, перед самыми незначительными дарами земли, перед самыми простыми преображениями весны я останавливался, наивно и искренно изумленный.
Часто по утрам я совершал с братом прогулки. В эти часы все было свежо, легко, свободно. Общество Федерико очищало и подкрепляло меня, как благотворный деревенский воздух. Федерико было тогда двадцать семь лет; он почти все время жил в деревне трудовой, умеренной жизнью; казалось, он воплощал в себе простоту и искренность деревни. Лев Толстой, запечатлев на его прекрасном, ясном челе поцелуй, назвал бы его своим сыном.
Мы шли по полям, без определенной цели, изредка перекидываясь словами. Он хвалил плодородие наших владений, объяснял мне нововведения в обработке земли, демонстрировал мне улучшения. Дома наших крестьян были просторны, светлы и чисты. Наши скотные дворы были полны здорового, хорошо откормленного скота. Наши фермы были в образцовом порядке. Дорогой Федерико часто останавливался, чтобы рассмотреть какое-нибудь растение. В его мужественных руках была изумительная нежность, когда они касались маленьких зеленых листочков на новых побегах.
Иногда мы проходили по фруктовым садам. Персиковые, грушевые деревья и яблони, вишни, сливы, абрикосы были сплошь усыпаны миллионами цветов; внизу, благодаря прозрачности их розоватых и серебристых лепестков, свет, если можно так сказать, претворялся в божественную влажность, во что-то неописуемо зыбкое и приятное; сквозь крохотные промежутки легких гирлянд небо приобретало одушевленную нежность взгляда.
В то время как я восторгался цветами, он говорил мне, думая о будущих сокровищах осени:
— Увидишь, увидишь плоды.
«Я увижу их, — повторял я про себя. — Увижу, как опадут цветы, народятся листья, будут расти, румяниться, зреть и падать плоды». Эта уверенность, уже сорвавшаяся с уст моего брата, имела для меня серьезное значение, как будто она относилась к какому-то обещанному и ожидаемому счастью, которое должно было осуществиться именно в этот период жизни деревьев, в промежуток времени между цветением и появлением плода. Я еще не высказал своего намерения моему брату, а он уже знал, что я отныне останусь здесь, в деревне, с ним, с нашей матерью; вот почему он говорит, что я увижу плоды на его деревьях. Он уверен, что я увижу их! Значит, безусловно верно, что для меня началась новая жизнь и что это внутреннее мое чувство не обманывает меня. В самом деле, теперь все сбывается с какой-то странной, необычайной легкостью, с избытком любви. Как я люблю Федерико! Никогда еще я не любил его так сильно. Таковы были мои внутренние размышления, несколько бессвязные, сбивчивые, порой ребяческие благодаря своеобразному душевному настроению, побуждавшему меня видеть во всяком незначительном факте благоприятное знамение, благую примету.
Наиболее глубокая радость моя состояла в сознании того, что я далек от прошлого, далек от некоторых мест, от некоторых лиц, недоступен для них. Порою, желая еще больше насладиться спокойствием деревенской весны, я представлял себе пространство, отделявшее меня от того мрачного мира, где я столько страдал, и такими дурными страданиями. Неопределенный страх нередко сжимал мою душу и заставлял меня с беспокойством искать вокруг себя доказательств моей настоящей безопасности, заставлял меня брать под руку брата, читать в его глазах несомненную любовь и защиту.
Я слепо доверял Федерико. Мне хотелось бы, чтобы он не только любил меня, но и властвовал надо мной; я хотел уступить ему, как более достойному, первородство и подчиняться его совету, смотреть на него как на руководителя, повиноваться ему. Рядом с ним мне не грозила бы опасность сбиться с дороги, потому что он знал прямой путь и шел по этому пути твердым шагом; к тому же у него была мощная рука и он защитил бы меня. Это был примерный человек: добрый, сильный, разумный. Для меня не было картины величественнее, чем эта молодость, преданная религии «сознательного творения добра», посвятившая себя любви к Земле. Казалось, глаза его благодаря постоянному созерцанию зелени приняли прозрачную зеленую окраску.
— Иисус Земли, — назвал я его однажды, улыбаясь.
Это случилось в чистое, невинное утро, одно из тех, которые вызывают образ первобытных зорь детства Земли. Мой брат, стоя на меже пашни, разговаривал с группой земледельцев. Он был на целую голову выше обступивших его; его спокойные жесты свидетельствовали о простоте его слов. Старики, поседевшие в мудрости, зрелые люди, уже близкие к преклонным летам, слушали этого юношу. Их узловатые тела несли на себе печать великого общего дела. Так как поблизости не было ни одного дерева, а колосья были еще низки, то их фигуры отчетливо вырисовывались в облитом священным светом пространстве.
Увидя, что я направляюсь к нему, брат отпустил своих собеседников и пошел мне навстречу. Тогда из уст моих непроизвольно вырвалось приветствие:
— Иисус Земли, осанна!
За всеми растениями он ухаживал с бесконечной заботливостью. Ничто не ускользало от его зорких, почти всевидящих глаз. Во время наших утренних прогулок он то и дело останавливался, чтобы освободить какой-нибудь листочек от улитки, гусеницы, муравья. Однажды, когда мы гуляли, я, не обращая внимания на эту привычку брата, бил концом палки по траве, и нежные зеленые стебли срезались и отлетали при каждом ударе. Ему это доставляло страдание; он взял, кротким, правда, жестом, у меня из рук палку и покраснел при мысли, что, быть может, эта его жалость покажется мне излишней, преувеличенной сентиментальностью. О эта краска на столь мужественном лице!..
В другой раз, надламывая цветущую ветку яблони, я заметил в глазах Федерико тень сожаления. Я тотчас же отдернул руку, говоря:
— Если тебе это неприятно…
Он громко рассмеялся:
— Да нет же, нет… Оборви хоть все дерево.
Между тем ветка была уже надломлена, держалась только несколькими живыми волокнами и висела вдоль ствола; и этот излом, влажный от сока, имел в самом деле вид чего-то страдающего; и эти хрупкие цветы, частью телесного цвета, частью белые, похожие на соцветия диких роз, таившие в себе плод, отныне обреченные на гибель, беспрерывно трепетали в воздухе.
Тогда, чтобы как-то смягчить жестокость этого поступка, я сказал:
— Это — для Джулианы.
И, оборвав последние живые волокна, я отделил сломанную ветку.
III
Не одну только эту ветку я принес Джулиане, но и много других. Я возвращался в Бадиолу всегда нагруженный цветочными дарами. Однажды утром, держа в руках связку белого терновника, я встретил в передней свою мать. Я был разгорячен, тяжело дышал, был несколько взволнован.
— Где Джулиана? — спросил я.
— Наверху, в своих комнатах, — ответила она, смеясь.
Я взбежал по лестнице, миновал коридор, вошел прямо в комнату и закричал:
— Джулиана, Джулиана! Где ты?
Мария и Наталья, в восторге при виде цветов, ликующие, расшалившиеся, с шумным весельем бросились мне навстречу.
— Иди, иди, — кричали они мне, — мама тут, в спальне. Иди!
И я с еще большим волнением переступил этот порог; оказался в присутствии улыбающейся и смущенной Джулианы и бросил к ее ногам связку цветов.
— Посмотри!
— Ах, какая прелесть! — воскликнула она, наклоняясь над свежим благоухающим сокровищем.
На ней была одна из ее любимых широких туник зеленого цвета, похожего на зелень листьев алоэ. Волосы ее, еще не причесанные, плохо сдерживались шпильками; они ниспадали ей на затылок, закрывая уши густыми прядями. Аромат терновника, напоминавший запах тимьяна и горького миндаля, окутывал ее всю, распространяясь по комнате.
— Осторожней, не уколись, — сказал я ей. — Посмотри на мои руки.
И я показал ей еще не зажившие царапины, как бы желая придать больше ценности своему дару. «О, если б она теперь взяла мои руки», — подумал я. И в уме моем всплыло смутное воспоминание о том далеком-далеком дне, когда она поцеловала мои руки, исцарапанные терновником, и хотела высосать капли крови, выступавшие одна за другой. «Если б она теперь взяла мои руки и в одно движение это вложила все свое прощение, которым отдала бы мне себя всю!»
В те дни я беспрерывно ждал подобного момента. На самом деле я и сам не знал, почему во мне жила такая вера; но я был уверен, что Джулиана, раньше или позже, вернет мне себя именно таким образом, простым безмолвным движением, в которое сумеет «вложить все свое прощение и которым отдаст мне себя всю».
Она улыбнулась. Тень страдания появилась на ее сильно побледневшем лице и в ее глубоко запавших глазах.
— Чувствуешь ли ты себя лучше с тех пор, как ты здесь? — спросил я, подходя к ней ближе.
— Да, да, лучше, — ответила она.
И после небольшой паузы спросила:
— А ты?
— О, я уже выздоровел. Разве ты не видишь?
— Да, правда.
Когда она разговаривала со мной в те дни, она говорила с какой-то особенной нерешительностью, казавшейся мне полной очарования, но теперь едва уловимой. Казалось, что она все время была озабочена тем, чтобы удержать слово, готовое сорваться с ее уст, и произносила совершенно другое. Кроме того, ее голос стал, если можно так выразиться, более женственным; он утратил первоначальную твердость и часть звучности; стал туманнее, как звук инструмента, заглушенный сурдинкой. Но все же поскольку во всех своих проявлениях она была так нежна со мной, то что же еще мешало нам раскрыть друг другу объятия? Что еще удерживало нас на некотором расстоянии друг от друга?
В этот период, который в истории моей души останется вечно таинственным, моя врожденная проницательность казалась совершенно утраченной. Все мои чудовищные способности к анализу, те самые, которые доставили мне столько мучений, казались истощенными. Власть этих беспокойных способностей как бы разрушилась. Бесчисленные ощущения, бесчисленные переживания того времени кажутся мне теперь непонятными, необъяснимыми, потому что у меня нет критерия для определения их природы. Между этим периодом моей жизни и другими был какой-то разрыв, отсутствовало связующее звено.
Когда-то я слышал сказку о том, как молодой принц, после полного приключений странствования, достиг наконец возможности увидеть женщину, которую он искал с таким рвением. Юноша трепетал от надежды, в то время как находившаяся рядом женщина улыбалась ему. Но покрывало делало улыбавшуюся женщину недосягаемой. Это было покрывало из неведомой ткани, столь тонкой, что она сливалась с воздухом; и все же юноша не мог прижать к своей груди возлюбленную сквозь подобное покрывало.
Эта сказка помогает мне до некоторой степени представить себе то своеобразное состояние, в котором я тоже находился по отношению к Джулиане. Я чувствовал, что нечто непознаваемое еще удерживало меня на некотором расстоянии от нее. Но в то же самое время я верил в «простое безмолвное движение», которое рано или поздно должно разрушить препятствие и сделать меня счастливым.
Как нравилась мне тогда комната Джулианы! Она была обита светлой тканью, несколько полинявшей, с довольно выцветшим рисунком; в глубине ее был альков. Каким ароматом пропитал ее белый терновник!
— Какой острый этот запах, — сказала Джулиана, заметно побледнев. — Он ударяет в голову. Ты чувствуешь?
И подошла к окну, чтобы открыть его. Потом добавила:
— Мария, позови мисс Эдит.
Вошла гувернантка.
— Прошу вас, Эдит, отнесите эти цветы в залу, где стоит фортепиано. Поставьте их в вазы. Смотрите не уколитесь.
Мария и Наталья захотели нести часть цветов. Мы остались одни. Она снова подошла к окну; прислонилась к подоконнику, отвернувшись от света.
— Ты собираешься что-нибудь делать? — спросил я. — Хочешь, чтобы я ушел?
— Нет, нет. Останься. Садись. Расскажи мне о своей утренней прогулке. Где ты был сегодня?
Она произнесла эти фразы с некоторой торопливостью. Так как подоконник был на уровне ее талии, то она опиралась на него локтями, и ее торс прогибался назад, вдаваясь в прямоугольный просвет окна. Лицо, обращенное прямо ко мне, было все погружено в тень, особенно затенены были глаза; но волосы, освещенные падающим сверху светом, образовывали тонкий ореол; плечи в верхней части тоже были освещены. Одна нога, на которую сильнее давила тяжесть тела, несколько выступала из-под платья, открывая нижнюю часть серого чулка и украшенную блестками туфлю. Вся фигура в этой позе, в этом освещении, заключала в себе какую-то особенную силу обольщения. Полоска голубого, дышащего негою пейзажа, виднелась за окном, между створками рам, позади этой головки.
И вдруг, как бы осененный мгновенным откровением, я вновь увидел тогда в ней желанную женщину, и в крови моей зажглось воспоминание и жажда ласк.
Я продолжал разговаривать, не сводя с нее пристального взгляда. И чем больше я смотрел на нее, тем сильнее волновался; и она, конечно, должна была читать это в моих глазах, потому что не могла скрыть своего беспокойства. И я подумал с острой внутренней тревогой: «А если осмелиться? Если подойти к ней совсем близко и обнять ее?» Однако даже кажущаяся непринужденность, которую я старался вложить в нашу бесхитростную беседу, покинула меня. Я смутился. Это затруднительное положение стало невыносимым.
Из соседних комнат доносились неясные голоса Марии, Натальи и Эдит.
Я поднялся, подошел к окну, стал рядом с Джулианой, хотел было наклониться к ней, чтобы произнести наконец слова, которые я так часто повторял про себя в воображаемых разговорах. Но страх, что мне могут помешать, удержал меня. Я подумал, что этот момент, быть может, неудобен, что, по всей вероятности, я не успел бы сказать ей все, открыть ей все свое сердце, рассказать ей о моей внутренней жизни за последние недели, о таинственном выздоровлении моей души, о пробуждении самых нежных свойств моего существа, о глубине моего нового чувства, о постоянстве моей надежды. Я подумал, что не успел бы рассказать ей о самых незначительных недавних происшествиях, сделать эти маленькие наивные признания, ласкающие слух любящей женщины, полные свежей правды, более убедительные, нежели любое красноречие. Действительно, мне нужно было уверенно убеждать ее в чем-то большом и, быть может, невероятном для нее после стольких обманов: нужно было убеждать ее в том, что мое настоящее возвращение не было обманчивым, а искренним, окончательным, необходимо обусловленным жизненной потребностью всего моего существа. Разумеется, она еще не доверяла мне; и конечно, в этом ее недоверии коренилась причина ее сдержанности. Между нами еще лежала тень ужасного воспоминания. Я должен был отогнать эту тень, вновь слить мою душу с ее душой так тесно, чтобы ничто не могло больше стать между ними. И это должно было произойти в благоприятный час, в таинственном, безмолвном, населенном лишь воспоминаниями месте: в Виллалилле.
Между тем мы молчали, стоя друг возле друга в углублении окна. Из соседних комнат доносились неясные голоса Марии, Натальи и Эдит. Аромат белых цветов терновника рассеялся. Между портьерами, свесившимися с арки алькова, можно было видеть в глубине постель, куда то и дело устремлялись мои жадные взоры, притягиваемые полумраком.
Джулиана наклонила голову, потому что и она, должно быть, чувствовала томительную и беспокойную тяжесть молчания. Легкий ветер колыхал вьющийся на ее висках локон. Движение этого темно-коричневого локона, с несколькими ниточками, становившимися от света золотыми, на этом бледном виске вызывало во мне истому. И, не сводя глаз с Джулианы, я вновь увидел на ее шее маленькую темную родинку, которая когда-то столько раз рождала во мне искру страсти.
Тогда, не будучи более в состоянии владеть собой, со смесью страха и отваги, я поднял руку, чтобы пригладить этот локон; и мои дрожащие пальцы, скользнув по волосам, коснулись ее уха и шеи, но едва заметно, с самой легкой лаской.
— Что ты делаешь? — проговорила Джулиана, вся вздрогнув, остановив на мне растерянный взгляд, трепеща, быть может, сильнее меня.
И отошла от окна; чувствуя, что я готов идти вслед за ней, она испуганно заторопилась, словно желая обратиться в бегство.
— Но почему, почему, Джулиана? — воскликнул я, останавливаясь. И тут же сказал: — Да, конечно, я недостоин еще. Прости меня!
В этот момент начали звонить два колокола в часовне. В комнату с криком радости ворвались Мария и Наталья; и одна за другой они повисли у матери на шее, покрывая лицо ее поцелуями; от нее девочки перешли ко мне, а я поднял их, одну за другой, на руки и крепко обнял.
Оба колокола громко звонили; вся Бадиола казалась наполненной дрожанием бронзы. Была Святая Суббота, канун Великого Воскресения.
IV
После полудня, в эту самую субботу, меня охватил приступ необычайной грусти.
В Бадиолу прибыла почта; мы с братом просматривали в бильярдной газеты. Случайно мне бросилось в глаза упомянутое в одной из хроник имя Филиппо Арборио. Внезапное волнение овладело мной. Так легкий толчок поднимает муть в сосуде с отстоявшейся водою.
Я помню: стоял туманный полдень, озаренный словно усталым беловатым отблеском. Мимо стеклянной веранды, выходившей на площадку, прошла Джулиана под руку с моею матерью. Они о чем-то говорили. Джулиана держала книгу и шла с утомленным видом.
С непоследовательностью проносящихся во сне образов в моей душе всплыло несколько обрывков прошлой жизни: Джулиана перед зеркалом, в ноябрьский день; букет белых хризантем; мое волнение, когда я услышал арию Орфея; слова, написанные на заглавном листе «Тайны»; цвет платья Джулианы; мои рассуждения у окна; покрытое потом лицо Филиппо Арборио; сцена в раздевальной фехтовального зала. Я подумал, дрожа от страха, как человек, неожиданно наклонившийся над бездной: «А что, если мне не удастся спастись?»
Побежденный гнетущим настроением, чувствуя потребность остаться одному, чтобы посмотреть в глубь своей души, чтобы взглянуть в лицо своему страху, я простился с братом, вышел из залы и пошел в свои комнаты.
Мое волнение было смешано с гневным нетерпением. Я был похож на человека, который, среди отрадных переживаний воображаемого выздоровления, вполне уверенный в том, что будет еще жить, чувствует вдруг острый приступ прежней болезни, замечает, что неисцелимая болезнь еще гнездится в его организме, и он вынужден внимательно наблюдать за собой, чтобы убедиться в ужасной истине. «А что, если мне не удастся спастись? Но почему же?»
В странном забвении, в которое погрузилось все прошлое, в этом своего рода затмении, которое, казалось, охватило целую полосу моего сознания, утратилось, рассеялось также и сомнение относительно Джулианы, это отвратительное сомнение. Слишком велика была потребность моей души убаюкать себя иллюзией, верить и надеяться. Святая рука моей матери, лаская волосы Джулианы, снова зажгла для меня ореол вокруг этой головы. Благодаря одному из сентиментальных заблуждений, нередких в период слабости, видя обеих женщин, живущих одной и той же жизнью в столь нежном согласии, я смешал их в одной и той же лучезарности чистоты.
Теперь же незначительного факта, простого имени, случайно прочитанного в газете, пробуждения какого-то смутного воспоминания было достаточно, чтобы взволновать меня, испугать, раскрыть предо мною бездну, в которую я не смел бросить решительный и глубокий взгляд, потому что моя мечта о счастье, упорно уцепившись за меня, удерживала и тянула меня назад. Сначала я блуждал в какой-то мрачной неопределенной тревоге, над которой временами проносились вспышки недоверия. «А может быть, она не чиста. Тогда что? — Филиппо Арборио или другой… Кто знает! — Узнав об ее вине, мог бы я простить ей? — Какая вина? Какое прощение? Ты не имеешь права судить ее, не имеешь права поднимать голос. Слишком часто она молчала, на этот раз должен и ты молчать. — А счастье? — О своем счастье или счастье обоих ты думаешь? Разумеется, о счастье обоих, потому что простое отражение ее скорби омрачило бы всякую твою радость. Ты предполагаешь, что если ты удовлетворен, то и она тоже может быть удовлетворена: ты со своей прошлой жизнью, полной беспрерывной распущенности, и она со своей прошлой жизнью, полной беспрерывного мученичества. Счастье, о котором ты грезишь, всецело покоится на уничтожении прошлого. Почему же, если бы она в самом деле утратила чистоту, ты не мог бы кинуть камень или положить каменную плиту на ее вину так же, как на свою? Почему же, раз ты хочешь заставить забыть, не забудешь сам? Почему, наконец, желая стать новым человеком, всецело отрешившимся от прошлого, ты не мог бы смотреть и на нее как на новую женщину, при равных условиях? Подобное неравенство могло бы быть, пожалуй, худшей из твоих несправедливостей. — А Идеал? Как же Идеал? Мое счастье было бы возможно лишь тогда, когда я мог бы признать в Джулиане безусловно высшее существо, непогрешимое, достойное безмерного обожания; и в понимании своего совершенства, в сознании собственного нравственного величия она тоже обрела бы большую часть своего счастья. Я не мог бы отвлечься ни от моего, ни от ее прошлого, потому что это особенное счастье не могло бы существовать без порочности моей прошлой жизни и без этого непобедимого и почти сверхчеловеческого героизма, перед образом которого всегда преклонялась моя душа. — Но знаешь ли ты, сколько эгоизма в этой твоей мечте и сколько в ней возвышенного идеала? Заслуживаешь ли ты еще счастья и этой высшей награды? На каком основании? Ведь таким образом твоя долгая порочная жизнь привела бы тебя не к искуплению, а к награде…»
Я встряхнулся, чтобы прервать эти мысли. «В конце концов дело лишь в старом, довольно смутном, случайно пробудившемся теперь сомнении. Это нелепое беспокойство рассеется. Я облекаю какую-то тень в реальную оболочку. Через два-три дня после Пасхи мы поедем в Виллалиллу; и там я узнаю, там несомненно почувствую правду. Но разве не подозрительна эта глубокая неизменная печаль в ее глазах? Этот ее растерянный вид, эта тень беспрерывной задумчивости, залегшей между ее бровями, это безмерное утомление, проявляющееся в некоторых ее позах, эта тревога, которую ей не удается скрыть при моем приближении, — разве все это не подозрительно?» Правда, подобные двусмысленные признаки можно было бы объяснить и в благоприятном смысле. Тем не менее, захлестнутый волною усилившейся тоски, я встал и подошел к окну с инстинктивным желанием погрузиться в созерцание внешнего мира, чтобы найти в нем какое-нибудь соответствие моему душевному состоянию, какое-нибудь откровение или умиротворение.
Небо было совсем белое, похожее на груды набросанных друг на друга парусов, между которыми двигался воздух, образуя широкие и волнующиеся складки. То одно, то другое из этих покрывал, казалось, время от времени отделялось, приближалось к земле, почти задевало за верхушки деревьев, разрывалось, превращалось в падающие обрывки, колыхалось над самой землей, расплывалось. Линии гор в неясных очертаниях уходили вглубь, расчленялись, составлялись вновь в обманчивой дали, как лишенный реальности пейзаж во сне. Свинцовая тень окутывала долину, и Ассоро с невидимыми берегами оживлял ее своими отблесками. Эта извилистая река, искрившаяся в окутанной тенью прогалине, под этим медленным, беспрерывно изменяющимся небом, притягивала взоры, производила на душу впечатление чего-то символического, как будто несла в себе таинственный смысл, проясняющий туманность этого пейзажа.
Скорбь моя теряла мало-помалу свою остроту, становилась спокойной, ровной. «Зачем стремиться с такой жаждой к счастью, не будучи достойным его? Зачем воздвигать все здание будущей жизни на иллюзии? Зачем с такой слепой верой опираться на несуществующую привилегию? Быть может, в жизни всех людей бывает решительный момент, когда наиболее дальновидные из них могут понять, какой должна была быть их жизнь. Для тебя уже наступил этот момент. Вспомни мгновение, когда чистая и верная рука, которая несла тебе мир, мечту, забвение, все прекрасное и все доброе, трепетала в воздухе, как бы принося тебе высшую жертву…»
Раскаяние переполнило слезами мое сердце. Я оперся локтями на подоконник, сжал голову ладонями; пристально глядя на изгиб реки в глубине свинцовой долины, в то время как клубы облаков беспрерывно таяли, я оставался несколько минут под угрозой неминуемой кары, чувствовал нависшее надо мной неведомое несчастье.
Когда с нижнего этажа до меня неожиданно донесся звук фортепиано, тяжелое настроение сразу рассеялось; и мной овладела смутная тревога, в которой все мечты, все желания, все надежды, все сожаления, все угрызения совести, все сразу смешалось с неизъяснимой, головокружительной быстротой.
Я узнал эту музыку. Это был «Романс без слов», который Джулиана очень любила и который часто играла мисс Эдит; это была одна из тех туманных, но глубоких мелодий, при звуках которых кажется, будто Душа обращается к Жизни с одним и тем же вопросом, варьируя лишь его оттенки: «Зачем ты обманула мое ожидание?»
Уступая почти инстинктивному побуждению, я поспешно вышел, прошел в коридор, спустился с лестницы, остановился перед дверью, откуда слышались звуки. Дверь была полуоткрыта; я проскользнул в нее без шума; посмотрел через щель между портьерами. Тут ли была Джулиана? Сначала глаза мои, привыкшие к свету, не видели ничего, пока не приспособились к полумраку; но я сразу почувствовал острый запах белого терновника — смесь ароматов тимьяна и горького миндаля, напоминающую дух свежего молока. Я напряг зрение. Комната освещалась слабым зеленоватым светом, проникавшим через решетки жалюзи. Мисс Эдит была одна; она сидела за роялем и продолжала играть, не замечая меня. В полумраке блестел инструмент и белели ветки терновника. В этом безмолвном зале, в этом благоухании, струящемся из цветов, мне вспомнились радостное утреннее опьянение, улыбка Джулианы и мой трепет — и романс показался мне грустным, как никогда.
Где же была Джулиана? Вернулась ли? Или ее еще не было дома? Я ушел; спустился по другой лестнице, прошел в переднюю, не встретив никого. Я испытывал непреодолимую потребность искать ее, видеть ее; я думал, что, быть может, один взгляд на нее вернет мне покой, вернет мне веру. Выйдя на площадку, я увидел Джулиану под вязами, в обществе Федерико.
Оба улыбнулись мне. Когда я подошел к ним, мой брат сказал мне с улыбкой:
— Мы говорили о тебе. Джулиана думает, что тебе скоро надоест Бадиола… Ну, а как же тогда наши планы?
— Нет, Джулиана не знает, — ответил я, делая усилие, чтобы вернуть себе обычную непринужденность. — Но ты увидишь. Напротив, мне так надоел Рим… и все остальное!
Я смотрел на Джулиану. И необычайная перемена произошла в моей душе: вся грусть, угнетавшая меня до этой минуты, скрылась где-то в глубине, померкла, рассеялась, уступила место здоровому чувству, появившемуся во мне при одном лишь взгляде на нее и моего брата. Она сидела, слегка наклонив голову, держа на коленях книгу, которую я узнал, книгу, которую я дал ей несколько дней тому назад, — «Войну и мир». Поистине, все в ней, в ее позе и во взгляде, дышало нежностью и добротой. И во мне зародилось нечто, похожее на чувство, которое я, вероятно, испытал бы, если бы на этом самом месте, под родными вязами, ронявшими свои мертвые цветы, увидел рядом с Федерико взрослую Костанцу, мою бедную сестру.
При каждом дуновении ветра с вязов сыпались дождем бесчисленные цветы. Это было медленное падение, среди белого света, — бесконечное, очень медленное падение прозрачных, почти неосязаемых лепестков, которые задерживались в воздухе, колебались, трепетали, как крылышки стрекоз, то зеленоватые, то светло-желтые, давая зрению этой беспрерывностью и этой зыбкостью ощущение почти галлюцинации. Они падали на колени и на плечи Джулианы; время от времени она делала слабое движение, чтобы стряхнуть некоторые лепестки, запутавшиеся у нее в волосах, возле висков.
— Ах, если Туллио останется в Бадиоле, — говорил Федерико, обращаясь к ней, — то мы сделаем много важных вещей. Мы опубликуем новые аграрные законы; положим основание новой аграрной конституции… Ты улыбаешься? И ты примешь участие в нашем деле. Мы поручим тебе осуществление нескольких предписаний наших Десяти Заповедей. Ты тоже будешь работать. Кстати, Туллио, когда мы приступим к выполнению этого замысла? У тебя слишком белые руки. Видишь ли, царапин от нескольких колючек недостаточно…
Он говорил весело своим звучным, сильным голосом, тотчас же внушавшим слушателям чувство спокойствия и доверия. Он говорил о своих старых и новых планах, о выполнении изначальных христианских заповедей, призывающих к насущной работе, говорил это с серьезностью мысли и чувства, смягченной той шутливой веселостью, которая была как бы завесой скромности, опущенной им перед изумлением и похвалой слушателя. Все в нем казалось простым, легким, непринужденным. Этот юноша благодаря силе своего ума, озаренного природной добротой, уже несколько лет тому назад продумал до конца социальную теорию, внушенную Льву Толстому крестьянином Тимофеем Бондаревым. В то время он не имел понятия о «Войне и мире», о великой книге, только что появившейся тогда на Западе.
— Вот книга для тебя, — сказал я ему, взяв томик с колен Джулианы.
— Хорошо, ты мне дашь ее. Я прочту.
— А тебе она нравится? — спросил я Джулиану.
— Да, очень. Она грустная и вместе с тем утешительная. Я уже люблю Марию Болконскую, а также Пьера Безухова.
Я сел на скамью рядом с ней. Мне казалось, что я ни о чем не думаю, что у меня нет определенных мыслей, но душа моя бодрствовала и размышляла. Было явное противоречие между теперешним моим чувством и чувством, о котором говорил Федерико, чувством, выраженным в этой книге и вложенным в уста героев этого романа, любимых Джулианой. Время протекало медленно и мягко, почти лениво, в этом расплывчатом беловатом тумане, в котором тихо отцветали вязы. Звуки фортепиано доносились глухо, невнятно, усиливая томную грусть света, убаюкивая дремлющий воздух.
Не слушая более, погрузившись в свои мысли, я взял эту книгу, перевернул несколько листов, пробежал начало открытых наугад страниц. Я заметил, что на некоторых из них были загнуты углы, как бы для памяти; на полях других были сделаны отметки ногтем — эта привычка читающей была мне знакома. Тогда я захотел читать, с любопытством, почти с тревогой. В сцене между Пьером Безуховым и незнакомым стариком, на почтовой станции в Торжке, было отмечено много фраз:
«— …Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой? Чего ты достиг, руководствуясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?
— Нет, я ненавижу свою жизнь, — сморщась, проговорил Пьер.
— Ты ненавидишь, — так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой, как вы проводили ее? В буйных оргиях и разврате, все получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов, помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей найти путь истины, а ввергнули ее в пучину лжи и несчастья…»[9]
Снова невыносимая тяжесть придавила меня, терзала меня; и эта пытка была ужаснее прежней, так как близость Джулианы усиливала возбужденное состояние. Приведенный отрывок был отмечен одной чертой. Несомненно, Джулиана отметила его, думая обо мне, о моих греховных поступках. Неужели и последняя строка относилась ко мне, к нам? Неужели я «вверг ее» и она упала «в пучину лжи и несчастья»? Я боялся, что они с Федерико услышат биение моего сердца.
Была загнута и отмечена и другая страница, где описывалась смерть княгини Лизы в Лысых Горах.
«…И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. „Ах, что вы со мной сделали?“ — все говорило оно, и князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую руку, спокойно и высоко лежащую на другой, и ему ее лицо сказало: „Ах, что и за что вы это со мной сделали?“»[10]
Этот кроткий и страшный вопрос ранил меня, как игла. «Что и за что вы это со мной сделали?» Я пристально смотрел на книгу, не смея отвести глаз, чтобы взглянуть на Джулиану, и вместе с тем безумно желая на нее взглянуть. Но я боялся, что они с Федерико услышат биение моего сердца, повернутся ко мне, посмотрят на меня и заметят мое волнение. Это волнение было так сильно, что, представилось мне, лицо мое изменилось, и я был не в силах подняться, не в силах вымолвить слово. Лишь один взгляд, быстрый, мимолетный, я бросил на Джулиану; и профиль ее так запечатлелся во мне, что мне казалось, будто я продолжаю видеть его на странице книги рядом с «худеньким личиком» мертвой княгини. Это был задумчивый профиль, ставший еще более серьезным от напряженного внимания, оттененный длинными ресницами; и сжатые губы, с чуть опущенными вниз уголками, казалось, невольно признавались в бесконечной усталости и грусти. Она слушала моего брата. И голос его неясно звучал в моих ушах, казался мне далеким, хотя был так близок; и все эти цветы вязов, падавшие, падавшие без конца, все эти цветы, мертвые, почти нереальные, почти несуществующие, пробуждали во мне невыразимое ощущение, как будто это физическое явление превратилось во мне в странное внутреннее переживание, и я присутствовал при беспрерывном переходе этих бесчисленных неосязаемых теней в глубину моей души. «Что и за что вы это со мной сделали?» — повторяли мертвая и живая, не шевеля губами. «Что и за что вы это со мной сделали?»
— Что ты там читаешь, Туллио? — спросила Джулиана, повернувшись ко мне, взяла у меня из рук книгу, закрыла ее и снова положила к себе на колени с каким-то нервным нетерпением.
И тотчас же, без всякой паузы, словно для того, чтобы отвлечь внимание от своего поступка, сказала:
— Почему бы не подняться наверх к мисс Эдит и не послушать немного музыку? Слышите? Она, кажется, играет «Похоронный марш» Бетховена, который так нравится тебе, Федерико…
И она стала прислушиваться. Мы с Федерико тоже. Несколько мощных аккордов донеслось до нас в тишине. Она не ошиблась. Вставая, она добавила:
— Значит, идем? Идете?
Я встал последним, чтобы видеть ее впереди себя. Она не стряхнула со своего платья цветов вяза, которые образовали вокруг нее на земле мягкий ковер и продолжали падать, падать без конца. Она встала, несколько мгновений не двигалась с места, стояла, наклонив голову, глядя на кучу цветов, разгребая и снова собирая их тонким носком своей туфельки. Все новые и новые цветы продолжали беспрерывно сыпаться на нее. Я не видел ее лица. Развлекало ли ее это праздное занятие или же она о чем-то напряженно думала?
V
На следующее утро вместе с другими, принесшими пасхальные подарки, пришел в Бадиолу и Калисто, старый Калисто, сторож Виллалиллы, с громадным букетом сирени, еще свежей и душистой. Он хотел сам, собственноручно, передать его Джулиане, напомнить о восхитительных днях нашего пребывания на вилле, просить ее приехать туда хотя бы на короткое время.
— Госпожа казалась такой веселой, такой довольной там! Почему бы не побывать ей там еще раз? В доме ничего не изменилось, все осталось по-прежнему. Сад стал гуще. Сиреневые кусты — настоящий лес! — в полном цвету. Разве по вечерам не доносится их аромат до Бадиолы? В самом деле, дом и сад ждут этого посещения. Все старые гнезда под желобами полны ласточек. К этим гнездам, как того хотела госпожа, все время относились как к святыне. Но, право же, их стало слишком уж много. Каждую неделю приходится очищать лопатой балконы и подоконники. А какое щебетание с утра до вечера! Когда же, стало быть, приедет госпожа? Скоро?
— Хочешь, поедем во вторник? — сказал я Джулиане.
С некоторой нерешительностью, с трудом держа огромный букет, почти закрывавший ей лицо, она ответила:
— Что ж, поедем, если хочешь, во вторник.
— Значит, мы приедем во вторник, Калисто, — сказал я сторожу с выражением столь сильной радости, что сам изумился ей, до того непосредственно и внезапно было побуждение моей души. — Жди нас во вторник утром. Завтрак мы привезем с собой, и ты не приготовляй ничего, понял? Оставь дом запертым. Я хочу сам открыть дверь, хочу сам открыть окна, одно за другим. Понимаешь?
Какая странная, совершенно непроизвольная радость волновала меня, толкала меня на ребяческие поступки и слова, почти безумные, с трудом сдерживаемые! Мне хотелось бы обнять Калисто, ласково погладить его красивую белую бороду, взять его под руку и говорить с ним о Виллалилле, о минувшем, о «наших днях», говорить без конца, под этим величественным пасхальным солнцем. «Вот предо мной еще один человек, простой, искренний, цельный: верное сердце!» — думал я, смотря на него. И еще раз почувствовал успокоение, как будто преданность этого старика была для меня еще одним благодетельным талисманом против судьбы.
Еще раз, после упадка, пережитого накануне, душа моя подымалась, возбужденная разлитым в воздухе великим ликованием, сиявшим во всех глазах, излучавшимся из всего окружающего. Бадиола в это утро казалась местом, куда стремились паломники. Никто из окрестных жителей не забыл принести свой подарок и свои пожелания. Благословенные руки моей матери покрывались бесчисленными поцелуями мужчин, женщин и детей. Во время мессы густая толпа, не умещавшаяся в часовне, стояла на пороге и даже на площадке, молясь под лазурным куполом. В неподвижном воздухе серебряные колокола звонили ликующим, почти музыкальным аккордом. На циферблате башни выделялась надпись солнечных часов: «Hora est benefaciendi».[11] И в это утро славы, когда к гостеприимному дому моей матери, казалось, возносилась вся благодарность за длинный ряд благодеяний, эти три слова звучали как песня.
Как я мог после этого таить в глубине души пагубные сомнения, подозрения, нечистые образы, грязные воспоминания? Чего я мог бояться, после того как видел мать мою, которая несколько раз прижималась устами ко лбу улыбающейся Джулианы, после того как видел брата моего, сжимающего в своей гордой, честной руке бледную руку той, которая была для него как бы новым воплощением Костанцы?
VI
Мысль о поездке в Виллалиллу занимала меня беспрерывно в течение этого и следующего дней. Никогда еще, кажется мне, ожидание часа первого свидания с любовницей не вызывало во мне столь сильного волнения. «Дурные сны, дурные сны, обычные явления галлюцинаций!» Так объяснял я полные тревоги думы печальной субботы — с необычайной легкостью на душе, с торопливостью и забывчивостью, весь охваченный упорной иллюзией, которая возвращалась, когда я прогонял ее, и неизменно возрождалась, когда я уничтожал ее.
Само по себе чувственное волнение способствовало затемнению сознания, притуплению его. Я рассчитывал снова завладеть не только душой, но и телом Джулианы; физическое возбуждение было частью моего волнения. Название Виллалилла вызывало во мне сладострастные воспоминания: воспоминания не о нежной идиллии, а о пламенной страсти, не о вздохах, а о криках. Сам того не замечая, я, быть может, обострил и извратил свое желание образами, неизбежно порожденными сомнением; и я носил в себе в скрытом виде этот ядовитый зародыш. В самом деле, до того дня во мне, казалось, преобладало духовное волнение и я, в ожидании великого дня, довольствовался чистыми, воображаемыми разговорами с женщиной, от которой хотел получить прощение. Теперь, наоборот, я видел не столько трогательную сцену между мной и ею, сколько сцену сладострастия, которая должна была следовать сейчас же за первой. В мечтах моих прощение переходило в страстные объятия, робкий поцелуй в лоб — в жадное слияние губ. Чувство брало верх над рассудком. И мало-помалу, с быстротой и неудержимой властностью, один образ вытеснил все остальные, завладел мной и восторжествовал надо мной, упрочившийся, необычайно яркий и четкий в малейших подробностях. «Мы позавтракали. Маленького бокала „шабли“ было достаточно, чтобы взволновать Джулиану, которая почти никогда не пьет вина. Жара все более и более усиливается, запах роз, ирисов, сирени становится невыносим; ласточки носятся вперед и назад с оглушительным щебетанием. Мы одни, оба охвачены неудержимым внутренним трепетом. И вот я говорю ей:
— Хочешь, пойдем еще раз посмотрим нашу комнату?
Это наша давнишняя супружеская спальня, которую я, во время нашей прогулки по вилле, нарочно оставил закрытой. Входим. Там, внутри, какой-то глухой шум, похожий на тот, что слышится в глубине некоторых извилистых раковин; но это не что иное, как шум моей волнующейся крови. И Джулиана, быть может, слышит этот шум, и это не что иное, как шум ее волнующейся крови. Больше ничто не нарушает безмолвия: кажется, что и ласточки уже не щебечут. Я хочу говорить, но при первом же хриплом слове она почти без чувств падает в мои объятия…»
Эта воображаемая сцена беспрерывно обогащалась, становилась более сложной, как бы воплощалась в действительность, достигала изумительной ясности. Мне не удавалось отвоевать у нее абсолютную власть над моим рассудком; казалось, что во мне возродился прежний развратник, — до того глубоко было наслаждение, испытываемое мною, когда я созерцал и ласкал сладострастный образ. Воздержание в течение нескольких недель, в эту жаркую весну, оказывало теперь свое действие на мой окрепший организм. Простое физиологическое явление изменяло в корне мое сознание, давало совершенно иное направление моим мыслям, превращало меня в другого человека.
Мария и Наталья выразили желание сопровождать нас в этой поездке. Джулиана хотела было согласиться. Но я воспротивился этому; я употребил всю свою ловкость и обходительность, чтобы добиться цели.
Федерико предложил:
— Во вторник мне нужно будет ехать в Казаль-Кальдоре. Я довезу вас в экипаже до Виллалиллы; вы там останетесь, а я поеду дальше. А вечером, на обратном пути, я заеду за вами, и мы вместе вернемся в Бадиолу.
Джулиана в моем присутствии приняла это предложение.
Общество Федерико, думал я, именно в пути не будет неудобным для нас; оно, пожалуй, избавит меня от некоторой растерянности. В самом деле, о чем бы мы с Джулианой стали говорить, если бы остались наедине в эти два или три часа путешествия? Как мне было бы держать себя с нею? Я мог бы, пожалуй, испортить все дело, помешать благоприятному для меня исходу или, во всяком случае, подогреть наше возбужденное настроение. Разве я не мечтал о том, чтобы вдруг, словно по волшебству, очутиться с нею в Виллалилле и там обратиться к ней с первыми словами, полными нежности и покорности? Присутствие Федерико давало мне возможность избегнуть неопределенных вступлений, долгих мучительных пауз, тихо произнесенных фраз, чтобы не расслышал их кучер, одним словом, всех этих незначительных раздражений и неприятных мелочей. А теперь мы просто сойдем в Виллалилле и там, только там, оставшись наконец с глазу на глаз, очутимся перед дверью потерянного рая.
VII
Так и было. Я не в состоянии передать словами испытанное мною чувство, когда я услышал звон бубенчиков и шум экипажа, уносившего Федерико в Казаль-Кальдоре. С явным нетерпением я сказал Калисто, взяв у него из рук ключи:
— Теперь ты можешь идти. Потом я позову тебя.
И сам захлопнул решетку за стариком, который казался несколько удивленным и недовольным тем, что его так грубо выпроводили.
— Мы здесь наконец-то! — воскликнул я, оставшись наедине с Джулианой, и в голосе моем затрепетала вся волна охватившего меня счастья.
Я был счастлив, счастлив, невыразимо счастлив: был как бы во власти великой галлюцинации нежданного-негаданного счастья, которое преображало все мое существо, пробуждало и умножало все доброе и молодое, что еще оставалось во мне, отрешало меня от мира, мгновенно заключило мою жизнь в ограду окружавших этот сад стен. Слова теснились на моих устах без связи, без надежды, что будут произнесены; рассудок не в силах был справиться со сверкающими, как молния, мыслями.
Как могла Джулиана не догадаться о том, что происходило во мне? Как могла не понять меня? Как могла не быть пораженной в самое сердце ослепительной вспышкой моей радости?
Мы взглянули друг на друга. Я вижу еще тревожное выражение этого лица, на котором блуждала неуверенная улыбка. Она сказала — своим затуманенным слабым голосом, всегда колеблющимся этим своеобразным колебанием, и от этого казалось, что она была почти все время озабочена тем, чтобы удержать слова, подступавшие к ее устам, и произнести другие, — она сказала:
— Пройдемся немного по саду, прежде чем открыть дом. Как давно я не видела сад таким цветущим! В последний раз мы были здесь три года тому назад, ты помнишь? Тоже в апреле, на Пасху…
Быть может, она хотела преодолеть свое волнение, но не могла; быть может, хотела сдержать поток нежности, но не в силах была сделать это. Она сама, первыми словами, произнесенными в этом месте, начала вызывать воспоминания. Сделав несколько шагов, она остановилась; и мы взглянули друг на друга. Неопределенное беспокойство, как будто от усилия что-то побороть в себе, проскользнуло в ее черных глазах.
— Джулиана! — воскликнул я, будучи не в силах более сдерживаться, чувствуя, как из самого сердца готов хлынуть поток страстных и нежных слов, переживая безумную потребность преклонить перед ней колени на этой, усыпанной песком, аллее, и обнимать ее колени, и без конца осыпать бурными поцелуями ее платье и руки.
Умоляющим жестом она заставила меня замолчать. И снова пошла по аллее, более быстрым шагом.
На ней было платье из светло-серой материи, отделанное более темными кружевами, шляпа из серого фетра, зонтик из серого шелка с маленькими белыми листочками клевера. Я еще вижу ее изящную фигуру, в этом прелестном и скромном платье, подвигающуюся среди густых сиреневых кустов, которые склоняли к ней свои бесчисленные тяжелые голубоватолиловые гроздья.
Это было за час до полудня. Стояло жаркое утро — слишком жаркое для весны, — в лазурном небе плавали нежные облачка. Дивные кусты, давшие название вилле, цвели повсюду, господствовали во всем саду, образовывая целую рощу, там и сям окаймленную кустами чайных роз и клумбами ирисов. То здесь, то там розы обвивались вокруг кустарников, проскальзывали между ветвей, ниспадали массами в виде цепей, гирлянд, фестонов, щитков; у подножия кустарников флорентийские ирисы подымали из-за листьев, похожих на длинные, светло-зеленые шпаги, свои широкие, благородного рисунка, цветы; три сорта ароматов смешивались в один глубокий аккорд, который я узнал, потому что он с давних времен отчетливо звучал в моей памяти как музыкальное трезвучие. В тишине слышалось лишь щебетание ласточек. Дом едва виднелся между конусами кипарисов, и ласточки огромными стаями реяли вокруг него, как пчелы около улья.
Спустя немного времени Джулиана замедлила шаг. Я шел рядом с ней, так близко, что время от времени наши локти соприкасались. Она то и дело устремляла на окружающие нас предметы пристальные взгляды, словно боясь, что от ее глаз что-нибудь укроется. Два или три раза я подмечал, что с ее губ готовы были сорваться слова, начало которых беззвучно застывало. Я спросил ее, тихо, робко, как влюбленный:
— О чем ты думаешь?..
— Думаю, что мы не должны были уезжать отсюда.
— Это правда, Джулиана.
Ласточки иногда чуть не задевали нас, пролетая мимо с криком, проворные и сверкающие, как крылатые стрелы.
— Как жаждал я этого дня, Джулиана! Ах, ты никогда не узнаешь, как я жаждал его! — вдруг воскликнул я, обуреваемый таким сильным волнением, что мой голос, должно быть, был неузнаваем. — Никогда, понимаешь, никогда в жизни не переживал я такого волнения, какое жжет меня уже три дня, с той минуты, когда ты согласилась ехать сюда. Помнишь наше первое тайное свидание на террасе виллы Оджери, когда мы обменялись первым поцелуем? Я был без ума от тебя: ты помнишь это? Ну, так вот: ожидание той ночи, кажется мне, ничто в сравнении с… Ты мне не веришь; ты имеешь право не верить мне, сомневаться во мне; но я хочу сказать тебе все, хочу рассказать тебе все, что я выстрадал, чего боялся и на что надеялся. О, знаю, знаю: то, что я выстрадал, может быть, немного в сравнении со страданиями, которые я причинил тебе. Знаю, знаю: все мое горе, быть может, не стоит твоего горя, не стоит твоих слез. Я не искупил своей вины и не достоин прощения. Но скажи, скажи мне сама, что мне надо делать, чтобы ты простила меня! Ты не веришь мне, но я хочу сказать тебе все. Тебя одну я любил всю жизнь настоящей любовью, и люблю тебя одну. Знаю, знаю: так обыкновенно говорят мужчины, чтобы добиться прощения; и ты имеешь право не верить мне. Но ты понимаешь все-таки, если помнишь о нашей прежней любви, если помнишь три года ни разу не нарушенных отношений, если ты помнишь, если помнишь все это, то, понимаешь ли, невозможно, чтобы ты не верила мне. Даже во времена моих худших падений ты была для меня незабвенной, и душа моя обращалась к тебе, и искала тебя, и оплакивала тебя, всегда, понимаешь? Всегда. Ты сама — разве ты не замечала этого? Когда ты была для меня сестрой, разве ты не замечала порой, что я умирал от тоски? Клянусь тебе: вдали от тебя я никогда не испытывал ни одной искренней радости, не пережил ни одного часа полного забвения, никогда, никогда: клянусь тебе в этом! Ты была для меня предметом постоянного, глубокого, тайного обожания. Лучшая часть меня всегда принадлежала тебе, и никогда не угасала в ней одна надежда, — надежда на то, что я освобожусь от моих недугов и вновь обрету мою первую, единственную, чистую любовь… Ах, скажи мне, что я не напрасно надеялся, Джулиана!
Медленно, медленно шла она, не глядя больше перед собой, опустив голову, бледная как полотно. Едва заметная болезненная судорога время от времени появлялась в углах ее рта. И так как она молчала, то в глубине моей души начало шевелиться какое-то смутное беспокойство. Это солнце, эти цветы, крики этих ласточек, все это бьющее через край ликование торжествующей весны начало возбуждать во мне бессознательное ощущение тяжести.
— Ты не отвечаешь мне? — продолжал я, взяв ее беспомощно опущенную руку. — Ты не веришь мне; ты потеряла всякую веру в меня; ты еще боишься, что я обману тебя; ты еще не решаешься вернуть себя мне, потому что все еще думаешь о том дне… Да, правда: то был самый ужасный из моих подлых поступков. Он мучит мою совесть, как преступление; и даже если ты простила бы меня, я никогда не смогу простить себя. Но разве ты не видела, что я был болен, что я был безумен? Какое-то проклятие преследовало меня. И с того дня у меня не было более ни минуты покоя, не было более ни одного промежутка просветления. Неужели ты не помнишь? Неужели не помнишь? Ты, конечно, знала, что я был вне себя, в состоянии какого-то безумия, потому ты и смотрела на меня, как смотрят на сумасшедшего. Не раз я ловил в твоем взгляде какое-то скорбное сострадание — не знаю, любопытство ли, или страх. Неужели ты не помнишь, каким я стал? Неузнаваемым… И вот я выздоровел, я спас себя для тебя. Я снова мог увидеть свет. Наконец все прояснилось предо мной. Тебя одну я любил всю жизнь; тебя одну люблю. Понимаешь?
Я произнес последние слова более твердым голосом и медленнее, как бы для того, чтобы запечатлеть их одно за другим в душе женщины; и крепко сжал ее руку, которую еще держал в своей. Она остановилась, едва держась на ногах, готовая упасть, тяжело дыша. Потом, только потом, в следующие часы, я понял всю смертельную тоску, скрытую в этом тяжелом дыхании. Но тогда я понял лишь одно: «Воспоминание об ужасной измене, вызванное мною, возобновляет ее страдание. Я прикоснулся к еще не затянувшимся ранам. Ах, если бы я мог убедить ее поверить мне! Если бы я мог победить ее упорное недоверие! Неужели она не чувствует правду в моем голосе?»
Мы подходили к перекрестку аллей. Там была скамья.
— Посидим немного, — прошептала она.
Мы сели. Не знаю, вспомнила ли она сразу это место. Я не узнал его сразу, так как был растерян, как человек, который только что снял с глаз повязку. Мы оба осмотрелись кругом, потом взглянули друг на друга, причем в глазах наших мелькнула одна и та же мысль. Много тайных воспоминаний было связано с этой каменной скамьей. Сердце мое наполнилось не сожалением, а необузданной алчностью, почти безумной жаждой жизни, мгновенно озарившей видение воображаемого, фантастического будущего. «Ах, она не знает, на какие невиданные нежности я способен! В моей душе — рай для нее!» И свет идеальной любви так сильно воспламенился во мне, что я пришел в экзальтированное состояние.
— Ты страдаешь. Но какое существо на свете было любимо так, как ты? Какая женщина могла иметь доказательство любви, равное тому, которое я даю тебе? Мы не должны были уезжать отсюда — так говорила ты только что. И может быть, мы были бы счастливы. Ты не страдала бы так, не пролила бы стольких слез, не потеряла бы столько здоровья; но ты не узнала бы моей любви, всей моей любви…
Она сидела с опущенной на грудь головой и с полузакрытыми веками; и слушала, неподвижно. От ее ресниц падала на верхнюю часть щек тень, волновавшая меня сильнее взгляда.
— Я, я сам не узнал бы своей любви. Когда я отдалился от тебя в первый раз, разве я не думал, что все кончено? Я искал другой страсти, другого лихорадочного переживания, другого опьянения. Я хотел стиснуть жизнь в одном мощном объятии. Тебя одной было мне мало. И в течение ряда лет я изнурял себя ужасным излишеством, о, столь ужасным, что я чувствую к нему отвращение, с каким каторжник относится к галерам, где он жил, медленно день за днем умирая. И мне суждено было, в течение ряда лет, переходить из мрака в мрак, прежде чем в мою душу проник этот луч, прежде чем мне открылась эта великая истина. Я любил только одну женщину: только тебя. Ты одна на свете — воплощение доброты и нежности. Ты — самое доброе и самое нежное существо, о котором я когда-либо мечтал; ты — Единственная. И ты была в моем доме, в то время как я искал тебя вдали… Понимаешь теперь? Понимаешь? Ты была в моем доме, в то время как я искал тебя вдали. Ах, скажи сама: разве это признание не стоит всех твоих слез? Разве ради такого доказательства ты не пожелала бы пролить еще, еще больше слез?
— Да, еще больше, — сказала она так тихо, что я едва расслышал ее.
Это был вздох, сорвавшийся с этих бескровных губ. И слезы брызнули из-под ее ресниц, избороздили ее щеки, смочили ее исказившийся судорогой рот, упали на тяжело дышащую грудь.
— Джулиана, любовь моя, любовь моя! — закричал я, с трепетом высшего счастья, бросаясь перед ней на колени.
И обнял ее обеими руками, положил голову к ней на колени, чувствуя во всем теле то безумное напряжение, в котором обнаруживается тщетное усилие выразить действием, движением, лаской невыразимую, внутреннюю сродненность. Ее слезы падали на мою щеку. Если бы физическое действие этих живых, жгучих слез соответствовало испытываемому мною от них ощущению, то на моей коже остался бы неизгладимый след!
— О, дай мне выпить их, — просил я.
И, приподнявшись, я коснулся моими губами ее ресниц, омыл их в ее слезах, в то время как мои руки с трепетом касались ее. Какая-то странная гибкость сообщилась моему телу, своего рода обманчивая текучесть, благодаря которой я не замечал больше препятствий одежды. Мне казалось, что я мог бы опоясать, окутать целиком всю любимую женщину.
— Мечтала ли ты, — говорил я ей, чувствуя во рту соленый вкус, разливавшийся у меня в груди (позже, через несколько часов, я удивлялся тому, что не почувствовал в этих слезах нестерпимой горечи), — мечтала ли ты быть так сильно любимой! Мечтала ли ты о подобном счастье? Это я, взгляни на меня, это я говорю тебе эти слова; взгляни же, это я… Если бы ты знала, каким все это кажется мне странным! Если бы я мог сказать тебе!.. Знаю, что я любил тебя и раньше, знал тебя и раньше; знаю, что снова нашел тебя. И все-таки мне кажется, что я нашел тебя только теперь, минуту тому назад, когда ты сказала: «Да, еще больше…» Ты сказала так, правда? Только три слова… один вздох… И я вновь живу, и ты вновь живешь, и вот мы счастливы, мы счастливы навсегда.
Я говорил эти слова голосом, идущим как будто издалека, прерывающимся, неясным, который как бы достигает краев губ, отделяясь не от наших телесных органов, а от крайних глубин нашей души. И она, до этого момента плакавшая тихими слезами, разразилась рыданиями.
Сильно, слишком сильно рыдала она — не так, как люди, охваченные безграничной радостью, а как люди, предающиеся безутешному отчаянию. Она рыдала так сильно, что я несколько мгновений находился в состоянии оцепенения, вызванного бурными проявлениями, сильными пароксизмами человеческого волнения. Бессознательно я отодвинулся немного, но тотчас же заметил открывшийся между мною и ею промежуток; и тотчас же заметил, что не только физическое соприкосновение прервалось, но и всякое ощущение общения рассеялось в один миг. Мы все еще были двумя различными, отдельными, чуждыми друг другу существами. Само различие наших поз подчеркивало наше отчуждение. Она сидела, вся согнувшись, прижимая руками платок ко рту, и рыдала; и каждое всхлипывание потрясало ее всю, как бы показывая ее хрупкость. Я стоял еще на коленях перед ней, не смея дотронуться до нее и смотреть на нее; изумленный и в то же время в состоянии какой-то странной просветленности, я внимательно наблюдал за тем, что происходит в моей душе, и в то же время все чувства мои были способны к восприятию происходивших вокруг меня явлений. Я слышал ее рыдания и щебетание ласточек; имел ясное представление о времени и месте. И эти цветы, и это благоухание, и эта величавая, ослепительная неподвижность воздуха, и все это откровенное ликование весны вызвали во мне ужас, который все усиливался, усиливался, превратился в род панического трепета, инстинктивного и слепого страха, перед которым разум бессилен. И подобно тому как молния сверкает среди скопившихся туч, одна мысль пробилась сквозь всю эту путаницу, осветила меня и сразила: «Она утратила свою чистоту!..»
Ах, почему я не упал тогда, сраженный молнией? Почему не разбилось во мне сердце и я не остался там, на песке, у ног женщины, которая в течение нескольких мгновений подняла меня на вершину счастья и низвергла в бездну скорби?
— Отвечай! — Я схватил ее за руки, открыл ей лицо, говорил совсем близко от нее; и голос мой был так глух, что я сам едва слышал его среди шума в моем мозгу. — Отвечай, что значат эти слезы?
Она перестала рыдать и взглянула на меня; глаза ее, хотя и обожженные слезами, были широко раскрыты, выражая крайний ужас, как будто видели меня умирающим. Должно быть, в самом деле лицо мое потеряло все краски жизни.
— Быть может, поздно? Слишком поздно? — добавил я, открывая свою ужасную мысль в этом неясном вопросе.
— Нет, нет, нет… Туллио, нет… ничего. Ты мог подумать!.. Нет, нет… я так слаба, видишь; я больше не такая, как прежде… Не в силах сдержать… Я больна, ты знаешь… не могла выдержать… того, что ты мне говорил. Ты понимаешь… Этот припадок случился со мной как-то внезапно… Это — нервы… вроде конвульсий… Что-то сожмется судорожно, и не понимаешь, плачешь от радости или от горя… Ах, Боже мой!.. Видишь, уже проходит… Встань, Туллио, подойди ближе ко мне.
Она говорила со мною голосом, еще сдавленным от слез, еще прерывавшимся от всхлипываний; смотрела на меня с выражением, которое было мне знакомо, с выражением, которое не раз бывало у нее при виде моего страдания. В прежнее время она не могла видеть моих страданий. Ее чувствительность в этом отношении была до того велика, что, притворяясь страдающим, я мог добиться от нее всего. Она была бы готова на все, лишь бы избавить меня от малейшей неприятности.
Я тогда часто, в шутку, представлялся огорченным, чтобы волновать ее, чтобы она утешала меня, как ребенка, осыпала меня ласками, которые мне нравились, чтобы вызвать в ней ту нежность, которую я обожал. А теперь разве не сквозило в ее глазах то же самое нежное и беспокойное выражение?
— Подойди ближе ко мне, сядь тут. Или, хочешь, пройдемся немного по саду? Мы еще ничего не видели… Пойдем к бассейну. Я смочу себе глаза… Почему ты так смотришь на меня? О чем ты думаешь? Разве мы не счастливы? Вот видишь, я начинаю чувствовать себя хорошо, очень хорошо. Но мне нужно бы смочить себе глаза, лицо… Который теперь час? Двенадцать? Федерико заедет к шести. У нас еще много времени… Хочешь, пройдемся?
Она говорила прерывистым голосом, еще слегка судорожно, с видимым усилием, стараясь прийти в себя, овладеть своими нервами, рассеять во мне всякое сомнение, казаться доверчивой и счастливой. Трепет ее улыбки в еще влажных и покрасневших глазах заключал в себе какую-то скорбную, трогавшую меня кротость. В ее голосе, в ее позе, во всем существе ее была эта кротость, которая меня трогала и наполняла несколько чувственной истомой. Я не в силах определить то тонкое обольщение, которое исходило от этой женщины, затрагивая мои чувства и мой рассудок, находившиеся в состоянии нерешительности и смущения. Казалось, она безмолвно говорила мне: «Я не могла бы быть более кроткой. Возьми же меня, если ты меня любишь; возьми меня в свои объятия, но тихо, не причиняя мне боли, не сжимая меня слишком сильно. Ах, меня томит жажда твоих ласк! Но мне кажется, что ты мог бы убить меня ими». Это представление немного помогает мне передать воздействие на меня ее улыбки. Я смотрел на ее губы, когда она сказала мне: «Почему ты смотришь на меня так?» Когда же она сказала мне: «Разве мы не счастливы?» — я испытал слепую потребность сладострастного переживания, в котором притупилось бы болезненное чувство, оставленное во мне предшествовавшим волнением. Когда она встала, я необычайно быстрым движением сжал ее в своих объятиях и прижался своими губами к ее губам.
То был поцелуй любовника, поцелуй долгий и глубокий, взволновавший всю сущность наших двух жизней. Она, обессиленная, снова опустилась на скамью.
— Ах, нет, нет, Туллио, прошу тебя! Довольно, довольно! Дай мне сначала собраться с силами, — молила она, протягивая руки, как бы желая держать меня в отдалении. — Иначе я не в силах буду подняться… Видишь, я умираю.
Но во мне произошло какое-то необыкновенное явление. Подобно тому как сильная волна смывает с берега все следы, оставляя лишь гладкий песок, так и в мозгу моем произошло как бы уничтожение всего побочного; и внезапно создалось новое положение под непосредственным влиянием обстоятельств, под неотвратимым давлением вспыхнувшей крови. Я ничего не сознавал, кроме одного: женщина, которую я желал, была тут, передо мною, трепещущая, изнемогающая от моего поцелуя, вся — в моей власти; вокруг нас расцветал уединенный сад, полный воспоминаний и тайн, а там, за цветущими деревьями, ждал нас дом, полный тех же тайн, охраняемый приветливыми ласточками.
— Ты думаешь, что у меня не хватит сил отнести тебя туда? — сказал я, взяв ее руки и переплетая ее пальцы со своими. — Когда-то ты была легка, как перышко. Теперь ты должна быть еще легче… Попробуем?
Что-то мрачное пронеслось в ее глазах. На мгновение она, казалось, погрузилась в какую-то мысль, как человек, который что-то быстро обдумывает и решает. Потом встряхнула головой и, опрокинувшись назад, обвив меня протянутыми руками и смеясь (во время смеха обнажилась часть ее бескровных десен), проговорила:
— Ну, подними меня!
Я поднял ее, и она прильнула к моей груди; и на этот раз она первая поцеловала меня, с какой-то порывистой судорожностью, как будто охваченная внезапным безумием, как бы желая сразу утолить ужасно истомившую ее жажду.
— Ах, умираю! — повторила она, оторвав свои уста от моих.
И эти влажные губы, немного опухшие, полураскрытые, ставшие более алыми, трепещущие в истоме, на этом столь бледном и тонком лице, действительно произвели на меня невыразимое впечатление чего-то такого, что одно лишь осталось живым на этом подобии смерти.
Закрыв глаза, длинные ресницы которых дрожали, как будто под веками струилась тонкая улыбка, она прошептала, как в полусне:
— Ты счастлив? — Я прижал ее к своему сердцу. — Ну, идем. Неси меня, куда хочешь. Поддержи меня немного, Туллио: у меня подгибаются колени…
— В наш дом, Джулиана?
— Куда хочешь…
Я вел ее, крепко поддерживая рукой за талию. Она походила на сомнамбулу. С минуту мы молчали, то и дело поворачиваясь друг к другу в одно и то же время, чтобы обменяться взглядами. В самом деле, она казалось мне новою. Любой пустяк останавливал мое внимание, занимал меня: маленький, едва заметный рубчик на ее коже, маленькая ямочка на нижней губе, изгиб ресниц, жилка на виске, тень, обволакивавшая глаза, бесконечно нежная мочка уха. Темная родинка на шее была чуть-чуть прикрыта краем кружева; но при каждом движении головы Джулианы она то появлялась, то исчезала; и это незначительное явление усиливало мое нетерпение. Я был опьянен и в то же время сохранял странную ясность сознания. Я слышал щебетание все большего множества ласточек, плеск водных струй бассейна, к которому мы подходили. Я чувствовал течение жизни, бег времени. И это солнце, и эти цветы, и этот запах, и эти звуки, и это слишком откровенное ликование весны в третий раз вызвали во мне ощущение неизъяснимой тоски.
— Моя ива! — воскликнула Джулиана, когда мы подходили к бассейну; она перестала опираться на меня и ускорила шаги. — Смотри, смотри, какая она большая! Помнишь? Она была не больше ветки…
И после некоторого раздумья, с другим выражением тихо добавила:
— Я уже видела ее… Ты, может быть, не знаешь: я приезжала сюда, в Виллалиллу, в тот раз.
Она не могла удержать вздох. Но тотчас же, как бы желая рассеять тень, легшую между нами после этих слов, как бы желая уничтожить эту горечь во рту, нагнулась к одному из желобов, выпила несколько глотков и, выпрямившись, сделала движение, как бы прося у меня поцелуя. Подбородок у нее был мокрый, губы — свежие. Мы оба молча решили этим страстным поцелуем ускорить уже неизбежное событие, высшее слияние, которого требовали все наши фибры. Оторвавшись друг от друга, мы оба повторили глазами одну и ту же опьяняющую нас мысль. Лицо Джулианы выражало какое-то странное чувство, тогда еще непонятное мне. Только потом, в последующие часы, я мог понять его — когда узнал, что образ смерти и образ сладострастия одновременно опьяняли бедную женщину и что она произнесла роковой обет, отдаваясь томлению своей крови. Я вижу это лицо, как будто оно стоит передо мною, и вечно буду видеть это таинственное лицо под тенью нависшей над нами древесной сети. Солнечные отблески на воде, пробиваясь сквозь длинные ветки прозрачной листвы, придавали этой тени гипнотизирующую вибрацию. Эхо сливало голоса звучных струй в однообразный таинственный аккорд. Все эти явления уносили мою душу за пределы реального мира.
Мы продолжали молча идти к дому. Мое возбуждение стало таким напряженным, видение грядущего события уносило мою душу в столь сильном порыве радости, биение моих артерий было столь бурно, что я подумал: «Не бред ли это? Я не испытывал подобного чувства в первую брачную ночь, когда переступил этот порог…» Несколько раз меня охватывал дикий порыв, как бы мгновенный припадок безумия, который я сдерживал каким-то чудом: столь сильна была во мне физическая потребность обладать этой женщиной. Должно быть, и ее возбуждение стало нестерпимым, потому что она остановилась и простонала:
— Ох, Боже мой. Боже мой! Это уж слишком.
Задыхаясь, подавленная этими переживаниями, она схватила мою руку и приложила ее к сердцу.
— Слушай!
Но сквозь ткань платья я ощутил не столько биение ее сердца, сколько гибкую форму ее груди; и мои пальцы инстинктивно согнулись, чтобы сжать эти знакомые маленькие груди. Я увидел, как в глазах Джулианы гас зрачок под опускавшимися веками. Боясь, что она лишится чувств, я поддержал ее, потом увлек, почти донес ее до кипарисов, до скамьи, на которую мы опустились оба в изнеможении.
Перед нами, словно в видении сна, стоял дом.
— Ах, Туллио, — сказала она, склонив голову на мое плечо, — какой ужас! Не кажется ли и тебе, что мы можем умереть?
И серьезным, доносившимся из неведомых глубин ее существа голосом она добавила:
— Хочешь, умрем?
Странный трепет, охвативший меня, свидетельствовал о том, что в этих словах было какое-то особенное чувство, — быть может, то самое чувство, которое преобразило лицо Джулианы под ивой, после страстного поцелуя, после безмолвного решения. Но и на этот раз я не мог понять его. Понял лишь то, что мы оба теперь во власти какого-то бреда и дышим атмосферой сна…
Как в видении сна, стоял перед нами дом. На незатейливом фасаде, на всех карнизах, вдоль желобов, на архитравах, под подоконниками, под плитами балконов, между консолями, между кронштейнами — повсюду свили гнезда ласточки. Эти бесчисленные гнезда из глины, старые и новые, скученные, как ячейки улья, оставляли мало свободных промежутков. Между гнездами, на перекладинах жалюзи и на железных перилах, как известковые брызги, белел птичий помет. Дом, хотя запертый и необитаемый, жил. Жил беспокойной, веселой и нежной жизнью. Верные ласточки беспрерывно окутывали его своим полетом, своими криками, переливами крыльев, всей своей грацией и всей своей нежностью. В то время как в воздухе одна за другой проносились стаи с быстротой стрел, перекликаясь, уносясь вдаль и мгновенно слетаясь, задевая деревья, поднимаясь к солнцу, поблескивая своими белыми пятнами, неутомимые, — внутри и вокруг гнезд кипела другая работа. Некоторые из ласточек, выводящих птенцов, на несколько минут свешивались над отверстиями гнезд; другие, стараясь удержаться, хлопали блестящими крыльями; третьи входили в гнездо наполовину, высовывая наружу маленький раздвоенный хвостик, порывисто трепетавший, черный с белым на фоне желтоватого гнезда; многие наполовину высовывались из гнезд, показывая часть лоснящейся грудки и бурую шейку; иные, доселе невидимые, взлетали с пронзительным криком в воздух и куда-то уносились. И вся эта веселая и шумная возня вокруг запертого дома, вся эта оживленность в гнездах вокруг нашего старого гнездапредставляла такое чарующее зрелище, полную такого обаяния картину, что мы на несколько минут, словно в перерыве нашей лихорадки, замерли в созерцании.
Я встал и, прерывая очарование, сказал:
— Вот ключ. Чего мы ждем?
— Ах, Туллио, подождем еще немного! — в ужасе взмолилась она.
— Я иду открывать.
И я направился к двери, поднялся по трем ступенькам, словно по ступеням алтаря; в то время как я собирался повернуть ключ с трепетом богомольца, открывающего раку, я почувствовал за собой Джулиану, которая следовала за мной робко, легко, словно тень. Я вздрогнул:
— Это ты?
— Да, я, — ласково прошептала она, касаясь моего уха своим дыханием. И, стоя за моими плечами, обвила мне шею руками так, что нежные кисти ее рук скрестились под моим подбородком.
Это робкое движение, этот смех, задрожавший в ее шепоте, выдавая ее детскую радость по поводу того, что она приятно изумила меня, эта манера обнимать меня, вся эта подвижная грация напомнили мне прежнюю Джулиану, молодую и нежную подругу счастливых лет, восхитительное создание с длинной косой, со свежим смехом, напоминающую своим видом девочку. Дыхание былого счастья охватило меня на пороге полного воспоминаний дома.
— Открыть? — спросил я, держа еще руку на ключе, чтобы повернуть его.
— Открой, — ответила она, не оставляя меня, продолжая обвевать мою шею дыханием.
Ключ заскрипел в скважине замка. Она еще сильнее сжала меня руками, прильнула ко мне, передавая мне свою дрожь. Ласточки щебетали над нашими головами; и этот легкий шум, казалось, доносился из глубокого безмолвия.
— Войди, — прошептала она, не отпуская меня. — Войди, войди.
Этот голос, срывающийся с ее уст, столь близких, но неуловимых, голое реальный и в то же время таинственный, обдающий жаром мое ухо и вместе с тем идущий как бы из глубины души, голос женственный, как никакой другой, — я еще слышу его, всегда буду слышать его:
— Войди, войди.
Я толкнул дверь. Мы тихо переступили порог, словно слитые воедино.
Сени освещались сверху круглым окном. Над головой, щебеча, пронеслась ласточка. В изумлении мы подняли глаза. Между гротесками свода висело гнездо. В окне не было одного стекла. Ласточка со щебетом вылетела в разбитое окно.
— Теперь я — твоя, твоя, твоя! — шептала Джулиана, не отрываясь от моей шеи и порывистым движением перегибаясь ко мне на грудь, чтобы встретить мои уста.
Мы замерли в долгом поцелуе. Опьяненный, я сказал:
— Иди же. Пойдем наверх. Хочешь, понесу тебя!
Хоть и опьяненный, я чувствовал в своих мускулах силу одним духом внести ее на лестницу.
— Нет, — ответила она. — Могу и сама подняться.
Но, слушая и видя ее, трудно было представить себе, чтобы она могла это сделать.
Я обнял ее, как раньше в аллее; и подталкивал ее со ступеньки на ступеньку, чтобы ей помочь. В доме, казалось, стоял тот глухой и отдаленный гул, который сохраняют в себе некоторые глубокие раковины. Создавалось впечатление, что никакие внешние звуки не доходили туда.
Когда мы очутились на площадке, я не открыл двери, что была напротив, но повернул направо в темный коридор, молча ведя за руку Джулиану. Она дышала так тяжело, что я страдал за нее; она заражала меня своим беспокойством.
— Куда мы идем? — спросила она.
— В нашу комнату, — ответил я.
Сквозь мрак через закрытые створки жалюзи пробивался свет; гул здесь был глуше. Мне хотелось поскорее раскрыть жалюзи, но я не мог оставить Джулиану; мне казалось, что я не в силах оторваться от нее, не в силах даже на миг разорвать сплетение наших рук, как будто через кожу магнетическим током сомкнулись живые концы наших нервов. Мы продвигались вместе, словно слепые. В темноте нам преградило путь какое-то препятствие. Это была кровать, широкое ложе нашего брачного союза и наших любовных восторгов.
Куда разнесся оглушительный крик?..
VIII
Было два часа пополудни. Около трех часов прошло уже со времени нашего приезда в Виллалиллу.
Я оставил на несколько минут Джулиану одну и пошел позвать Калисто. Старик принес корзинку с завтраком; и уже не с удивлением, а с каким-то не лишенным лукавства добродушием второй раз выразил готовность удалиться.
Теперь мы с Джулианой сидели за столом, как двое любовников, друг против друга, улыбаясь. Стол был уставлен холодной дичью, засахаренными фруктами, бисквитами, апельсинами; тут же стояла бутылка «шабли». Комната, свод которой был украшен в стиле барокко, со светлыми стенами, с пасторальной живописью над дверями, была как бы пропитана какой-то старинной жизнерадостностью, казалась обителью давно минувших веков. Через открытый балкон лился очень нежный свет, так как все небо было испещрено длинными, молочного цвета полосами. В бледном прямоугольнике высился старый почтенный кипарис с кустом роз у подножия и с соловьиным гнездом на верхушке. Далее, через изогнутые прутья перил, виднелся восхитительный светло-лиловый лес — весенняя слава Виллалиллы. Тройной аромат, весенняя душа Виллалиллы, струился в тиши медленными, ровными волнами.
— Ты помнишь? — говорила Джулиана.
И повторяла, повторяла без конца:
— Ты помнишь?
Самые отдаленные воспоминания нашей любви оживали одно за другим на ее устах, вызванные самыми незначительными поводами и возрождавшиеся с необычайной силой в родном месте, в благоприятной среде. Но это тревожное возбуждение, эта безумная жадность к жизни, овладевшие мною раньше в саду, теперь делались для меня почти нестерпимыми, вызывали во мне приукрашенные видения будущего, так как противопоставлялись преследовавшим меня призракам прошлого.
— Нам нужно вернуться сюда завтра, самое позднее — через два, через три дня, чтобы остаться здесь; но мы должны быть одни. Ты видишь: здесь есть все, ничего не унесли. Если бы ты захотела, мы могли бы остаться здесь и на эту ночь… Но ты не хочешь! Правда не хочешь?
Голосом, жестом, взглядом я старался соблазнить ее. Мои колени касались ее колен. А она не сводила с меня глаз и ничего не отвечала.
— Ты представляешь себе первый вечер здесь, в Виллалилле? Мы выходим в сад, остаемся там до заката, видим, как в окнах вспыхивает свет!.. Ах, ведь ты понимаешь… Свет, который зажигают в доме в первый раз, в первый вечер! Представляешь себе? До сих пор ты только и делала, что вспоминала и вспоминала. И вот видишь: все твои воспоминания не заменят ни одного сегодняшнего момента, не сравнятся ни с какими завтрашними моментами. Ты, может быть, сомневаешься в том счастье, что предстоит нам впереди? Я никогда не любил тебя так, как люблю теперь, Джулиана; никогда, никогда. Понимаешь? Я никогда не был твоим так, как теперь, Джулиана… Я расскажу тебе, расскажу, как я проводил время, чтобы ты узнала о сотворенном тобой чуде. Кто мог ожидать чего-либо подобного после столь дурного поведения? Я расскажу тебе… Порою мне казалось, что я вернулся к временам молодости, к временам ранней юности. Я чувствовал себя чистым сердцем, как тогда: добрым, нежным, простым. Я ни о чем не думал. Все, все мои мысли принадлежали тебе: все мои волнения относились к тебе. Нередко вида цветка, маленького листочка было достаточно, чтобы переполнить мою душу, — так она была полна. А ты не знала ничего; быть может, и не замечала ничего. Я расскажу тебе… В тот день, в субботу, когда я вошел к тебе в комнату с этим терновым кустом!.. Я был робок, как влюбленный подросток, и чувствовал, что умираю от желания взять тебя в свои объятия… И ты не заметила этого?! Я расскажу тебе все; я вызову улыбку на твоих устах. В тот день сквозь портьеры алькова я мог видеть твою кровать. Я не смог оторвать от нее глаз и весь дрожал. Как я дрожал! Ты не знаешь… Несколько раз я даже входил в твою комнату, один, крадучись, с сильно бьющимся сердцем; и приподнимал портьеры, чтобы взглянуть на твою постель, чтобы прикоснуться к твоей простыне, чтобы прижаться лицом к твоей подушке, как обезумевший любовник… И нередко, ночью, когда все в Бадиоле уже спали, я тихо-тихо подкрадывался к твоей двери; мне казалось, что я слышу твое дыхание… Скажи мне, скажи: могу ли я прийти к тебе этой ночью? Хочешь ли ты этого? Скажи: ты будешь ждать меня? Можем ли мы провести эту ночь вдали друг от друга? Невозможно! Твоя щечка найдет свое место на моей груди, вот здесь, — помнишь?.. Как ты легка, когда спишь!..
— Туллио, Туллио, замолчи! — умоляющим голосом прервала она меня, как будто мои слова причиняли ей боль. — И, улыбаясь, прибавила: — Ты не должен опьянять меня так… Ведь я раньше говорила тебе. Я так слаба; я жалкая, больная… Ты кружишь мне голову. Я не владею собой. Видишь, что ты со мною сделал? Я едва дышу…
Она улыбалась слабой, усталой улыбкой. Веки у нее слегка покраснели; но из-под этих усталых век глаза ее горели лихорадочным блеском и все время смотрели на меня с почти нестерпимой пристальностью, хотя и смягченной тенью ресниц. Во всей ее позе было что-то неестественное, чего не мог уловить мой взор, не мог определить мой ум. Разве раньше когда-нибудь лицо ее освещалось тревожащей тайной? Казалось, что порою выражение его усложнялось, омрачалось, становилось каким-то загадочным. И я думал: «Ее пожирает внутренний огонь. Она еще не в силах постичь случившееся. Быть может, все в ней всколыхнулось. Разве не изменилось ее существование в одно мгновение?» И это полное глубины выражение ее лица влекло меня и все больше усиливало мою страсть. Ее жгучий взгляд проникал в меня до мозга костей, как пожирающее пламя. И хотя я видел, как она слаба, я сгорал нетерпением еще раз овладеть ею, еще раз сжать ее в своих объятиях, еще раз услышать ее крик, вобрать в себя всю ее душу.
— Ты ничего не ешь, — сказал я ей, делая усилие, чтобы рассеять туман, быстро дурманивший мне голову.
— Ты тоже.
Выпей хоть глоток. Узнаешь это вино?
— О, узнаю.
— Помнишь?
И мы взглянули друг другу в глаза, взволнованные всплывшим воспоминанием любви, окутанным парами этого нежного, горьковатого, золотистого вина, которое она так любила.
— Выпьем же вместе, за наше счастье!
Мы чокнулись, и я залпом выпил; но она даже не омочила губ, словно охваченная непреодолимым отвращением.
— Ну?
— Не могу, Туллио.
— Почему?
— Не могу. Не принуждай меня. Я думаю, что даже одна капля повредила бы мне.
Она смертельно побледнела.
— Ты плохо чувствуешь себя, Джулиана?
— Немного… Встанем. Пойдем на балкон.
Я обнял ее и почувствовал живую гибкость ее тела, так как в мое отсутствие она сняла корсет.
— Хочешь лечь в постель? — предложил я ей. — Ты будешь отдыхать, а я побуду возле тебя…
— Нет, Туллио. Видишь, мне уже хорошо.
И мы остановились на пороге балкона, против кипариса. Она прислонилась к косяку и положила одну руку ко мне на плечо.
За выступом архитрава, под карнизом, висели рядами гнезда. Ласточки непрерывно прилетали и снова улетали. А внизу, у наших ног, в саду царила такая тишина, так неподвижно высилась перед нами верхушка кипариса, что этот шелест, эти полеты, эти крики вызвали во мне ощущение скуки, стали мне неприятны. Поскольку все в этом безмятежном свете как бы стихало и заволакивалось дымкой, то и мне захотелось отдыха, продолжительного безмолвия, сосредоточенности, чтобы испытать все очарование этого часа и одиночества.
— Есть ли еще здесь соловьи? — спросил я, вспоминая упоительную вечернюю мелодию.
— Кто знает! Может быть.
— Они поют на закате солнца. Приятно было бы тебе снова послушать их?
— А в котором часу заедет Федерико?
— Будем надеяться, что поздно.
— О да, поздно, поздно! — воскликнула она с таким искренним и горячим желанием, что я весь затрепетал от радости.
— Ты счастлива? — спросил я ее, ища ответа в ее глазах…
— Да, счастлива, — ответила она, опуская ресницы.
— Ты знаешь, что я люблю тебя одну, что я — весь твой навсегда?
— Знаю.
— А ты… как ты любишь меня?
— Так, как ты никогда не узнаешь, бедный Туллио!
И, проговорив эти слова, она отошла от косяка и прислонилась ко мне всей своей тяжестью, этим неописуемым своим движением, в котором было столько отдающей себя нежности, какую самое женственное существо может отдать мужчине.
— Прекрасная! Прекрасная!
И в самом деле, она была прекрасна: томная, покорная, ласковая, я сказал бы — текучая, так что мне пришла в голову мысль, что я могу постепенно вбирать ее в себя, упиться ею. Масса распущенных волос вокруг бледного ее лица, казалось, готова была расплыться. Ресницы бросали на верхнюю часть ее щек тень, волновавшую меня сильнее взгляда…
— Ты тоже не сможешь никогда узнать… Если бы я поведал тебе те безумные мысли, что зарождались во мне! Счастье так велико, что возбуждает во мне тревогу, почти вызывает во мне желание умереть.
— Умереть! — тихо повторила она, слабо улыбаясь. — Кто знает, Туллио, не суждено ли мне умереть… скоро!..
— О Джулиана!
Она выпрямилась во весь рост, чтобы взглянуть на меня, и добавила:
— Скажи мне, что бы ты делал, если бы я вдруг умерла?
— Дитя!
— Если бы, например, я умерла завтра?
— Замолчи!
Я взял ее за голову и стал покрывать поцелуями ее уста, щеки, глаза, лоб, волосы, легкими быстрыми поцелуями. Она не сопротивлялась. Даже когда я перестал, она прошептала:
— Еще!..
— Вернемся в нашу комнату, — просил я, увлекая ее.
Она не сопротивлялась.
Балкон в нашей комнате тоже был открыт. Вместе со светом туда лился мускатный запах желтых роз, которые цвели поблизости. На светлом фоне обоев маленькие синие цветочки так вылиняли, что их почти не было видно. Уголок сада отражался в зеркальном шкафу, утопая в какой-то прозрачной дали. Перчатки, шляпа, браслет Джулианы, лежавшие на столе, казалось, уже пробуждали в этой темноте прежнюю жизнь любви, уже насытили воздух новой интимностью.
— Завтра, завтра нужно вернуться сюда, не позднее, — говорил я, сгорая от нетерпения, чувствуя, что от всего окружающего струится какое-то возбуждающее очарование. — Мы должны завтра ночевать здесь. Ты хочешь, правда?
— Завтра!
— Снова начать любить в этом доме, в этом саду, этой весною… Снова начать любить, как будто это чувство незнакомо нам; снова искать друг у друга ласки и в каждой из них находить новое обаяние, как будто мы никогда не знали их; и иметь впереди много, много дней…
— Нет, нет, Туллио, не надо говорить о будущем… Разве ты не знаешь, что это дурная примета? Сегодня, сегодня… Думай о сегодняшнем дне, о текущем часе…
И она порывисто прижалась ко мне, с невероятной страстностью, зажимая мне рот бешеными поцелуями…
IX
— Мне послышался звон бубенчиков, — сказала Джулиана, поднимаясь. — Едет Федерико. — Мы прислушались. По-видимому, она ошиблась. — Разве еще не время? — спросила она.
— Да, уже около шести часов.
— О Боже!
Мы снова стали прислушиваться. Не было слышно никакого звука, по которому можно было бы судить о приближении экипажа.
— Ты бы вышел посмотреть, Туллио.
Я вышел из комнаты, спустился по лестнице. Ноги мои слегка дрожали; глаза застилал туман; мне казалось, будто из моего мозга подымаются испарения. Через боковую калитку в заборе я позвал Калисто, сторожка которого находилась тут же.
— Еще не видать экипажа? — спросил я его. Старику, по-видимому, хотелось подольше поговорить со мною. — Знаешь, Калисто, мы, вероятно, завтра вернемся сюда и долго здесь пробудем, — сказал я.
Он поднял руки к небу, выражая этим свою радость.
— Правда?
— Правда. У нас будет время вдоволь наговориться! Когда ты увидишь экипаж, приди сказать мне. Прощай, Калисто.
И, оставив его, я направился к дому. День клонился к вечеру, и крики ласточек сделались пронзительнее. Быстро проносившиеся стаи, сверкая, прорезывали раскаленный воздух.
— Ну, что? — спросила меня Джулиана, отвернувшись от зеркала, перед которым она стояла, собираясь уже надеть шляпу.
— Нет еще.
— Погляди на меня. Я не очень растрепана?
— Нет.
— Какое лицо у меня! Посмотри на меня. — Действительно, вид у нее был, как у вставшей из гроба. Большие фиолетовые круги легли вокруг ее глаз. — И все же я жива еще, — прибавила она; и старалась улыбнуться.
— Ты страдаешь?
— Нет, Туллио. Но, право, не знаю… У меня такое чувство, будто я вся пустая; голова, жилы, сердце все пусто… Да, ты можешь сказать, что я тебе отдала все. Смотри, я оставила себе лишь видимость жизни…
Она как-то странно улыбалась, произнося эти слова; улыбалась какой-то слабой улыбкой, которая смущала мою душу, вызывая в ней безотчетную тревогу. Я слишком отупел от страсти, слишком ослеплен был опьянением; и движения моей души были вялые, сознание притупилось. Никакого зловещего подозрения еще не подымалось во мне. И однако, я внимательно глядел на Джулиану; с тоской, сам не зная почему, всматривался в ее лицо.
Она снова повернулась к зеркалу, надела шляпу; потом подошла к столу, взяла браслет и перчатки.
— Я готова, — сказала она. Взглядом она, по-видимому, искала еще что-то. Прибавила: — У меня был зонтик, не правда ли?
— Да, кажется.
— Ах, да, вероятно, я его оставила внизу, на скамейке, у перепутья.
— Пойдем поищем.
— Я страшно устала.
— Так я пойду один.
— Нет. Пошли Калисто.
— Я сам пойду. Принесу тебе ветку сирени и букет мускатных роз. Хочешь?
— Нет, оставь цветы…
— Иди сюда. Посиди пока. Может быть, Федерико опоздает.
Я пододвинул к балкону кресло для нее, и она опустилась в него.
— Раз ты идешь вниз, — сказала она, — то посмотри, не у Калисто ли моя накидка. Я не думаю, чтобы она осталась в экипаже, не правда ли? Мне что-то холодно.
И в самом деле, она то и дело вздрагивала.
— Хочешь, я закрою балкон?
— Нет, нет. Дай мне смотреть на сад. Как он красив в этот час! Видишь? Как он красив!
Там и сям по саду вспыхивали золотые отблески. Цветущие верхушки сирени свисали ярко-фиолетовыми массами; а так как отстальные цветущие ветви колыхались в воздухе, отливая то серым, то синеватым цветом, то верхушки казались отсветами переливчатого шелка. Над бассейном склоняли свои мягкие кудри вавилонские ивы, и вода бассейна просвечивала сквозь них перламутровым блеском. Этот неподвижный блеск, этот скорбный плач больших деревьев и эта гуща цветов, столь нежных в умирающем золоте, — все вместе создавало волшебное, чарующее, лишенное реальности видение.
Мы оба несколько минут молчали, во власти этих чар, какая-то смутная грусть овладевала моей душой; глухое отчаяние, таящееся в глубине каждой человеческой любви, вставало в моей душе. Это дивное зрелище, казалось, усиливало мою физическую усталость, оцепенение моих чувств. Я ощущал в себе тот недуг, ту неудовлетворенность, то безотчетное раскаяние, которые следуют за прекращением слишком острых и слишком продолжительных наслаждений. Я страдал.
Как во сне, Джулиана проговорила:
— Я бы хотела закрыть глаза и не открывать их больше. — И, вздрогнув, прибавила: — Туллио, мне холодно. Иди же.
Она вся съежилась в кресле, как бы для того, чтобы удержаться от начинавшейся у нее дрожи. Ее лицо, особенно около носа, было прозрачно, как синеватый алебастр. Она страдала.
— Ты себя плохо чувствуешь, бедняжка? — сказал я, охваченный жалостью, и с невольным страхом стал пристально глядеть на нее.
— Мне холодно. Ступай принеси мне накидку, скорее… Прошу тебя.
Я побежал вниз к Калисто, велел подать мне накидку и тотчас же вернулся. Она поспешила надеть ее. Я ей помог. Она вновь опустилась на кресло, спрятала руки в рукава и сказала:
— Теперь мне хорошо.
— Так я пойду за зонтиком вниз, где ты его оставила.
— Не надо. Стоит ли?
У меня было странное желание снова вернуться туда, к этой старой каменной скамье, где мы в первый раз присели, где Джулиана плакала, где она произнесла три божественных слова: «Да, даже больше…» Что это было? Сентиментальность? Жажда нового ощущения? Или действие чар таинственного сада в этот вечерний час?
— Я пойду и вернусь через минуту, — сказал я.
Я вышел. Проходя под балконом, я крикнул:
— Джулиана!
Она выглянула. До сих пор перед очами души моей ярко стоит это немое, сумеречное видение: эта высокая фигура, казавшаяся еще более высокой в длинном бархатном плаще, и это бледное, бледное лицо на темном фоне. (Слова Джакопо, обращенные к Аманде, неразрывно связаны в моей памяти с этим неизгладимым образом: «Какая вы бледная в этот вечер, Аманда! Вы, вероятно, вскрыли себе жилы для того, чтобы окрасить свою одежду».)
Джулиана отошла; чтобы выразить мое ощущение, лучше сказать: исчезла. А я быстро пошел по аллее, не отдавая себе ясного отчета в том, что меня гонит вперед. Я слышал, как шаги мои отдаются в моем мозгу. Я был так рассеян, что принужден был остановиться, чтобы разобраться в тропинках. Откуда явилось это безрассудное волнение? Может быть, причиной его являлась простая физическая усталость, особое состояние моих нервов. Так думал я. Неспособный сделать умственное усилие, сосредоточить свои мысли, разобраться в чувствах, я был во власти своих нервов, которые реагировали на действительность с необыкновенной яркостью, свойственной галлюцинации. Но некоторые мысли отделялись от других и как молнии пронизывали мой мозг; они усиливали во мне то чувство сомнения, которое уже было вызвано некоторыми непредвиденными обстоятельствами. Джулиана сегодня весь день казалась мне не такой, какой она должна была быть, оставаясь существом, которое я знал: «Джулианой былых дней». В известные моменты она держала себя со мной не так, как я ожидал. Какой-то чуждый элемент, что-то темное, судорожное, надрывное изменило и исказило ее индивидуальность. Не следует ли приписать эти изменения болезненному состоянию ее организма? «Я больна, я очень больна», — не раз говорила она, как бы оправдываясь. Разумеется, болезнь производит глубокие изменения и может сделать неузнаваемым человеческое существо. Но какая болезнь у Джулианы? Прежняя, не уничтоженная ножом хирурга? Может быть, осложнившаяся? Неизлечимая? «Кто знает, не умру ли я скоро, Туллио», — говорила она со странной интонацией, которая могла бы оказаться пророческой. Не раз говорила она о смерти. Значит, она сознавала, что носит в себе семя смерти? Стало быть, она все эти дни была во власти мрачного предчувствия? Быть может, это предчувствие зажгло в ней тот отчаянный, тот почти безумный пыл, когда я держал ее в своих объятиях. Быть может, внезапный, ослепительный свет счастья сделал для нее более ясным и более страшным преследующий ее призрак…
«Значит, она могла бы умереть! Значит, смерть могла бы ее поразить даже в моих объятиях, в разгар блаженства!» — думал я, и ужас сковал меня, так что я был принужден остановиться на мгновение, как будто грозившая опасность стала передо мной, как будто Джулиана предвидела истину, когда говорила: «А что, если, например, завтра я умру».
Влажные сумерки падали на землю. По кустам пробегал ветер, напоминая своим дуновением шорох быстро скользящих животных. Запоздалая ласточка издавала свой пронзительный крик, гудя в воздухе, как камень, выпущенный из пращи. На западном краю горизонта все еще горел свет, как отражение громадной, мрачной кузницы.
Я подошел к скамье и нашел зонтик; я недолго оставался здесь, хотя свежие воспоминания, еще живые, еще теплые, волновали мою душу. Здесь она упала, ослабевшая, побежденная; здесь я произнес знаменательные слова, опьянил ее признанием: «Ты была в моем доме, а я искал тебя далеко»; здесь я сорвал с ее уст дыхание, вознесшее мою душу на вершину блаженства; здесь я выпил ее первые слезы, услышал ее рыдания и обратился к ней со странными вопросами: «Быть может, поздно? Быть может, слишком поздно?»
Немного часов прошло с тех пор, а все это стало таким далеким! Немного часов прошло, а счастье уже казалось истлевшим! Другое значение, не менее странное, принял теперь неизменно звучавший во мне вопрос: «Быть может, поздно? Быть может, слишком поздно?» И тоска моя росла; этот неясный свет, это безмолвное нисхождение тени и этот жуткий шорох в уже окутанных мраком кустах — все эти обманчивые видения сумерек обрели в моей душе какой-то роковой смысл. «Что, если действительно поздно? Что, если на самом деле она знает о том, что обречена на гибель, что несет в себе смерть? Устав жить, устав страдать, не ожидая более ничего от меня, не решаясь убить себя сразу каким-нибудь оружием или ядом, она, быть может, лелеяла свою болезнь, помогала ей, скрывала ее для того, чтобы дать ей развиться, углубиться, сделаться неизлечимой. Она хотела мало-помалу, тайно от всех, привести себя к избавлению, к концу. Наблюдая за собой, она получила знания о своей болезни, и вот теперь она знает, она уверена, что гибель неминуема; быть может, она знает также и то, что любовь, наслаждение, мои поцелуи ускорят работу болезни. Я вновь прихожу к ней, и навсегда; неожиданное счастье открывается перед ней; она любит меня и знает, что безгранично любима; внезапно грезы стали для нас действительностью. И вот, одно слово срывается с ее уст: „Умереть!..“» Смутно прошли передо мной страшные образы, которые терзали меня в течение двух часов ожидания в то утро операции, когда перед моими глазами, с яркостью рисунков анатомического атласа, предстали ужасные опустошения, произведенные болезнью в лоне женщины. И другое воспоминание, еще более далекое, вернулось, неся с собой яркие образы: окутанная мраком комната, настежь открытое окно, колеблющиеся портьеры, беспокойный огонек свечи перед бледным зеркалом, зловещие призраки, и она, Джулиана, на ногах, прислонившаяся к шкафу и судорожно извивающаяся, как будто проглотила яд… И обвиняющий голос, тот же голос, вновь повторил: «Из-за тебя, из-за тебя она хотела умереть. Ты, ты толкнул ее на смерть».
Охваченный каким-то слепым, паническим ужасом, как будто все эти образы были несомненной реальностью, я бросился бежать к дому.
Подняв глаза, я увидел безжизненный дом: провалы окон и балкон были полны мрака.
— Джулиана! — крикнул я в безумной тоске, быстро взбегая по ступеням лестницы, словно боясь опоздать и не увидеть ее.
Что это было со мной? Что за безумие?
Я задыхался, взбегая по полутемной лестнице. Стремительно вошел в комнату.
— Что случилось? — спросила Джулиана, поднимаясь.
— Ничего, ничего… Мне показалось, что ты зовешь меня. Я немного бежал. Как ты себя сейчас чувствуешь?
— Мне так холодно, Туллио, так холодно! Пощупай мои руки.
Она протянула мне руки. Они были холодные как лед.
— Я вся окоченела…
— Боже мой! Отчего это тебе так холодно! Как мне согреть тебя?
— Не беспокойся, Туллио. Это не в первый раз… Это длится иногда часами. Ничего не помогает. Надо подождать, чтобы прошло… Но что это Федерико так опоздал? Ведь уже почти ночь.
Она снова откинулась на спинку кресла, словно истощив всю свою силу в этих словах.
— Теперь я закрою, — сказал я, подойдя к балкону.
— Нет, нет, оставь открытым… Мне не от воздуха холодно. Напротив, я нуждаюсь в свежем воздухе. Подойди лучше сюда, поближе ко мне. Возьми эту скамеечку.
Я опустился перед ней на колени. Бессильным жестом она опустила мне на голову свою холодную руку и прошептала:
— Бедный мой Туллио!
— Скажи же мне, Джулиана, любовь моя, душа моя, — воскликнул я, не в силах сдерживаться более, — скажи мне правду! Ты что-то скрываешь от меня. У тебя, вероятно, что-то есть, в чем ты не хочешь признаться: какая-то упорная мысль, здесь, посреди лба, какая-то тень не покидает тебя с тех пор, как мы здесь, с тех пор, как мы… счастливы. Но счастливы ли мы на самом деле? Можешь ли ты быть счастливой? Скажи мне правду, Джулиана! Для чего тебе обманывать меня? Да, правда: ты была больна, ты и сейчас себя плохо чувствуешь, это правда. Но не в этом дело, нет. Тут что-то другое, чего я не понимаю, чего я не знаю… Скажи мне правду, даже если бы эта правда сразила меня. Сегодня утром, когда ты рыдала, я спросил тебя: «Слишком поздно?» — и ты мне ответила: «Нет, нет…» И я поверил тебе. Но, может быть, слишком поздно по какой-нибудь другой причине? Быть может, что-нибудь не дает тебе наслаждаться этим великим счастьем, которое сегодня открылось нам? Я хочу сказать: что-нибудь, что ты знаешь, о чем думаешь… Скажи мне правду!
И я пристально поглядел на нее; но она продолжала молчать, и я видел перед собой только ее необыкновенно расширившиеся, темные и неподвижные зрачки. Все вокруг меня исчезло. Я принужден был закрыть глаза, чтобы рассеять то ощущение ужаса, которое вызывал во мне ее взгляд. Сколько времени длилось молчание? Час? Мгновение?
— Я больна, — проговорила она наконец с тяжкой медлительностью.
— Но как больна? — прошептал я вне себя; мне казалось, что в звуках этих двух слов я слышу признание, отвечающее моему подозрению. — Как больна? Смертельно?
Я не знаю, как, каким голосом, с каким жестом я произнес этот вопрос; я даже не знаю, произнес ли я его в самом деле и услышала ли она его.
— Нет, Туллио; я этого не хотела сказать, нет, нет… Я хотела сказать, что я не виновата в том, что я такая… Немного странная… Это не моя вина… Тебе надо быть терпеливым со мной, надо принимать меня теперь такой, какая я есть… Больше ничего нет, поверь мне; я ничего не скрываю от тебя… Я смогу потом выздороветь, я выздоровею… Ты будешь терпелив, не правда ли? Ты будешь добрый… Иди сюда, Туллио, дорогой мой. И ты тоже какой-то странный, какой-то подозрительный… Ты внезапно пугаешься, бледнеешь… Что тебе чудится?.. Иди же сюда, иди сюда… Поцелуй меня… Еще раз… еще… Так. Целуй меня, согрей меня. Сейчас приедет Федерико.
Она говорила прерывистым, немного хриплым голосом, с тем неизъяснимым выражением ласки, нежности и беспокойства, с которым она уже обращалась ко мне несколько часов тому назад, на скамье, желая успокоить и утешить меня. Я целовал ее. Так как кресло было широкое и низкое, она, такая худенькая, освободила для меня место рядом с собой; дрожа, она прижалась ко мне и прикрыла меня краем своего плаща. Мы были как на ложе, прижавшись друг к другу, грудь к груди, смешивая свои дыхания. Я думал: «Ах, если бы мое дыхание, мое прикосновение могли передать ей всю мою теплоту!» — и обманчиво напрягал свою волю, чтобы совершилась эта передача.
— Вечером, — шептал я, — сегодня вечером, в твоей постели, я лучше согрею тебя. Ты перестанешь дрожать.
— Да, да.
— Ты увидишь, как я обниму тебя. Я убаюкаю тебя. Ты всю ночь проспишь у меня.
— Да.
— Я не засну: я буду пить твое дыхание, читать на твоем лице грезы, что приснятся тебе. Может быть, ты произнесешь мое имя во сне.
— Да, да.
— Иногда ночью, тогда, ты говорила во сне. Как я любил это. Ах, этот голос! Ты не можешь понять этого… Ты не могла слышать этот голос, его знаю только я, я один… И я вновь услышу его. Кто знает, что он скажет! Может быть, ты назовешь мое имя. Как я люблю движение твоих губ, когда они произносят «у» моего имени; оно кажется контуром поцелуя… Ты знаешь это? Я шепну тебе на ухо какое-нибудь слово, чтобы войти в твои сновидения. Помнишь, тогда, по утрам, я, бывало, отгадывал кое-что из того, что тебе снилось? О, ты увидишь, дорогая моя: я буду еще ласковее, чем раньше. Ты увидишь, на какую нежность я буду способен, чтобы излечить тебя. Ты нуждаешься в такой нежности, моя бедняжка…
— Да, да, — все повторяла она, словно бессознательно, и этим поддерживала во мне мою иллюзию и усиливала то опьянение, в которое повергали меня звуки моего собственного голоса и уверенность в том, что мои слова, как страстная песнь, убаюкивают ее.
— Ты слышишь? — спросил я ее, слегка приподымаясь, чтобы лучше расслышать.
— Что, Федерико идет?
— Нет, послушай.
Мы стали слушать, глядя на сад.
Сад превратился в туманную фиолетовую массу, еще прорезанную темным сверканием бассейна. Полоса света все еще держалась на краю неба. Это была широкая, трехцветная лента: кровавая внизу, затем оранжевая и, наконец, зеленая — цвета умирающего растения. В тишине сумерек раздавался чистый и сильный голос, подобный переливам флейты.
Пел соловей.
— Он на иве, — шепнула мне Джулиана.
Мы оба слушали, глядя на последнюю полосу, которая бледнела под неосязаемым пеплом вечера. Душа моя насторожилась, словно от этой песни ожидая какого-то откровения любви. Что испытывала в это время, рядом со мной, бедная Джулиана? Какой вершины скорби достигла ее истомленная душа?
Соловей пел. Сначала это был словно взрыв мелодического ликования, струи легких трелей, которые упали в воздух, звеня, как жемчужины, подскакивающие на клавишах гармоники. Наступила пауза. Раздался колоратурный пассаж, легкий-легкий, необыкновенно продолжительный, как бы для того, чтобы испытать свои силы, дать выход своей отваге, бросить вызов неведомому сопернику. Вторая пауза. Тема из трех нот, звучащая как вопрос, прошла сквозь цепь легких вариаций, пять или шесть раз повторив свой маленький вопрос, модулируя словно на тонкой тростниковой флейте или на свирели пастуха. Третья пауза. Песня приняла элегический характер, перешла в минорный лад, сделалась сладостной, как вздох, слабой, как стенание, выразила тоску одинокого влюбленного, истому желания, несбывшуюся мечту; прозвучала последняя жалоба, внезапная, острая, как вопль отчаяния, и затихла. Опять пауза, более значительная. И вдруг раздались новые звуки, которые, казалось, не могли исходить из того же горла, такие они были покорные, робкие, жалобные, так походили они на щебетание новорожденных птенцов, на чириканье воробушка; потом, с поразительной быстротой, этот наивный напев перешел в стремительный, все ускоряющийся поток звуков, которые сверкнули воздушными трелями, полились самыми смелыми пассажами, затихли, снова выросли и поднялись к горным вершинам. Певец опьянялся своей песнью. Делая паузы, такие короткие, что звуки, казалось, не успевали потухнуть, он изливал свой экстаз в бесконечно меняющихся мелодиях, страстных и нежных, покорных и ликующих, легких и многозначительных, прерываемых то слабыми стонами и жалобными возгласами, то внезапными лирическими порывами и страстными призывами. Казалось, что и сад прислушивался к этой песне, что небо склонилось над тоскующим деревом, на вершине которого скрытый от взоров поэт изливал эти потоки поэзии. Чаща цветов дышала глубоко, но безмолвно. Желтая полоса света еще блестела на западном краю неба; и этот прощальный взгляд дня был грустный, почти зловещий. Блеснула звезда, живая и трепетная, как капля сверкающей росы.
— Завтра! — прошептал я, бессознательно отвечая на невысказанный мною вопрос этим словом, содержащим для меня столько обещаний.
Чтобы слушать, мы приподнялись немного и некоторое время оставались в таком положении; и вдруг я почувствовал, как голова Джулианы тяжело, словно неодушевленный предмет, упала мне на плечо.
— Джулиана! — крикнул я в ужасе. — Джулиана!
И от моего движения голова Джулианы откинулась назад, тяжело, как неодушевленный предмет.
— Джулиана!
Она не слышала. Я увидел мертвенную бледность ее лица, которое освещали последние, желтоватые лучи, проникавшие с балкона, и странная мысль пронизала меня. Вне себя от ужаса, я положил неподвижную Джулиану на спинку кресла и, не переставая звать ее по имени, принялся судорожными пальцами расстегивать ее платье на груди, торопясь послушать сердце.
И вдруг я услышал веселый голос моего брата:
— Голубки, где же вы?
X
Сознание скоро вернулось к Джулиане. Как только она почувствовала, что может держаться на ногах, она пожелала тотчас же сесть в экипаж и вернуться в Бадиолу.
И вот, укутанная нашими пледами, съежившись, молча сидела она на своем месте. Мы с братом время от времени поглядывали друг на друга в беспокойстве. Кучер погонял лошадей. И частый топот лошадиных копыт звучно раздавался по дороге, окаймленной кустами, которые там и сям были покрыты цветами. В этот мягкий апрельский вечер небо было безоблачным.
То и дело мы с Федерико обращались к ней с вопросом:
— Как ты себя чувствуешь, Джулиана?
Она отвечала:
— Ничего… немного лучше.
Тебе холодно?
— Да… немного. — Она отвечала с явным усилием. Казалось, наши вопросы раздражали ее, и, когда Федерико во что бы то ни стало хотел завязать разговор, она сказала: — Прости, Федерико… Мне трудно говорить.
Верх экипажа был поднят, и Джулиана сидела в темноте, закутанная и неподвижная. Я то и дело наклонялся к ней, чтобы заглянуть ей в лицо, думая, что она заснула, или боясь, как бы она снова не упала в обморок. И каждый раз я испытывал то же чувство ужаса, видя, как ее широко открытые глаза смотрят в одну точку.
Наступило долгое молчание; мы с Федерико тоже замолкли. Мне казалось, что лошади бегут недостаточно быстро; я готов был приказать кучеру заставить их мчаться галопом.
— Погоняй, Джованни.
Было около десяти часов, когда мы приехали в Бадиолу. Моя мать дожидалась нас, встревоженная нашим опозданием. Увидя Джулиану в таком состоянии, она сказала:
— Я так и думала, что эта тряска повредит тебе.
Джулиана хотела ее успокоить:
— Ничего, мама… Ты увидишь, завтра я буду вполне здорова. Я немного утомлена…
Но, увидя ее при свете лампы, моя мать в ужасе воскликнула:
— Боже мой, Боже мой! На тебя страшно смотреть!.. Ты едва стоишь на ногах… Эдит, Кристина, скорее, скорее, идите согреть ей постель… Иди сюда, Туллио, отнесем ее наверх…
— Да нет же, нет, — противилась Джулиана. — Не пугайся, мама… это пустяки…
— Я сейчас же съезжу в Тусси за врачом, — предложил Федерико. — Через полчаса я буду здесь.
— Не надо, Федерико, не надо! — крикнула Джулиана с каким-то отчаянием в голосе. — Я не хочу. Врач ничего не может сделать. Я сама знаю, что мне нужно принять. У меня все есть, наверху. Пойдем, мама. Боже мой! Как скоро вы начинаете волноваться! Пойдем, пойдем…
И казалось, она сразу обрела силу. Несколько шагов она сделала без посторонней помощи. На лестнице мы с матерью поддерживали ее. В комнате у нее началась судорожная рвота, продолжавшаяся несколько минут. Женщины начали раздевать ее.
— Уходи, Туллио, уходи, — просила она меня. — Ты после зайдешь ко мне. Здесь пока останется мама. Не волнуйся…
Я вышел и в соседней комнате, сидя на диване, стал ждать. Я слышал, как за стеной суетились горничные; нетерпение терзало меня. «Когда я смогу войти? Когда смогу я остаться с ней наедине? Я спать не буду: всю ночь просижу у ее изголовья. Быть может, через несколько часов она успокоится, почувствует себя хорошо. Я буду гладить ее волосы, и, может быть, мне удастся ее усыпить. Кто знает! Через некоторое время, в полусне, она скажет: „Приди ко мне!“» У меня была странная вера в могущество моих ласк. Я еще надеялся, что эта ночь завершится сладостным концом. И как всегда, среди томительной тревоги, которую мне причиняла мысль о страданиях Джулианы, вырисовывался чувственный образ, мало-помалу превратившийся в яркое и длительное видение. «Бледная, как ее рубашка, при свете лампады, горящей за занавесями алькова, она пробуждается от первого, краткого сна, глядит на меня полуоткрытыми томными глазами и шепчет:
— Ложись и ты спать…»
Вошел Федерико.
— Ну, что? — произнес он сердечно. — По-видимому, все благополучно. Я только что на лестнице говорил с мисс Эдит. Ты не сойдешь вниз закусить? Там приготовлено…
— Нет, у меня сейчас нет аппетита. Может быть, потом… Я жду, что меня позовут.
— Так я пойду, если я тебе не нужен.
— Иди, Федерико. Я сойду потом. Благодарю тебя.
Я проводил взглядом его, когда он удалялся. И снова мой дорогой брат внушил мне надежду, снова отлегло от сердца.
Прошло минуты три. Часы с маятником, висевшие против меня на стене, отмерили их своим тиканьем. Стрелки показывали три четверти одиннадцатого.
Когда я встал в нетерпении, собираясь идти к Джулиане, в комнату вошла моя мать и, взволнованная, тихо сказала:
— Она успокоилась. Теперь ей необходим отдых. Бедная!
— Я могу зайти? — спросил я.
— Да, зайди; но дай ей отдохнуть.
Когда я собрался выйти, она окликнула меня:
— Туллио!
— Что, мама!
Она, по-видимому, колебалась.
— Скажи… С тех пор как была операция, ты говорил с врачом?
— Да, случалось… А что?
— Он предупредил тебя об опасности… — она замялась, — об опасности, которая грозит Джулиане в случае новых родов?
Я не говорил с врачом и теперь не знал, что ответить.
В смущении я повторил:
— А что?
Она все еще колебалась.
— Да разве ты не заметил, что Джулиана беременна?
Я был поражен, как ударом молота в грудь, и в первую минуту не понял, в чем дело.
— Беременна! — прошептал я.
Моя мать взяла меня за руки.
— Так что же, Туллио?
— Я не знал…
— Ты пугаешь меня. Значит, доктор…
— Да, доктор…
— Иди сюда, Туллио. Присядь.
И она усадила меня на диван. Испуганно смотрела на меня, ожидая, чтобы я начал говорить. Хотя она находилась перед моими глазами, несколько минут я не видел ее. Внезапный яркий свет озарил мою душу, и передо мной предстала драма.
Кто дал мне силу для борьбы? Кто сохранил мне рассудок? Может быть, в самом избытке ужаса и страдания я нашел опору героическому чувству, которое спасло меня.
Как только чувства вернулись ко мне, как только я смог воспринимать внешние предметы и увидел перед собой мать, глядевшую на меня пристально и тревожно, я понял, что прежде всего нужно успокоить ее.
Я сказал ей:
— Я не знал… Джулиана ничего не говорила мне. Я ничего не заметил… Это неожиданность… Правда, доктор говорил мне об известной опасности… Вот почему эта весть произвела на меня такое впечатление… Ты ведь знаешь, Джулиана так слаба теперь… Но, собственно говоря, врач не говорил о чем-нибудь очень серьезном; почему бы, после удачной операции… Посмотрим. Мы позовем его к нам, спросим его…
— Да, да, это необходимо.
— Но ты, мама, в этом уверена? Джулиана тебе призналась? Или просто…
— Я заметила это по обычным признакам. Тут не может быть ошибки. Еще два-три дня тому назад Джулиана отрицала или, по крайней мере, говорила, что не уверена… Зная твою мнительность, она просила меня не говорить тебе пока ничего. Но я захотела предупредить тебя… Ведь ты знаешь Джулиану, она так мало внимания обращает на свое здоровье. Ты заметил, что здесь ей, вместо того чтобы делаться лучше, становится с каждым днем все хуже и хуже; ведь раньше ей достаточно было прожить неделю в деревне, чтобы расцвести. Ты помнишь?
— Да, в самом деле.
— В подобных случаях предосторожность не может быть излишней. Тебе следует немедленно написать об этом доктору Вебести.
— Хорошо, сейчас.
И, чувствуя, что я больше не в состоянии владеть собой, я поднялся и сказал:
— Я иду к Джулиане.
Иди, но дай ей отдохнуть сегодня, не разговаривай с ней. Я схожу вниз, а потом вернусь к вам.
— Спасибо, мама.
И я прикоснулся губами к ее лбу.
— Дорогой мой сын! — прошептала она, удаляясь.
На пороге расположенной напротив двери я обернулся; и я видел, как вышла из комнаты эта нежная женщина, еще не согбенная годами, такая благородная в своей черной одежде.
Мной овладело неописуемое чувство, похожее на то, какое, вероятно, я испытал бы, если бы молния ударила в мой дом. Все рушилось, падало во мне, вокруг меня неудержимо…
XI
Кому не приходилось слышать от людей, испытавших какое-нибудь несчастье, фразы: «В один час я прожил десять лет»? Такое ощущение необъяснимо, а между тем я его понимаю. Разве не пережил я больше десяти лет в те немногие минуты моего, почти спокойного с внешней стороны, разговора с матерью? Ускорение душевной жизни — это самое поразительное и страшное явление на свете.
Что же мне теперь делать? Безумное желание охватывало меня — бежать куда глаза глядят, в эту же ночь, или запереться в своих комнатах, чтобы наедине с самим собой созерцать свое крушение, постичь его во всей его полноте. Но мне удалось побороть себя. Благородство моей души проявилось в эту ночь. Мне удалось освободить самую мужественную часть своей души от оков невыносимого страдания. И я думал: «Необходимо, чтобы ни моя мать, ни мой брат, никто в этом доме не нашел ничего странного, необъяснимого в моем поведении».
У порога двери в комнату Джулианы я остановился, будучи не в силах подавить охватившую меня физическую дрожь. Услышав в коридоре шаги, я сделал усилие и вошел.
Мисс Эдит на цыпочках выходила из алькова. Жестом она мне дала понять, чтобы я не шумел, и шепотом сказала:
— Засыпает.
И она ушла, тихо прикрыв за собою дверь.
Лампа, висевшая посреди свода, горела ровным и мягким светом. На одном стуле лежала бархатная накидка, на другом — черный атласный корсет, тот самый, который Джулиана в Виллалилле сняла во время моего краткого отсутствия; на третьем стуле лежало серое платье, то платье, которое она носила с таким изяществом во время прогулки среди нежных цветов сирени. Вид этих вещей так взволновал меня, что мною снова овладело безумное желание — бежать. Я подошел к алькову, раздвинул занавески; увидел постель, увидел темное пятно волос на подушке — лица не было видно; различил линии тела, прикрытого одеялом. И жестокая действительность, во всем своем отвратительном безобразии, предстала передо мной. «Она принадлежала другому, принимала его ласки и носит теперь в своем чреве его семя». И целый ряд неприятных образов встал перед моими душевными очами, которых я не мог закрыть. Это были образы не только того, что уже произошло, но также и того, что неминуемо должно было еще произойти. С неумолимой ясностью видел я перед собой Джулиану в будущем (моя Мечта, мой Идеал!), обезображенную огромным животом, беременную ребенком от любовника…
Можно ли себе представить более жестокую казнь? И все это была правда, все это было — в действительности.
Когда боль превосходит силы, человек инстинктивно ищет в сомнении минутного облегчения своего невыносимого страдания; он думает: «Может быть, я ошибаюсь; может быть, мое горе не таково, каким оно мне представляется; может быть, все это страдание безрассудно». И, чтобы продлить минуты сомнения, он направляет колеблющиеся мысли на более точное ознакомление с действительностью. Но я ни на одно мгновение не усомнился, ни одного мгновения не колебался. Невозможно выразить то, что происходило в моем необыкновенно прояснившемся сознании. Казалось, что в силу какого-то скрытого процесса, творившегося в темных тайниках моей души, все не замеченные доселе детали, связанные с тем ужасом, который вошел в мою жизнь, соединились вместе и образовали логическое, полное, согласованное, несокрушимое представление. Это представление поднялось в моем сознании с быстротой предмета, который, освободившись от связывавших его в глубине неведомых оков, всплывает на поверхность воды и уже больше не тонет. Все признаки, все доказательства предстали передо мной — одни за другими. Мне не приходилось делать никакого усилия, чтобы разыскать их, собрать, соединить. Незначительные, далекие факты осветились новым светом; обрывки недавно прожитых дней ярко окрасились. Необычайное отвращение Джулианы к цветам и запахам, своеобразное волнение, приступы тошноты, которые она с трудом скрывала, внезапная бледность, часто покрывавшая ее лицо, это странное, несходящее пятно между бровями, эта бесконечная усталость некоторых ее движений, страницы русской книги, отмеченные ногтем, наставления старика графу Безухову, последний вопрос маленькой княгини Лизы, тот жест, которым Джулиана взяла из моей руки книгу, затем сцена в Виллалилле, рыдания, непонятные слова, улыбки, эта почти мрачная страсть, судорожность движений, упоминания о смерти — все это сгруппировалось вокруг слов моей матери, которые врезались в мою душу.
Моя мать сказала: «Тут не может быть ошибки. Еще два-три дня тому назад Джулиана отрицала или, по крайней мере, говорила, что не уверена… Зная твою мнительность, она просила меня не говорить тебе ничего…» Истина не могла быть более ясной. Итак, отныне все это несомненно.
Я пришел в альков и приблизился к постели. Занавески упали за моей спиной; свет сделался более слабым. От волнения у меня перехватило дыхание, кровь остановилась в жилах, когда я подошел к изголовью и наклонился, чтобы ближе разглядеть голову Джулианы, почти скрытую одеялом. Я не знаю, что произошло бы, если бы она подняла голову и заговорила в этот момент.
Спала ли она? Только лоб, до бровей, был открыт.
Я простоял несколько минут на одном месте, прислушиваясь. Но спала ли она? Неподвижно лежала она на боку. Рот был закрыт одеялом, а дыхание не доносилось до моего слуха. Только лоб, до бровей, был открыт.
Как я должен был держать себя, если бы она заметила мое присутствие? Теперь было не время расспрашивать, разговаривать. Если бы она подозревала, что мне все известно, на какие крайности она могла бы решиться в эту ночь? Стало быть, мне пришлось бы симулировать беззаботную нежность, притворяться, будто я ничего не знаю, снова выражать ей те чувства, которые четыре часа тому назад, в Виллалилле, продиктовали мне сладостные слова: «Сегодня вечером, сегодня вечером, в твоей постели… Ты увидишь, как я обниму тебя. Ты заснешь, ты всю ночь проспишь на моей груди…»
Озираясь вокруг растерянным взглядом, я увидел на ковре маленькие блестящие туфли, а на спинке одного стула длинные серые шелковые чулки, муаровые подвязки и еще один предмет, очаровательный своим интимным изяществом. Всеми этими предметами еще так недавно наслаждались мои влюбленные глаза. И чувственная ревность охватила меня с таким бешенством, что я с трудом удержался, чтобы не броситься к Джулиане, не разбудить ее, не крикнуть ей безумных и жестоких слов, которые подсказывала мне внезапная ярость.
Шатаясь, вышел я из алькова. С ужасом подумал: «Что будет с нами?..»
Я собирался уйти. «Я спущусь вниз, скажу матери, что Джулиана спит, что ее сон спокоен; скажу ей, что и я нуждаюсь в отдыхе. Пойду в свою комнату. А завтра утром…» Но я стоял, как прикованный, не в силах переступить порога, во власти тысячи страхов. Снова вернулся я к алькову, почти невольно, как будто чувствуя на себе какой-то взгляд. Мне почудилось, что заколебались занавески. Но я ошибся. А между тем что-то, подобное магнетическому току, шло сквозь занавески и пронизывало меня, и я не мог противиться. Снова вошел в альков, весь дрожа.
Джулиана лежала все в том же положении. Спала ли она? Только лоб, до бровей, был открыт.
Сел у изголовья и стал ждать. Глядел на этот бледный как полотно лоб, нежный и чистый, как Святые Дары, лоб сестры, который столько раз благоговейно целовали мои губы, к которому столько раз прикасались губы моей матери.
Никакого следа осквернения не было на нем; по виду он оставался все тем же. Но ничто на свете не могло отныне смыть то пятно, которое в этой бледности видели глаза моей души.
Я вспомнил некоторые слова, произнесенные в миг последнего опьянения: «Я разбужу тебя, я прочту на твоем лице сны, которые тебе приснятся». И я продолжал вспоминать: «Она все время повторяла: „Да, да“». Я задавал себе вопрос: «Какой жизнью живет теперь ее душа? Каковы ее намерения? На что она решилась?» И я глядел на ее лоб. Я перестал видеть свои мучения; я старался представить себе ее боль, понять ее муку.
В самом деле, ее отчаяние было, вероятно, нечеловеческим; оно не давало ей ни минуты покоя, не было видно конца ему. Моя казнь была и ее казнью, и, быть может, для нее была еще более ужасная казнь. Там, в Виллалилле, в аллее, на скамье, в доме, она, наверное, почувствовала истину в моих словах, прочла ее на моем лице. Она поверила в мою безграничную любовь.
«…Ты была в моем доме, а я искал тебя далеко. О, скажи мне: разве это признание не стоит всех твоих слез? Разве ты не согласилась бы пролить еще больше слез за такое доказательство моей любви?
— Да, еще больше!..»
Так ответила она, так ответила вся ее душа голосом, казавшимся мне поистине божественным. «Да, еще больше!..»
Она согласилась бы пролить еще много слез, перенести еще новую муку за это признание! И, видя у своих ног влюбленного, как никогда раньше, человека, уже много лет потерянного и оплакиваемого, видя, как открывается перед ней новый, неведомый рай, она чувствовала себя недостойной, физически ощущала свою опороченность, принуждена была чувствовать мою голову на своем лоне, оплодотворенном семенем другого. Ах, как могло случиться, что ее слезы не ранили моего лица, что я мог их пить и не отравиться?
В одно мгновение я снова пережил весь наш день любви. Я снова увидел все выражения, даже самые неуловимые, появившиеся на лице Джулианы с момента нашего прибытия в Виллалиллу, — и понял их все. Внезапный свет озарил меня. «Ах, когда я говорил ей о завтрашнем дне, о будущем — какой ужас, вероятно, внушало ей слово „завтра“ в моих устах!» И я вспомнил наш краткий разговор на балконе, против кипариса. Она покорно, с легкой улыбкой, повторяла: «Умереть!» Она говорила о близком конце. Она спросила: «Что ты будешь делать, если я внезапно умру, если, например, я умру завтра?» Потом, в нашей комнате, она крикнула, прижимаясь ко мне: «Нет, нет, Туллио, не говори о будущем, думай о сегодня, о настоящем часе!» Разве не выдавали эти поступки, эти слова намерения умереть? Разве не указывали они на трагическую решимость? Было очевидно, что она решила покончить с собой, что она, может быть, убьет себя в эту самую ночь, не дожидаясь неизбежного завтра, так как не было для нее другого исхода.
Когда прошел ужас, внушенный мне мыслью о неизбежной опасности, я начал рассуждать сам с собой: «Что может повлечь более тяжкие последствия — смерть Джулианы или ее жизнь? Ввиду того что гибель неизбежна, пропасть бездонна, может быть, следует предпочесть внезапную катастрофу бесконечной длительности ужасной драмы». И мое воображение рисовало мне все перипетии родов Джулианы: я уже видел перед собой новое существо, которое вторгнется в мою жизнь, будет носить мое имя, сделается моим наследником, незаконно овладеет ласками моей матери, моих дочерей, моего брата. «Да, только смерть может прервать роковой бег этих событий. Но останется ли самоубийство тайной? Каким образом покончит с собой Джулиана? Если будет установлено, что она сама себя убила, что подумают моя мать, мой брат? Какой удар это был бы для моей матери! А Мария? А Наталья? И я, что сделаю я со своей жизнью?»
В самом деле, я не представлял себе своей жизни без Джулианы. Я любил это бедное существо, даже покрытое пятном позора. Если не считать того внезапного порыва ярости под влиянием чувственной ревности, я еще не питал к ней ни ревности, ни презрения. Мысль о мщении не приходила мне в голову. Напротив, я чувствовал к ней глубокое сострадание. С самого начала я принял на себя всю ответственность за ее падение. Гордое, благородное чувство воодушевило меня, возвысило меня. «Она сумела склонить голову под моими ударами, сумела страдать, сумела таить свою муку; она дала мне пример мужества, пример героического отречения. Теперь моя очередь, я должен отплатить ей, должен спасти ее во что бы то ни стало». Этим душевным подъемом, этим добрым чувством я был обязан ей.
Я внимательно поглядел на нее. Она лежала все в том же положении, неподвижно, с открытым лбом. «Спит ли она, — думал я, — быть может, она только притворяется, будто спит, для того чтобы устранить всякое подозрение, для того чтобы ее оставили одну? Если она действительно намерена не дожить до завтра, то она всеми силами старается теперь способствовать осуществлению этого намерения. Она симулирует сон. Если бы она в самом деле спала, то ее сон не мог бы быть таким спокойным, таким крепким — ведь у нее так возбуждены нервы. Вот я потревожу ее…» Но я колебался: «Быть может, однако, она в самом деле спит? Часто, после сильного нервного напряжения, несмотря на самое мучительное душевное состояние, нападает на человека сон, тяжелый, как обморок. О, хоть бы этот сон длился до утра, чтобы она встала освеженная и достаточно сильная для неизбежного объяснения между нами». Я пристально глядел на ее бледный как полотно лоб и, наклонившись слегка, заметил, что он становится влажным. Капля пота выступила над бровью, и эта капля вызвала во мне представление о том холодном поте, который сопровождает действие наркотических ядов. Внезапное подозрение пронизало меня: «Морфий!» Инстинктивно мой взгляд перенесся к ночному столику, по ту сторону постели, словно для того, чтобы найти на нем стеклянный флакон, отмеченный маленьким черным черепом, обычным символом смерти.
На столике стояли графин с водой, стакан, подсвечник; тут же лежали носовой платок ее и несколько шпилек, блестевших при свете лампы; больше не было ничего. Я быстро осмотрел весь альков. Смертельный страх сжимал мое сердце. «У Джулианы есть морфий, он всегда имеется у нее в небольшом количестве для впрыскиваний. Я уверен, что она задумала отравиться им. Куда она могла спрятать флакон?» Перед моими глазами стояла маленькая склянка, которую я однажды видел в руках Джулианы, склянка, отмеченная зловещей этикеткой, которую употребляют аптекари, чтобы обозначить яд. Возбужденное воображение шепнуло мне: «А что, если она уже выпила?.. Этот пот…» Я весь дрожал, сидя на стуле; и лихорадочные размышления проносились в моем мозгу. «Но когда же? Каким образом? Ее не оставляли одну. Достаточно одного мгновения, чтобы осушить флакон. Но, вероятно, была бы рвота… А этот приступ судорожной рвоты, недавно, как только она вошла в комнату? Заранее решив покончить с собой, она, быть может, держала морфий при себе. Весьма возможно, что она выпила его до приезда в Бадиолу, в коляске, в темноте. В самом деле, она не позволила Федерико съездить за врачом…» Я не знал хорошенько признаков отравления морфием. Бледный влажный лоб Джулианы, ее полная неподвижность пугали меня. Я собирался разбудить ее. «Но что, если я ошибаюсь? Если она проснется, что скажу я ей?» Мне казалось, что первое произнесенное ею слово, первый взгляд, которым мы обменяемся, наше первое обращение друг к другу произведут на меня неожиданное по своей силе впечатление; мне казалось, что я не смогу владеть собой, скрыть свое состояние и что она сразу, поглядев на меня, поймет, что я знаю все. И что тогда?
Я напряг свой слух, надеясь и в то же время боясь услышать шаги моей матери. Затем — я бы так не дрожал, приподымая саван, покрывающий лицо покойника, — я мало-помалу открыл лицо Джулианы.
Она раскрыла глаза.
— Ах, Туллио, это ты?
Она произнесла эти слова обычным голосом. И — что было для меня неожиданностью — я также мог говорить.
— Ты спала? — спросил я, избегая глядеть ей в глаза.
— Да, я заснула.
— Значит, я разбудил тебя… Прости… Я хотел открыть тебе рот… Я боялся, что тебе трудно дышать, что ты задохнешься под одеялами.
— Да, это правда. Мне теперь тепло, даже жарко. Сними с меня несколько одеял, прошу тебя.
Я встал, чтобы исполнить ее просьбу. Я не могу теперь определить то состояние моего сознания, которое сопровождало мои движения, припомнить слова, которые я произносил и слышал; все, что происходило тогда, было так естественно, словно ничто не изменилось, словно мы с Джулианой находились в неведении и безопасности, словно там, в глубине этого спокойного алькова, не таились — прелюбодеяние, обман, угрызения совести, ревность, страх, смерть, все ужасы человеческой души.
Она спросила меня:
— Теперь очень поздно?
— Нет, еще не пробило двенадцать.
— Мама пошла спать?
— Нет еще.
После минутного молчания:
— А ты… еще не идешь? Ты, вероятно, устал…
Я не находил ответа. Должен ли я ответить, что остаюсь? Просить ее позволить мне остаться? Повторить ей нежные слова, произнесенные мной на кресле, там, в Виллалилле, в нашей комнате? Но если бы я остался, как провел бы я эту ночь? Сидя на стуле, не смыкая глаз, или в постели, рядом с ней? Как я держал бы себя? Мог ли бы я притворяться до конца?
Она прибавила:
— Тебе лучше уйти, Туллио… сегодня… Мне больше ничего не надо; мне ничего не надо, только покоя. Если бы ты остался… было бы хуже. Тебе лучше уйти сегодня, Туллио.
— Но тебе может понадобиться…
— Нет. К тому же, на всякий случай, рядом спит Кристина.
— Я лягу тут, на кушетке, и лишь прикроюсь одеялом…
— Для чего тебе мучиться? Ты очень утомлен, это видно по лицу… Кроме того, если я буду знать, что ты здесь, я не засну. Пожалуйста, Туллио! Завтра утром, как только ты встанешь, зайдешь ко мне. Теперь мы оба нуждаемся в отдыхе, в полном отдыхе.
Ее голос был слаб и ласков; ничего необычного не слышалось в нем. Кроме настойчивого желания удалить меня, ничто не указывало на мрачную решимость. Она казалась измученной, но спокойной. То и дело она закрывала глаза, словно сон отягощал ее веки. Что делать? Оставить ее? Но именно спокойствие ее пугало меня. Ведь это спокойствие могло быть следствием твердой решимости. Что делать? В конце концов, даже мое присутствие ночью могло бы оказаться бесполезным. Она отлично могла бы осуществить свое намерение, подготовившись заранее, имея под руками средство. А это средство — в самом деле морфий? И где она спрятала флакон? Под подушкой? В ящике ночного столика? Как искать его? Для этого нужно повести все начистоту, прямо заявить ей: «Я знаю, что ты собираешься убить себя». Но что последует за этим? Уже нельзя будет скрывать остальное. И что за ночь будет после этого? Все эти колебания истощали мою энергию, изнуряли меня. Нервы мои ослабевали. Физическая усталость становилась все более и более тяжкой. Весь мой организм делался жертвой того крайнего изнеможения, когда все сознательные функции его почти прекращаются и движения перестают соответствовать друг другу. Я чувствовал себя неспособным дольше сдерживаться, бороться, действовать каким бы то ни было осмысленным образом. Сознание своей слабости, сознание неизбежности всего того, что происходило и еще произойдет, парализовало меня. Все мое существо, казалось, поразил внезапный удар. Я ощущал слепую потребность освободиться от последних, темных остатков сознания. И наконец вся моя тоска вылилась в одну отчаянную мысль: «Пусть будет, что будет, и для меня есть смерть».
— Да, Джулиана, — сказал я, — я тебя оставлю в покое. Спи. Мы увидимся завтра.
— Ты еле стоишь на ногах!
— Да, правда; я очень устал… Прощай! Покойной ночи!
— Ты меня не поцелуешь, Туллио?
Дрожь инстинктивного отвращения пронизала меня. Я колебался. В эту минуту вошла моя мать.
— Как? Ты проснулась? — воскликнула она.
— Да, но сейчас я опять засну.
— Я ходила взглянуть на девочек. Наталья не спала и тотчас же спросила меня: «Вернулась мама?» Она хотела прийти…
— Почему ты не скажешь Эдит, чтобы она принесла ее ко мне? Что, легла уже Эдит?
— Нет.
— Прощай, Джулиана, — вдруг произнес я, прерывая их разговор.
И я поспешно наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, которую она приблизила к моим губам, слегка приподнявшись на локтях.
— Прощай, мама, я пойду лягу, мне безумно хочется спать.
— А ты не хочешь закусить? Федерико ждет тебя внизу.
— Нет, мама, не хочу. Покойной ночи!
Я поцеловал ее также в щеку и тотчас же вышел, не бросив ни одного взгляда на Джулиану. Лишь только очутившись за порогом, я собрал остатки своих сил и пустился бежать к себе, боясь, что упаду раньше, чем доберусь до своей двери. Я бросился навзничь на постель. Меня мучило то состояние возбуждения, которое предшествует припадку рыданий, когда узел тоски готов распуститься и душевное напряжение ждет облегчения. Но возбуждение все продолжалось, и слезы не приходили. Мука становилась невыносимой. Во всем своем теле я ощущал огромную тяжесть, словно мои кости и мускулы превратились в плотный свинец. А мозг мой продолжал еще работать! И сознание мое все еще бодрствовало. «Нет, я не должен был оставить ее, я не должен был согласиться уйти таким образом. Без сомнения, как только моя мать удалится, она убьет себя. Ах, этот звук ее голоса, когда она высказала желание увидеть Наталью!..» И внезапно у меня началась галлюцинация. Моя мать вышла из комнаты. Джулиана приподымается, садится на постели и прислушивается. Затем, удостоверившись наконец, что она одна, вынимает из ящика ночного столика флакон с морфием; ни одного мгновения не колеблется; решительным движением, одним духом, осушает его до дна; снова прикрывается одеялом и, лежа на спине, ждет… Видение трупа достигло такой яркости, что я как безумный вскочил на ноги, несколько раз прошелся по комнате, спотыкаясь о мебель, цепляясь за ковры, дико жестикулируя. Наконец, открыл окно.
Ночь была тихая, воздух был полон монотонного и непрерывного кваканья лягушек. На небе трепетали звезды.
Прямо передо мною ярко сверкала Большая Медведица. Время медленно текло.
Я простоял несколько минут у окна в напряженном ожидании, устремив свой взор на большое созвездие; моему расстроенному зрению казалось, что созвездие приближается ко мне. Я сам не знал, чего мне ждать. Мое сознание путалось. Странное чувство пустоты неизмеримого неба охватило меня. И вдруг, в этой тишине, словно под влиянием какого-то скрытого процесса, происшедшего в бессознательной глубине моего существа, возник не вполне еще понятый вопрос: «Что вы сделали со мной!» И видение трупа, исчезнувшее на некоторое время, снова предстало передо мной.
Охвативший меня ужас был так велик, что я, не отдавая себе отчета в своих движениях, обернулся, стремительно вышел и направился к комнате Джулианы. В коридоре я встретил мисс Эдит.
— Откуда вы, Эдит? — спросил я ее.
Я заметил, что мой вид поразил ее.
Я отнесла Наталью к синьоре, которая хотела ее видеть; но пришлось ее там оставить. Невозможно было уговорить ее вернуться к себе в постель. Она так плакала, что синьора согласилась оставить ее у себя. Надеюсь, что Мария не проснется теперь…
— Так, значит…
Сердце билось во мне с такой силой, что я не мог сразу докончить вопроса.
— Так, значит, Наталья осталась в постели матери?
— Да.
— А Мария… Пойдемте к Марии.
Я задыхался от волнения. На эту ночь Джулиана была спасена! Она не могла подумать о смерти в эту ночь, когда рядом с ней лежала девочка. Благодаря какому-то чуду нежный каприз Натальи спас ее мать. «Дорогая! Дорогая!» Прежде чем взглянуть на спящую Марию, я бросил взгляд на пустую кроватку, в которой еще сохранилось маленькое углубление. Странное желание возникло во мне — поцеловать подушку, пощупать, сохранилась ли теплота в углублении постели. Присутствие Эдит смущало меня. Я обернулся к Марии, наклонился к ней, сдерживая дыхание, долго глядел на нее, отмечая одну за другой знакомые черты сходства со мною. Она спала на боку, запрокинув головку, так что ее шея до приподнятого подбородка была открыта. Ее зубы, маленькие, как зернышки риса, сверкали в полуоткрытом рту. Ресницы, длинные, как у ее матери, разливали из глубины глаз тень, которая касалась края щек. Хрупкость драгоценного цветка, необыкновенное изящество отличали эти детские формы, в которых — я ощущал это — течет моя утонченная кровь.
Никогда еще с тех пор, как жили эти два существа, никогда еще я не испытывал к ним такого глубокого, такого сладостного и грустного чувства.
С трудом отвел я глаза от Марии. Я хотел бы сесть между этих кроваток и, положив голову на край той, которая была пуста, ждать завтра.
— Покойной ночи, Эдит, — сказал я, выходя, и голос мой дрожал, на этот раз от волнения иного рода.
Придя в свою комнату, я снова бросился навзничь на постель. И наконец разразился отчаянными рыданиями.
XII
Когда я проснулся от тяжелого, как будто животного сна, который посреди ночи внезапно одолел меня, мне стоило большого труда вернуться к ясному осознанию действительности.
Немного спустя перед моей душой, освободившейся от ночного возбуждения, предстала действительность, холодная, неприкрашенная, неотвратимая. Что были мои последние страдания в сравнении с тем ужасом, который тогда напал на меня? Нужно было жить! У меня было такое чувство, словно кто-то подносит мне полную чашу и говорит: «Если ты хочешь жить сегодня, если ты хочешь жить, то ты должен излить сюда, до последней капли, кровь твоего сердца». Отвращение, необъяснимый ужас пронизывали меня. И все же нужно было жить, нужно было принять жизнь и в это утро! И сверх того, нужно было действовать.
Сравнение, которое я сделал между моим нынешним пробуждением и тем, о котором я мечтал и на которое надеялся накануне в Виллалилле, усилило мои страдания. Я думал: «Могу ли я примириться со своим положением? Могу ли я подняться с постели, одеться, выйти из этой комнаты, вновь увидеть Джулиану, говорить с ней, продолжать притворство перед моей матерью, ожидать часа, удобного для решительного объяснения, установить в этом объяснении условия нашей будущей жизни? Нет, это невозможно. Так что же? Сразу прикончить свои муки… Освободиться, убежать… Нет другого исхода». И, соображая, как легко этого достигнуть, представляя себе молниеносность выстрела, мгновенное действие свинца, мрак, который наступит тотчас же, я во всем теле испытывал какое-то странное напряжение, мучительное, но не лишенное чувства облегчения и даже сладости. «Нет другого исхода». И хотя меня мучила жажда узнать, что будет дальше, я с облегчением думал, что не знал бы тогда ни о чем, что эта жажда прекратилась бы сразу, словом, что наступил бы конец.
Я услышал стук в дверь; раздался голос моего брата:
— Туллио, ты еще не встал? Уже девять. Можно войти?
— Войди, Федерико.
Он вошел.
— Ты знаешь, уже поздно; теперь десятый час.
— Я поздно заснул и чувствую себя крайне утомленным.
— Как ты вообще себя чувствуешь?
— Ничего.
— Мама встала. Она мне сказала, что Джулиана чувствует себя довольно хорошо. Хочешь, я раскрою окно? Чудное утро!
Он распахнул окно. Поток свежего воздуха ворвался в комнату; занавески надулись, как два паруса; сквозь оконные рамы виднелось лазурное небо.
— Видишь?
Яркий свет открыл, вероятно, на моем лице следы моих мучений, потому что брат прибавил:
— Да и ты тоже плохо провел эту ночь?
— Кажется, меня слегка лихорадило.
Федерико смотрел на меня своими ясными голубыми глазами; и в этот момент мне показалось, что на мою душу легла вся тяжесть предстоящей лжи и притворства. О, если бы он знал!
Но, как всегда, его присутствие изгнало из меня уже овладевшее мною малодушие. Я почувствовал, как после глотка живительного лекарства, прилив вызванной им энергии. «Как он держал бы себя в моем положении?» — думал я. Мое прошлое, мое воспитание, самая сущность моей натуры не допускали никакого сопоставления с ним; однако одно было несомненно: в случае несчастья, подобного моему, или какого-либо иного он держал бы себя как человек сильный и благородный, он героически встретил бы страдание, предпочел бы скорее пожертвовать собой, чем другими.
— Дай я посмотрю… — сказал он, подходя ко мне.
И он прикоснулся ладонью к моему лбу, пощупал мой пульс.
— По-моему, теперь у тебя нет жара. Но какой нервный пульс!
— Ну, я встану, Федерико, уже поздно.
— Сегодня, после полудня, я отправляюсь в Ассорский лес. Если хочешь поехать со мной, я велю оседлать для тебя Орланда. Ты помнишь этот лес? Жаль, что Джулиана чувствует себя плохо! А то мы взяли бы ее с собой… Она посмотрела бы, как обжигают уголь. — Когда он произнес имя Джулианы, его голос сделался более ласковым, более нежным; я сказал бы — более братским. О, если бы он знал! — Будь здоров, Туллио. Пойду работать. Когда ты начнешь помогать мне?
— Сегодня же, завтра, когда захочешь.
Он засмеялся.
— Что за пыл! Ладно, я погляжу, каков ты за работой! Будь здоров, Туллио.
И он вышел своей бодрой и твердой походкой, так как он всегда был во власти призыва, начертанного на круге солнечных часов: Hora est benefaciendi.
XIII
Было десять часов, когда я вышел. Яркий свет апрельского утра, вливавшийся в Бадиолу через окна и раскрытые настежь балконные двери, смущал меня. Как при таком свете сохранить свою маску?
Я зашел к матери, прежде чем прийти к Джулиане.
— Ты поздно встал, — сказала она, увидев меня. — Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо.
— Ты что-то бледен.
— Кажется, у меня был небольшой озноб ночью, но теперь я себя чувствую хорошо.
— Ты уже видел Джулиану?
— Нет еще.
— Она собиралась встать, дорогая дочка. Говорит, что вполне хорошо себя чувствует. Но вид у нее…
— Я пойду к ней.
— Не следует откладывать письмо к доктору. Не слушай Джулианы, напиши сегодня же.
— Ты ей сказала… что я знаю?
— Да, я ей сказала, что ты знаешь.
— Я иду, мама.
Я оставил ее перед ее громадными зеркальными, продушенными ирисом шкафами, куда две служанки укладывали чудесное, только что выстиранное белье — богатство дома Эрмиль. Мария, в музыкальной комнате, брала уроки у мисс Эдит, и оттуда раздавались одна за другой быстрые и ровные гаммы. Прошел Пьетро, самый верный из слуг, седой, немного сгорбленный, неся большой поднос с хрусталем, который звенел, так как руки Пьетро дрожали от старости. На всей Бадиоле, залитой воздухом и светом, лежала печать спокойной радости. Все кругом было пропитано каким-то чувством уюта, словно тонкой и вечной улыбкой Пенатов.
Никогда еще это чувство, эта улыбка не проникали с такой силой в мою душу. Какой мир, какая тишина окружали позорную тайну, которую должны были хранить, не умирая от нее, я и Джулиана!
«Что же теперь?» — думал я, полный отчаяния, бродя по коридору, как заблудившийся странник, не будучи в состоянии направиться к тому месту, которое внушало мне страх, словно мое тело отказывалось повиноваться приказаниям воли. «Что же теперь? Она знает, что мне известно все. Всякое притворство между нами теряет отныне смысл. Необходимо взглянуть друг другу в лицо, заговорить об ужасном. Но невозможно, чтобы это выяснение произошло сегодня; трудно предвидеть все его последствия. И необходимо, теперь более, чем когда-либо, чтобы ничто в нашем поведении не показалось странным, необъяснимым моей матери, моему брату и другим обитателям дома. Мою тревогу вчера вечером, мои волнения, мою грусть можно объяснить тем, что меня беспокоят мысли о той опасности, которой подвергается Джулиана из-за своей беременности. Но в глазах других это беспокойство должно сделать меня более нежным, более заботливым по отношению к ней. Отныне я должен довести свою осторожность до крайности. Во что бы то ни стало я должен сегодня предотвратить всякую сцену между мной и Джулианой. Сегодня я должен избегать случая остаться с ней наедине. Но необходимо также, чтобы я как можно скорее дал ей понять, какое чувство определяет мое отношение к ней, какая цель руководит моим поведением. А что, если она продолжает упорствовать в своем желании покончить с собою? Что, если она лишь отложила на несколько часов исполнение своего намерения? Что, если она только ждет удобного момента?» Этот страх пресек мои колебания и заставил меня действовать. Я походил на тех восточных солдат, которых ударом плети гнали на битву.
Я направился в музыкальную комнату. Увидя меня, Мария прервала свои упражнения и подбежала ко мне, легкая и радостная, как к освободителю. Она обладала легкостью и изяществом окрыленных существ. Я поднял ее на руки, чтобы поцеловать.
— Ты возьмешь меня с собой? — спросила она. — Я устала. Уже целый час я сижу здесь с мисс Эдит… Я не могу больше. Возьми меня с собой. Let us take a walk before breakfast.[12]
— Куда?
— Where you please, it is the same to me.[13]
— Пойдем прежде к маме.
Вчера вы уезжали в Виллалиллу, а мы остались в Бадиоле. Это ты, ты не хотел взять нас с собой, мама была согласна. Злой! We should like to go there. Tell me, how you amused yourselves.[14]
Очаровательно, как птичка, щебетала она на этом, чужом ей языке. Это непрерывное щебетание сопровождало мою тоску все время, пока мы вместе шли к комнатам Джулианы. Подойдя к двери, я остановился в нерешительности, и Мария, постучав, крикнула:
— Мама!
Сама Джулиана открыла дверь, не подозревая о моем присутствии. Увидев меня, она вздрогнула, как будто перед ней стоял призрак, словно глазам ее представилось нечто страшное.
— Это ты? — прошептала она так тихо, что я едва расслышал, тогда как губы ее внезапно потеряли краску; неподвижно, как статуя, стояла она передо мной.
И мы на пороге пристально взглянули друг на друга; очи наших душ как бы впились друг в друга. Все кругом исчезло; все между нами было сказано, понято, решено в это одно мгновение.
Потом, что было потом? Я не знаю хорошенько, не помню. Помню только, что некоторое время мое, я бы сказал, прерывистое сознание воспринимало все, что происходило, как-то лихорадочно чередуясь с моментами полного затмения. Это явление напоминало ослабление волевого внимания у некоторых больных. Я терял способность внимания; я переставал видеть, слышать, воспринимать смысл слов; потом, через некоторое время, я снова приобретал эту способность, узнавал вокруг себя предметы и лица, сознание снова начинало действовать.
Джулиана села и взяла Наталью на колени. Я тоже сел, а Мария переходила от матери ко мне, от меня к матери, все время болтая, лаская сестру, обращаясь к нам с бесчисленными вопросами, на которые мы отвечали лишь кивком головы. Эта шумная болтовня заполняла наше молчание. В один из тех моментов, когда я слышал, Мария сказала сестре:
— Ты ночью спала с мамой, правда?
— Да, — ответила Наталья, — потому что я маленькая.
— Ну, так знай, что следующая ночь уже моя. Не правда ли, мама? Возьми меня к себе в постель на эту ночь.
Джулиана молчала, не улыбалась, вся ушла в себя. Поскольку Наталья сидела у нее на коленях, повернувшись к ней спиной, то Джулиана держала девочку, обняв ее за талию; и ее скрещенные руки лежали на коленях девочки, белее, чем платьице, на котором они покоились, такие худые и скорбные, что они одни раскрывали целый мир страданий. Голова Натальи касалась подбородка матери, и Джулиана, склонившись над дочерью, казалось, прижимала свои губы к ее кудрям; когда я смотрел на нее, я не видел нижней части ее лица, не видел выражения ее губ. Не встречал я также ее взгляда. Но каждый раз я видел опущенные, слегка покрасневшие веки, которые смущали мою душу, словно сквозь них просвечивал остановившийся взгляд зрачка.
Ждала ли она, чтобы я сказал ей что-нибудь? Или, может быть, с ее губ, скрытых от меня, готовы были сорваться невысказанные слова?
Когда наконец мне удалось усилием воли выйти из этого пассивного состояния, в котором чередовались моменты необычайной ясности и полного затмения, я сказал — и при этом, помнится мне, тон моего голоса был такой, словно я продолжал начатый разговор, словно я лишь прибавил несколько слов к уже сказанным, — я сказал тихо:
— Мама желает, чтобы я известил доктора Вебести. Я обещал написать ему. Сейчас напишу.
Джулиана не подняла ресниц и продолжала молчать. Мария, в своем глубоком неведении, взглянула со страхом на мать, потом на меня.
Я встал, собираясь выйти.
— Сегодня, после полудня, мы с Федерико едем в Ассорский лес. Увидимся ли мы вечером, когда я вернусь?
Поскольку она не отвечала, я повторил ей вопрос голосом, в котором заключалось все, не выраженное мною:
— Увидимся ли мы вечером, когда я вернусь?
И губы ее сквозь кудри Натальи прошептали:
— Да.
XIV
В разгаре сменяющих друг друга и противоречивых волнений, во время первых приступов страдания, под угрозой неминуемой опасности я еще не в силах был сосредоточить свои мысли на том, Другом. К тому же с самого начала у меня не было и тени сомнения относительно верности моего прежнего подозрения. В моей душе Другой тотчас же принял образ Филиппо Арборио, и при первом приступе плотской ревности, охватившей меня там, в алькове, отталкивающий образ этого человека соединялся с образом Джулианы в целом ряде ужасных видений.
Теперь, в то время как мы с Федерико ехали верхом по направлению к лесу вдоль извилистой реки, на которую я смотрел тогда, в скорбный день Святой Субботы, Другой тоже ехал с нами. Между моим братом и мною вставал образ Филиппо Арборио, оживленный и так живо воссозданный моей ненавистью, что, представляя его, я реально испытывал то нервное физическое раздражение, которое несколько походило на неудержимую дрожь, не раз охватывавшую меня во время поединка, перед противником, стоявшим уже без рубашки, в ожидании сигнала к атаке.
Присутствие возле меня моего брата странным образом усиливало мое страдание. В сравнении с Федерико фигура этого человека, такая худая, такая нервная, такая женственная, еще более умалялась, становилась жалкой, и весь облик его начинал казаться мне таким презренным, таким гнусным. Под влиянием нового идеала силы и мужской простоты, воплощенного в брате, я не только ненавидел, но и презирал это сложное, двойственное существо, которое, однако, было со мной одной породы и имело общие со мной некоторые особенности мозговой конструкции, как это доказывали его художественные произведения. Я представлял себе его, подобно одному из его литературных героев, пораженным самой страшной мозговой болезнью, хитрым, двуличным, жестоко любопытным, с опустошенной душой, привыкшим обращать — благодаря привычке к анализу и беспощадной иронии — самые горячие, самые непосредственные душевные порывы в ясные и холодные выкладки, привыкшим смотреть на всякое человеческое существо как на объект психологической спекуляции, неспособным на любовь, на великодушный поступок, на самоотречение, на жертву, погрязшим во лжи, гадливым, сластолюбивым, циничным, подлым.
Таков был человек, соблазнивший Джулиану, обладавший ею; конечно, он не любил ее. Разве его манерность не сказывалась даже в посвящении, написанном на обложке «Тайны», этом напыщенном посвящении, единственном известном мне документе, относящемся к прошлым отношениям этого романиста и моей жены? Конечно, она была в его руках предметом сладострастия, и только. Взять приступом «Башню из слоновой кости», развратить женщину, считавшуюся в обществе непорочной, испытать метод соблазна над столь редким объектом — это было трудное, но весьма заманчивое предприятие, во всех отношениях достойное утонченного художника, психолога, написавшего «Рьяную католичку» и «Анжелику Дони».
По мере того как я углублялся в свои размышления, факты вставали передо мной во всей их неприкрытой, гнусной реальности. Конечно, Филиппо Арборио встретился с Джулианой в один из тех периодов, когда про женщину говорят, что она «духовная», что она вынесла долгое воздержание, что ее волнуют поэтические настроения, неясные желания, смутная истома — переживания, являющиеся лишь масками, под которыми скрываются низменные влечения физического голода. Филиппо Арборио, будучи опытным человеком, угадал это особенное физиологическое состояние женщины, которой хотел овладеть; он воспользовался самым обычным и самым верным приемом, а именно: он говорил об идеале, о высших сферах, о мистическом единении, и в то же время руки его стремились снять покров с иных тайн; одним словом, он умело соединил чистые потоки красноречия с деликатным делом обладания. А Джулиана, «Turris Eburnea», величественная, молчаливая, существо, состоявшее из чистого золота и стали, Единственная, поверила этой старой игре, поддалась этому старому обману; и она, даже она, подчинилась этому старому закону женской неустойчивости. И сентиментальный дуэт закончился плотской связью и, к несчастью, оплодотворением…
Ужасный сарказм разрывал на части мою душу. Мне казалось, что не во рту, а в душе моей пробегает конвульсия, точно вызванная отравой, которая влечет смерть, сопровождающуюся судорожным смехом.
Я пришпорил лошадь и пустил ее в галоп по берегу реки.
Берег был очень опасный, очень узкий в подмытых водой заливчиках, местами обвалившийся, местами загражденный ветвями больших кривых деревьев, местами пересеченный громадными корнями на поверхности земли. У меня было полное сознание опасности, которой я подвергался; и вместо того чтобы сдерживать лошадь, я погонял ее вперед, не с намерением встретить смерть, но найти в этом тревожном ощущении средство заглушить невыносимую муку. Я уже был знаком с проявлением подобного безумия. Десять лет тому назад, когда, будучи еще очень молодым, я служил в посольстве в Константинополе, чтобы отвлечься от припадков тоски, вызванных воспоминаниями о недавно пережитой страсти, я в лунные ночи ездил верхом на одно из мусульманских кладбищ с частыми могилами, скакал по скользким гладким камням, не раз подвергаясь опасности свалиться и убиться насмерть. Смерть, сидя за моей спиной, отгоняла всякие другие заботы.
— Туллио! Туллио! Остановись! — кричал мне издали Федерико. — Остановись!
Я не слушал его. Не раз каким-то чудом я избегал удара головой о какую-нибудь свисавшую ветвь. Не раз каким-то чудом я мешал лошади споткнуться о пни. Не раз, в узких местах, я считал неизбежным падение в реку, сверкающую внизу подо мною. Но, услыхав за собой другой галоп и заметив, что Федерико скачет вслед за мною, я испугался за него, резко натянул повод и остановил бедное животное, которое стало на дыбы, точно собираясь прыгнуть в реку, и потом снова опустилось. Я был цел и невредим.
— Что ты, с ума сошел? — крикнул мне Федерико, нагоняя меня, бледный как смерть.
— Я испугал тебя? Прости. Я думал, что здесь не опасно. Я просто хотел испытать лошадь. А потом я не мог больше ее сдержать. Она не особенно повинуется узде…
— Кто не повинуется! Орланд?
— А по-твоему, нет?
Он посмотрел на меня пристально, с выражением беспокойства. Я пытался улыбнуться. Его необычная бледность вызвала во мне жалость и нежность.
— Не понимаю, как ты не разбил себе головы об одно из этих деревьев; не понимаю, как это ты не свалился вниз…
— А ты?
Чтобы догнать меня, он подвергся такой же опасности, может быть, еще большей, так как его лошадь была тяжелее, и ему пришлось пустить ее во весь карьер, чтобы вовремя догнать меня. Мы оба оглянулись на оставшийся за нами путь.
— Это положительно чудо, — сказал он. — Уцелеть в этом месте было почти невозможно. Видишь?
Мы оба смотрели на смертоносную реку, текущую у наших ног. Глубокий, сверкающий, быстрый, полный водоворотов и пропастей ручей Ассоро тихо бежал между меловыми извилинами, и эта тишина делала его еще более грозным.
Пейзаж гармонировал с коварным и грозным видом реки. Полуденное небо было подернуто дымкой и своим бледным, переливчатым отсветом озаряло красноватый кустарник, еще не одетый в весенний наряд. Мертвые листья там и сям перемешивались с зеленеющими листочками, сухие ветви с молодыми побегами, трупы деревьев с новорожденными растениями в каком-то непроницаемом аллегорическом сплетении. Над этим полным бурной жизни потоком и над этим еще не ожившим кустарником белело небо, томное, умирающее.
Неожиданное падение — и я не думал бы больше, не страдал, не должен был нести бремя моего жалкого тела. Но, быть может, вместе с собой я увлек бы в пропасть и своего брата эту благородную жизнь, Человека в истинном смысле этого слова. Я спасся чудом; рядом спасся и он. Мое безумие подвергло его страшному риску. Вместе с ним исчез бы миг красоты и блага. Неужели мне суждено причинять вред тем, кто любит меня?
Я взглянул на Федерико. Он был задумчив и серьезен. Я не решился обратиться к нему с расспросами, но почувствовал горькое раскаяние, что огорчил его. О чем он думал? Какая мысль пробудила в нем волнение? Быть может, он догадался, что я скрывал невысказанное страдание и что только жало какой-то неотвязной мысли толкнуло меня на смертельную скачку?
Мы ехали друг за другом по берегу шагом. Потом свернули на тропинку, протоптанную в кустарнике; так как тропинка была довольно широка, мы снова поехали рядом, а лошади наши фыркали, облизывая свои морды, словно передавая друг другу тайны, и смешивали пену со своих удил.
Посматривая время от времени на Федерико и видя его все еще серьезным, я думал: «Разумеется, если я открою ему всю правду, он не поверит мне. Он не мог бы поверить в падение Джулианы, не мог бы поверить, что сестра обесчещена. Я затрудняюсь определить, какое чувство сильнее: любовь его к Джулиане или к матери. Разве у него на столе не стояли портреты нашей бедной Костанцы и Джулианы, соединенные в одном диптихе, для общего поклонения им? Еще сегодня утром как нежно звучал его голос, называя ее по имени!» И в эту минуту, как бы по контрасту, тот гад показался мне еще более гнусным. Его фигура, которую я как-то видел в раздевальном отделении фехтовальной залы, словно стала в позу в моем воображении. И моя ненависть реагировала на этот образ, как серная кислота на контуры граверной плитки. Штриховые нарезы становились более отчетливыми.
И вот в то время, как в крови длилось вызванное скачкой возбуждение, я почувствовал, что благодаря избытку физической силы, благодаря инстинкту наследственной воинственности, так часто пробуждавшимся во мне при грубом столкновении с другими мужчинами, я не могу отказаться от поединка с Филиппо Арборио. «Поеду в Рим, расспрошу про него, постараюсь вызвать его на дуэль, заставлю его драться, сделаю все, чтобы убить его или искалечить». Я представлял себе его трусом. Мне вспоминалось его довольно потешное движение в фехтовальном зале, когда он получил от учителя удар в грудь. Вспомнилось его любопытство, с каким он расспрашивал меня о моей дуэли: то детское любопытство, которое заставляет человека, не находившегося еще в опасности, изумленно открывать глаза. Помню, что во время моей атаки он все время не сводил с меня глаз. Сознание своего превосходства, уверенность в победе над ним усиливали мое возбуждение. В моем воображении красная струя крови уже обагрила это бледное, отвратительное тело. Несколько обрывков действительных воспоминаний о других моих поединках в былые времена способствовали детализации того воображаемого зрелища, на котором останавливалась моя фантазия. И я видел этого человека истекающим кровью и неподвижно распростертым на соломенной подстилке на какой-нибудь отдаленной ферме; два врача наклонились над ним; их брови нахмурились…
Сколько раз я, идеолог, аналитик и софист эпохи упадка, гордился тем, что являюсь прямым потомком Раймонда Эрмиль де Пепедо, который в Голетте проделывал чудеса храбрости на глазах у Карла V! Исключительное развитие моего интеллекта и моей сложной духовности не могло изменить основу моей сущности, скрытой подоплеки, запечатлевшей все наследственные черты рода. У моего брата, человека с уравновешенным характером, мысль всегда сопровождалась действием; во мне же мысль преобладала, не уничтожая, правда, способности к действию, которая часто выявлялась даже с необычайной силой. В общем, я был экспансивным и страстным человеком рационального склада, в котором гипертрофия некоторых спинномозговых центров делала невозможной координацию, обуславливающую нормальную жизнь ума. Обладая острой способностью наблюдать за самим собой, я в то же время совмещал в себе все порывы недисциплинированной примитивной натуры. Не раз прельщали меня самые неожиданные преступные намерения, не раз я в изумлении замечал, как оживает во мне, без всякой причины, жестокий инстинкт.
— Вот и угольщики, — сказал брат, пуская лошадь рысью.
В лесу слышались удары топоров и виднелись спирали подымающихся между деревьями клубов дыма. Нам поклонилась группа угольщиков. Федерико стал расспрашивать их о ходе работы, давать им советы, делать указания, оглядывая печи опытным взглядом. Все стояли перед ним в почтительных позах и внимательно слушали его. Работа вокруг, казалось, стала более кипучей, более легкой и веселой; огонь затрещал энергичнее. Там и сям бегали люди, бросали землю туда, откуда слишком сильно валил дым, забивали глыбами отверстия, образовавшиеся после взрывов, бегали и кричали. Гортанные крики дровосеков смешивались с этими резкими голосами. В глубине леса раздавался треск падающих деревьев. Когда затихало, слышен был свист скворцов. И большой, неподвижный лес смотрел на костры, питаемые его жизнью.
Пока мой брат контролировал работы, я отъехал в сторону, предоставив лошади выбор бороздивших чащу тропинок. Позади меня шум становился все глуше и глуше, эхо умирало. Тяжелая тишина спускалась с вершин. Я думал: «Что делать, чтобы оправиться от удара? Как сложится отныне моя жизнь? Смогу ли я продолжать жить со своей тайной в доме матери? Сумею ли приобщить свою жизнь к жизни Федерико? Кто и что на свете сможет воскресить в моей душе искру веры?» Шум работ совсем затих; уединение стало полным. «Работать, творить добро, жить для других… Смогу ли я теперь найти в этих вещах истинный смысл жизни? И правда ли, что смысл жизни не заключается всецело в личном счастье, а именно в этих вещах? Недавно, когда мой брат говорил, мне казалось, что я понимаю его; я думал, что его устами гласит учение об истине. Это учение, по словам моего брата, заключается не в законах или предписаниях, а просто и единственно в том смысле, который человек придает жизни. Мне казалось, что я понял это. Теперь же я вдруг снова очутился во мраке; снова стал слепым. Ничего больше не понимаю. Кто и что на свете сможет когда-нибудь утешить меня в потере блага?» И будущее казалось мне ужасным, безнадежным. Смутный образ будущего ребенка рос, расширялся, подобно тем страшным, бесформенным призракам, которых видишь только в кошмарном сне, и занял все поле зрения. Ведь речь шла не о сожалении, не об угрызении совести, не о неизгладимом воспоминании, не о какой-нибудь внутренней горечи, а о живом существе. Мое будущее было связано с существом, живущим упорной и зловредной жизнью; было связано с чужим, непрошеным, отвратительным существом, от которого не только душа моя, но и плоть моя, вся кровь моя и все мои фибры отворачивались с грубым, жестоким, неизменным до смерти, даже за пределами смерти, отвращением. Я думал: «Кто мог бы придумать худшую казнь, чтобы пытать одновременно и душу и тело? Самый изобретательный, самый свирепый из тиранов не мог бы придумать столь жестокое издевательство; это издевательство учинила лишь Судьба. Было предположение, что болезнь сделает Джулиану бесплодной. И вот она отдается какому-то мужчине, совершает свое первое падение — и беременеет, так постыдно, с такой легкостью, как те распаленные страстью женщины, которых насилуют мужики за кустом, на траве, в одну минуту. И именно тогда, когда ее по целым дням тошнит, я отдаюсь грезам, создаю себе идеал, возвращаюсь к наивным мечтам моей юности, занимаюсь только тем, что срываю цветы… (О эти цветы, эти гнусные цветы, преподнесенные с такой застенчивостью!) И после великого опьянения, сентиментального и чувственного, я узнаю приятную новость — и от кого? От моей матери! И после этой новости я проявляю возвышенную экзальтированность, добровольно беру на себя эту благородную роль, как герой Октава Фейлье! Герой! Герой!» Ирония терзала мне душу, сокрушала все мои фибры. И тогда снова меня охватило безумное желание — бежать.
Я поднял голову. Вблизи, между кустами, прозрачный, как обман галлюцинирующего зрения, сверкал Ассоро. «Странно!» — подумал я, невольно вздрогнув. В первый момент я не заметил, что лошадь, не сдерживаемая мною, шла по тропинке, которая вела к реке. Казалось, будто Ассоро притягивает меня.
С минуту я колебался, ехать ли к реке или повернуть назад. Стряхнул с себя зачарованность водой и нелепую мысль. Повернул лошадь.
Сильное утомление сменило внутреннюю судорогу. Мне показалось, что душа моя вдруг сделалась какой-то жалкой, пришибленной, вялой, ничтожной, бедной. Я расчувствовался; мне стало жалко самого себя, стало жалко Джулиану, стало жалко всех тех, на кого горе накладывает свою печать, всех тех, кто дрожит в тисках жизни, как дрожит побежденный под пятой неумолимого победителя. «Что мы такое? Что мы знаем? Чего хотим? Никто еще не овладел тем, что любил; никто не овладеет тем, что любит. Мы ищем благо, добродетель, энтузиазм, страсть, которые наполнили бы нашу душу; веру, которая успокоила бы наши волнения; идею, которую мы защищали бы со всем присущим нам мужеством; дело, которому посвятили бы себя; цель, за которую с радостью отдали бы свою жизнь. И конец всех этих усилий — утомление, пустота, сознание того, что сила иссякла и время утрачено…» И жизнь показалась мне в эту минуту как бы далеким видением, расплывчатым и смутно-чудовищным. Безумие, глупость, ничтожность, слепота, горести, несчастья; вечно скрытое движение бессознательных сил, атавистических и животных, в глубине нашего существа; самые высшие проявления ума, являющиеся неустойчивыми, мимолетными, всегда подчиненными какому-нибудь физическому состоянию, связанными с функцией какого-нибудь органа; внезапные перемены настроений, вызванные какой-нибудь незаметной причиной, каким-нибудь пустяком; неизменная доля эгоизма в самых благородных поступках; бесполезность всех моральных побуждений, направленных к неведомой цели, ничтожность так называемой вечной любви, хрупкость добродетели, которую считают незыблемой, слабость самой мощной воли, весь позор, вся ничтожность жалкого человеческого существования представились мне в эти минуты. «Как можно жить? Как можно любить?»
В лесу слышались удары топоров: каждый удар сопровождался резким, отрывистым криком. Там и сям в просеках дымились большие груды угля в виде усеченных конусов и четырехгранных пирамид. В безветренном воздухе дым подымался густыми и прямыми, как стволы деревьев, колоннами. Для меня все в эту минуту казалось символическим.
Увидев Федерико, я повернул лошадь к ближайшей угольной печи.
Он слез с лошади и разговаривал с каким-то стариком, высокого роста, с бритым лицом.
— А, наконец-то! — закричал он, увидев меня. — А я боялся, что ты заблудился.
— Нет, я не ездил так далеко…
— Взгляни-ка на Джованни ди Скордио: вот настоящий Человек! — сказал он, положив руку на плечо старика.
Я посмотрел на этого человека. Необычайно нежная улыбка играла на его поблекших губах. Я никогда не видал на человеческом лице таких грустных глаз.
— Прощай, Джованни! Мужайся! — прибавил брат, и в его голосе, как в некоторых крепких настойках, казалось, была сила, подымающая дух жизни. — А нам, Туллио, пора вернуться в Бадиолу. Уже поздно. Нас ждут.
Он вскочил на лошадь. Еще раз простился со стариком. Проезжая мимо печей, он сделал рабочим несколько указаний, относящихся к работам в следующую ночь, когда придется разводить большой огонь. И мы стали удаляться, пустив лошадей рядом.
Над нашими головами медленно раскрывалось небо. Дымки туманов плыли, таяли, вновь собирались, так что, казалось, лазурь порой бледнеет, словно на ее прозрачную поверхность все время льют молоко. Приблизился тот самый час, когда, накануне, в Виллалилле, мы с Джулианой смотрели на залитый дивным светом сад. Чаща вокруг начинала золотиться. Пели невидимые певцы.
Ты хорошо присмотрелся к этому старику, Джованни ди Скордио? — спросил Федерико.
— Да, — ответил я. — Мне кажется, я не забуду его улыбки и его глаз.
— Этот старик святой, — прибавил Федерико. — Никто не трудился и не выстрадал столько, сколько этот старик. У него четырнадцать сыновей, и все, один за другим, отделились от него, как зрелые плоды отделяются от дерева. Жена его, в своем роде палач, умерла. Он остался один. Дети общипали его и отреклись от него. Вся человеческая неблагодарность ополчилась на него. Он испытал бессердечие не от чужих людей, а от собственных детей. Понимаешь? Его собственная кровь стала змеиным ядом в тех существах, которых он всегда любил и поддерживал, которых любит до сих пор, которых не проклинает, которых, наверное, благословит в свой смертный час, даже если они дадут умереть ему в одиночестве. Разве не кажется невероятной, даже непостижимой эта настойчивость человека в деле добра? После всего, что он выстрадал, он еще мог сохранить улыбку, которую ты у него видел! Советую тебе, Туллио, не забывать этой улыбки…
XV
Час испытания, страшный и в то же время желанный час, приближался. Джулиана была готова. Она так и не уступила капризу Марии; она пожелала остаться одна в своей комнате, чтобы ждать меня. «Что я скажу ей? Что она мне скажет? Как я буду вести себя с ней?» Все мои приготовления, все планы рассеялись как дым. Осталась лишь невыразимая тревога. Можно ли предугадать исход этого объяснения? Я чувствовал, что не владею собой, своими словами, своими поступками. Я лишь ощущал в себе какой-то спутанный клубок туманных и противоречивых эмоций, которые должны были подняться во мне при малейшем толчке. До этого часа у меня не было столь ясного и убийственного сознания противоречивости ощущений, терзавших меня, восприятия непримиримых начал, возбуждавших мою душу, восстававших и вновь опускавшихся в вечном споре между собой, не покорявшихся никакой власти. К этим моим переживаниям присоединялось в свою очередь чувственное волнение, вызванное образами, не оставлявшими меня в покое в этот день. Я хорошо, слишком хорошо знал это волнение, которое, сильнее всякого другого, подымает в человеке грязную тину; я слишком хорошо знал этот гнусный вид сладострастия, от которого ничто не может защитить, эту ужасную половую лихорадку, которая несколько месяцев привязывала меня к ненавистной и презренной женщине, к Терезе Раффо. И теперь чувства доброты, сострадания и мужества, которые были так необходимы мне, чтобы выдержать столкновение с Джулианой и настаивать на первоначальном решении, шевелились во мне, как зыбкие испарения на илистой почве, покрытой трясинами, засасывающей грязью.
Еще не было полуночи, когда я вышел из своей комнаты, чтобы идти к Джулиане. Все звуки замерли. Бадиола покоилась в глубокой тишине. Я прислушался; и мне показалось, будто я слышу в этой тишине спокойное дыхание моей матери, моего брата, моих девочек, этих невинных и чистых существ. Я представил себе лицо уснувшей Марии таким, каким видел его накануне ночью. Представил себе и другие лица; и на каждом было выражение покоя, мира, доброты. На меня нахлынула волна внезапной нежности. Счастье, длившееся вчера одно мгновение и исчезнувшее, промелькнуло передо мной во всей своей полноте. Если бы ничего не случилось, если бы я сохранил все иллюзии, какой была бы эта ночь! Я шел бы к Джулиане, как к богине. И чего я мог бы желать более чарующего, чем эта тишина, окружающая истому моей любви?
Я прошел по комнате, где накануне вечером услыхал из уст моей матери нежданную весть. Снова услышал качание маятника настенных часов; и не знаю почему, это мерное тиканье усилило мое волнение. Не знаю почему, мне казалось, что в ответ на мое волнение я слышу, несмотря на разделяющее нас пространство, волнение Джулианы, словно тиканье передавало ускоряющееся биение наших сердец. Пошел дальше, больше не останавливаясь, не сдерживая шума шагов. Не постучал в дверь, а сразу открыл ее, вошел. Передо мною стояла Джулиана, опершись рукою об угол стола, недвижимая, суровее изваяния.
Я помню все, как будто вижу сейчас. Ничто не ускользнуло тогда от меня; и теперь ничто не ускользает. Реальный мир совершенно исчез, остался лишь мир воображаемый, и в нем я дышал порывисто, со стесненным сердцем, не в силах произнести ни единого звука и в то же время ощущая необычайную ясность сознания, как перед сценой театра. На столе горела свеча, придавая реальность этой воображаемой сцене, и подвижный огонек колыхал вокруг себя тот смутный ужас, который драматические актеры создают в воздухе жестами отчаяния или угрозы.
Это странное ощущение рассеялось, когда наконец, не в силах более переносить этого молчания и мраморной неподвижности Джулианы, я произнес первые слова. Звук моего голоса оказался не таким, каким я готов был услышать его в тот момент, когда губы мои раскрылись. Против моей воли этот голос был нежный, дрожащий, почти робкий.
— Ты ждала меня?
Ее глаза были опущены. Не поднимая их, она ответила:
— Да.
Я смотрел на ее руку, эту неподвижную, как подпорка, руку, которая, казалось, все более и более застывала над кистью, касавшейся угла стола. Я боялся, что эта хрупкая подпорка, на которую опиралось все тело, вдруг поддастся под его тяжестью и рухнет на пол.
— Ты знаешь, зачем я пришел, — добавил я чрезвычайно медленно, одно за другим отрывая слова от сердца. Она молчала. — Правда ли, — продолжал я, — правда ли… то, что я узнал от матери?
Все еще молчала. Казалось, собирает все свои силы. Странная вещь: в этот промежуток молчания я не считал абсолютно невозможным, что она ответит «нет».
Ответила (я скорее увидел, чем услышал, слова, обозначившиеся на бескровных губах):
— Правда.
Этот ответ ударил в мою грудь, быть может, сильнее, чем удар, нанесенный мне словами матери. Я и раньше все знал; я уже двадцать четыре часа прожил в этой уверенности; и все же это подтверждение, столь ясное и определенное, потрясло меня так, как будто впервые открылась мне полная правда.
— Правда! — инстинктивно повторил я, обращаясь к самому себе и испытывая ощущение, словно я остался живым, очнувшись на дне пропасти после падения в нее.
В эту минуту Джулиана подняла веки; пристально взглянула мне в глаза, видимо делая невероятные усилия.
— Туллио, — сказала она, — выслушай меня. — Но судорога придавила голос в ее горле. — Выслушай меня. Я знаю, что мне нужно сделать. Я была готова на все, чтобы избавить тебя от этого часа; но судьбе угодно было продлить мне жизнь до этого часа, чтобы заставить меня перенести самую ужасную вещь, то, чего я безумно боялась (ах, ты понимаешь меня!) в тысячу раз больше смерти: Туллио, Туллио, — твоего взгляда…
Другая судорога изменила ее голос как раз в тот момент, когда он наполнился такой скорбью, что создал во мне физическое ощущение разрыва самых скрытых фибр моего существа. Я опустился на стул возле стола и сжал голову руками, ожидая продолжения признания.
— Я должна была умереть, не дождавшись этого часа. Я давно должна была умереть! Конечно, мне было бы лучше не приезжать сюда. Было бы лучше, если бы, вернувшись из Венеции, ты уже не застал меня. Я была бы мертва, и ты не узнал бы об этом позоре; ты оплакивал бы меня, может быть, вечно боготворил бы меня. Быть может, я осталась бы навсегда твоей великой любовью, твоей единственной любовью, как ты говорил вчера… Знаешь, я не боялась смерти и не боюсь. Но мысль о наших девочках, о нашей матери заставляла меня откладывать со дня на день выполнение. Это была агония, Туллио, нечеловеческая агония, уничтожавшая меня не раз, а тысячи раз. И я все еще жива!
Продолжала после паузы:
— Как могло случиться, что я, с таким жалким здоровьем, в силах была перенести такие страдания? И в этом мне не посчастливилось. Видишь ли, соглашаясь ехать сюда с тобой, я думала: «Несомненно, там я заболею; когда я приеду туда, меня уложат в постель и я больше не встану. Всем покажется, будто я умираю естественной смертью. Туллио никогда ничего не узнает, ничего не будет подозревать. Все будет кончено». А между тем я все еще на ногах; и ты знаешь все, и все погибло, безвозвратно.
Голос ее был тихий, очень слабый; тем не менее он казался раздирающим, как резкий, непрекращающийся крик. Я сжимал себе виски и чувствовал такое сильное биение пульса, что оно приводило меня в ужас, словно артерии прорывали кожу и опутали мои руки своей мягкой и теплой тканью.
— Моей единственной заботой было скрыть от тебя правду не ради себя, а ради тебя, ради твоего спасения. Ты никогда не узнаешь, какой ужас леденил меня, какая скорбь давила меня. Со времени нашего приезда сюда до вчерашнего дня ты надеялся, мечтал, был почти счастлив. Но представь себе мою жизнь здесь, с моей тайной, возле твоей матери, в этом благословенном доме! Вчера, когда мы сидели за столом, в Виллалилле, ты сказал мне, обращаясь со столь нежными словами, которые терзали мне душу… ты сказал мне: «Ты ничего не знала, ничего не замечала». Ах, это неправда! Я все знала, обо всем догадывалась. И, улавливая нежность в твоих глазах, я чувствовала, что падаю духом. Выслушай меня, Туллио. В моих устах — правда, чистая правда. Я здесь, перед тобой, как умирающая. Я не могла бы лгать. Верь тому, что я говорю тебе. Я не думаю оправдываться, не думаю защищаться. Теперь ведь все кончено. Но я хочу сказать тебе одну вещь, одну истину. Ты знаешь, как я любила тебя с первого дня нашей встречи. Все годы, долгие годы, я была слепо преданной тебе не только в пору счастья, но и в пору несчастья, когда в тебе угасала любовь. Ты это знаешь, Туллио. Ты всегда мог делать со мной все, что хотел. Ты всегда находил во мне друга, сестру, жену, любовницу, готовую на всякую жертву ради твоего наслаждения. Не думай, Туллио, не думай, что я напоминаю тебе о своей долголетней преданности для того, чтобы обвинить тебя; нет, нет. Для тебя в душе моей нет ни единой капли горечи; слышишь? Ни единой капли. Но позволь мне, в этот час, напомнить тебе о преданности и нежности, длившейся столько лет, сказать тебе о любви, о моей любви, не прерывавшейся, никогда не прекращавшейся, слышишь? Никогда не прекращавшейся. Я думаю, что моя страсть к тебе никогда не была такой сильной, как в эти последние недели. Ты вчера говорил мне все эти слова… Ах, если бы я могла рассказать тебе всю свою жизнь за эти последние дни! Я все знала о тебе, обо всем догадывалась; и вынуждена была избегать тебя. Не раз я готова была упасть в твои объятия, закрыть глаза и отдаться тебе в моменты слабости и крайней усталости. В то утро, в утро субботы, когда ты вошел сюда с этими цветами, я взглянула на тебя, и ты показался мне тем, прежним, таким пылким, как бывало раньше, улыбающимся, приветливым, с блестящими глазами. И ты показал мне царапины на своих руках! У меня явилось безумное желание схватить эти руки и целовать их… Как у меня хватило силы сдержаться? Я чувствовала себя недостойной. В одно мгновение передо мной промелькнуло все счастье, которое ты предлагал мне вместе с этими цветами, все счастье, от которого я должна была навсегда отказаться. Ах, Туллио, как закалено мое сердце, если оно могло выдержать такие тиски! Как упорно держится во мне жизнь!
Она произнесла эту последнюю фразу более глухим голосом, с каким-то неопределенным оттенком не то иронии, не то гнева. Я не смел поднять головы и взглянуть на нее. Ее слова причиняли мне ужасные страдания; и тем не менее я весь дрожал, когда она останавливалась. Я боялся, что силы вдруг изменят ей и она не в состоянии будет продолжать. И я ждал из ее уст других признаний, других обрывков души.
— Большой ошибкой, — продолжала она, — большой ошибкой было то, что я не умерла до твоего возвращения из Венеции. Но… бедная Мария… но бедная Наталья… как я могла их оставить? — Она замолчала на мгновение. — И тебя оставить было бы с моей стороны, быть может, дурно… Ты бы мучился угрызениями совести. Окружающие обвиняли бы тебя: «Почему она захотела умереть?» Не удалось бы скрыть от матери… Она спросила бы тебя: «Почему она захотела умереть?» Она добилась бы истины, которую мы скрывали от нее до сих пор… Бедная!.. Святая!..
По-видимому, у нее давило в горле: ее голос становился хриплым, содрогался, как от непрерывного плача. Такой же узел сдавливал и мое горло.
— И об этом я думала. Когда ты предложил мне переехать сюда, я думала также и о том, что я стала теперь недостойна ее, недостойна ее поцелуев в лоб, недостойна называться ее дочерью. Но ты знаешь, как мы слабы, как легко отдаемся силе вещей. Я больше не надеялась ни на что; я хорошо понимала, что, кроме смерти, для меня не было другого исхода; хорошо знала, что с каждым днем круг становится теснее. И тем не менее я допускала, чтобы дни шли за днями своей чередой, и не могла решиться. А у меня было верное средство покончить с собой!
Она остановилась. Повинуясь внезапному безотчетному импульсу, я поднял голову и пристально посмотрел на нее. Она вся затрепетала. И столь очевидна была боль, причиненная ей моим взглядом, что я снова опустил голову и замер в прежней позе.
До сих пор она стояла. Теперь села.
Наступила минута молчания.
— Думаешь ли ты, — спросила она с томительной робостью, — думаешь ли ты, что грех велик, если душа в нем не участвует?
Достаточно было одного этого намека на грех, чтобы в одно мгновение вновь поднять муть в моей успокоившейся было душе; к устам моим подступила бурная волна горечи. Невольно с уст моих сорвался сарказм. Делая вид, что улыбаюсь, я проговорил:
— Бедняжка!
На лице Джулианы появилось выражение такого сильного страдания, что я тут же почувствовал укол острого раскаяния. Я понял, что не мог нанести ей более жестокой раны и что ирония, направленная в эту минуту против этого прибитого горем существа, была самой гнусной подлостью.
— Прости меня, — сказала она с видом сраженного смертельным ударом человека (и мне показалось, что глаза у нее были кроткие, печальные, почти детские, какие я когда-то видел у раненых, лежащих на носилках), — прости меня. Ты тоже говорил вчера о душе… Ты думаешь теперь: «Именно подобные вещи говорят женщины в свое оправдание». Но я и не стараюсь оправдаться. Знаю, что прощение немыслимо, что забвение невозможно. Знаю, что исхода нет. Слышишь? Я хотела только, чтобы ты простил мне поцелуи, которые я похитила у твоей матери…
Голос ее все еще был тихий, очень слабый; тем не менее он казался раздирающим, как резкий, непрекращающийся крик.
— Я чувствовала на своем лбу тяжесть столь сильного страдания, что не ради себя, Туллио, а во имя этого страдания, только во имя него, я принимала поцелуи твоей матери. И если я была недостойна, то это страдание было достойно. Ты можешь простить меня.
Во мне шевельнулось чувство доброты, сожаления, но я не поддался ему. Я не смотрел ей в глаза. Мой взгляд невольно устремлялся на ее лоно, как бы для того, чтобы открыть в нем признаки ужасного факта; и я сделал над собой неимоверные усилия, чтобы не скорчиться от приступов судороги, чтобы не отдаться во власть безумного поступка.
— В некоторые дни я откладывала с часу на час исполнение моего решения; мысль об этом доме, о том, что произошло бы потом в нем, лишала меня мужества. Таким-то образом исчезла и надежда на возможность скрыть от тебя правду, на возможность спасти тебя; потому что в первые же дни мама догадалась о моем положении. Помнишь тот день, когда возле того окна мне стало дурно от запаха желтофиолей? С того самого дня мама заметила. Представь себе мой ужас! Я думала: «Если я покончу с собой, Туллио все узнает от матери. Кто знает, к каким последствиям приведет мой дурной поступок!» И я терзала себя день и ночь, пытаясь найти средство спасти тебя. Когда ты в воскресенье спросил меня: «Хочешь, поедем во вторник в Виллалиллу?» — я согласилась без размышлений, отдалась во власть судьбы, положилась на силу вещей, на случай. Я была уверена, что это будет моим последним днем. Эта уверенность опьяняла меня, делала меня какой-то безумной. Ах, Туллио, вспомни свои вчерашние слова и скажи мне, понимаешь ли ты теперь мою муку… понимаешь ли ее?
Она наклонилась ко мне, потянулась ко мне, как бы для того, чтобы вложить мне в душу свой скорбный вопрос, и, сплетя пальцы, ломала себе руки.
— Ты никогда не говорил со мной так, у тебя никогда не было такого голоса. Когда там, на скамье, ты спросил меня: «Быть может, слишком поздно?» — я взглянула на тебя, и твое лицо испугало меня. Могла ли я ответить тебе: «Да, слишком поздно»? Могла ли я разбить тебе сердце в одно мгновение? Что сталось бы с нами? И тогда я уступила последнему опьянению, стала как безумная, видела только смерть и свою страсть.
Голос ее стал как-то странно хриплым. Я смотрел на нее; и мне казалось, что я не узнаю ее — так она изменилась. Судорога исказила все черты ее лица; нижняя губа сильно дрожала; глаза горели лихорадочным жаром.
— Ты осуждаешь меня? — хрипло и с горечью спросила она. — Презираешь за то, что я вчера сделала?
Закрыла лицо руками. Потом, после паузы, с неописуемым выражением муки, страсти и ужаса, с чувством, поднимавшимся кто знает из какой бездны ее существа, прибавила:
— Вчера вечером, чтобы не уничтожить того, что осталось от тебя в моей крови, я медлила принять яд.
Руки ее упали. Решительным движением она стряхнула с себя слабость. Голос ее снова окреп.
— Судьбе угодно было, чтобы я дожила до этого часа. Судьбе угодно было, чтобы ты узнал правду от твоей матери! Вчера вечером, когда ты вошел сюда, ты знал все. И ты молчал, и в присутствии матери ты целовал меня в щеку, которую я подставила тебе. Позволь же мне перед смертью поцеловать твои руки. Больше ничего я не прошу у тебя. Я ждала тебя, чтобы подчиниться твоему решению. Я готова на все. Говори же.
И я сказал:
— Ты должна жить.
— Невозможно, Туллио, невозможно! — воскликнула она. — Думал ли ты о том, что случилось бы, если я буду жить?
— Думал. Ты должна жить.
— Ужасно!
Она вся содрогнулась, сделала инстинктивное движение ужаса, быть может, потому, что почувствовала в себе ту, другую жизнь, будущую…
— Выслушай меня, Туллио. Теперь ты знаешь все; теперь мне не нужно лишать себя жизни для того, чтобы скрыть от тебя свой позор, чтобы избежать встречи с тобой. Ты знаешь все; и мы оба — здесь и можем еще смотреть друг на друга, можем еще говорить! Речь идет совсем о другом. Я не намерена обмануть твою бдительность, чтобы покончить с собой. Напротив, я хочу, чтобы ты помог мне исчезнуть самым естественным образом, какой только возможен, чтобы в этом доме ни у кого не возникло подозрения. У меня два яда: морфий и едкая сулема. Быть может, они не годятся. Быть может, трудно скрыть отравление. А ведь нужно, чтобы моя смерть казалась непроизвольной, вызванной какой-нибудь случайностью, каким-нибудь несчастным случаем. Понимаешь? Таким образом мы достигнем цели. Тайна останется только между нами…
Теперь она говорила быстро, с выражением твердой решимости, словно она пыталась убедить меня предпринять какое-нибудь полезное дело, а не говорила о смерти, о соучастии в исполнении безумной затеи. Я давал ей продолжать. Какое-то странное влечение заставляло меня оставаться неподвижным, смотреть на нее и слушать, что говорит это существо, такое хрупкое, такое бледное, такое болезненное, существо, в котором бурлили столь могучие волны нравственной энергии.
— Слушай меня, Туллио. У меня есть одна мысль. Федерико рассказал мне о твоем сегодняшнем безумстве, об опасности, которой ты подвергся сегодня на берегу Ассоро, рассказал мне все. И, дрожа от ужаса, я думала: «Кто знает, какой приступ страдания толкнул его на эту опасность!» Я задумалась над этим, и мне показалось, что я поняла. И догадалась. И все иные будущие страдания твои запечатлены в моей душе: страдания, от которых ничто не может защитить тебя, страдания, которые будут увеличиваться с каждым днем, безутешные, непреоборимые. Ах, Туллио, наверное, ты уже представил их себе и думаешь, что будешь не в силах их перенести. Есть только единственное средство спасти тебя, меня, наши души, нашу любовь; да, позволь сказать мне: нашу любовь. Позволь мне еще верить твоим вчерашним словам и позволь мне повторить, что я люблю тебя теперь так, как никогда раньше не любила. Именно потому, что мы любим друг друга, нужно, чтобы я исчезла из этого мира, нужно, чтобы ты не видел меня больше.
Необычайный моральный экстаз возвышал ее голос, всю ее фигуру в этот момент. Сильная дрожь потрясала меня; мимолетная иллюзия овладела моим умом. Я подумал, что действительно в эту минуту моя любовь и любовь этой женщины встретились лицом к лицу, поднявшись на неизмеримую идеальную высоту, очищенные от человеческой ничтожности, не запятнанные грехом, нетронутые. Несколько мгновений я испытывал вновь знакомое прежде чувство, будто внешний мир совершенно исчез. Потом, как всегда, это чувство сменилось неизбежно другим, это состояние сознания больше не принадлежало мне, стало объективным, сделалось для меня чужим.
— Выслушай меня, — продолжала она, понижая голос, словно боясь, что ее кто-нибудь услышит. — Я высказывала Федерико большое желание увидеть лес, угольные печи, все эти места. Завтра утром Федерико не может сопровождать нас, так как ему нужно вернуться в Казаль-Кальдоре. Мы поедем только вдвоем. Федерико сказал мне, что я могу ехать на Искре. Когда мы будем на берегу… я сделаю то, что ты сделал сегодня утром. Случится несчастье. Федерико сказал мне, что из Ассоро нельзя спастись… Хочешь?
Хотя она произносила связные слова, но казалось, что она бредит. Необычный румянец горел на ее щках, глаза странно пылали.
Видение зловещей реки быстро пронеслось в моем мозгу.
Она повторила, протянув ко мне руки:
— Хочешь?
Я встал, взял ее за руки. Хотел унять ее лихорадку. Тяжелое чувство, смешанное с бесконечной жалостью, сжало мою душу. И мой голос стал нежным, стал ласковым, дрожал от нежности.
— Бедная Джулиана! Не волнуйся так. Ты слишком сильно страдаешь; страдание делает тебя безумной, бедная моя! Тебе нужно много мужества; нужно, чтобы ты не думала больше обо всем том, о чем говорила… Подумай о Марии, о Наталье… Я принял это наказание. Быть может, я заслужил это наказание за все то зло, которое я причинил тебе. Я принял его, перенесу его. Но ты должна жить… Обещаешь мне, Джулиана, ради Марии, ради Натальи, ради твоей любви к маме, ради всего того, что я говорил тебе вчера, обещаешь мне, что ни в коем случае не будешь искать смерти?
Она не поднимала головы. И вдруг, освободив свои руки, она схватила мои и начала их безумно целовать; и я чувствовал на своей коже теплоту ее губ, теплоту ее слез. А так как я пытался вырваться, она со стула упала на колени, не выпуская моих рук, рыдая, показывая мне свое искаженное лицо, по которому ручьями стекали слезы, а судороги рта свидетельствовали о невыразимой пытке, от которой содрогалось все ее существо. И, не будучи в состоянии поднять ее, не будучи в состоянии говорить, придавленный ужасным приступом скорби, покоренный силой муки, искажавшей бледные губы этой бедной женщины, отбросив всякое чувство обиды, всякую гордость, испытывая лишь слепой страх за эту жизнь, чувствуя в этой простертой у моих ног женщине и в себе самом не только человеческое страдание, но и вечную человеческую ничтожность, расплату за неизбежные нарушения закона, тяжесть нашей животной плоти, ужас фатальной, неумолимой неизбежности, начертанной в самых корнях нашей сущности, всю плотскую скорбь нашей любви, — я тоже упал перед ней на колени, чувствуя инстинктивно потребность упасть ниц, сравняться даже позой с существом, которое страдало и причиняло мне страдания. И я тоже разразился рыданиями. И еще раз, после столь долгого промежутка времени, смешались наши слезы… Увы! Они были такие жгучие и не могли изменить нашу судьбу.
XVI
Кто может передать словами то ощущение безотрадной пустоты и отупения, которое остается в человеке после бесполезного припадка рыдания, после пароксизма бесполезного отчаяния? Слезы — явление преходящее, всякий кризис должен разрешиться, всякий эксцесс — кратковременный; и человек снова остается опустошенным, как бы исчерпанным, более чем когда-либо убежденным в собственном безумии, физически отупевшим и жалким перед бесстрастной действительностью.
Я первый перестал плакать; я первый обрел способность видеть; я первый обратил внимание на свою позу, на позу Джулианы, на все окружающее. Мы стояли еще на коленях друг перед другом на ковре и Джулиана еще вздрагивала от рыданий. Свеча горела на столе, и огонек время от времени колыхался, точно колеблемый дыханием. Среди тишины мое ухо воспринимало едва слышное тиканье часов, которые лежали где-то в комнате. Жизнь текла, время бежало. Душа моя была пуста и одинока.
Упал подъем чувства, прошло опьянение горем, наши позы не имели больше значения, не имели больше смысла. Мне нужно было встать, поднять Джулиану, сказать ей что-нибудь такое, что положило бы определенный конец этой сцене, но ко всему этому я чувствовал странное отвращение. Мне казалось, что я не способен более ни на какое, даже самое ничтожное, физическое или моральное усилие. Мне было неприятно, что я нахожусь тут, испытываю эти затруднения, вынужден продолжать эту сцену. И какая-то глухая неприязнь по отношению к Джулиане начала смутно шевелиться во мне.
Я встал. Помог ей подняться. Каждое из рыданий, от которых она время от времени вздрагивала, усиливало во мне эту необъяснимую неприязнь.
Несомненно, что в глубине каждого чувства, соединяющего два человеческих существа, то есть сближающего два эгоизма, таится известная доля ненависти. Несомненно, что эта доля неизбежной ненависти всегда принижает наши самые нежные побуждения, наши лучшие порывы. Все эти благородные душевные переживания носят в себе зародыш скрытого гниения и должны извратиться.
Я сказал (и боялся, что мой голос, несмотря на мои старания, не будет достаточно нежен):
— Успокойся, Джулиана. Теперь тебе надо быть сильной. Иди, сядь здесь. Успокойся. Хочешь немного воды? Хочешь понюхать чего-нибудь? Скажи же!
— Да, немного воды. Поищи там, в алькове, на ночном столике.
В голосе еще слышались слезы; и она вытирала лицо платком, сидя на низком диване против большого зеркального шкафа. Рыдания еще душили ее.
Я вошел в альков, чтобы взять стакан. В полумраке различил постель. Она была уже приготовлена: край одеяла был откинут, длинная белая сорочка лежала возле подушки. Мое острое обоняние почувствовало вдруг слабый запах ткани, легкий запах ириса и фиалок, который был мне так знаком. Вид постели, знакомый запах глубоко взволновали меня. Я быстро наполнил стакан и вышел из алькова, чтобы отнести воды ждавшей меня Джулиане.
Она отпила несколько глотков, а я, стоя перед ней, глядел на нее, наблюдая за движением ее рта. Она сказала:
— Спасибо, Туллио.
И передала мне стакан, в котором воды оставалось еще до половины. Так как мне хотелось пить, то я выпил оставшуюся воду. И этого незначительного, необдуманного поступка было достаточно, чтобы усилить мое волнение. Я тоже сел на диван. И мы оба молчали, погрузившись в свои думы. Нас разделяло небольшое пространство.
Диван с нашими фигурами отражался в зеркале шкафа. Не глядя друг на друга, мы могли видеть наши лица, правда, не очень отчетливо, потому что свет был слабый и зыбкий. В туманной глубине зеркала я пристально созерцал фигуру Джулианы, постепенно принимавшей благодаря своей неподвижности таинственный облик, в котором было волнующее обаяние некоторых женских портретов, потускневших от времени, облик, усиливающий обманчивость созданных галлюцинацией образов. И произошло так, что мало-помалу этот далекий образ стал казаться мне более живым, нежели действительный. Произошло так, что мало-помалу я стал видеть в этом образе воплощение ласки, объект сладострастия, любовницу, изменницу.
Закрыл глаза. Появился Другой. Представилось одно из знакомых видений.
Я подумал: «Она до сих пор не упоминала прямо о своем падении, о том, в какой обстановке произошло это падение. Она произнесла лишь одну фразу, намекающую на это: „Думаешь ли ты, что грех велик, если душа в нем не участвует?“ Одну фразу! И что она хотела этим сказать? Это одна из обычных тонких уловок, которыми стараются извинить и смягчить все измены и все низости. Но, собственно говоря, какого рода отношения были между нею и Филиппо Арборио, кроме этого, не подлежащего сомнению, плотского?.. И при каких обстоятельствах она отдалась ему?» Меня мучило жестокое любопытство. Возможные ответы на эти вопросы подсказывались мне собственным опытом. Мне приходили на память некоторые своеобразные испытанные приемы, какими мне удавалось брать прежних любовниц. Образы вырисовывались, менялись, следовали друг за другом, ясные и быстрые. Я вновь увидел Джулиану такой, какой видел ее в те далекие дни, когда она сидела одна, в оконной нише, с книгой на коленях, такая томная, бледная, с видом человека, который близок к обмороку, а в ее черных-черных глазах пробегала неопределимая тревога, как бы попытка что-то заглушить в себе. Была ли она захвачена им неожиданно, в одну из этих минут истомы, в моем собственном доме, стала ли она жертвой насилия в этом своеобразном бессознательном состоянии и, очнувшись, испытала ли она ужас и отвращение к непоправимому проступку, прогнала ли его и перестала ли потом встречаться с ним? Или, напротив, согласилась на свидание в каком-нибудь тайном, маленьком, отдаленном помещении, может быть, в одной из меблированных комнат, где происходили сотни отвратительных измен, где она принимала и расточала все свои ласки на той же подушке, не один, а несколько раз, много дней подряд, в назначенные часы, в полной безопасности, под охраной моей беспечности? И я снова увидел Джулиану перед зеркалом, в ноябрьский день, ее позу, когда она прикалывала вуаль к шляпе, цветы ее платья и потом ее легкую походку «по солнечной стороне тротуара» — быть может, в то утро она шла на свидание?
Я страдал от невыразимой пытки. Безумное желание все знать терзало мне душу; реальные образы приводили меня в отчаяние. Озлобление против Джулианы все более и более обострялось; и воспоминание о недавних сладостных переживаниях, воспоминание о брачном ложе в Виллалилле, все то, что осталось от нее у меня в крови, питало зловещее пламя. Ощущение, рождавшееся благодаря близости к телу Джулианы, специфическая дрожь указывали мне на то, что я уже во власти хорошо известной мне лихорадки чувственной ревности, и, чтобы не поддаться вспышке ненависти, мне нужно было бежать. Но воля моя, казалось, была парализована; я не владел собою. Я оставался на месте, прикованный двумя противоположными силами: отвращением и физическим влечением, вожделением, смешанным с брезгливостью, каким-то скрытым контрастом ощущений, которого я не мог побороть, потому что он гнездился в самых глубинах моей животной сущности.
Другой, с того мгновения, как появился, все время стоял передо мной. Был ли то Филиппо Арборио? Угадал ли я? Не ошибся ли?
Я неожиданно повернулся к Джулиане. Она посмотрела на меня. Внезапный вопрос остановился у меня в горле. Я опустил глаза, наклонил голову и с той же судорожной напряженностью, которую испытал бы, отрывая от тела кусок живого мяса, решился спросить:
— Имя этого человека!
Мой голос дрожал, был хриплый и причинял боль мне самому.
При этом неожиданном вопросе Джулиана вздрогнула, но молчала.
— Не отвечаешь? — настаивал я, заставляя себя подавить гнев, который уже готов был овладеть мною, тот слепой гнев, который уже прошлой ночью в алькове налетел на мою душу как вихрь.
— О Боже мой! — мучительно простонала она, отстраняясь и пряча лицо в подушку. — Боже мой, Боже мой!
Но я хотел знать; я хотел вырвать у нее признание во что бы то ни стало.
— Помнишь, — продолжал я, — помнишь ли ты то утро, когда я неожиданно вошел в твою комнату, в первых числах ноября? Помнишь? Вошел сам не знаю почему, потому что ты пела. Пела арию из «Орфея». Ты собиралась уходить. Помнишь? Я увидел книгу на твоем письменном столе, открыл ее, прочел на заглавном листе посвящение… Это был роман «Тайна». Помнишь?
Она продолжала лежать на подушке, не отвечая. Я наклонился к ней. Меня пронизывала дрожь, похожая на ту, что предшествует лихорадочному ознобу. Я добавил:
— Это, может быть, он?
Она не отвечала, но поднялась отчаянным движением. Казалась безумной. Хотела было броситься на меня, потом сдержалась.
— Сжалься! Сжалься! — вырвалось у нее. — Позволь мне умереть! То, что ты заставляешь меня переживать, хуже всякой смерти. Я все перенесла, все могу перенести, но этого не могу, не могу… Если я буду жить, это будет для нас непрекращающейся мукой, и каждый день будет все более и более ужасным. И ты возненавидишь меня: тяжесть твоей ненависти задавит меня. Знаю, знаю. Я уже почувствовала ненависть в твоем голосе. Сжалься! Дай мне лучше умереть.
Казалась безумной. Чувствовала непреодолимое желание броситься на меня, но, не смея приблизиться, ломая руки, чтобы сдержаться, судорожно извивалась всем телом. Но я схватил ее за руки, притянул к себе.
— Стало быть, я ничего не узнаю? — сказал я почти у самых ее губ, становясь в свою очередь безумным, возбуждаемый жестоким инстинктом, делавшим грубыми мои руки.
— Я люблю тебя, всегда любила тебя, всегда была твоей, плачу этим адом за минуту слабости, понимаешь? За минуту слабости… Это правда. Разве не чувствуешь, что это правда?
Еще один светлый миг; и потом — действие импульса, слепого, дикого, неудержимого…
Она опрокинулась на подушку. Мои губы заглушили ее крик.
XVII
Эти бурные объятия заглушили многое. «Дикарь! Дикарь!..» Я снова видел немые слезы в глубине глаз Джулианы; снова услышал хрипение, конвульсивно вырвавшееся из ее груди, хрипение агонизирующего. В душе моей пробежала волна той печали, которая не походила на иную печаль, нависшую надо мной после этого. «Да, поистине — дикарь!» Не тогда ли именно овладела мною мысль о преступлении? Не в минуту ли этого безумия осенило мое сознание преступное намерение?
И снова я стал думать о горьких словах Джулианы: «Как упорно держится во мне жизнь». Но слишком упорной казалась мне не ее жизнь, а та, другая жизнь, которую она носила в себе; и именно та жизнь приводила меня в отчаяние, та жизнь начинала внушать мне мысль о преступлении.
В фигуре Джулианы не было еще заметно внешних признаков: расширения в бедрах, увеличения нижней части туловища. Значит, она была еще на первых месяцах: может быть, на третьем, может быть, в начале четвертого. Связь, скреплявшая зародыш во чреве, должно быть, была еще слабая. Прибегнуть к аборту можно было без большого труда. Как это не вызвали его бурные волнения дня, проведенного в Виллалилле, и этой ночи, эти напряжения, спазмы, конвульсии? Все было против меня, все случайности соединились против меня. И мое враждебное настроение становилось все острее.
Помешать рождению ребенка было моим тайным намерением. Весь ужас нашего положения заключался в предвидении этого рождения, в угрозе появления на свет этого пришельца. И как это Джулиана, при первом подозрении, не употребила все средства, чтобы уничтожить это позорное зачатие? Неужели ее удерживали предрассудок, страх, инстинктивное отвращение матери? Неужели она испытывала материнское чувство даже к этому плоду прелюбодеяния?
И я уже видел нашу будущую жизнь, созерцал ее с прозорливостью ясновидения. Джулиана произведет на свет мальчика, единственного наследника нашего древнего рода. Сын, не мой, благополучно рос; похищал любовь моей матери, моего брата; его ласкали, обожали больше Марии и Натальи, моих детей. Сила привычки мало-помалу успокаивала совесть Джулианы, и она беспрепятственно отдавалась своему материнскому чувству. И ребенок, не мой, продолжал расти под ее покровительством, окруженный ее неусыпными заботами; становился сильным и красивым; становился капризным, как маленький деспот; завладевал всем домом. Эти видения мало-помалу дополнялись различными подробностями. Некоторые фантастические представления принимали очертания и движение реальных сцен; и порой с такой силой врезались в мое сознание, что в течение известного промежутка времени ничем не отличались для меня от реальной действительности. Образ мальчика все время менялся; его поступки, его жесты были самые разнообразные. То я представлял его себе хилым, бледным, молчаливым, с большой тяжелой головой, свешивающейся на грудь; то казался мне розовеньким, кругленьким, веселым, болтливым, чарующе ласковым, особенно нежным ко мне, добрым; или же, напротив, он вставал в моем воображении — весь нервный, желчный, немного дикий, с тонкой психикой, но дурными наклонностями, жестокий с сестрами, жестокий с животными, неспособный на нежность, невоспитанный. Постепенно этот последний образ взял верх над другими, вытеснил их, вылился в определенный тип, одушевился воображаемой жизнью, даже получил имя, имя, уже давно установленное для наследника нашего дома, имя моего отца: Раймондо.
Этот гнусный маленький призрак был прямым порождением моей ненависти; он чувствовал ко мне ту же вражду, что и я к нему; то был враг, противник, с которым мне предстояло вступить в борьбу. Он был моей жертвой, а я — его. И я не мог избежать его, он не мог избежать меня. Мы оба были замкнуты в один стальной круг.
Глаза у него были серые, как у Филиппо Арборио. Из различных выражений его взгляда один чаще всего поражал меня в воображаемой сцене, часто повторявшейся. Сцена была такая: я, ничего не подозревая, входил в полутемную комнату, полную какой-то особенной тишины. Мне казалось, что там, в этой комнате, я один. Вдруг, обернувшись, я замечал присутствие Раймондо, который пристально смотрел на меня своими серыми, злыми глазами. И в то же мгновение меня охватывало непреодолимое желание преступления, такое сильное, что я убегал из комнаты, чтобы не броситься на это маленькое зловредное существо.
XVIII
Казалось, между мной и Джулианой было заключено соглашение. Она оставалась жить. Мы оба продолжали жить, притворяясь, скрывая свои чувства. У нас, как у дипсоманов,[15] были две сменяющие друг друга жизни: одна — спокойная, вся составленная из внешних проявлений сыновней нежности, чистых порывов любви и уважения; другая — беспокойная, лихорадочная, замутившаяся, неопределенная, безнадежная, порабощенная навязчивой мыслью, вечно висящая под угрозой, несущаяся к неведомой катастрофе.
У меня бывали редкие моменты, когда душа, ускользнув от осады всех этих гадостей, освободившись от зла, которое опутывало ее как бы тысячами сетей, бросалась с сильной жаждой к возлюбленному идеалу добра, примеры которого я не раз видел. Мне приходили на память замечательные слова моего брата, сказанные на опушке Ассорского леса и относившиеся к Джованни ди Скордио: «Ты хорошо сделаешь, Туллио, если не забудешь этой улыбки». И эта улыбка на поблекших губах старика приобретала глубокий смысл, становилась необыкновенно лучезарной, подымала меня, как откровение высшей истины.
Почти всегда, в эти редкие моменты, мне представлялась и другая улыбка: улыбка больной Джулианы, лежавшей еще в постели, какая-то особенная улыбка, которая становилась все тоньше и тоньше, не угасая… И воспоминание о далеком, спокойном дне, когда я опьянил обманчивым чувством бедное выздоравливающее создание с белоснежными руками; воспоминание об утре, когда она в первый раз встала с постели и среди комнаты упала в мои объятия, смеющаяся и усталая от этой первой попытки; воспоминание о поистине божественном движении, с которым она предложила мне любовь, прощение, мир, забвение все эти прекрасные и добрые вещи; воспоминание обо всем этом терзало мою душу бесплодными сожалениями, бесконечными отчаянными угрызениями совести. Кроткий и страшный вопрос, прочитанный Андреем Болконским на застывшем лице княгини Лизы, я все время читал на еще живом лице Джулианы: «Что вы со мной сделали?» Ни одного упрека не сорвалось с ее губ; она не сумела бросить мне в лицо ни одной из моих подлостей, чтобы уменьшить тяжесть своей вины, она униженно согнулась перед своим палачом; в словах ее не было ни капли горечи; и все же глаза ее повторяли мне: «Что ты со мной сделал?»
Странная жажда жертвенности вдруг вспыхнула во мне, толкая меня нести свой крест. Величие искупления казалось мне достойным моего мужества. Я чувствовал в себе избыток сил, героическую душу, ясный ум. Идя к страждущей сестре, я думал: «Я найду доброе слово, чтобы утешить ее, найду слово, слово брата, чтобы утешить ее скорбь, чтобы поднять ее голову». И я шел к ней, но в ее присутствии не мог говорить. Казалось, мои губы сдавливала несокрушимая печать; все существо мое казалось пораженным злом. Внутренний свет потухал сразу, как от ледяного дуновения, неизвестно откуда возникшего. И во мраке начинала смутно шевелиться эта глухая неприязнь, уже хорошо знакомая мне, которую я не мог побороть.
Это был признак начинающегося приступа галлюцинаций. Я бормотал несколько слов, путался, избегал смотреть в глаза Джулиане; и уходил прочь, почти бежал.
Впрочем, не всегда уходил; иногда оставался. Когда физическое возбуждение становилось невыносимым, я искал губы Джулианы; и поцелуи длились до удушения, почти бешеные объятия оставляли нас еще более разбитыми, более печальными, разделенными еще более зловещей пропастью, набрасывали на нас еще одно позорное пятно.
«Дикарь! Дикарь!» Преступное намерение таилось в глубине этих приступов страсти, намерение, в котором я сам себе не осмеливался признаться. Если бы во время одного из этих сладострастных спазмов, в одно из этих жарких объятий, отделился упорный зародыш!.. Я не думал о смертельной опасности, которой подвергал Джулиану. Очевидно, если бы мог произойти подобный случай, жизнь матери была бы на краю гибели. А я прежде всего, в своем безумии, думал только о вероятности уничтожения ребенка. Только позднее я стал думать о том, что одна жизнь тесно сплетена с другой и что своими безумными попытками я покушался на ту и на другую.
Джулиана, в свою очередь, быть может подозревавшая, из каких низменных элементов слагалось мое чувство, не оказывала мне сопротивления. Немые слезы попранной души не наполняли больше ее очей. Она отвечала на мою страсть почти зловещей страстью. Иногда и вправду у нее был «пот агонии и вид трупа», и это пугало меня. Однажды она крикнула мне, вне себя, задыхающимся голосом:
— Да, да, убей меня!
Я понял. Она ждала смерти, ждала ее от меня.
XIX
Ее умение притворяться в присутствии ничего не подозревающих родных было прямо-таки невероятным. Ей удавалось даже улыбаться! Известное моим близким опасение за ее здоровье служило для меня оправданием в тех случаях, когда мне не удавалось скрыть свое настроение. Именно это опасение, разделяемое матерью и братом, не позволяло приветствовать в доме новую беременность, как это бывало раньше, а, напротив, заставляло избегать обычных намеков в разговорах. И счастье, что было так.
Наконец приехал в Бадиолу доктор Вебести.
Его визит произвел ободряющее действие. Доктор нашел Джулиану очень слабой, констатировал у нее некоторое нервное расстройство, малокровие, нарушение питания всего организма; но утверждал, что процесс беременности не представляет заметных аномалий и что, при улучшении общих условий, и самые роды протекут нормально. Кроме того, он очень полагался на исключительную натуру Джулианы, которая и в прошлом давала доказательства поразительного сопротивления недугам. Он предписал для общего укрепления организма гигиенический и диетический режим, одобрял пребывание в Бадиоле, рекомендовал четкий распорядок дня, умеренные движения и спокойствие духа.
— Я рассчитываю главным образом на вас, — сказал он мне серьезно.
Я был разочарован. Я связывал с ним надежду на спасение, и вот — теперь я терял ее. До его визита у меня была такая надежда: «А если он сочтет необходимым, ради спасения матери, пожертвовать еще бесформенным и неживым существом! Если он сочтет необходимым вызвать искусственный аборт, чтобы избегнуть верной катастрофы при своевременных родах!.. Джулиана была бы спасена и выздоровела бы; и я также был бы спасен и почувствовал бы себя способным возродиться. Я думаю, что мог бы почти забыть или, по крайней мере, примириться с прошлым. Время исцеляет столько ран, а труд утешает столько печалей. Я думаю, что мог бы мало-помалу обрести мир, оправиться, последовать примеру брата, стать лучше, сделался бы человеком, стал бы жить для других, мог бы приобщиться к новой вере. Думаю даже, что благодаря именно этому прискорбному событию я мог бы вернуть себе собственное достоинство. „Человек, которому дано страдать более других, достоин страдать более других“. Не таково ли евангельское изречение, которого придерживается мой брат? Ведь можно быть избранным через страдание. Джованни ди Скордио, например, избранный. Кто обладает этой улыбкой, обладает божественным даром. Я думаю, что мог бы заслужить этот дар…» И я надеялся. Надеялся на уменьшение кары, несмотря на то что это противоречило моей жажде искупления.
В действительности хотя я и жаждал возрождения в страдании, но боялся страдания, испытывал невыразимую боязнь стать лицом к лицу с настоящим страданием. Мой дух уже ослабел; и хотя он узрел великий путь и начал проникаться христианскими помыслами, но продолжал шествовать окольным путем, ведущим к неизбежной пропасти.
Беседуя с доктором, выражая некоторое недоверие к его ободряющему диагнозу, проявляя некоторое беспокойство, я нашел способ донести до него свою мысль. Я дал ему понять, что хочу во что бы то ни стало избавить Джулиану от опасности и что, если это необходимо, без сожаления откажусь от трехмесячного зародыша. Я просил его ничего не скрывать от меня.
Он снова успокоил меня. Он разъяснил мне, что даже в самом тяжелом случае не прибег бы к аборту, так как при том состоянии, в котором находилась Джулиана, потеря крови была бы роковой для нее. Он повторил, что прежде всего нужно принять меры к восстановлению крови, укрепить расшатанный организм, всячески стараться, чтобы больная ко времени родов окрепла и совершенно успокоилась. Он добавил:
— Думаю, что ваша жена нуждается главным образом в нравственном утешении. Я — старый друг. Знаю, что она много страдала. Вы можете поддержать ее.
XX
Моя мать, ободренная врачом, усилила свою нежность к Джулиане. Она лелеяла свою дорогую мечту, свое предчувствие. Она ждала внука, маленького Раймонд о. На этот раз она была уверена.
Мой брат тоже ждал Раймондо.
Мария и Наталья часто обращались ко мне, к матери и к бабушке со своими милыми, наивными вопросами относительно будущего товарища.
Такими предчувствиями, предсказаниями и надеждами семейная любовь начинала окружать невидимый зародыш, еще бесформенное существо.
Талия Джулианы начинала округляться.
Однажды мы с Джулианой сидели под вязами. Мать только что оставила нас вдвоем. В своей беседе она с любовью упоминала о Раймондо; она даже называла его уменьшительным именем — Мондино, — вызывая далекие воспоминания о моем покойном отце. Мы с Джулианой улыбались ей. Она была уверена, что ее мечта — наша мечта. И она оставила нас, чтобы мы продолжали мечтать.
Был час заката, ясный и спокойный час. Листья над головой не шевелились. Время от времени стая ласточек быстро рассекала воздух, с шумом крыльев, с резкими криками, как в Виллалилле.
Мы провожали взглядом обожаемую мать, пока она не скрылась. Потом взглянули друг на друга, молча, в смущении. Некоторое время хранили молчание, подавленные огромной тяжестью нашей печали. Благодаря ужасному напряжению всего своего существа я отделил от себя Джулиану, почувствовал возле себя жизнь того, кто был еще в зародыше, так, как будто бы в эту минуту никого другого, решительно никого не было около меня. И это не было обманчивым ощущением, а реальным и глубоким. И ужас пробежал по всем моим фибрам. Я сильно вздрогнул; и снова взглянул в лицо моей жены, чтобы рассеять это ощущение ужаса. Мы глядели друг на друга, растерянные, не зная, что говорить, что предпринять против этого судорожного припадка. И я видел на лице ее отражение моей скорби, читал в нем выражение своего лица. А так как взоры мои инстинктивно устремились на ее живот, то, подняв глаза, я заметил на ее лице выражение панического ужаса, напоминающего ужас одержимых страшной болезнью, который испытывают эти бедные люди, когда кто-нибудь смотрит на часть их тела, обезображенную болезнью.
Она сказала тихо, после длительной паузы, в течение которой мы оба пытались измерить наше страдание и не находили ему пределов:
— Думал ли ты, что это может длиться всю жизнь?
Я не открыл рта, но в глубине моей души прозвучал решительный ответ: «Нет, это не будет длиться».
Она прибавила:
— Помни, что одним словом ты можешь все пресечь и освободиться. Я готова. Помни об этом.
Я продолжал молчать, но подумал: «Ты не должна умереть».
Она сказала, и голос ее дрожал от скорбной нежности:
— Я не могу утешить тебя! Нет утешения ни для тебя, ни для меня; и никогда не может быть… Подумал ли ты о том, что некто всегда будет стоять между нами? Если желание твоей матери исполнится… Подумай! Подумай!
Но душа моя содрогалась от одной этой зловещей мысли. Я сказал:
— Уже все любят его.
Замолчал. Быстро взглянул на Джулиану. И тотчас же, опустив глаза, наклонил голову, спросил ее голосом, замиравшим между губами:
— Ты любишь его?
— Ах, о чем ты спрашиваешь!
Я уже не мог не настаивать, хотя и испытывал физическое страдание, как будто живую рану раздирали когтями.
— Любишь его?
— Нет, нет. Он внушает мне ужас.
Я не мог скрыть инстинктивного движения радости, как если бы в этом признании услышал согласие на мою тайную мысль, увидел соучастие. Но сказала ли она правду? Или солгала из жалости ко мне?
Меня охватило безумное желание настаивать еще, выудить у нее обстоятельное и полное признание, проникнуть в самую глубину ее души. Но ее вид удержал меня. Я отказался от этого намерения. Я уже не испытывал к ней дурных чувств, хотя она и носила в себе жизнь, от которой зависел мой приговор. Я наклонился к ней с чувством благодарности. Мне казалось, что ужас, в котором она с дрожью призналась, отделил ее от зародыша, который она питала, и приблизил ее ко мне. И я чувствовал потребность заставить ее понять все это, усилить в ней отвращение к будущему младенцу как к нашему общему непримиримому врагу.
Я взял ее за руку, сказал ей:
— Ты немного ободрила меня. Я очень благодарен тебе. Ты понимаешь… — И прибавил, скрывая под маской христианского упования свое преступное намерение: — Есть Провидение. Кто знает! И для нас может быть освобождение… Ты понимаешь какое. Кто знает. Молись Богу.
Это было пожеланием смерти грядущему ребенку; это было обетом. И, советуя Джулиане молиться Богу, дабы Он услышал ее, я приготовлял ее к роковому событию, получал от нее своего рода согласие на духовное соучастие. И даже думал: «Если бы, после моих слов, в ее душу заронилась мысль о преступлении и мало-помалу окрепла в ней и даже увлекла ее!.. Разумеется, она могла бы убедить себя в ужасной необходимости события, могла бы возвыситься до мысли о моем освобождении, ощутить порыв дикой энергии, совершить это жертвенное заклание. Разве она только что не повторила, что всегда готова умереть? Ее смерть влечет за собой смерть ребенка. Стало быть, ее не удерживает религиозный предрассудок, страх греха; будучи готовой умереть, она тем самым готова совершить двойное преступление: против самой себя и против плода чрева своего. Но она убеждена в том, что ее жизнь нужна, даже необходима тем, кто любит ее и кого она любит; и убеждена в том, что жизнь ребенка, не моего, превратит нашу жизнь в невыносимую пытку. И знает еще, что мы могли бы снова слиться друг с другом, могли бы, вероятно, вновь обрести в прощении и забвении какую-нибудь отраду, могли бы со временем надеяться на исцеление раны, если бы между мною и нею не стоял пришелец. Итак, было бы достаточно, чтобы она продумала все это, и тогда ее бесполезный обет, напрасная молитва превратится вдруг в решение и действие». Так думал я; и она тоже молчала и думала, склонив голову, все еще держа свою руку в моей, в то время как на нас опускалась тень больших неподвижных вязов.
О чем думала она? Ее лоб был, как всегда, нежный и белый, как облатка. Быть может, не только тень этого вечера, а какая-нибудь другая тень опускалась на нее?
Я видел Раймондо: не в облике исковерканного и дикого ребенка с серыми глазами, а в виде красноватого и мягкого комочка, еле-еле дышащего, которого можно было придушить легким движением.
Колокол Бадиолы ударил к вечерне. Джулиана вынула свою руку из моей и осенила себя крестным знамением.
XXI
Прошел четвертый месяц, прошел пятый; беременность быстро развивалась. Стан Джулианы, высокий, стройный и гибкий, становился толще, терял формы, как фигура больного водянкой. Она стыдилась меня, как будто была заражена постыдной болезнью. На ее лице появлялось острое страдание, когда она замечала мои пристальные взгляды, устремленные на её вздутый живот.
Я чувствовал себя разбитым, неспособным более влачить тяжесть этого несчастного существования. И в самом деле, каждое утро, когда я раскрывал глаза после тревожного сна, у меня было такое чувство, как будто кто-то подносит мне глубокую чашу, говоря: «Если ты хочешь пить, если ты хочешь жить сегодня, ты должен осушить эту чашу до последней капли, выжать всю свою кровь». Отвращение, чувство брезгливости, бесконечный леденящий ужас подымались из недр моего существа при каждом пробуждении. И все-таки нужно было жить!
Дни тянулись с жестокой медлительностью. Время не текло, а струилось по каплям, ленивое, тягучее.
А впереди было еще лето, часть осени, вечность. Я заставлял себя сопровождать брата, помогать ему в великом земледельческом труде, которому он отдался, зажечь себя его верой. Я проводил целые дни верхом, словно пастух; утомлял себя тяжкой работой, каким-нибудь нехитрым и монотонным занятием; старался притупить остроту своего сознания, вступая в общение с землепашцами, простыми и непосредственными людьми, с теми людьми, у которых унаследованные нормы морали функционировали так же естественно, как органы тела. Несколько раз я навещал святого отшельника Джованни ди Скордио; мне хотелось слышать его голос, хотелось расспросить о его печалях, хотелось снова увидеть его глаза, такие печальные, и его улыбку, такую кроткую. Но он был молчалив, немного робел передо мной; едва отвечал мне несколькими неясными словами, не любил говорить о себе; не любил жаловаться, не прерывал работы, за которой я заставал его. Его костлявые, сухие, загоревшие руки, казавшиеся отлитыми из живой бронзы, быть может, не знали усталости. Однажды я воскликнул:
— Когда же отдохнут твои руки?
Старик посмотрел на них с улыбкой; осмотрел ладони и тыльную сторону, переворачивая их на солнце. Этот взгляд, эта улыбка, это солнце, этот жест придавали большим мозолистым рукам изумительное благородство. Отвердевшие на земледельческих орудиях, освященные добром, рассеянным повсюду, и огромным трудом, которому послужили, эти руки были теперь достойны нести пальмовую ветвь.
Старик скрестил их на груди по христианскому обычаю, как на груди у покойника, и ответил, все еще улыбаясь:
— Скоро, синьор, если угодно будет Богу. Когда их сложат так в гробу. Да исполнится!..
XXII
Все средства были напрасны. Работа не помогала мне, не утешала меня, потому что была порывистой, неровной, беспорядочной, лихорадочной, часто прерывалась промежутками непреодолимой инертности, упадком настроения, душевной пустотой.
Мой брат говорил мне наставительным тоном:
— Ты поступаешь неправильно. В одну неделю ты затрачиваешь энергию, которой должно хватить на полгода, а потом начинаешь манкировать; затем снова очертя голову бросаешься на работу. Это неправильно. Для того чтобы наша работа была продуктивной, нужно, чтобы она была спокойной, дружной, гармоничной. Понимаешь? Нужно, чтобы мы сами устанавливали тот или иной метод работы. А у тебя недостаток всех новичков: излишек рвения. Впоследствии и ты угомонишься. — Мой брат еще говорил: — Ты пока не нашел равновесия. Ты еще не чувствуешь под ногами твердой почвы. Не бойся ничего. Рано или поздно ты сумеешь утвердить свой закон. Это случится как-нибудь вдруг, неожиданно, со временем. — И еще говорил: — Джулиана на этот раз, вероятно, подарит тебе наследника: Раймондо. Я уже подумал о крестном отце. Твоего сына будет держать при крещении Джованни ди Скордио. Нельзя было бы иметь более достойного крестного отца. Джованни передаст ему доброту и силу. Когда Раймондо будет взрослее, мы расскажем ему об этом великом старце. И сын твой будет таким, какими мы не смогли или не сумели быть.
Он часто возвращался к этой теме; часто говорил о ребенке, Раймондо; выражал пожелания, чтобы будущий ребенок воплотил в себе тот тип Человека, о каком он думал, был бы, если можно так выразиться, идеальным экземпляром. Он не знал, что каждое слово его наносило мне рану и делало более жгучей мою ненависть, более отчаянным мое страдание.
Никто ничего не подозревал, но все составили заговор против меня, все наперебой пытали меня. Стоило мне подойти к кому-нибудь из своих, как я начинал чувствовать себя удрученным и боязливым, как будто вынужден был стоять возле человека, держащего в руках смертоносное оружие, с которым он не умеет обращаться и опасности которого не представляет себе. И я стоял в напряженном ожидании удара. Нужно было искать уединения, бежать подальше от всех родных, чтобы хоть немного перевести дух; но в одиночестве я оставался лицом к лицу с самым злейшим врагом своим: с самим собою.
В глубине души я чувствовал, что гибну: мне казалось, что жизнь уходит через все поры моего тела. Время от времени мою душу вновь начинали терзать переживания, относившиеся к самому мрачному периоду моей прошлой жизни. Иногда в душе моей сохранялось лишь одно чувство — чувство полнейшей изолированности среди недвижимых призраков окружающего мира. В течение длинного ряда часов я чувствовал лишь тяжелое, давящее ярмо жизни и частое биение артерии в голове.
На смену являлись ирония, сарказм против самого себя, неожиданное желание рвать и метать, беспощадная насмешка, хищная злоба, острое брожение осевшей на душе мути. Мне казалось, что я более не знаю, что такое прощение, сострадание, нежность, доброта. Все внутренние родники добра закрывались, высыхали, подобно источникам, пораженным проклятием. И тогда я видел в Джулиане лишь голый, грубый факт: вздутый живот, вещественное доказательство связи с другим мужчиной; а в себе видел лишь играющего глупую роль, осмеянного мужа, тупоголового сентиментального героя плохого романа. Внутренний сарказм не щадил ни одного из моих поступков, ни одного из поступков Джулианы. Драма превращалась для меня в горькую и шутовскую комедию. Ничто более не сдерживало меня; все узы рвались, готовился полнейший разрыв. И я думал: «Для чего оставаться здесь и играть эту ненавистную роль? Уеду отсюда, вернусь в свет, окунусь в прежнюю жизнь, в разврат. Оглушу себя и погибну. Ну, так что? Я хочу быть тем, что я есть: грязью в море грязи. Ух!..»
XXIII
В один из таких тяжелых дней я решил покинуть Бадиолу, отправиться в Рим, ехать куда глаза глядят.
Предлог напрашивался сам собой. Не предвидя столь долгого отсутствия, мы оставили дом на произвол судьбы. Нужно было многое устроить так, чтобы наше отсутствие могло продолжаться до какого угодно срока.
Я заявил, что уезжаю. Убедил в необходимости своего отъезда мать, брата и Джулиану. Обещал вернуться через несколько дней. Стал готовиться к отъезду.
Накануне отъезда, поздно вечером, когда я уже закрывал чемодан, я услышал стук в дверь своей комнаты. Я крикнул:
— Войдите! — С удивлением увидел Джулиану. — А, это ты?
Подошел к ней. Она порывисто дышала, быть может, после лестницы. Я усадил ее. Предложил ей чашку холодного чаю с тоненьким ломтиком лимона, напиток, который она когда-то любила и который был приготовлен для меня. Она едва омочила в нем губы и вернула мне стакан. Глаза ее выражали беспокойство. Наконец она робко спросила:
— Значит, ты едешь?
— Да, — ответил я, — завтра утром, как тебе известно.
Наступило довольно продолжительное молчание.
В открытые окна вливалась чарующая свежесть; на подоконниках отражалась полная луна; в комнате слышалось стрекотание кузнечиков, похожее на слегка заглушенный и бесконечно далекий звук флейты.
Она спросила меня изменившимся голосом:
— Когда ты вернешься? Скажи мне правду.
— Не знаю, — ответил я.
Вновь наступило молчание. Время от времени набегал легкий ветерок, и занавески надувались. Каждый порыв ветерка приносил в комнату, к нам, любовное обаяние летней ночи.
— Ты покидаешь меня?
В ее голосе чувствовалось такое глубокое отчаяние, что крепкие узлы, которыми была стянута моя душа, вдруг развязались, уступив место кротости и состраданию.
— Нет, — ответил я, — не бойся, Джулиана. Я напишу тебе. Ведь и ты, не видя моих страданий, быть может, почувствуешь облегчение.
Она сказала:
— Никогда никакого облегчения… — В ее словах дрожали подавленные слезы. Вдруг она проговорила с выражением щемящего душу страдания: — Туллио, Туллио, скажи мне правду. Ты ненавидишь меня? Скажи мне правду!
Она спрашивала меня глазами, в которых было больше страдания, нежели в ее словах. Казалось, сама душа ее устремилась ко мне в то мгновение. И эти бедные, широко раскрытые глаза, этот чистый лоб, этот конвульсивно искривленный рот, этот заострившийся подбородок, все ее тонкое скорбное лицо, представлявшее такой контраст с позорным безобразием туловища, и эти руки, эти тонкие, скорбные руки, тянувшиеся ко мне с умоляющим жестом, возбудили во мне, более чем когда-либо, сострадание и тронули меня.
— Поверь мне, Джулиана, поверь раз и навсегда. У меня нет по отношению к тебе никакой неприязни, и никогда не будет. Мне не забыть, что я, в свою очередь, твой должник; я ничего не забываю. Неужели ты еще не убедилась в этом? Успокойся же. Думай теперь о своем освобождении. А потом… кто знает! Но, во всяком случае, я не оставлю тебя, Джулиана. Теперь же дай мне уехать. Может быть, несколько дней отсутствия будут благотворны для меня. Я вернусь успокоенным. Ведь потом потребуется много спокойствия. И больше всего моя помощь понадобится тебе…
Она сказала:
— Спасибо. Ты сделаешь со мной все, что захочешь.
Теперь, среди ночи, слышалось пение, заглушавшее глухие тоны лесной флейты: быть может, то пели молотильщики, ночевавшие на каком-либо далеком гумне, под луной.
— Слышишь? — спросил я.
Мы стали прислушиваться. Подул ветерок. Вся истома летней ночи заполнила мое сердце.
— Хочешь, пойдем посидеть там, на террасе? — ласково спросил я Джулиану.
Она согласилась и встала. Мы прошли через круглую комнату, освещенную только лунным сиянием. Большая белая волна, подобная невесомому молоку, заливала пол. В этой волне она шла на террасу впереди меня, и я мог видеть, как ее безобразная тень четко вырисовывалась на залитой светом поверхности.
Ах, где было стройное и гибкое существо, которое я сжимал в своих объятиях? Где была возлюбленная, которую я нашел под цветами сирени в апрельский полдень? И сердце вдруг наполнилось сожалением, скорбью, отчаянием.
Джулиана села и прижалась головой к железной решетке. Ее лицо, залитое лунным светом, было белее всего вокруг, белее стены. Глаза ее были полузакрыты. Ресницы бросали на щеки тень, волновавшую меня больше, нежели ее взгляд.
Мог ли я говорить?
Я повернулся в сторону долины, оперся на решетку, сжимая пальцами холодное железо. Смотрел на расстилавшийся подо мною неясный пейзаж, среди которого я различал лишь сверкание Ассоро. Порывы ветра доносили до нас обрывки песен; а во время пауз слышался тот же слегка заглушенный и бесконечно далекий звук флейты. Еще ни одна ночь не казалась мне полной такой сладости и грусти. Из глубоких тайников моей души рвался могучий, хотя и неслышный крик об утерянном счастье.
XXIV
Приехав в Рим, я раскаялся в том, что уехал из Бадиолы. В городе было нестерпимо душно, он был пустым, и мне стало страшно. Дом был немой, как могила; все вещи, хорошо знакомые мне, имели совсем другой, какой-то странный вид. Я чувствовал себя одиноким в этой ужасной пустыне; но я не отправился разыскивать друзей, не хотел ни вспоминать, ни узнавать старых приятелей. Я предпринял розыски лишь одного человека, того, который внушил мне непримиримую ненависть: я разыскивал Филиппо Арборио.
Я надеялся неожиданно встретиться с ним в каком-нибудь общественном месте. Отправился в ресторан, который он, как мне было известно, часто посещал. Прождал его там целый вечер, обдумывая повод для столкновения. Шаги каждого нового посетителя волновали мою кровь. Но он так и не пришел. Я стал расспрашивать официантов. Они давно не видели его.
Заглянул в фехтовальный зал. Зал был пуст, погружен в зеленоватую пыль, падавшую с закрытых ставен, полон того своеобразного запаха, который поднимается от свежевымытых столов. Учитель, покинутый учениками, принял меня с выражением самых теплых чувств. Я внимательно выслушал его подробный рассказ о триумфах последнего состязания учеников его школы. Потом расспросил его о нескольких друзьях, посещавших зал; наконец, навел справку и о Филиппо Арборио.
Его нет в Риме уже четыре или пять месяцев, — отвечал мой учитель. — Я слышал, что он захворал очень серьезной нервной болезнью и что едва ли оправится. Так говорил граф Галиффа. Вот и все, что я знаю о нем. — И еще добавил: — И в самом деле, он был очень слаб. Он взял здесь у меня несколько уроков. Боялся скрестить шпаги; не мог видеть острия Шпаги перед глазами…
— А Галиффа еще в Риме? — спросил я его.
— Нет, в Римини.
Через несколько минут я простился с ним.
Неожиданная новость поразила меня. Я подумал: «Если бы это была правда!» И я пожелал, чтобы он был поражен одной из тех ужасных болезней спинного мозга и спинного хребта, которые приводят человека к постепенному вырождению, к идиотизму, к самым тяжелым формам сумасшествия и, наконец, к смерти. Эти симптомы, почерпнутые мною из научных книг, воспоминания о посещении дома умалишенных, даже более детальные картины, запечатлевшиеся в моей памяти после несчастного случая, происшедшего с моим другом, бедным Спинелли, — все это быстро всплывало в моем мозгу. И я снова увидел бедного Спинелли, сидящего в большом кресле из красной кожи, с землистобледным лицом, все черты которого застыли в ледяной неподвижности, с широко разинутым ртом, полным слюны и бормочущим что-то непонятное. И увидел жест, которым он время от времени собирал в носовой платок слюну, не перестававшую стекать с углов рта. И вновь увидел белокурую и стройную сестру его, которая, с выражением страдания, подвязывала ему салфетку на шею, как ребенку, и зондом вводила в его желудок пишу, которую он не в состоянии был глотать.
Я думал: «От всего этого я только выиграю. Если бы мне пришлось драться с таким известным противником, если бы я его ранил или убил, то это событие, конечно, не осталось бы тайным; оно стало бы переходить из уст в уста, распространилось бы, обсуждалось бы всеми газетами. И могла бы даже всплыть на свет Божий истинная причина дуэли! Между тем эта ниспосланная Провидением болезнь спасает меня от всех опасений, неприятностей и сплетен. Я, пожалуй, могу отказаться от кровожадного наслаждения, от намерения покарать его собственной рукой (да и могу ли я быть уверенным в исходе?), коль скоро я знаю, что ненавистный мне человек разбит параличом, доведен до состояния беспомощности. Но верно ли это известие? А если это только временное недомогание?» Мне пришла в голову счастливая мысль. Я вскочил в экипаж и велел везти себя в книжный магазин. Дорогой я думал (с чистосердечным пожеланием) о двух самых страшных для писателя, для творца слова, для стилиста, видах мозгового расстройства: о дизартрии и аграфии. И мысленно представлял себе оба симптома.
Я вошел в книжный магазин. Сначала я не мог ничего разглядеть, так как глаза мои были ослеплены ярким светом солнца. Я расслышал чей-то гнусавый голос, спрашивавший меня, с иностранным акцентом:
— Что угодно синьору?..
Я разглядел за прилавком человека неопределенного возраста, худого, неказистого блондина, похожего на альбиноса; и я обратился к нему, называя заглавия нескольких книг. Некоторые из них он передал мне. Потом я спросил последний роман Филиппо Арборио. Альбинос подал мне «Тайну». Тогда я выдал себя за фанатичного поклонника этого романиста.
— Это последний?
— Да, синьор. Наше издательство несколько месяцев тому назад объявило о скором выходе нового романа, «Turris eburnea»!
— Ах, «Turris eburnea»!
Мое сердце забилось сильнее.
— Но я думаю, что мы не выпустим его.
— Почему же?
— Автор очень болен.
— Болен? Чем же это?
— У него прогрессивный паралич мозга, — ответил альбинос с видом особенной осведомленности, произнося эти три страшных слова.
«Ах, болезнь Джулио Спинелли!»
— Стало быть, тяжелый случай?
— Очень тяжелый, — тем же тоном ответил альбинос. — Вы знаете, что паралич не останавливается в развитии.
— Но ведь он только начался.
— Да, только начался; но в характере болезни не может быть сомнения. В последний раз, когда он был здесь, я слышал, как он говорил. Он уже с трудом выговаривал некоторые слова.
— Вы сами слышали?
— Да, синьор. Выговаривал уже неясно, запинался на некоторых словах…
Я поощрял альбиноса своим преувеличенным, почти заискивающим вниманием, с каким я относился к его словам. Я думаю, что он с готовностью перечислил бы все согласные, на которых запинался знаменитый романист.
— А где он теперь?
— В Неаполе. Доктора лечат его электричеством.
— A-а, электричеством! — повторял я с наивным изумлением, словно невежда, желая польстить тщеславию альбиноса и продлить беседу.
В узком и длинном, как коридор, магазине пробежала свежая струя воздуха. Свет был мягкий. Приказчик спокойно спал на стуле, в тени глобуса, опустив голову на грудь. Никто не входил. Хозяин развлекал меня своим смешным видом: он был такой белесоватый, со своим ртом, как у грызуна, с этим гнусавым голосом. И в тишине среди книг было очень отрадно слышать, как с такой уверенностью заявляют о неизлечимой болезни ненавистного человека.
— Стало быть, доктора надеются спасти его, — сказал я, чтобы поощрить альбиноса.
— Это невозможно.
— Мы должны надеяться, что это возможно, во славу литературы…
— Невозможно.
— Но я думаю, что бывают случаи выздоровления больных прогрессивным параличом.
— Нет, синьор, нет. Он может прожить еще два, три, четыре года; но не выздоровеет.
— А все же, я думаю…
Не знаю, откуда взялась у меня эта непринужденная веселость, с которой я издевался над этим, снабдившим меня новостями, человеком, это полное сочувствия любопытство, которым я убаюкивал свое жестокое чувство.
Конечно, я наслаждался. А альбинос, уязвленный моими возражениями, не противореча более, взобрался на деревянную лесенку, приставленную к высокому шкафу. Его тощая фигура напомнила мне одного из тех облезлых бродячих котов, которые висят на краю крыш. Взобравшись, он качнул головой защищавшую от мух полотняную полосу, протянутую из одного угла магазина в другой. Целая туча мух облепила его с пронзительным жужжанием. Он спустился с книгой: авторитетным трудом, подтверждающим смертельный исход болезни. И назойливые мухи спустились вместе с ним.
Он показал мне заглавие. То был специальный трактат по медицинской патологии.
— Сейчас убедитесь. — Он стал искать. Так как книга была не разрезана, он разъединил пальцами два листа; и, всмотревшись своими белесоватыми глазами, прочел — «Прогноз прогрессивного паралича мозга неблагоприятен…» — И прибавил: — Теперь убедились?
— Да. Но как жалко! Такой редкий ум!
Мухи не отставали. Они все вместе неистово жужжали. Осаждали меня, альбиноса и приказчика, уснувшего под глобусом.
— Сколько ему было лет? — спросил я, нарочно употребляя прошедшее время, словно говоря о покойнике.
— Кому, синьор?
— Филиппо Арборио?
— Думаю, лет тридцать пять.
— Такой молодой!
Я чувствовал какое-то странное желание засмеяться, ребяческое желание расхохотаться в самое лицо альбиносу и оставить его в недоумении. Это было какое-то особенное возбуждение, немного судорожное, никогда не испытанное, неопределимое. Меня волновало чувство, похожее на ту причудливую и неудержимую веселость, которая нередко волнует нас среди неожиданностей бессвязного сновидения. Трактат лежал раскрытым на прилавке; я наклонился, чтобы посмотреть на какой-то рисунок: то было человеческое лицо, искаженное ужасной, грубой гримасой. «Левая амимия лица». А назойливые мухи жужжали, жужжали без конца.
Я стал соображать, что предпринять. Спросил:
— Издатель не получил еще рукописи «Turris eburnea»?
— Нет, сударь; было сделано объявление; но известно только заглавие.
— Только заглавие?
— Да, сударь. И объявление пришлось снять.
— Благодарю вас. Будьте добры отослать сегодня эти книги ко мне на дом.
Я оставил свой адрес и удалился.
Очутившись на тротуаре, я почувствовал какое-то странное ощущение растерянности. Мне казалось, что позади меня остался обрывок искусственной, воображаемой, обманчивой жизни. То, что я только что делал, говорил, испытывал, и эта фигура альбиноса, его голос, его жесты — все казалось мне искусственным, носило характер какого-то сновидения, какого-то впечатления, полученного от недавно прочитанной книги, но не от соприкосновения с действительностью.
Сел в экипаж, вернулся домой. Неопределенное ощущение рассеялось. Я углубился в себя, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Я убедился, что все это было действительным, несомненным. В моей душе укрепился образ больного, подобный тому, который остался у меня в памяти о бедном Спинелли. Меня мучило новое любопытство. «Не поехать ли в Неаполь, чтобы увидеть его?» И я представлял себе жалкий вид этого тонкого интеллигента, приниженного болезнью, бормочущего, словно полуживой. Я не испытывал больше никакой радости. Вся накипь ненависти остыла. Мрачная тоска легла на мою душу. Крушение этого человека не оказывало никакого влияния на мое положение, не избавляло меня от собственного крушения. Ничто не менялось во мне, ни в моем теперешнем существовании, ни в представлении о будущем.
Я снова подумал о заглавии объявленной книги Филиппо Арборио: «Turris eburnea». Сомнения толпились в моем мозгу.
Было ли случайным совпадение этого заглавия с эпитетом известного посвящения? Или же писатель задумал создать литературный характер наподобие Джулианы Эрмиль, рассказать свое последнее приключение? И снова мучительный вопрос: какими деталями сопровождалось это приключение с начала его до конца?
И снова услышал слова, которые крикнула Джулиана в ту незабвенную ночь: «Я люблю тебя, всегда любила тебя, всегда была твоею! Этим адом я плачу за минуту слабости, понимаешь? За минуту слабости… Это правда. Разве ты не чувствуешь, что это — правда?»
Увы, как часто нам кажется, что мы слышим правду в голосе, который лжет! Ничто не может защитить нас от обмана. Но если то, что я почувствовал в голосе Джулианы, было чистой правдой, стало быть, она действительно была застигнута этим человеком в один из моментов чувственной истомы, в моем собственном доме, и в этом особом бессознательном состоянии подверглась насилию, и, придя в себя, испытала ужас и отвращение к совершившемуся, и прогнала этого человека, и больше не видалась с ним?
В самом деле, подобное предположение не наталкивалось на очевидные противоречия. Напротив, все лишний раз говорило за то, что какая бы то ни было связь между Джулианой и этим человеком окончательно и резко порвана.
«В моем собственном доме!» — вновь подумал я. И в этом немом, как склеп, доме, в этих пустых и душных комнатах меня преследовал назойливый образ…
XXV
Что делать? Оставаться еще в Риме и ждать полного помешательства среди этого зноя и томительного безделья? Поехать к морю, в горы, пить из чаши забвения среди людей света, на элегантных летних курортах? Пробудить в себе прежнего развратника, отыскать другую Терезу Раффо, какую-нибудь легкомысленную любовницу?
Два или три раза моя мысль останавливалась на Беляночке; но она совершенно испарилась из моего сердца и даже, за столь долгий промежуток времени, из памяти. «Где она теперь? Все ли еще в связи с Евгением Эгано? Что я буду испытывать, увидев ее?» Это было лишь слабым любопытством. Я понял, что моим единственным, глубоким и непобедимым желанием было вернуться туда, в мой дом мучений, к своей плахе.
Я распорядился обо всем, что было необходимо, сделал это с величайшей заботливостью, навестил доктора Вебести, телеграфировал в Бадиолу о своем возвращении и уехал.
Нетерпение жгло меня; острое томление жалило меня, словно я готов был услышать необыкновенные новости. Дорога казалась мне бесконечной. Лежа на подушках, томясь от духоты, задыхаясь от пыли, проникавшей в щели, под монотонный шум поезда, сливавшийся с однообразным пением кузнечиков и не успокаивавший меня, я думал о предстоящих ближайших событиях, взвешивал будущие возможности, старался совлечь с них мрачную тень. Отец был поражен смертельной болезнью. Какая участь ждала сына?
XXVI
Ничего нового не произошло в Бадиоле. Мое отсутствие было очень кратким. Мое возвращение приветствовали. Взгляд Джулианы выражал бесконечную благодарность.
— Ты хорошо сделал, что скоро вернулся, улыбаясь, сказала мне мать. — Джулиана так беспокоилась. Теперь, надеемся, ты больше не двинешься с места. И добавила, указывая на живот беременной:
— Разве не замечаешь увеличения? Ах, кстати, ты не забыл о кружевах? Нет? Экий забывчивый!
Сразу, с первых же минут, начались мучения.
Как только я остался наедине с Джулианой, она сказала:
— Я не надеялась, что ты так скоро вернешься. Как я благодарна тебе!
В ее позе, в ее голосе было столько робости, смирения, нежности! Контраст ее лица и остальной фигуры казался мне более резким. Для меня было очевидным какое-то особенное мучительное выражение, не сходившее с ее лица и свидетельствовавшее о постоянном страдании от позорящей и бесчестящей ее беременности, на которое обречено ее тело. Это выражение никогда не покидало ее; его было видно даже сквозь другие мимолетные выражения, которые, будучи даже очень сильными, не могли сгладить его; оно было закреплено, зафиксировано на ее лице; и нередко мое сострадание к ней рассеивало мою неприязнь и смягчало мою грубость, слишком очевидную в моменты острой проницательности.
— Что ты делала в эти дни? — спросил я ее.
— Ждала тебя. А ты?
— Ничего. Желал вернуться.
— Ради меня? — спросила она робко и смиренно.
— Ради тебя.
Она полузакрыла ресницы, и подобие улыбки задрожало на ее лице. Я чувствовал, что никогда не был так любим, как в эту минуту.
Она взглянула на меня влажными глазами и сказала:
— Благодарю тебя.
Выражение, чувство, вложенное в эти слова, напоминали мне другое благодарю, произнесенное ею в то далекое утро ее выздоровления, в утро первого моего преступления.
XXVII
Так возобновилась моя жизнь в Бадиоле и стала течь среди печали, без достойных внимания эпизодов, в то время как на солнечном циферблате медленно ползли стрелки, отягощенные монотонным треском кузнечиков, громоздившихся под вязами. Hora est benefaciendi!
Моей душою поочередно овладевали обычные порывы, потом обычные приступы инертности, обычный сарказм, обычные добрые побуждения, обычные противоречия: изобилие и бесплодность. И не раз, размышляя об этой серенькой, умеренной и всюду проникающей субстанции, которая есть жизнь, я думал: «Кто знает! Человек прежде всего — приспособляющееся животное. Нет такой гнусности, нет такого горя, с которыми он не сжился бы. Может даже случиться, что и я кончу таким приспособлением. Кто знает!»
Ирония точила меня все с большей и большей силой. «Кто знает, не окажется ли сын Филиппо Арборио, как говорится, вылитым моим портретом? Приспособление пойдет тогда легче». И я вспомнил об одном случае: мне безумно хотелось расхохотаться, когда мне сказали о ребенке (о котором я точно знал, что это плод прелюбодеяния) в присутствии законных супругов: «Весь в отца!» И сходство было изумительное, вследствие того таинственного закона, который физиологи называют «наследственностью через влияние».
По этому закону сын иногда бывает похож не на отца и не на мать, а на того человека, который жил с матерью до последнего зачатия. Женщина, вышедшая замуж во второй раз, через три года после смерти первого мужа, рождает сыновей, все черты лица которых похожи на ее первого, покойного мужа и нисколько не похожи на черты настоящего отца.
«Стало быть, возможно, что Раймондо несет на себе мой отпечаток и будет казаться подлинным Эрмилем, думал я. — Возможно, что меня будут поздравлять именно с тем, что я с такой силой наложил родовую печать на своего наследника!»
А если ожидания матери и брата не оправдаются? Если Джулиана произведет на свет третью девочку? Эта вероятность успокаивала меня. Мне казалось, что я чувствовал бы меньшее отвращение к новорожденной и мог бы, по всей вероятности, переносить ее. Она со временем удалилась бы из моего дома, получила бы другую фамилию, жила бы в другой семье.
Между тем, по мере приближения родов, нетерпение становилось более острым. Меня томило постоянное созерцание этого огромного живота, бесконечно увеличивавшегося. Меня томило вечное бесплодное волнение, вечные страхи и вечная неуверенность в завтрашнем дне. Мне хотелось ускорить события, даже если бы они привели к какой-нибудь катастрофе. Любая катастрофа была предпочтительнее этой ужасной агонии.
Однажды брат мой спросил Джулиану:
— Ну что? Сколько еще времени?
Она ответила:
— Еще месяц!
Я подумал: «Если история о минутной слабости правдоподобна, то она должна знать в точности день зачатия».
Наступил сентябрь. Лето угасло. Близилось осеннее равноденствие, самое восхитительное время года, время, которое как бы носило в себе своего рода опьянение воздухом, разлитое зрелыми виноградными лозами. Очарование мало-помалу захватывало и меня, смягчая мою душу. Порой я испытывал безумную жажду нежности, желание ласки. Мария и Наталья проводили долгие часы со мною, со мною одним, в моих комнатах или во время прогулок. Никогда я не любил их такой глубокой и нежной любовью. Из этих глаз, напоенных малосознательными мыслями, нередко спускался в глубь моей души луч мира.
XXVIII
Однажды я отправился искать Джулиану по всей Бадиоле. Был первый час пополудни. Не найдя ее в комнатах и в других местах, я пошел на половину моей матери. Двери были раскрыты, не слышно было ни голосов, ни шума; легкие занавески трепетали на окнах, сквозь которые виднелась зелень вязов; мягкий ветерок обвевал чистые стены.
Я осторожно подошел к святилищу — комнате матери. Думая, что мать спит, я тихо ступал, чтобы не потревожить ее сна. Раздвинул портьеры и просунул голову, не переступая порога. Действительно, услышал дыхание спящей. Увидел мать, спящую в кресле возле окна; за спинкой другого кресла увидел волосы Джулианы. Вошел.
Они сидели друг против друга; между ними стоял низенький стол с корзиной, полной крошечных чепчиков. Мать еще держала в руках чепчик, в котором блестела иголка. Сон застал ее со склоненной над работой головой. Она спала, опустив голову на грудь: быть может, ей что-нибудь снилось. Белая нитка в игле была еще наполовину цела, но во сне старушка, быть может, шила более драгоценной ниткой.
Джулиана тоже спала, но голова ее лежала на спинке кресла, а руки — на подлокотниках. Черты ее лица как бы растворились в сладости сна; но рот сохранял печальную складку, тень грусти: полураскрытый, он слегка обнажал бескровные десны, а у носа, между бровей, оставалась маленькая морщинка, вырытая тяжелым горем. Лоб был влажен; капля пота медленно стекала по виску. Руки, белее муслина, которым были покрыты, одним своим видом, казалось, говорили о бесконечной усталости. Но я остановил свой взгляд не на этих символах души, а на животе, который заключал в себе уже сформировавшееся существо. И еще раз, отвлекаясь от всех частей тела Джулианы и от нее самой, я почувствовал жизнь этого существа, изолированного от внешнего мира, как будто в этот момент, кроме него, никто не жил возле меня, вокруг меня. И снова это было не обманчивым ощущением, но реальным и глубоким переживанием. Ужас сковал все мои фибры.
Отвел глаза; и вновь увидел в руках матери чепчик, в котором блестела иголка; вновь увидел в корзине все эти легкие кружева, эти розовые и голубые ленточки, трепетавшие от дуновения ветра. У меня так сильно сжалось сердце, что я чуть не лишился чувств. Сколько нежности было в этих пальцах моей матери, грезящей над этой маленькой белой вещицей, которая должна будет покрыть головку ребенка — не моего!
Я не шевелился несколько минут. Это место было поистине святилищем дома, алтарем его. На одной стене висел портрет моего отца, на которого был очень похож Федерико; на другой — портрет Костанцы, на которую немного походила Мария. Лица дорогих усопших, живущие высшим существованием в памяти близких, имели магнетический, преследующий смотрящего на них, ясновидящий взгляд. Это место освящали и другие реликвии. В углу, возле плинтуса, под стеклом, стояла покрытая черной тканью маска, снятая с мертвой головы того, кого мать моя любила сильнее смерти. Однако в комнате не было ничего мрачного. Властный покой царил там и, казалось, разливался по всему дому, подобно тому как из сердца гармонически разливается жизнь.
XXIX
Вспоминаю поездку в Виллалиллу с Марией, Натальей и мисс Эдит, в одно облачное утро. И воспоминание это — туманное, неясное, смутное, как воспоминание о долгом сне, мучительном и сладком.
В саду не было больше мириад лиловых кистей, не было нежной рощи цветов, не было тройного аккорда ароматов, гармоничного, как музыка, не было могучего ликования, неумолчного крика ласточек. Слышались лишь веселые голоса и резвые игры двух ничего не ведающих девочек. Большая часть ласточек улетела; оставшиеся готовились к отлету. Мы приехали как раз для того, чтобы проститься с последними стаями.
Все гнезда были покинуты, пусты, безжизненны. Некоторые были повреждены, и на глиняных выступах дрожали еще легкие перышки. Последняя стая слетелась на крышу вдоль водосточных труб и поджидала не успевших собраться подруг. Эмигрантки расселись в ряд на краю желоба, одни повернулись к нему клювом, другие — спиной, так что видны были то их маленькие раздвоенные хвостики, то маленькие белые грудки. И, выжидая таким образом, они бросали в спокойный воздух свои призывы. Время от времени, по две, по три, к ним присоединялись запоздавшие подруги. Приближался час отлета. Призывы замолкли. Томный взгляд солнца скользил по запертому дому, по опустевшим гнездам. Ничто не казалось печальнее этих маленьких мертвых перышек, которые там и сям трепетали, застряв в глине.
Словно поднятая внезапным порывом ветра, сорвавшимся ураганом, стая снялась с сильным шелестом крыльев, врезалась в воздух наподобие вихря, замерла на мгновение над домом, потом уверенно, как будто перед нею вырисовывалась проторенная дорога, двинулась без промедления в путь, унеслась вдаль, растаяла, исчезла.
Мария и Наталья, стоя на скамейке, чтобы дольше следить за беглянками, протягивали руки и кричали:
— Прощайте, прощайте, прощайте, ласточки!
Обо всем остальном у меня осталось смутное воспоминание, словно во сне.
Мария хотела войти в дом. Я сам раскрыл двери. Сюда, по этим трем ступенькам, следовала за мною Джулиана, трепетная, легкая, как тень, и здесь обняла меня и шепнула мне: «Входи, входи». В передней еще висело между гротесками гнездо. «Теперь я твоя, твоя, твоя!» — шептала она, не отрываясь от моей шеи, но извиваясь вокруг меня, желая упасть мне на грудь и встретить мои уста. Передняя была безмолвна, ступени безмолвны; тишина окутала весь дом. Тут слышал я глухой, отдаленный шум, похожий на тот, что хранят в себе глубокие раковины. Но теперь тишина напоминала безмолвие могил. Здесь было погребено мое счастье.
Мария и Наталья без умолку щебетали, не переставали задавать мне вопросы, ко всему выказывали любопытство, бегали, раскрывали ящики комодов, шкафов. Мисс Эдит шла за ними и старалась сдерживать девочек.
— Смотри, смотри, что я нашла! — крикнула Мария, бросаясь мне навстречу.
Она нашла на дне ящика букет лаванды и перчатку. Это была перчатка Джулианы; на кончиках пальцев было черное пятно; у края его можно было прочесть надпись: «Ежевика: 27 августа 1880. Memento».[16] В моей памяти вдруг вспыхнул один из самых веселых эпизодов нашего былого счастья, отрывок идиллии.
— Разве это не мамина перчатка? — спросила меня Мария. — Отдай, отдай ее мне. Я хочу отвезти ее маме…
Обо всем остальном у меня осталось смутное воспоминание, словно о сне.
Калисто, старик сторож, говорил мне всякую всячину; я почти ничего не понял. Несколько раз он повторил пожелание:
— Мальчика, красивого мальчика, и да благословит его Бог! Красивого мальчика!
Когда мы вышли, Калисто запер дом.
— А эти благодатные гнезда? — спросил он, качая красивой, седой головой.
— Их не трогайте, Калисто.
Все гнезда были покинуты, пусты, безжизненны. Последние хозяйки их улетели. Томный взгляд солнца скользил по запертому дому, по опустевшим гнездам. Ничто не казалось печальнее этих маленьких мертвых перышек, которые там и сям трепетали, застряв в глине.
XXX
Срок родов приближался. Первая половина октября миновала. Дали знать доктору Вебести. Со дня на день могли наступить сильные мучения.
Моя тревога росла с часу на час, становилась невыносимой. Часто мною овладевал приступ безумия, похожий на тот, который однажды унес меня на плотину Ассоро. Я убегал из Бадиолы, подолгу ездил верхом, заставлял Орланда скакать через изгороди и рвы, пускал его в галоп по опасным тропинкам. Возвращались мы, я и бедное животное, покрытые потом, измученные, но всегда невредимые.
Приехал доктор Вебести. Все в Бадиоле вздохнули с облегчением, преисполнились доверием, окрылились надеждой. Одна лишь Джулиана не оживилась. Не раз я подмечал в ее глазах отблеск зловещей мысли, мрачный свет навязчивой идеи, ужас рокового предчувствия.
Родовые схватки начались: продолжались целый день с некоторыми перерывами, то сильнее, то слабее, то терпимые, то раздирающие. Она стояла, опираясь о стол, прислонившись к шкафу, стискивая зубы, чтобы не кричать; или сидела в кресле и оставалась в нем почти неподвижной, закрыв лицо руками, издавая время от времени слабый стон; или беспрерывно меняла место, ходила из угла в угол, останавливалась то в одном углу, то в другом, чтобы сжать судорожными пальцами какой-нибудь предмет. Вид ее страданий терзал меня. Будучи не в силах владеть собою, я выходил из комнаты, удалялся на несколько минут, потом снова входил, точно притягиваемый против воли; и оставался там, чтобы видеть ее страдания, не будучи в состоянии помочь ей, сказать ей слово утешения.
— Туллио, Туллио, какой ужас! Ах, какой ужас! Я никогда не страдала так, никогда, никогда!
Вечерело. Моя мать, мисс Эдит и доктор спустились в столовую. Мы с Джулианой остались одни. Еще не принесли ламп. В комнату лились фиолетовые сумерки октября; время от времени ветер ударял в окна.
— Помоги мне, Туллио! Помоги! — кричала она, вне себя от мучительных спазм, протягивая ко мне руки, смотря на меня расширенными глазами, странно белевшими в этом полумраке и придававшими лицу мертвенный оттенок.
— Скажи мне сама! Скажи сама! Что мне сделать, чтобы помочь тебе? — лепетал я, растерянный, не зная, что делать, приглаживая ее волосы у висков жестом, в который я хотел бы вложить сверхъестественную силу. — Скажи мне сама! Скажи сама! Что же? Что?
Она перестала жаловаться; смотрела на меня, слушала меня, как будто забыла о своей боли, словно оглушенная, быть может, пораженная звуком моего голоса, выражением моей беспомощности и моего волнения, дрожью моих пальцев на ее волосах, бесплодной нежностью этого бесполезного жеста.
— Ты любишь меня, правда? — спросила она, не переставая смотреть на меня, словно боясь упустить какое-нибудь выражение моего сочувствия. — Ты мне прощаешь все? — И, снова взволновавшись, проговорила: — Нужно, чтобы ты любил меня, нужно, чтобы ты меня сильно любил, именно теперь, потому что завтра меня уже не будет, потому что сегодня ночью я умру, может быть, сегодня вечером умру; и ты раскаешься, что не любил меня, что не простил меня… о, конечно, ты раскаешься… — Она казалась столь уверенной в своей смерти, что я застыл от внезапного страха. — Нужно, чтобы ты любил меня. Видишь: может быть, ты не поверил тому, что я сказала тебе в ту ночь; может быть, ты и теперь не веришь мне; но, конечно, ты поверишь мне, когда меня уже не будет. Тогда душа твоя озарится светом, тогда ты узнаешь правду; и ты будешь раскаиваться в том, что не достаточно любил меня, что не простил меня… — Судорожное рыдание сдавило ей горло. — Знаешь, почему мне так тяжело умереть? Потому, что я умираю, а ты не знаешь, как я любила тебя… как я любила тебя именно после того… Ах, какая кара! Неужели я заслужила такую кончину?
Она закрыла лицо руками. Но тотчас открыла его. Взглянула на меня, бледная, как мертвец. Казалось, еще более ужасная мысль сжала ее душу.
— А если я умру, — пробормотала она, — если я умру, а он останется живым…
— Молчи!
— Ты понимаешь…
— Молчи, Джулиана.
Я был слабее ее. Ужас сковал меня и не давал мне силы произнести слово утешения, противопоставить этим образам смерти слово жизни. И я был уверен в ужасном конце. Я смотрел в фиолетовом мраке на Джулиану, которая не сводила с меня глаз; и мне казалось, будто я вижу на этом бледном, истомленном лице признаки агонии, признаки разложения, уже начавшегося и неотвратимого. И она не могла заглушить какого-то воя, не похожего на человеческий крик; и уцепилась за мою руку.
— Помоги мне, Туллио! Помоги мне!
Она сильно сжимала мне руку, очень сильно, но все же недостаточно, потому что я хотел бы ощущать, как ногти ее вонзаются в руку, безумно жаждал физической боли, которая приобщила бы меня к ее болям. И, упершись лбом в мое плечо, она продолжала вопить. Это был вопль, который делает неузнаваемым наш голос во время приступа физического страдания, вопль, который уподобляет страдающего человека страдающему животному: инстинктивная жалоба всякой страдающей плоти, человеческой или животной.
Время от времени к ней возвращался ее голос, и она повторяла:
— Помоги мне!
И меня заражали ужасные взрывы ее мук. И я чувствовал прикосновение ее живота, где маленькое зловредное существо восставало против жизни своей матери, неумолимое, неустанное. Волна ненависти всколыхнулась в самых глубоких тайниках моего существа и, казалось, вся хлынула в мои руки с преступным побуждением. Этот порыв был неуловим; но образ уже совершившегося преступления вспыхнул в глубине моего мозга. «Ты не будешь жить».
— Ох, Туллио, Туллио, задуши меня, умертви меня! Не могу, не могу, понимаешь? Не могу больше переносить; не хочу больше страдать.
Она отчаянно вопила, озираясь вокруг безумными глазами, как бы ища чего-нибудь или кого-нибудь, кто оказал бы ей помощь, которой я не мог оказать ей.
— Успокойся, успокойся, Джулиана… Может быть, подступил момент. Мужайся! Сядь здесь. Мужайся, родная! Еще немного! Я здесь, с тобою. Не бойся.
И бросился к колокольчику.
— Доктора! Пусть сейчас придет доктор!
Джулиана утихла. Казалось, она сразу перестала страдать или, по крайней мере, замечать свои боли, пораженная новой мыслью. По-видимому, она что-то взвешивала; была погружена в свои мысли. Я едва уловил в ней эту неожиданную перемену.
— Слушай, Туллио. Если у меня будет бред…
— Что ты говоришь?
— Если потом, во время лихорадки, у меня будет бред и я умру в бреду…
— Ну?
В ее словах было такое выражение ужаса, паузы были так мучительны, что я дрожал, как лист, словно объятый паникой, еще не понимая, на что она намекала.
— Ну?
— Все будут тут вокруг меня… Если в бреду я скажу, я открою… Понимаешь? Понимаешь? Достаточно будет одного слова. А в бреду не знаешь, что говоришь. Тебе надо бы…
В это мгновение вошли мать, доктор и акушерка.
— Ах, доктор, — вздохнула Джулиана, — я думала, что умираю.
— Мужайтесь, мужайтесь! — проговорил доктор своим ласковым голосом. — Не бойтесь. Все пойдет хорошо. — И взглянул на меня. — Я думаю, — добавил он с улыбкой, — что вашему мужу хуже, нежели вам.
И указал мне на дверь.
— Идите отсюда, идите. Вам не надо быть здесь.
Я встретил беспокойный, испуганный и сочувственный взгляд матери.
— Да, Туллио, тебе лучше уйти, — сказала она. — Федерико ждет тебя.
Взглянул на Джулиану. Не обращая внимания на пришедших, она пристально смотрела на меня лучистыми глазами, полными какого-то странного блеска. В этом взгляде было все напряжение отчаявшейся души.
— Я буду в соседней комнате и никуда не уйду, — твердо проговорил я, не сводя глаз с Джулианы.
Уходя, я увидел акушерку, которая раскладывала подушки на ложе пытки, на ложе скорби, и содрогнулся, как от дуновения смерти.
XXXI
Это было между четырьмя и пятью часами утра. Родовые схватки длились с некоторыми перерывами до этого времени. Около трех часов, сидя на диване в соседней комнате, я внезапно заснул. Кристина разбудила меня; она сказала, что Джулиана хотела увидеться со мной.
Сонный, я вскочил на ноги; мысли путались.
— Я уснул? Что случилось? Джулиана…
— Не пугайтесь. Ничего не случилось. Боли утихли. Зайдите посмотреть.
Вошел. Взглянул на Джулиану.
Она лежала на подушках, бледная, как ее рубашка, полуживая от мучений. В ту же минуту встретился с ее глазами, так как они были обращены к двери в ожидании меня. Ее глаза показались мне еще более расширенными, более глубокими, более впалыми, окаймленными еще большим теневым кольцом.
— Видишь, — проговорила она замирающим голосом, — я все еще в прежнем положении.
И не сводила с меня взора. Ее глаза, как глаза княгини Лизы, говорили: «Я ждала помощи от тебя, а ты не помогаешь мне, даже ты!»
— Где доктор? — спросил я у матери, стоявшей возле Джулианы с озабоченным видом.
Она указала мне на дверь. Я направился к ней. Вошел. Увидел доктора у стола, на котором лежали разные медикаменты, черный футляр, термометр, бинты, компрессы, бутылочки, всевозможные специальные трубки. Доктор держал в руках эластичную трубку, прикрепляя к ней катетер, и вполголоса давал наставления Кристине.
— Когда же? — возбужденно спросил я его. — Что это значит?
— Пока ничего тревожного.
— А все эти приготовления?
— Это меры предосторожности.
— Но сколько продлится еще эта агония?
— Скоро конец.
— Скажите мне прямо, прошу вас. Вы предвидите печальный исход? Скажите мне прямо.
— Пока ничто не предвещает серьезную опасность. Опасаюсь, однако, кровотечения и принимаю обычные предосторожности. Я остановлю его. Доверьтесь мне и успокойтесь. Я заметил, что ваше присутствие сильно волнует Джулиану. В этот последний короткий промежуток ей нужны все силы, которые еще остались у нее. Вы обязательно должны удалиться. Обещайте слушаться меня. Войдите, когда я позову вас.
До нас донесся крик.
— Опять начинаются схватки, — сказал он. — Уже конец. Успокойтесь же!
Он направился к двери. Я последовал за ним, мы оба подошли к Джулиане. Она схватила меня за руку и сжала ее, словно клещами. Как могло остаться у нее столько силы?
— Мужайся! Мужайся! Уже конец. Все пойдет хорошо. Правда, доктор? — пробормотал я.
— Да, да. Нам нельзя терять времени. Джулиана, дайте вашему мужу уйти отсюда.
Она посмотрела на доктора и на меня расширенными глазами. Выпустила мою руку.
— Мужайся! — повторил я сдавленным голосом. Я поцеловал покрытый потом лоб и повернулся к выходу.
— Ах, Туллио! — раздался позади меня ее крик, раздирающий крик, который обозначал: «Я больше не увижу тебя».
Я хотел было вернуться.
— Уходите, уходите, — приказал доктор и повелительным жестом указал на дверь.
Пришлось подчиниться. Кто-то запер за мною дверь. Я простоял возле нее несколько минут и прислушивался; но колени у меня подгибались, биение сердца заглушало всякий другой шум. Бросился на диван, сжал зубами платок, зарылся лицом в подушку. Я тоже переживал физические муки, напоминавшие боли при медленной ампутации, производимой неопытной рукой. Вопли родильницы долетали до меня через дверь. И при каждом из этих воплей я думал: «Это последний». В промежутках слышались женские голоса: вероятно, ободрения матери и акушерки. Снова крик, более резкий и более нечеловеческий, чем раньше. «Это последний». И, потеряв самообладание, вскочил на ноги.
Не мог двинуться с места. Прошло несколько минут, прошло несчетное количество времени. Как молниеносные вспышки, прорезали мозг мысли, образы. «Родился? А если она умерла? А если оба умерли? Мать и сын? Нет. Нет. Она, вероятно, умерла, а он жив. Но почему не слышно его крика? Кровотечение, кровь…» Увидел красное озеро, а в нем — захлебывающуюся Джулиану. Превозмог сковывавший меня ужас и бросился к двери. Открыл ее, вошел.
Услышал вдруг суровый голос хирурга, который кричал:
— Не подходите! Не тревожьте ее! Хотите убить ее?
Джулиана казалась мертвой, бледнее подушки, неподвижной. Моя мать наклонилась над ней с компрессом в руках. На постели и на полу алели большие пятна крови. Хирург приготовлял ирригатор с какой-то спокойной и размеренной озабоченностью: руки у него не дрожали, хотя лоб был нахмурен. В углу дымился таз с кипящей водой. Кристина наливала кувшином воду в другой таз, опустив в него термометр. Другая женщина несла в соседнюю комнату вату. Воздух был пропитан запахом нашатыря и уксуса.
Мельчайшие детали этой сцены, схваченные одним взглядом, неизгладимо запечатлелись в моем мозгу.
— До пятидесяти градусов, — сказал доктор, обращаясь к Кристине. — Будьте внимательны!
Я озирался вокруг, не слыша крика младенца. Кого-то еще недоставало здесь.
— А ребенок? — спросил я с дрожью в голосе.
— Он там, в другой комнате. Подите взглянуть на него, — сказал мне доктор. — Оставайтесь там.
Отчаянным жестом я указал ему на Джулиану.
— Не бойтесь. Дайте сюда воду, Кристина.
Я вошел в другую комнату. До меня донесся очень слабый, едва слышный крик ребенка. Увидел на ватной подстилке красноватое тельце, местами посиневшее, под руками акушерки, растиравшей ему спинку и подошвы.
— Подойдите, подойдите, сударь; идите взглянуть, — сказала акушерка, продолжая растирать ребенка. — Идите взглянуть на этого славного мальчугана. Он не дышал, но теперь нет опасности. Взгляните, что за мальчишка!
Она перевернула ребенка, положила его на спину, показала мне.
— Посмотрите!
Схватила ребенка и подняла его в воздух. Крики становились немного сильнее.
Но у меня в глазах было какое-то непонятное мелькание, туманившее мне зрение; во всем существе моем было какое-то странное отупение, парализовавшее точное восприятие всех этих реальных и грубых явлений.
— Посмотрите же! — повторила еще раз акушерка, снова положив на вату кричавшего младенца.
Он теперь кричал громко. Дышал, жил! Я наклонился над этим трепетным тельцем, которое пахло ликоподием, наклонился, чтобы рассмотреть его испытующим взором, чтобы найти отталкивающее сходство. Но крошечное, пухленькое, еще немного синеватое личико, с выступающими глазными впадинами, с распухшим ртом, с косым, бесформенным подбородком, почти не имело человеческого вида, вызывало во мне лишь отвращение.
— Когда родился, — пробормотал я, — когда родился, не дышал…
— Не дышал, сударь. Легкая асфиксия.
— Как это?
— Пуповина, оказалось, опутала шею. А кроме того, вероятно, проникновение черной крови…
Она говорила, не переставая ухаживать за ребенком; а я смотрел на эти сухопарые руки, которые спасли ребенка и теперь бережно заворачивали пуповину в какую-то смазанную салом тряпочку.
— Джулия, дайте мне бинт. — И, бинтуя живот ребенка, добавила: — Теперь все благополучно. Да благословит его Бог!
И ее опытные руки взяли маленькую головку как бы для того, чтобы разгладить черты лица. Ребенок кричал все сильнее; кричал, словно в бешеном гневе, корчась всем тельцем, сохраняя асфиксический вид, синеватую красноту, все, что внушало мне такое отвращение. Кричал все сильнее, как бы давая мне доказательство своей жизнеспособности, как бы бросая мне вызов, доводя меня до отчаяния.
Он жил, жил!.. А мать!
Обезумев от этого зрелища, я снова вошел в комнату роженицы.
— Туллио!
То был голос Джулианы, слабый, как голос человека, находящегося в агонии.
XXXII
Непрерывная струя нагретой до высокой температуры воды, которую лили около десяти минут, остановила кровотечение. И теперь роженица отдыхала на своей постели в алькове.
Я сидел у ее изголовья и молча, с тяжелым чувством смотрел на нее. Она, по-видимому, не спала. Но страшная слабость парализовала все ее движения, стерла все признаки жизни; казалось, душа вышла из ее тела. Глядя на ее смертельно бледное, восковое лицо, я видел еще эти кровавые пятна, всю эту бедную кровь, пропитавшую простыни, просочившуюся через матрацы, обагрившую руки хирурга. «Кто вернет ей всю эту кровь?» Я сделал было инстинктивное движение, чтобы прикоснуться к ней, так как мне казалось, что она стала холодной как лед. Но меня удержало опасение потревожить ее. Несколько раз, во время этого продолжительного созерцания, мною овладевал внезапный страх, и я готов был вскочить и бежать за доктором. Переходя от одной мысли к другой, я разворачивал связку корпии, то и дело расплетал кончик ее и время от времени, охваченный непроходившим беспокойством, с необычайной осторожностью подносил его к губам Джулианы и по колебанию легких ниточек судил о силе ее дыхания.
Она лежала на спине; голова покоилась на низкой подушке. Распущенные каштановые волосы окаймляли ее лицо, делая его черты более нежными и более восковыми. На ней была рубашка, застегнутая у шеи и у кистей рук; руки лежали на простыне, вытянутые, такие бледные, что отличались от ткани лишь голубыми жилками. Какая-то сверхъестественная доброта излучалась этим бедным созданием, бескровным и неподвижным; доброта, проникавшая во все мое существо, переполняла мое сердце. И казалось, Джулиана повторяла: «Что ты сделал со мною?» Ее лишенный краски рот с отвисшими уголками, свидетельствующий о смертельной усталости, сухой, искаженный невыносимыми конвульсиями, истомленный нечеловеческими криками, казалось, все время повторял: «Что ты сделал со мною?»
Я смотрел на это хрупкое тело, которое образовывало едва заметный рельеф на поверхности постели. Так как событие совершилось, так как она наконец освободилась от ужасного бремени, так как другая жизнь наконец навсегда отделилась от ее жизни, то это инстинктивное чувство отвращения, эти внезапные приступы неприязни не возобновлялись во мне более и не затуманивали чувства нежности и сожаления. Теперь я чувствовал к ней только бесконечную нежность и безмерную жалость, как к самому лучшему и самому несчастному из созданий. Теперь вся душа моя сосредоточилась на этих бедных устах, которые с минуты на минуту могли испустить последний вздох. Смотря на эти бледные уста, я с глубокой искренностью думал: «Как я был бы счастлив, если бы мог перелить ей в жилы половину моей крови!»
Слушая легкое тиканье часов, лежавших на ночном столике, ощущая, как отмеряется время в этом ровном беге минут, я думал: «А он живет». И этот бег времени вызывал во мне какую-то своеобразную тоску, нисколько не похожую на другие переживания, неопределенную тоску.
Я думал: «Он живет, и жизнь его упорна. Когда он родился, он не дышал. Когда я видел его, на его теле еще были заметны все признаки асфиксии. Если бы меры, предпринятые акушеркой, не спасли его, он был бы теперь лишь маленьким синим трупиком, безвредной, ничего не значащей вещью, о которой, вероятно, тут же можно было забыть. Я бы должен был заботиться только о выздоровлении Джулианы. Я не выходил бы отсюда, был бы самой усердной и нежной сиделкой; мне удалось бы с успехом перелить в Джулиану жизнь, совершить чудо силой любви. Она не могла бы не выздороветь. Мало-помалу она воскресла бы, обновленная свежей кровью. Казалась бы новым существом, очищенным от всей грязи. Мы оба чувствовали бы себя очищенными, достойными друг друга, после столь долгого и столь тяжкого испытания. Болезнь и выздоровление отбросили бы печальное воспоминание в бесконечную даль. И я старался бы изгладить из ее души даже самую тень воспоминания; старался бы дать ей полное забвение в любви. Всякая другая человеческая любовь казалось бы ничтожной в сравнении с нашей после этого великого испытания».
Я уносился в светлые, почти мифические грезы об этом воображаемом будущем, и в то же время под моим пристальным взглядом лицо Джулианы обретало какую-то нематериальность, на нем было выражение сверхъестественной доброты, как будто она уже рассталась с этим миром, как будто вместе с этим потоком крови она извергла из себя все, что оставалось еще грубого и нечистого в ее существе, и перед лицом смерти обрела чистую духовную сущность. И не мучил меня больше, не казался больше страшным немой вопрос: «Что ты сделал со мною?» Я отвечал: «Разве через меня ты не стала сестрой Скорби? Разве душа твоя в страдании не вознеслась в заоблачную высь, с которой могла видеть мир в необычном свете? Разве через меня ты не получила откровения высшей правды? Что значат наши заблуждения, наши падения, наши грехи, если нам удалось сорвать с наших очей завесу, если нам удалось освободиться от самого низменного, что есть в нашем жалком существе? Нам дано будет высшее блаженство, которого могут желать лишь избранные в этом мире: духовно возрождаться».
Я грезил. Альков был безмолвен, царил таинственный мрак, лицо Джулианы казалось мне сверхчеловеческим; и мое созерцание казалось мне торжественным, так как я чувствовал в воздухе присутствие невидимой смерти. Вся душа моя сосредоточилась в этих бледных устах, которые с минуты на минуту могли испустить последний вздох. И вот эти уста шевельнулись, испустили стон. Болезненная судорога изменила черты лица, застыла на нем. Складки лба стали глубже, кожа у век слегка вздрогнула, между ресницами сверкнула извилистая полоска света.
Я наклонился над страждущей. Она открыла глаза и сейчас же закрыла их. Казалось, она не видела меня. В глазах, словно пораженных слепотой, не было взгляда. Не последствие ли это анемии? Не ослепла ли она вдруг?
Я услышал чьи-то шаги в комнате. «Если бы доктор!» Вышел из алькова. В самом деле, увидел доктора, мать и акушерку; они входили в комнату. За ними шла Кристина.
Спит? — чуть слышно спросил меня доктор.
— Стонет. Вероятно, еще страдает!
Говорила?
— Нет.
Ни в каком случае нельзя беспокоить ее. Имейте это в виду.
— Она только что открыла глаза, на одну секунду. Мне показалось, что она ничего не видит.
Доктор вошел в альков, сделав нам знак, чтобы мы не шли за ним. Мать сказала мне:
— Ступай себе. Теперь будут менять повязки. Уходи. Идем посмотреть на Мондино. Федерико тоже там.
Она взяла меня за руку. Я дал увести себя.
— Он уснул, — добавила она. — Спит спокойно. Сегодня днем приедет кормилица.
Несмотря на то что она была печальна и обеспокоена состоянием Джулианы, ее глаза улыбались, когда она говорила о ребенке; все лицо ее озарялось нежностью.
По приказанию доктора ребенку отвели комнату подальше от комнаты роженицы: большую, просторную комнату, хранившую много воспоминаний нашего детства. Войдя, я тотчас же увидел возле колыбели Федерико, Марию и Наталью, которые, наклонившись, смотрели на спящего малютку. Федерико обратился ко мне и прежде всего спросил:
— Как чувствует себя Джулиана?
— Плохо.
— Не спит?
— Страдает.
Помимо желания я отвечал резко. Какая-то сухость вдруг овладела моей душой. Я чувствовал лишь непреодолимое и нескрываемое отвращение к этому пришельцу, а также горечь и неприязнь за мучения, причиняемые мне ничего не подозревающими близкими. Как я ни старался побороть это чувство, мне не удавалось скрыть его. И вот теперь я, моя мать, Федерико, Мария и Наталья стояли возле колыбели и смотрели на спящего Раймондо.
Он был закутан в пеленки, на голове у него был украшенный кружевами и лентами чепчик. Лицо казалось менее распухшим, но было еще красным, лоснящимся у щек, как кожица на едва затянувшейся ране. В уголках рта виднелось несколько пузырьков слюны; веки без ресниц, распухшие по краям, прикрывали выпуклые глазные впадины.
— На кого же он похож? — спросила мать. — Я еще не могу определить сходства…
— Он слишком мал еще, — сказал Федерико. — Надо подождать несколько дней.
Моя мать два-три раза взглянула на меня и на ребенка, как будто сравнивая черты наших лиц.
— Нет, — сказала она. — Быть может, он больше похож на Джулиану.
— Сейчас он ни на кого не похож, — возразил я. — Он ужасен. Разве ты не видишь?
— Ужасен?! Да он просто прелесть! Посмотри, какие волосы! — И она приподняла пальцами чепчик и медленно-медленно высвободила из-под него мягкий череп, на котором торчало немного темных волос.
— Бабушка, позвольте мне потрогать! — попросила Мария, протягивая руку к голове брата.
— Нет, нет. Ты хочешь разбудить его?
Этот череп, казалось, был слеплен из размякшего от жары, маслянистого, грязноватого воска; и казалось, что малейшее прикосновение могло бы оставить след на нем. Мать прикрыла его. Потом наклонилась и с бесконечной нежностью поцеловала ребенка в лоб.
— И я тоже, бабушка! — просила Мария.
— Но, пожалуйста, осторожно!
Колыбель была слишком высока.
— Подыми меня! — сказала Мария Федерико.
Федерико поднял ее на руки; и я увидел прелестный розовый ротик моей дочери, сложившийся для поцелуя и готовый коснуться лобика брата, увидел ее длинные кудри, рассыпавшиеся по белым пеленкам.
Федерико тоже поцеловал ребенка. Потом взглянул на меня. Я не улыбался.
— А я? А я?
И Наталья уцепилась за край колыбели.
— Пожалуйста, осторожно!
Федерико поднял и ее. И снова я увидел дивные кудри, рассыпавшиеся по белым пеленкам, и нежную сцену поцелуя. Я стоял там, словно застывший, и взгляд мой, вероятно, должен был выражать мрачное чувство, овладевшее мной. Эти поцелуи столь дорогих мне родных, конечно, не придавали этому пришельцу более отталкивающего вида, но делали его еще более ненавистным мне. Я чувствовал, что для меня совершенно немыслимо было бы дотронуться до этого чужого куска мяса, хоть как-нибудь внешне проявить отцовскую любовь. Мать с беспокойством смотрела на меня.
— Ты не целуешь его? — спросила она.
— Нет, мама, нет. Он слишком истерзал Джулиану. Не могу простить ему…
И я инстинктивным движением, с нескрываемым отвращением отшатнулся. Изумленная мать первое мгновение не могла произнести ни слова.
— Да что ты говоришь, Туллио? Чем виноват этот бедный ребенок? Будь же справедлив.
Мать, несомненно, заметила искренность моего отвращения. Мне не удавалось преодолеть его. Все мои нервы восставали против этого.
— Нет, не могу сейчас, не могу… Оставь меня, мама. Это пройдет…
Мой голос был резким и решительным. Я весь содрогался. Какой-то ком сжимал мне горло, мускулы лица подергивались. После стольких часов невероятного напряжения все мое существо нуждалось в покое. Мне, кажется, было бы легче, если бы я разразился рыданиями; но ком крепко стягивал горло.
— Ты очень огорчаешь меня, Туллио, — сказала мать.
— Хочешь, чтобы я поцеловал его? — вне себя крикнул я.
И подошел к колыбели, наклонился над ребенком, поцеловал его.
Ребенок проснулся, начал кричать, сначала тихо, потом с усиливающейся яростью. Я увидел, как кожа на лице покраснела, сморщилась от напряжения, а белый язык дрожал в раскрытом рту. Хотя отчаяние переполнило мое сердце, но я заметил, что совершил ошибку. Я почувствовал взгляды Федерико, Марии и Натальи, пристальные взгляды, от которых не мог отделаться.
— Прости меня, мама, — пробормотал я. — Сам не знаю, что делаю. Перестал соображать. Прости меня.
Она вынула из колыбели ребенка и взяла его на руки, но не могла успокоить его. Крики его больно терзали меня, раздирали мою душу.
— Идем, Федерико.
Поспешно вышел. Федерико последовал за мною.
— Джулиане так плохо. Не понимаю, как можно думать в эту минуту о чем-нибудь другом, кроме нее, — сказал я, как бы оправдываясь. — Ты не видел ее? Она похожа на умирающую.
XXXIII
В течение нескольких дней Джулиана находилась между жизнью и смертью. Она была так слаба, что самое незначительное усилие вызывало обморок. Она должна была все время лежать на спине совершенно неподвижно. Малейшая попытка подняться вызывала симптомы мозговой анемии. Ничем нельзя было остановить мучившей ее тошноты, освободить ее грудь от кошмара, прекратить шум, который она непрерывно слышала.
Я проводил дни и ночи у ее изголовья, не смыкая глаз, не раздеваясь, поддерживаемый какой-то безграничной энергией, которой сам удивлялся. Всеми силами своей жизни я поддерживал другую жизнь, готовую погаснуть. Мне казалось, что на другой стороне изголовья стояла Смерть, настороже, готовая воспользоваться удобным моментом, чтобы увлечь с собою добычу. По временам у меня и в самом деле было такое ощущение, будто я переливаюсь в хрупкое тело больной, передаю ей постепенно свою силу, даю толчок ее усталому сердцу. Неприятные проявления ее болезни не вызывали во мне никакого отвращения, никакой брезгливости. Никакая грубая материя не могла оскорбить нежности моих чувств. Эти не в меру обострившиеся чувства сосредоточились лишь на том, чтобы улавливать малейшие изменения в состоянии больной. Прежде чем она произносила слово, прежде чем она делала какой-нибудь знак, я угадывал ее желание, ее нужду, степень ее страдания. Благодаря этому чувству предвидения мне, без каких-либо предписаний врача, удалось найти новые оригинальные способы облегчать ее страдания, успокаивать боли. Я один мог убедить ее поесть, убедить ее уснуть. Я прибегал ко всякого рода просьбам и ласкам, чтобы заставить ее проглотить немного лекарств. Я делал это с такой настойчивостью, что она, будучи не в силах отказываться, должна была решаться на спасительное для нее усилие преодолеть тошноту. И для меня не было ничего приятнее слабой улыбки, с которой она подчинялась моей воле. Всякий, даже малейший акт ее повиновения глубоко волновал мое сердце. Когда она говорила своим слабым голосом: «Ну как? Я хорошая?» — у меня сжималось горло и глаза затуманивались.
Она часто жаловалась на мучительный стук в висках, который не давал ей покоя. Я проводил по ее вискам кончиками своих пальцев, чтобы унять ее муки. Я тихо-тихо гладил ее по волосам, чтобы усыпить ее. Когда я замечал, что она уснула, ее дыхание внушало мне обманчивое ощущение облегчения, как будто благодетельный сон нисходил на меня. К этому сну я испытывал религиозное чувство, меня охватывало бесконечное рвение, я испытывал потребность верить в какое-нибудь высшее существо, всевидящее, всемогущее, к которому я обращался с молитвами. Сами собой подымались из глубины моей души христианские формы молитвенных прелюдий. Иногда внутреннее красноречие возносило меня до вершин истинной веры. Во мне пробуждались все мистические чувства, переданные мне длинным рядом католических предков.
Произнося про себя молитву, я смотрел на спящую. Она все еще была бледна, как рубашка. Сквозь прозрачность кожи я мог бы сосчитать жилки на ее щеках, на подбородке, на шее. Я смотрел на нее, как бы надеясь уловить благотворные результаты этого отдыха, медленный прилив свежей крови, претворенной из пищи, первые заметные признаки выздоровления. Я хотел бы обрести сверхъестественную возможность присутствовать при этой таинственной работе возрождения, происходившей в этом надломленном теле. И не переставал надеяться: «Когда она проснется, то почувствует себя бодрее».
Казалось, она испытывала большое облегчение, когда держала мою руку в своих холодных как лед руках. Иногда она брала мою руку, клала ее на подушку и детским движением прижималась к ней своей щекой; и мало-помалу засыпала в такой позе. Я был способен очень долго неподвижно держать онемевшую руку, лишь бы не разбудить ее.
Иногда она говорила:
— Почему и ты не спишь здесь, возле меня? Ты никогда не спишь.
И просила меня положить голову на ее подушку.
— Ну, давай спать.
Я притворялся спящим, чтобы заразить ее хорошим примером. Но когда снова раскрывал глаза, то встречал ее широко раскрытые глаза, которые смотрели на меня.
— Ну? — восклицал я. — Что ты делаешь?
— А ты? — отвечала она.
В ее глазах было выражение такой мягкой нежности, что я чувствовал, как все у меня внутри тает от умиления. Я протягивал губы и покрывал поцелуями ее веки. Она выражала желание делать со мною то же самое. Потом повторяла:
— Ну, будем спать.
И нередко на наши истомленные горем души спускался покров забвения.
Часто ее неподвижные ноги были холодны как лед. Я ощупывал их под одеялами, и они казались мне мраморными. Она сама говорила мне:
— Они мертвые.
Они были худые, тонкие, такие миниатюрные, что я почти мог охватить их пальцами одной руки. Они вызывали во мне особенную жалость. Я сам согревал на жаровне шерстяную материю и неустанно заботился о них. Я хотел бы согреть их своим дыханием, покрыть их поцелуями. К этому новому чувству жалости примешивались отдаленные воспоминания о любви, воспоминания о том счастливом времени, когда я неизменно одевал их по утрам и раздевал по вечерам своими собственными руками, стоя на коленях, словно творя привычную молитву.
Однажды, после ряда бессонных ночей, я так устал, что неодолимый сон застиг меня как раз в ту минуту, когда я держал руки под одеялом и заворачивал в теплую материю эти маленькие мертвые ноги. Голова моя упала, и я заснул в такой позе.
Проснувшись, я увидел в алькове мать, брата и доктора, которые с улыбкой смотрели на меня. Я не знал, куда деваться от смущения.
— Бедный сынок! У тебя нет больше сил, — сказала мать, поправляя мне волосы одним из самых нежных своих жестов.
А Джулиана сказала:
— Мама, уведи ты его. Федерико, уведи его отсюда.
— Нет, нет, я не устал, — повторял я. — Не устал.
Доктор объявил о своем отъезде. Он сказал, что больная уже вне опасности, на пути к верному выздоровлению. Нужно было стараться всяческими способами содействовать восстановлению крови. Его коллега, Джемма ди Тусси, с которым он переговорил, после чего они пришли к согласию относительно методов лечения, будет продолжать лечение, которое, впрочем, не отличается особенной сложностью. Более, чем на лекарства, он полагался на строгое соблюдение установленных им различных гигиенических и диетических предписаний.
— Право, — добавил он, указывая на меня, — я не мог бы желать более разумной, более заботливой, более преданной сиделки. Он совершил чудеса и еще совершит их. Я уезжаю совершенно спокойным.
Мне показалось, что какой-то комок подступил мне к горлу и я задыхаюсь. Неожиданная похвала этого сурового человека в присутствии матери и брата глубоко взволновала меня; она была для меня великой наградой. Я взглянул на Джулиану и увидел, что глаза ее были полны слез. И, взволнованная моим взглядом, она вдруг разразилась рыданиями. Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы удержаться от слез, но мне не удалось. Мне показалось, что душа моя переполнилась. Вся доброта мира сосредоточилась в моей груди в этот незабвенный час.
XXXIV
С каждым днем медленно восстанавливались силы Джулианы. Мое рвение не ослабело. Я не преминул воспользоваться последними словами доктора Вебести, чтобы усилить свою бдительность, не допустить других заменять меня, не слушаться матери и брата, советовавших мне передохнуть. Отныне мое тело привыкло к суровой дисциплине и больше не утомлялось. Вся жизнь моя протекала в стенах этой комнаты, сосредоточилась в интимности этого алькова, в пространстве, где дышала дорогая больная.
Так как она нуждалась в абсолютном покое и должна была мало говорить, чтобы не утомляться, то я настаивал на удалении от ее постели даже самых близких людей. Таким образом этот альков оказался отделенным от остального дома. Целыми часами мы с Джулианой оставались одни. А так как она была во власти болезни, а я был поглощен уходом за нею, то временами мы совершенно забывали о своем горе, утрачивали сознание действительности и сознавали только нашу безмерную любовь. Порой мне казалось, что ничто не существует за пределами этого полога, так сильно все мое существо отдавалось больной. Ничто не напоминало мне об ужасном факте. Я видел перед собой страдающую сестру и был озабочен только тем, как облегчить ее страдания.
Нередко покров этого забвения грубо разрывался. Мать говорила о Раймондо. Однажды покров раздвинулся, чтобы впустить пришельца.
Мать принесла его на руках. Я был возле Джулианы. Почувствовал, что побледнел, потому что вся кровь хлынула к сердцу. А что испытывала Джулиана?
Я смотрел на это красноватое лицо, пухлое, как кулак, полузакрытое вышитым чепчиком, и с жестоким отвращением, заглушавшим в моей душе всякое другое чувство, подумал: «Что сделать, чтобы освободиться от тебя? Почему ты не задохся?» Моя ненависть была беспредельна; была инстинктивной, слепой, непобедимой, плотской, если можно так выразиться, и в самом деле казалось, будто она засела в моем теле, струилась из всех моих фибр, из всех моих нервов, из всех моих жил. Ничто не могло подавить ее, ничто не могло уничтожить ее. Достаточно было присутствия этого пришельца в любой час, при любых обстоятельствах, чтобы внутри меня мгновенно все воспламенялось и я оказывался во власти одного-единственного чувства: ненависти к нему.
Мать сказала Джулиане:
— Посмотри, как он изменился за несколько дней! Он больше похож на тебя, чем на Туллио; но скорее всего, ни на тебя, ни на него. Он еще слишком мал. Увидим потом… Хочешь поцеловать его?
Она приблизила лоб ребенка к губам больной! Что испытала тогда Джулиана?
Но ребенок начал плакать. У меня хватило сил сказать матери без горечи:
— Унеси его, прошу тебя. Джулиане нужен покой. Эти волнения очень вредят ей.
Мать вышла из алькова. Плач усиливался и все время возбуждал во мне одно и то же чувство раздирающей скорби и желание побежать и придушить его, чтобы его больше не было слышно. Еще некоторое время, пока уносили ребенка, мы слышали этот крик. Когда он наконец прекратился, тишина показалась мне гнетущей; она обрушилась на меня, как камень, раздавила меня. Но я не углубился в эти муки, потому что тотчас же подумал о том, что Джулиане нужна поддержка.
— Ах, Туллио, Туллио, это невозможно…
— Молчи, молчи, если ты меня любишь, Джулиана. Молчи, прошу тебя.
Я умолял ее словами, жестами. Вся враждебность моя прошла; и я страдал лишь ее страданием, боялся лишь вреда, причиненного больной, последствий удара, нанесенного этой столь хрупкой жизни.
— Если ты любишь меня, то не должна думать ни о чем, кроме выздоровления. Вот видишь? Я думаю только о тебе, страдаю только за тебя. Нужно, чтобы ты перестала мучиться; нужно, чтобы ты вся отдалась моей нежности, тогда ты выздоровеешь…
Она сказала своим дрожащим, слабым голосом:
— Но кто знает, что в глубине души переживаешь ты! Бедный мой!
— Нет, нет, Джулиана, не мучь себя! Я страдаю только из-за тебя, когда вижу, что ты страдаешь. Я все забываю, когда ты улыбаешься. Когда ты чувствуешь себя хорошо, я счастлив. Если ты любишь меня, то, значит, должна выздороветь, должна быть спокойной, послушной, терпеливой. Когда ты выздоровеешь, когда станешь сильнее, тогда… кто знает! Бог милостив.
Она прошептала:
— Боже, сжалься над нами.
«Каким образом? — подумал я. — Только заставив умереть пришельца». Итак, мы оба жаждали его смерти; стало быть, и она не видела другого исхода, кроме исчезновения ребенка. Да и не было иного исхода. И мне вспомнился краткий разговор, который происходил когда-то между нами, при закате солнца, под вязами; и вспомнилось ее скорбное признание. «Но теперь, когда он родился, продолжает ли она ненавидеть его? Может ли она чувствовать искреннее отвращение к плоти от плоти своей? Искренно ли просит она Бога, чтобы он взял к себе ее дитя?» И снова воскресла во мне безумная надежда, мелькнувшая в тот трагический вечер: «Если бы зародилась в ней мысль о преступлении и мало-помалу овладела ею с такой силой, что увлекла бы ее!..» Разве на одно мгновение не мелькнула у меня мысль о неудачной преступной попытке, когда я смотрел, как акушерка растирала спину и подошвы посиневшего тельца обмершего младенца! Но и эта мысль была безумной. Джулиана, конечно, никогда не посмела бы…
И я смотрел на ее руки, вытянутые на простыне, такие бледные, что только голубоватые жилки отличали их от ткани.
XXXV
Странное чувство грусти овладело мной теперь, когда больной с каждым днем становилось лучше. В глубине души у меня шевелилось смутное сожаление о тех серых печальных днях, проведенных в алькове, в то время когда осенние поля заволакивала однообразная мутная дождевая сеть. В тех утрах, в тех вечерах, в тех ночах, несмотря на их грусть, была своя томительная сладость. Подвиг моей доброты казался мне с каждым днем прекраснее. Безграничная любовь переполняла мою душу, иногда вытесняя мрачные мысли, иногда заставляя меня забывать об ужасном факте; она пробуждала во мне утешительные иллюзии, неопределенные грезы. Там, за пологом, я нередко испытывал чувство, похожее на то, которое переживается в тени уединенных часовен: я чувствовал себя защищенным от жизненных бурь, от случайных грехов. Временами мне казалось, что этот легкий полог отделяет меня от пропасти. И меня охватывал внезапный страх перед неведомым. Ночью я прислушивался к безмолвию, царившему во всем доме и вокруг меня; и видел, глазами своей души, в глубине отдаленной комнаты, при свете лампады, колыбель, в которой спал пришелец, кумир моей матери, мой наследник. Я весь содрогался от ужаса; и подолгу оставался как бы загипнотизированным этим зловещим мельканием одной и той же мысли. Этот полог отделял меня от пропасти.
Но теперь, когда Джулиане со дня на день становилось лучше, причины моего уединения делались менее уважительны; и мало-помалу общая домашняя жизнь врывалась в эту спокойную комнату. Моя мать, брат, Мария, Наталья, мисс Эдит приходили довольно часто и довольно долго просиживали в ней. Раймондо начинал претендовать на материнскую нежность. Ни мне, ни Джулиане не удавалось более избегать его. Нужно было часто целовать его, улыбаться ему. Нужно было притворяться, и притворяться искусно, переносить все эти, порой весьма утонченные, жестокости, медленно гибнуть.
Вскормленный здоровым и питательным молоком, окруженный бесконечными заботами, Раймондо мало-помалу терял свой отталкивающий вид, начинал полнеть, белеть, принимать более определенные формы, хорошо раскрывать свои серые глаза. Но все его движения были ненавистны мне, начиная с губ, присосавшихся к груди, и кончая бессознательными движениями его маленьких рук. У меня никогда не возникало желания признать в нем грацию, миловидность; всегда мои мысли о нем были враждебными. Если я вынужден был прикасаться к нему, когда моя мать подносила мне его для поцелуя, я чувствовал, как по всей поверхности моего тела пробегала такая же дрожь, какая бывает, когда коснешься нечистого животного. Все фибры мои противились этому; и все усилия побороть себя были тщетны.
Каждый день приносил мне какую-нибудь новую пытку; и моя мать была свирепым палачом. Однажды, неожиданно войдя в комнату и раздвинув полог алькова, я увидел ребенка на постели возле Джулианы. В комнате больше никого не было. Только мы трое были там. Ребенок, завернутый в белые пеленки, спокойно спал.
— Мама оставила его здесь, — пробормотала Джулиана.
Я выбежал, как сумасшедший.
В другой раз Кристина пришла звать меня. Я пошел за ней в комнату, где стояла колыбель. Там сидела моя мать, держа на коленях голого ребенка.
— Я хотела показать тебе его, прежде чем спеленать, — сказала она мне. — Посмотри!
Ребенок, чувствуя себя свободным, шевелил ногами и руками, поворачивал во все стороны глаза, совал пальцы в слюнявый рот. На кистях рук, на ступнях, возле колен, на нижней части живота припудренное тело образовывало кольцеобразные складки; на вздутом животе уже выступал припудренный, пока еще бесформенный, пупок. Руки моей матери с наслаждением ощупывали эти маленькие члены, показывали мне поочередно все их свойства, особенно кожу, гладкую и лоснящуюся от недавнего купания. И казалось, что ребенку доставляет удовольствие эта возня.
— Видишь, видишь, какой он уже крепкий! — говорила она, предлагая мне пощупать его. И нужно было потрогать его. — Посмотри, какой тяжелый! — И нужно было поднять его, чувствовать, как трепещет это теплое и мягкое тельце в моих руках, которые дрожали не от нежности. — Смотри же! — И моя мать с улыбкой сжала двумя пальцами сосочки на этой крошечной груди, которая заключала в себе упорную жизнь зловредного существа. — Бабушкина любовь, любовь, любовь! — повторяла она, щекоча пальцами подбородок ребенка, который еще не умел смеяться.
Милая, седая голова, которая некогда склонялась таким же образом над дорогими колыбелями, теперь, еще больше поседевшая, бессознательно склонялась над ребенком чужого человека, над пришельцем. Мне казалось, что она не выказывала такой нежности к Марии или Наталье, к истинным созданиям моей крови.
Она сама захотела спеленать его. Осенила его животик крестным знамением.
— Ты еще не христианин!
И, обращаясь ко мне, сказала:
— Нужно наконец назначить день крестин.
XXXVI
Доктор Джемма, кавалер ордена Св. Гроба в Иерусалиме, красивый, веселый старик, принес Джулиане в виде утреннего дара букет белых хризантем.
— О, мои самые любимые цветы! — сказала Джулиана. — Спасибо.
Взяла букет, долго смотрела на него, перебирая цветы похудевшими пальцами, и в глаза бросалось какое-то скорбное соответствие между ее бледностью и бледностью этих осенних цветов. Это были хризантемы, крупные, как распустившиеся розы, пышные, тяжелые; они напоминали цвет болезненного тела, бескровного, почти увядшего, были голубовато-белые, как щеки маленьких, окоченевших от холода нищенок. На одних виднелись слегка лиловатые жилки, другие приближались к нежно-желтоватой окраске.
— Возьми, — сказала она мне. — Поставь их в воду.
Было утро; стоял ноябрь; недавно миновала годовщина того скорбного дня, о котором напоминали эти цветы.
Что делать мне без Эвридики?..
Эта ария Орфея прозвучала в моей памяти, когда я ставил белые хризантемы в воду. В моей душе снова всплыли некоторые обрывки странной сцены, происходившей год тому назад; и я снова увидел Джулиану в этом золотистом и теплом свете, в этом столь нежном аромате, среди всех этих предметов, носивших отпечаток женской грации, которым звук старинной мелодии, казалось, придавал трепет какой-то таинственной жизни, сообщал какую-то загадочную тень. Не будили ли и в ней какое-нибудь воспоминание эти цветы?
Смертельная скорбь всей тяжестью легла мне на душу, скорбь неутешного любовника. Снова появился Другой. Глаза его были серые, как у пришельца.
Доктор сказал мне из алькова:
— Можете раскрыть окно. Хорошо, когда в комнате много воздуха, когда в ней много солнца.
— О да, да, раскрой! — воскликнула больная.
Я открыл. В эту минуту вошла моя мать с кормилицей, которая несла на руках Раймондо. Я остался за занавесками, наклонился над подоконником, стал смотреть на поле. Сзади меня слышались голоса домашних.
Ноябрь близился к концу; прошло и бабье лето. Безжизненно прозрачный свет расстилался над влажным полем, над благородным и спокойным контуром холмов. Казалось, что на верхушках далеких олив дрожит серебристая дымка. Там и сям белели на солнце струйки дыма. Время от времени ветер доносил шум падающих листьев. Все остальное было безмолвно и спокойно.
Я думал: «Почему она пела в то утро? Почему, услыхав ее голос, я испытал это волнение, эту тревогу? Она казалась мне другой женщиной. Значит, она любила этого человека? Какому состоянию души соответствовало это необычное для нее излияние своих чувств? Она пела, потому что любила. Может быть, я и ошибаюсь. Но я никогда не узнаю истины!» Это не была больше мрачная чувственная ревность; то была скорбь, тем более возвышенная, что исходила из глубины души. Я думал: «Какое воспоминание она сохранила о нем? Сколько раз мучило ее это воспоминание? Сын — это живая связь. Она снова находит в Раймондо нечто общее с человеком, который обладал ею, а в будущем найдет более близкое сходство. Невозможно, чтобы она забыла отца Раймондо. Может быть, он вечно у нее перед глазами. Что испытала бы она, если бы знала, что он обречен на гибель?»
И моя мысль остановилась на симптомах прогрессивного паралича, на картинах, подобных тем, которые припомнились мне из болезни бедняги Спинелли. Я представлял себе его сидящим в большом кресле, обитом красной кожей, землисто-бледным, с застывшими чертами лица, с широко раскрытым ртом, полным слюны, бессвязно лепечущим. И видел, как время от времени он одним и тем же жестом собирает в платок эту непрерывно текущую из углов рта слюну…
— Туллио!
Это был голос моей матери. Я повернулся и пошел к алькову.
Джулиана лежала на спине, измученная, молчаливая. Доктор рассматривал на голове ребенка начинавшую проступать молочную сыпь.
— Итак, крестины назначаем на послезавтра, — сказала моя мать. — Доктор думает, что Джулиана должна будет пробыть еще некоторое время в постели.
— Как вы находите ее, доктор? — спросил я старика, указывая на больную.
— Мне кажется, что выздоровление несколько приостановилось, — ответил он, покачивая красивой седой головой. — Я нахожу ее слабой, очень слабой. Нужно усилить питание, сделать некоторое усилие…
Джулиана прервала его, смотря на меня с очень усталой улыбкой:
— Он выслушал мне сердце.
— Ну и что? — спросил я, быстро повернувшись к старику.
Мне показалось, что на его лоб легла едва заметная тень.
— У нее совершенно здоровое сердце, — торопливо ответил он. — Ему нужна только кровь… и спокойствие. Ну, ну, голубушка! Каков сегодня аппетит?
Больная сжала губы с видом отвращения. Стала пристально смотреть на окно, в котором вырисовывался кусок чарующего неба.
— Сегодня холодный день? — с какой-то робостью спросила она, пряча руки под одеяло.
И видно было, как она дрожала.
XXXVII
На следующий день мы с Федерико отправились навестить Джованни ди Скордио. Был последний день ноября. Мы пошли пешком по вспаханным полям.
Мы шли молча, погруженные в свои думы. Солнце медленно склонялось к горизонту. Неосязаемая золотая пыль реяла в спокойном воздухе над нашими головами. Влажная земля была ярко-коричневого цвета, имела вид спокойной тверди, я сказал бы — мирного сознания своей добродетели. От земляных глыб подымалось видимое дыхание, подобно дыханию из ноздрей быков. Белые предметы в этом мягком воздухе отличались какой-то особенной белизной, чистотой снега. Корова вдали, рубаха пахаря, висящее полотно, стены хлева блестели, как в лунную ночь.
— Ты печален, — нежно сказал мне брат.
— Да, друг мой, очень печален. Я в отчаянии.
Снова продолжительное молчание. С плетней с шумом поднимались стаи птиц. Слышался слабый звон колокольчика далекого стада.
— В чем ты, собственно, отчаиваешься? — спросил брат с той же мягкостью.
— В спасении Джулианы, в моем спасении.
Он замолчал; не произнес ни одного слова утешения. Быть может, и его сердце сжимала скорбь.
— У меня какое-то предчувствие, — добавил я. — Джулиана не встанет.
Он молчал. Мы шли по обсаженной деревьями тропинке; опавшие листья хрустели под нашими ногами, а там, где листьев не было, почва издавала глухой отзвук, точно под ней была пустота.
— Если она умрет, — сказал я, — что я буду делать?
Внезапный страх, род панического ужаса, охватил меня; я взглянул на брата, который молчал, нахмурив лоб; я почувствовал немую безотрадность этого дневного часа; я никогда еще, до этого часа, не переживал столь ужасной пустоты жизни.
— Нет, нет, Туллио, — сказал брат, — Джулиана не может умереть.
Эти слова не имели никакого значения перед приговором судьбы. И все-таки он произнес эти слова с простотой, которая меня изумила, до того она показалась мне необычайной. Так иногда дети произносят вдруг неожиданные и многозначительные слова, которые поражают нас до глубины души; и кажется, будто глас судьбы говорит их бессознательными устами.
— Ты читаешь в будущем? — спросил я его без тени иронии.
— Нет. Но это мое предчувствие; и я верю в него.
И еще раз мой добрый брат заронил в мою душу искру веры; еще раз благодаря ему несколько разжался твердый обруч, сжимавший мне сердце. Я вздохнул свободнее, но не надолго. Остальную часть пути он говорил мне о Раймондо.
Когда мы приблизились к месту, где жил Джованни ди Скордио, мой спутник заметил в поле высокую фигуру старика.
— Посмотри! Он там. Сеет. Мы приносим ему приглашение в этот торжественный час.
Мы подошли ближе. Я весь дрожал, как будто готовился совершить святотатство. И в самом деле я решился на профанацию прекрасной и великой вещи: я шел просить этого уважаемого старца быть духовным отцом сыну, рожденному от прелюбодеяния.
— Взгляни, какая фигура! — воскликнул Федерико, останавливаясь и указывая на сеятеля. — Рост у него человеческий, а кажется он гигантом.
Мы остановились за деревом, на меже пашни, и стали смотреть. Поглощенный работой, Джованни еще не видел нас.
Он шел прямо через поле медленно и размеренно. Голова его была покрыта беретом из зеленой с черным шерсти с двумя отворотами, которые, по древнему фригийскому обычаю, спускались на уши. На кожаном ремне, переброшенном через шею, висела белая корзина с зерном. Левой рукой он раскрывал корзину, а правой брал из нее семена и разбрасывал их. Это было широкое, смелое, уверенное движение сеятеля, отличавшееся ритмичной плавностью. Зерно, падая из горсти, отливало в воздухе золотыми искрами и ровными рядами рассевалось по влажным бороздам. Сеятель двигался вперед медленно, упираясь ногами в расступавшуюся под ним землю, подняв голову, озаренную священным светом. Это движение сеятеля было широкое, смелое и уверенное; вся фигура его казалась простой, священной и величественной.
Мы вышли в поле.
— Бог в помощь, Джованни! — воскликнул Федерико, идя навстречу старику. — Да будет благословен твой посев. Да будет благословен твой будущий хлеб.
— Бог в помощь! — повторил я.
Старик прервал работу и снял шляпу.
— Надень шляпу, Джованни, если не хочешь, чтобы и мы сняли шапки, — сказал Федерико.
Старик надел шляпу со смущенной, почти робкой улыбкой. Учтиво спросил:
— Чему я обязан такой честью?
Я сказал, стараясь придать голосу твердость:
— Я пришел просить тебя погрузить в купель моего сына.
Старик с удивлением посмотрел сначала на меня, а потом на моего брата. Его смущение усилилось. Он пробормотал:
— Так много чести для меня!
— Что же ты ответишь мне?
— Я твой слуга. Да воздаст тебе Бог за честь, которую ты оказываешь мне, и да будет славен Бог за ту радость, которую Он доставляет моей старости. Да снизойдут все благословения неба на твоего сына!
— Спасибо, Джованни.
И я протянул ему руку. И увидел, что его глубокие, печальные глаза увлажнились от нежности. Безмерная тоска прихлынула к моему сердцу.
Старик спросил меня:
— Как ты назвал его?
— Раймондо.
— Имя блаженной памяти твоего отца. Это был настоящий человек! И вы похожи на него.
Брат сказал:
— Ты один сеешь?
— Один. Я бросаю зерна, и я же засыпаю их.
И он указал на плуг и борону, которые блестели на коричневой земле. Кругом видны были семена, еще не засыпанные, благие зародыши будущих колосьев.
Брат сказал:
— Ну, продолжай. Мы дадим тебе окончить работу. А завтра утром ты придешь в Бадиолу. Прощай, Джованни. Да будет благословен твой посев.
Мы пожали эти неутомимые руки, освященные зерном, которое они разбрасывали, добрым делом, которое они сеяли. Старик хотел было проводить нас до межи. Но остановился в нерешительности. Сказал:
— Прошу вас об одной милости.
— Говори, Джованни.
Он раскрыл короб, висевший у него на шее.
— Возьмите горсть зерна и бросьте на мое поле.
Я первый опустил руку в зерно, взял его, сколько мог, и разбросал. То же сделал брат.
— А теперь вот что я скажу вам, — добавил Джованни ди Скордио взволнованным голосом, смотря на засеянную землю. — Дай Бог, чтобы мой крестник был таким же хорошим, как хлеб, который уродится от этого семени. Да будет так!
XXXVIII
Обряд крещения произошел на следующее утро; из-за состояния Джулианы он не сопровождался торжественным празднеством. Ребенка перенесли внутренним ходом в часовню. Моя мать, мой брат, Мария, Наталья, мисс Эдит, акушерка, кормилица и кавалер Джемма присутствовали при обряде. Я остался у постели больной.
Ее одолевала тяжелая сонливость. Дыхание с трудом выходило из полуоткрытого рта, бледного, как самая бледная из распустившихся в тени роз. Альков утопал в тени. Я думал, смотря на нее: «Значит, я не спасу ее? Я заставил удалиться смерть; и вот смерть снова возвращается. Конечно, если внезапно не наступит перемена, она умрет. Прежде, когда мне удавалось держать вдали от нее Раймондо, когда мне удавалось силой своей нежности давать ей некоторую иллюзию и некоторое забвение, казалось, что она могла выздороветь. Но с тех пор, как она видит ребенка, с тех пор, как началась эта пытка, она с каждым днем чахнет, чувствует себя все слабее и хуже, чем если бы продолжалось кровотечение. Я нахожусь при ее агонии. Она больше не слушает меня, не повинуется мне, как прежде. Кто же причинит ей смерть? Он. Наверное, он убьет ее…» Волна ненависти поднялась из самых глубоких тайников моей души; казалось, она хлынула к моим рукам, оросив их преступным замыслом. Я видел, как это маленькое, зловредное существо пухнет от молока, мирно преуспевает в своем развитии, огражденное от всякой опасности, окруженное бесконечными заботами. «Моя мать любит его больше, нежели Джулиану! Моя мать занимается им больше, чем этой бедной умирающей! Ах! Я должен устранить его во что бы то ни стало». И картина уже совершившегося преступления мелькнула в моем мозгу: образ маленького мертвеца в пеленках, маленького трупа в гробу. «Крещение — это его причащение. И Джованни держит его на руках…»
Внезапное любопытство кольнуло меня. Меня привлекло это мучительное зрелище. Джулиана еще спала. Я тихо вышел из алькова; вышел из комнаты, позвал Кристину, велел ей прислушиваться; потом быстрыми шагами, задыхаясь от волнения, направился к хорам.
Маленькая дверь была раскрыта. Я увидел какого-то мужчину, стоявшего на коленях возле решетки. Узнал Пьетро, старого, верного слугу, видевшего мое рождение и присутствовавшего при моем крещении. Он с трудом поднялся.
— Оставайся, оставайся так, Пьетро, — тихо сказал я, кладя ему на плечо руку, чтобы заставить его снова стать на колени.
И сам стал рядом с ним на колени, прислонился лбом к решетке и смотрел вниз, в глубину часовни. Я видел все совершенно отчетливо; я слышал ритуальные фразы.
Обряд уже начался. Я узнал от Пьетро, что ребенку уже дали соли. Служил приходский священник из Тусси, дон Грегорио Артезе. Он и крестный отец читали теперь «Верую»: один громким голосом, другой повторял за ним вполголоса. Джованни держал ребенка на правой руке, на той руке, которая накануне сеяла хлеб. Левая рука лежала на лентах и белых кружевах. И эти костлявые руки, сухие, коричневые, которые казались отлитыми из живой бронзы, эти руки, затвердевшие на земледельческих орудиях, освященные посеянным ими добром, исполненным ими великим делом, теперь, поддерживая этого ребенка, светились такой чарующей нежностью и почти робким благоговением, что мой взор не мог оторваться от них. Раймондо не плакал; он все время шевелил ртом, полным слюны, стекавшей по подбородку на вышитый нагрудник.
После обряда заклинания священник омочил палец слюной и коснулся маленьких розовых ушей, произнося слова таинства.
Потом коснулся ноздрей, говоря:
— In odorem suavitatis…[17]
Затем омочил большой палец в масле Оглашенных; и в то время, как Джованни держал ребенка вниз спиной, крестообразно помазал верхнюю часть груди ребенка, а когда Джованни перевернул его, таким же образом перекрестил верхнюю часть спины между лопатками, говоря:
— Ego te linio oleo salutis in Christo Jesu Domino nostro.[18]
И клочком ваты вытер помазанные места.
После этого он снял фиолетовую ризу, цвет траура и печали, и надел белую ризу, в знак радости, возвещая этим, что первородный грех будет искуплен. И назвал Раймондо по имени, обратившись к нему с тремя торжественными вопросами. И крестный отец отвечал:
— Credo, credo, credo.[19]
Все слова с изумительной звучностью раздавались в часовне. В одно из высоких овальных окон вливался поток солнечных лучей, озаряя мраморную плиту пола, под которой были глубокие склепы, где мирно покоились мои предки. Моя мать и мой брат стояли рядом, позади Джованни; Мария и Наталья с любопытством приподымались на цыпочки, чтобы получше видеть малютку, время от времени улыбаясь и что-то шепча друг дружке. Иногда Джованни слегка поворачивался к этим болтушкам с ласковым видом, в котором видна была невыразимая старческая нежность к этим детям, нежность великого сердца покинутого всеми дедушки.
— Raymunde, vis baptizari?[20] — спросил священник.
— Volo,[21] — ответил крестный, повторяя подсказанное слово.
Причетник придвинул серебряную купель, в которой блестела вода для крещения. Мать сняла с ребенка чепчик, а крестный отец взял Раймондо на руки, чтобы погрузить в купель. Круглая голова, на которой я мог разглядеть беловатые прыщики молочной лихорадки, свесилась на край купели. И священник, черпая воду маленьким сосудом, трижды возлил ее на эту голову, всякий раз осеняя ее крестным знамением.
Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.[22]
Раймондо громко закричал; еще громче кричал он, когда ему вытирали голову.
А когда Джованни поднял его, я увидел это лицо, покрасневшее от прилива крови и напряжения, сморщившееся от движений рта, покрытое белыми пузырьками даже на лбу. И эти крики, как всегда, вызвали у меня обычное ощущение раздирающей муки, знакомое гневное раздражение. Ничто в нем не раздражало меня так, как этот голос, это упорное мяуканье, которое жестоко поразило меня в первый раз в зловещее октябрьское утро. Для моих нервов это было невыносимое раздражение.
Священник обмакнул палец в священную мирру и помазал лоб новокрещеному, произнося ритуальную фразу, заглушаемую криками ребенка. Потом облачил его в белую одежду, символ Невинности.
— Accipe vestem candidam…[23]
После этого дал крестному отцу благодатную свечу.
— Accipe lampadem ardentem…[24]
Невинный успокоился. Глаза его уставились на огонек, трепетавший на кончике длинной раскрашенной свечи. Джованни ди Скордио держал нового христианина на правой руке, а в левой — символ божественного огня; он стоял в простой, величественной позе, не спуская глаз с произносящего слова обряда священнослужителя. Он был на целую голову выше всех присутствующих. Ничего вокруг не было белее его седин, даже одеяние Невинного.
— Vade in расе, et Dominus sit tecum.
— Amen.[25]
Моя мать взяла Невинного из рук старика, прижала его к груди и поцеловала. Брат тоже поцеловал его. И все присутствующие поочередно начали целовать его.
Пьетро, еще стоявший возле меня на коленях, плакал. Расстроенный, вне себя, я вскочил, вышел из часовни, пробежал по коридорам, направился прямо в комнату Джулианы.
Кристина испугалась, увидя меня, и тихо спросила:
— Что случилось, синьор?
— Ничего, ничего. Проснулась?
— Нет, синьор. Кажется, спит.
Я раздвинул полог и тихо вошел в альков. Сначала я мог разглядеть в темноте лишь белую наволочку на подушке. Подошел к постели, наклонился к изголовью. Глаза у Джулианы были раскрыты, и она пристально смотрела на меня. Быть может, она по моему виду догадалась о всех моих мучительных переживаниях. И снова закрыла глаза, как бы для того, чтобы не раскрывать их больше.
XXXIX
С этого дня начался последний головокружительный период того несомненного безумия, которое должно было привести меня к преступлению. С этого дня начались поиски самого легкого и верного способа, чтобы умертвить Невинного.
Это было холодное, напряженное и непрерывное обдумывание, поглотившее все мои душевные способности. Навязчивая идея владела мной целиком, с невероятной силой и упорством. И в то время, как все мое существо было в крайнем напряжении, навязчивая идея направляла меня к цели, как по стальному рельсу, блестящему, холодному, не отклоняющемуся в стороны. Моя проницательность, казалось, утроилась. Ничто не ускользало от моего внимания, ни вне, ни внутри меня. Моя осмотрительность ни на минуту не покидала меня. Я ничего не говорил, ничего не делал, что могло бы возбудить подозрение, вызвать недоумение. Я притворялся не только перед матерью, братом и всеми прочими, которые ни о чем не догадывались, но и перед Джулианой.
Я стал казаться Джулиане покорившимся, успокоившимся, временами почти забывшим обо всем. Старательно избегал всякого упоминания о пришельце. Всячески старался ободрить ее, внушить ей доверие, заставить ее выполнять все, что должно было вернуть ей здоровье. Удвоил свои заботы. Проявлял к ней столь глубокую и всепрощающую нежность, что она могла почерпнуть в ней сладость новой, более свежей и чистой жизни. Еще раз я испытал ощущение, будто я переливаюсь в хрупкое тело больной, передаю ей постепенно свою силу, даю толчок ее усталому сердцу. Казалось, я изо дня в день толкал ее к жизни, почти внушая ей живительную силу, в ожидании трагического часа освобождения. Я повторял про себя: «Завтра!» И это завтра наступало, проходило, исчезало, а час не бил. И я повторял: «Завтра!»
Я был убежден, что спасение матери заключалось в смерти ребенка. Был убежден, что с исчезновением пришельца наступит ее выздоровление. Я думал: «Она не может не выздороветь. Она мало-помалу воскреснет, обновленная свежей кровью. Будет казаться новым существом, очищенным от всей грязи. Мы оба будем чувствовать себя очищенными, достойными друг друга, после столь долгого, столь тяжкого испытания. Болезнь и выздоровление отбросят печальное воспоминание в бесконечную даль. Я постараюсь изгладить из ее души даже самую тень воспоминания; постараюсь дать ей полное забвение в любви. Всякая другая любовь покажется ничтожной в сравнении с нашей после этого великого испытания». Видение будущего разжигало мое нетерпение. Неуверенность становилась для меня невыносимой. Преступление казалось мне лишенным своего ужасного характера. Я жестоко упрекал себя за колебания, вызываемые излишней предусмотрительностью; но свет еще не озарил моего мозга, мне еще не удалось найти верного средства.
Всем должно было показаться, будто Раймондо умер естественной смертью. Нужно было, чтобы даже у врача не было никакого подозрения. Из различных продуманных мною способов ни один не казался мне удобным и пригодным. И в то же время, ожидая света откровения, могущего озарить мой путь, я чувствовал, что какая-то странная притягательная сила влечет меня к жертве.
Часто я неожиданно входил в комнату кормилицы с таким сильным сердцебиением, что боялся, как бы она не услышала его. Ее звали Анной; она была родом из Монтегорго-Паузула и происходила от великой расы могучих жен горцев. Иногда у нее было сходство с медной Кибелой,[26] которой недоставало короны из башен. Она носила национальный костюм: красную юбку со множеством прямых и симметричных складок, черный, вышитый золотом корсет с двумя широкими рукавами, которые она редко надевала на руки. Ее голова выделялась на фоне белой рубашки и казалась смуглой; но белки глаз и белизна зубов были ярче белизны полотна. Глаза казались эмалевыми, почти всегда были неподвижны, без взгляда, без мечты, без мысли. Рот был широкий, сжатый, молчаливый, украшенный рядом ровных зубов. Волосы, черные как вороново крыло, разделенные пробором на низком лбу, оканчивались двумя косами, закрученными за уши, как рога горного барана. Она почти всегда сидела с ребенком на руках, в позе статуи, не печальная, не веселая.
Я входил. Большей частью комната бывала погружена в полумрак. Я видел, как белели пеленки Раймондо на руках этой смуглой сильной женщины, которая пристально смотрела на меня глазами неодушевленного истукана, без слов и без улыбки.
Иногда я оставался там, чтобы взглянуть на младенца, присосавшегося к круглой груди, особенно выделявшейся в сравнении с лицом своей белизной, испещренной голубоватыми жилками. Он сосал то медленно, то сильно, то неохотно, то с порывами жадности. Его мягкая щека отражала движение губ, горло трепетало при каждом глотке, нос почти исчезал в мякоти полной груди. Мне казалось, что я вижу, как по этому нежному телу разливается здоровье вместе со свежим, здоровым и питательным молоком. Мне казалось, что с каждым новым глотком жизненная сила пришельца становилась более упорной и более зловредной. Я испытывал глухую досаду, замечая, что он рос, расцветал, не обнаруживал никаких признаков болезненности, кроме этих безвредных пузырьков молочной лихорадки. Я думал: «Неужели все волнения, все страдания матери, когда она еще носила его в чреве, не причинили ему вреда? Или, быть может, в нем гнездится какой-нибудь органический, еще не проявившийся порок, который впоследствии может развиться и убить его?»
Однажды, застав его неспеленатым в колыбели, я, преодолев отвращение, ощупал его, осмотрел с головы до пяток, приложил ухо к его груди, чтобы выслушать сердце. Он поджимал ножки и потом сильно выпрямлял их; двигал руками, покрытыми ямочками и складками; совал в рот пальцы, заканчивавшиеся крошечными ноготками, выступавшими светлым полукругом. Кольцеобразные складки тела мягко закруглялись у кистей рук, у ступней, вокруг колен, на бедрах и в паху.
Не раз я смотрел на него, когда он спал, смотрел долго, все возвращаясь к мысли о средстве, привлекаемый видением маленького мертвеца в пеленках, лежащего в гробу, среди венков белых хризантем, озаренных светом четырех свечей. Сон его был очень спокойный. Он лежал на спине, сжимая в кулачках большие пальцы. Время от времени его влажные губы шевелились, как при сосании. Если меня трогала невинность этого сна, если бессознательное движение этих губ вызывало во мне жалость, то я говорил себе самому, как бы утверждаясь в своем намерении: «Он должен умереть». И я представлял себе страдания, перенесенные из-за него, недавние страдания и грядущие, представлял себе, сколько любви отнимал он у моих детей, агонию Джулианы и все страдания, все угрозы, сгустившиеся в этой нависшей над нашей головой туче. И таким образом я снова разжигал в себе преступное желание, таким образом я снова произносил приговор над спящим. В углу, в тени, сидела на страже женщина из Монтегорго, молчаливая, неподвижная, как истукан; и белки ее глаз, и ее белые зубы блестели не меньше ее широких золотых браслетов.
XL
Однажды вечером (это было 14 декабря), когда мы с Федерико возвращались в Бадиолу, мы заметили идущего впереди нас по дороге Джованни ди Скордио.
— Джованни! — крикнул брат.
Старик остановился. Мы поравнялись с ним.
— Добрый вечер, Джованни. Что нового?
Старик робко и смущенно улыбался, точно мы застали его на месте преступления.
— Я шел, — бормотал он, — я шел… к моему крестнику.
Он страшно робел. Казалось, что он сейчас будет просить прощения за свою дерзость.
— Ты хотел бы взглянуть на него? — спросил его Федерико тихим голосом, словно делая ему какое-то конфиденциальное предложение, поняв нежное и скорбное чувство, шевелившееся в сердце покинутого деда.
— Нет, нет… Я пришел только, чтобы спросить…
— Стало быть, ты не хочешь его видеть.
— Нет… да… может быть, я причиню много беспокойства… в этот час…
— Пойдем, — решительно сказал Федерико, беря его за руку, как ребенка. — Пойдем посмотрим на него.
Мы вошли. Поднялись в комнату кормилицы.
Моя мать была там. Она ласково улыбнулась Джованни. Сделала нам знак не шуметь.
— Он спит, — сказала она. — Повернувшись ко мне, она с беспокойством прибавила: — Сегодня к вечеру он кашлял немного.
Это известие взволновало меня; и это волнение было столь очевидно, что матери захотелось успокоить меня:
— Немножко, знаешь ли, совсем немного, пустяки.
Федерико и старик уже подошли к колыбели и стали смотреть на спящего при свете лампадки. Старик низко наклонился над ним. И ничто вокруг не выделялось своей белизной так, как его седины.
— Поцелуй его, — шепнул ему Федерико.
Он выпрямился с растерянным видом, посмотрел на меня и на мою мать; потом провел рукой по рту и подбородку с плохо выбритой бородой.
Он сказал моему брату, общение с которым не так смущало его:
— Если я его поцелую, то уколю его. Он, наверное, проснется.
Мой брат, видя, что бедному, покинутому всеми старику мучительно хочется поцеловать ребенка, ободрил его жестом. И эта большая седая голова тихо-тихо склонилась над колыбелью.
XLI
Когда мы с матерью остались одни в комнате, перед колыбелью, где еще спал Раймондо с печатью поцелуя на лбу, она с сердечностью сказала:
— Бедный старик! Знаешь, он приходит сюда почти каждый вечер. Но потихоньку. Мне сказал это Пьетро, который видел, как он бродил вокруг дома. В день крестин он выразил желание, чтобы ему показали окно этой комнаты; вероятно, чтобы приходить и смотреть на него… Бедный старик! Как мне жаль его!
Я прислушался к дыханию Раймондо. Оно не казалось мне изменившимся. Его сон был спокоен.
Я сказал:
— Значит, он сегодня кашлял…
— Да, Туллио, немного. Но ты не тревожься.
— Он, может быть, простудился…
— Мне кажется невозможным, чтобы он схватил простуду, при таких предосторожностях!
Внезапный свет озарил мой мозг. Сильная внутренняя дрожь охватила меня. Присутствие матери стало для меня вдруг невыносимым. Я растерялся, смутился, испугался, что выдам себя. Мысль горела во мне с такой яркостью, с такой силой, что я стал бояться за самого себя: «Ведь должно что-нибудь отразиться на моем лице». Это был напрасный страх, но мне не удавалось овладеть собой. Я сделал шаг вперед и наклонился над колыбелью.
Мать заметила, что мне стало как-то не по себе, но поняла это в мою пользу, потому что добавила:
— Какой ты впечатлительный! Не слышишь разве, как он спокойно дышит? Не видишь разве, как он великолепно спит?
Но все-таки, когда она говорила мне это, в ее голосе слышалось беспокойство, которого она не могла скрыть.
— Да, правда; ничего не случится, — ответил я, приходя в себя. — Ты останешься здесь?
— Пока не вернется Анна.
— Я ухожу.
Я вышел. Пошел к Джулиане. Она ждала меня. Все было приготовлено к ее ужину, в котором я обыкновенно принимал участие, чтобы трапеза казалась ей не такой скучной и чтобы мой пример и мои настояния заставляли ее есть. Судя по моим поступкам и словам, я казался возбужденным, почти веселым, неуравновешенным. Я был во власти какого-то особенного возбуждения, но ясность сознания не покидала меня; я мог наблюдать за собой, но не мог сдержать себя. Я выпил против обыкновения два или три бокала бургундского вина, прописанного Джулиане. Я хотел, чтобы и она выпила еще несколько глотков.
— Ты чувствуешь себя лучше? Правда?
— Да, да.
— Если ты будешь послушна, я обещаю тебе, что к Рождеству поставлю тебя на ноги. Остается еще десять дней. Если ты захочешь, то за десять дней совсем окрепнешь. Выпей еще глоток, Джулиана!
Она смотрела на меня не то с удивлением, не то с любопытством, делая некоторое усилие, чтобы внимательно слушать меня. Она, вероятно, уже устала: кажется, веки ее начинали тяжелеть. Это сидячее положение через какое-то время начинало вызывать у нее иногда симптомы мозговой анемии.
Она омочила губы в стакане, который я подал ей.
— Скажи мне, — продолжал я, — где бы тебе хотелось провести время выздоровления?
Она слабо улыбнулась.
— На Ривьере? Хочешь, я напишу Августу Аричи, чтобы он подыскал нам виллу? Если бы вилла Джиноза была свободна. Помнишь?
Она улыбнулась слабее.
— Ты устала? Быть может, разговор со мной тебя утомляет?..
Я заметил, что она была близка к обмороку. Я поддержал ее, убрал подушки, на которые она облокотилась, уложил ее так, чтобы голова была ниже, оказал ей обычную в таких случаях помощь. Через несколько минут она, казалось, пришла в себя. Прошептала, словно во сне:
— Да, да, поедем…
XLII
Странное беспокойство овладело мною. Порой я испытывал как бы наслаждение, какой-то порыв смутной радости. Порой мною овладевало какое-то жгучее нетерпение, неудержимое желание чего-то. Порой я испытывал желание видеть кого-нибудь, найти кого-нибудь, говорить, делиться своими переживаниями; иногда же, напротив, я жаждал одиночества, чувствовал потребность убежать, запереться в каком-нибудь надежном месте, остаться наедине с самим собою, чтобы заглянуть в себя, разобраться в своих мыслях, рассмотреть и изучить все подробности события, которому суждено было свершиться, подготовиться к нему. Эти столь различные и противоречивые движения души и еще бесчисленные другие, неопределимые, необъяснимые, быстро чередовались в моем мозгу, сообщая моей внутренней жизни необычайное ускорение.
Мысль, озарившая мой мозг, этот проблеск зловещего света, казалось, вдруг высветила мое сознание, до этого погруженное в темноту; казалось, она пробудила к жизни какой-то глубокий слой моей памяти. Я чувствовал, что припоминаю, но, сколько я ни делал усилий, мне не удавалось ни дать себе отчета в источнике воспоминания, ни вскрыть саму природу его. Несомненно, я что-то припоминал. Было ли это воспоминанием о чем-нибудь давно прочитанном? Натолкнулся ли я в какой-нибудь книге на описание аналогичного случая? Или кто-нибудь однажды рассказал мне о таком случае как об имевшем место в действительности? Или же это ощущение припоминания было обманчивым и было лишь результатом ассоциации таинственных идей? Мне на самом деле казалось, что средство было внушено мне кем-то посторонним. Мне казалось, что некто неожиданно явился и освободил меня от всех недоумений, говоря мне: «Нужно, чтобы ты поступил так, как поступил бы всякий другой в таком случае». Но кто был этот некто? Ведь каким-то образом я должен был его знать. Но сколько я ни делал усилий, мне не удавалось отделить его от себя, сделать его своим объектом. Невозможно определить с точностью то особенное состояние, в котором я находился. Я отдавал себе точный отчет в его существовании, во всех этапах его развития, отдавал себе отчет в ряде действий, через который прошел этот некто, чтобы осуществить задуманное. Но этот человек, предшественник, был неизвестен мне; и я не мог ассоциировать с этим лицом существующие образы, не ставя себя самого на место этого неведомого. Итак, я видел самого себя совершающим те особые поступки, которые уже совершены другим, видел, что я подражаю действиям другого человека в случае, подобном моему. Мне недоставало чувства уверенности.
Выйдя из комнаты Джулианы, я находился несколько минут в нерешительности, бесцельно прохаживаясь у дверей. Я никого не встретил. Направился к комнате кормилицы. Приложил ухо к двери: услышал тихий голос моей матери; удалился.
Быть может, она и не выходила оттуда? Быть может, у ребенка был еще более сильный приступ кашля? Мне была хорошо знакома эта пневмония у новорожденных, эта ужасная болезнь с обманчивыми показаниями. Я вспомнил опасность, которой подверглась Мария на третьем месяце ее жизни, припомнил все симптомы. Вначале Мария тоже несколько раз чихнула, потом начала слегка покашливать, стала сонливой. Я подумал: «Кто знает! Если я повременю, если не дам себя увлечь, быть может, Милостивый Бог своевременно вмешается, и я спасен». Я вернулся назад; снова приложил ухо к двери; опять услыхал голос матери; вошел.
— Ну, как Раймондо? — спросил я, не скрывая своего волнения.
— Хорошо. Он спокоен; больше не кашлял; дышит ровно, температура нормальная. Посмотри. Он сосет грудь.
Анна, сидя на постели, кормила ребенка, который ел с жадностью, слегка причмокивая губами. Анна сидела, наклонив голову, пристально устремив глаза на пол, сохраняя бронзовую неподвижность. Колеблющийся огонек лампады рисовал свет и тени на ее красной юбке.
— Не слишком ли жарко здесь? — сказал я, чувствуя, что задыхаюсь.
В комнате действительно было очень жарко. В углу, на крышке жаровни, сушились пеленки. Слышался также шум кипящей воды. Время от времени дребезжали стекла под напором свистящего и воющего ветра.
— Слышишь, как бушует горный ветер! — прошептала мать.
Я больше не обращал внимания на другие звуки. Прислушивался к ветру с тревожным вниманием. Меня всего пронизала дрожь, точно меня обвеяла струя этого холода. Подошел к окну. Мои пальцы дрожали, открывая ставню. Я прижался лбом к мерзлому стеклу и стал смотреть через него; но запотевшее от моего дыхания окно мешало мне видеть. Я поднял глаза и через верхнее стекло увидел сияние звездного неба.
— Ночь ясная, — сказал я, отходя от подоконника.
Внутри меня рождался образ алмазной и преступной ночи, в то время как взор мой устремился на продолжавшего есть Раймондо.
— Джулиана ужинала сегодня? — заботливо спросила мать.
— Да, — холодно ответил я и подумал: «В течение всего вечера ты не нашла минуты, чтобы прийти посмотреть на нее! И это не первый случай твоего невнимания. Ты отдала сердце Раймондо».
XLIII
Утром доктор Джемма осмотрел ребенка и нашел его совершенно здоровым. Он не придал никакого значения кашлю, на который указывала моя мать. Он подсмеивался над излишними заботами и опасениями, но все же рекомендовал быть более осторожным в эти холодные дни, советовал быть особенно осторожным во время купания в ванне.
Я присутствовал в то время, когда он говорил об этих вещах с Джулианой. Два-три раза наши взгляды бегло встретились.
Значит, Провидение не помогло мне. Нужно было действовать, нужно было пользоваться благоприятной минутой, ускорить событие. Я решился. Стал дожидаться вечера, чтобы совершить преступление.
Я собрал весь еще оставшийся у меня запас энергии, напряг свою сообразительность; я следил за каждым своим словом, за каждым поступком. Я ничего не сказал, ничего не сделал, что могло бы возбудить подозрение или удивление. Моя сообразительность не ослабела ни на минуту. Ни минуты у меня не было сентиментальной слабости. Моя внутренняя чувствительность была подавлена, заглушена. Мой рассудок сосредоточил все свои способности на приготовлениях к решению одной задачи. Нужно было, чтобы вечером меня оставили на несколько минут наедине с пришельцем при соблюдении некоторых предосторожностей.
В течение дня я несколько раз входил в комнату кормилицы. Анна всегда была на своем посту, как бесстрастный страж. Если я обращался к ней с каким-нибудь вопросом, она отвечала мне односложными словами. У нее был хриплый голос со своеобразным тембром. Ее молчание, ее неподвижность раздражали меня.
Большей частью она уходила только в часы своей еды; тогда ее обыкновенно заменяла моя мать, или мисс Эдит, или Кристина, или же какая-нибудь другая прислуга. В последнем случае я легко мог бы освободиться от свидетельницы, дав ей какое-нибудь поручение. Однако всегда оставалась опасность, что кто-нибудь мог вдруг войти и в это время. Кроме того, я был бы во власти случая, потому что не от меня зависел выбор няни при ребенке. Вероятно, сегодня вечером, как и в следующие вечера, при нем останется моя мать. С другой стороны, мне казалось немыслимым находиться до бесконечности в напряженном состоянии, жить в вечном страхе, вечно настороже, в вечном ожидании зловещего часа.
В то время как я обдумывал свой план, вошла мисс Эдит с Марией и Натальей. Увидя меня, эти две маленькие грации, оживленные беготней на свежем воздухе, закутанные в собольи шубки, с поднятыми большими воротниками, в перчатках, с раскрасневшимися от холода щечками, веселые и грациозные, бросились ко мне. И несколько минут комната была полна их щебетанием.
— Знаешь, пришли горцы, — объявила мне Мария. — Сегодня вечером в часовне начнется рождественская служба. Если бы ты видел, какие ясли сделал Пьетро! Знаешь, бабушка обещала нам елку! Правда, мисс Эдит? Нужно поставить ее в мамину комнату… Мама выздоровеет к Рождеству, правда? Постарайся, чтобы она выздоровела!
Наталья остановилась посмотреть на Раймондо и время от времени смеялась над его гримасами, а он болтал ножками, словно пытался вырваться из пеленок. На нее нашел каприз.
— Я хочу подержать его на руках! — И она громким криком настояла на своем желании. Она собрала все свои силы, чтобы удержать такую тяжесть; и лицо ее стало серьезным, как тогда, когда она изображала мать своей куклы.
— А теперь я! — закричала Мария.
И братик, не плача, перешел из рук одной на руки к другой. Но вдруг Мария, расхаживавшая с ним под наблюдением мисс Эдит, потеряла равновесие и чуть было не выронила его из рук. Эдит поддержала его, отняла у Марии и передала кормилице, которая, казалось, углубилась в свои мысли и была очень далека от всего того, что окружало ее.
Я сказал, преследуя свою тайную мысль:
— Стало быть, сегодня вечером начнется служба…
— Да, да, сегодня вечером.
Я смотрел на Анну, которая, казалось, очнулась от задумчивости и стала прислушиваться к разговору с необычным вниманием.
— А сколько этих горцев?
— Всех пятеро, — ответила Мария, которая, по-видимому, была обо всем осведомлена. — Две волынки, два гобоя и дудка.
И она стала смеяться, повторив несколько раз подряд последнее слово, чтобы подразнить сестру.
— Они пришли с твоих гор, — сказал я, обращаясь к Анне. — Может быть, среди них есть кто-нибудь из Монтегорго…
Глаза ее потеряли свою жесткость эмали, оживились и засияли влажным, печальным блеском. Казалось, лицо ее изменилось из-за выражения необычного чувства. И я понял, что она страдала и что ее страданием была тоска по родине.
XLIV
Близился вечер. Я спустился в часовню и осмотрел все приготовления к службе: ясли, цветы, белые свечи. И вышел, не отдавая себе отчета, зачем сделал это. Взглянул на окно комнаты Раймондо. Начал ходить взад и вперед по площадке быстрыми шагами, надеясь побороть конвульсивную дрожь, острый холод, пронизывавший меня до мозга костей, и спазмы, сжимавшие мой пустой желудок.
Сумерки были ледяные, холодные, я сказал бы режущие. Иссиня-зеленоватая бледность разливалась на далеком горизонте, в глубине свинцовой долины, где струился извилистый Ассоро. В темноте искрилась одинокая река.
Внезапный ужас охватил меня. Я подумал: «Неужели я боюсь?» Мне казалось, что кто-то невидимый заглянул мне в душу. Я испытывал неприятное чувство, как будто на меня уставились стальные магнетические взгляды. И снова подумал: «Неужели я боюсь? Чего же? Выполнения задуманного или того, чтобы кто-нибудь не застал меня на месте преступления?» Меня пугали тени высоких деревьев, необъятность неба, сверкание Ассоро, все эти смутные звуки полей. Зазвонили к вечерне. Я вошел в дом, почти бегом, точно преследуемый кем-то.
В еще не освещенном коридоре я встретил мать.
— Откуда ты, Туллио?
— Со двора. Я прошелся немного.
— Джулиана ждет тебя.
— В котором часу начинается рождественская служба?
— В шесть.
Было четверть шестого. Оставалось еще три четверти часа. Надо приготовиться.
— Иду, мама.
Пройдя несколько шагов, я окликнул ее:
— Федерико еще не вернулся?
— Нет.
Я поднялся в комнату Джулианы. Она ждала меня. Кристина накрывала маленький столик.
— Где ты был до сих пор? — спросила меня бедная больная с легким оттенком упрека.
— Я был там, с Марией и Натальей… А потом пошел посмотреть часовню.
— Да, сегодня вечером начинается рождественская служба, — печально прошептала она.
— Здесь, может быть, будет слышна музыка.
Она оставалась несколько минут задумчивой. Мне она показалась очень печальной, охваченной той грустью, когда сердце полно слез, когда чувствуется острая потребность плакать.
— О чем ты думаешь? — спросил я ее.
— Вспоминаю свое первое Рождество в Бадиоле. Помнишь его?
Она была нежна и растроганна; и вызывала во мне нежность; ждала, чтобы я приласкал ее, убаюкал ее, чтобы я прижал ее к своему сердцу и осушил ее слезы. Мне была знакома эта болезненная истома, эта неопределенная грусть. И я думал с тоской в душе: «Нельзя заражаться этим настроением. Нельзя связывать себя. Время летит. Если она завладеет мною, мне трудно будет оторваться от нее. Если она заплачет, мне нельзя будет отойти от нее. Нужно сдержаться. Время быстро летит. Кто останется смотреть за Раймондо? Едва ли моя мать. Вероятнее всего, кормилица. Все остальные собираются в часовню. Здесь я оставлю Кристину. Тогда я буду в безопасности. Случай как нельзя больше благоприятствует мне. Через двадцать минут необходимо быть свободным».
Я старался не волновать больную, притворялся, что не понимаю ее, не отвечал на ее излияния, старался отвлечь ее внимание шаблонными разговорами. Устраивал так, чтобы Кристина не оставляла нас одних, как в другие интимные вечера, и все внимание обращал на ее ужин.
— Отчего сегодня ты не ешь вместе со мной? — спросила она.
— Ничего не хочется есть теперь; мне что-то нездоровится. Скушай ты что-нибудь, прошу тебя.
Несмотря на все усилия, которые я делал, мне не удавалось вполне скрыть пожиравшее меня волнение. Несколько раз она смотрела на меня, очевидно стараясь понять, что со мной. Потом вдруг нахмурилась, стала молчаливой. Едва-едва притронулась к пище, едва-едва омочила губы в стакане. Я собрал наконец все свое мужество, чтобы уйти. Притворился, что мне послышался стук экипажа. Прислушался и сказал:
— Это, вероятно, вернулся Федерико. Мне нужно сейчас же видеть его… Позволь мне уйти на минутку. Здесь останется Кристина.
Лицо ее перекосилось, словно она собиралась заплакать. Но я не стал дожидаться ее согласия и быстро вышел; я не забыл повторить Кристине, чтобы она оставалась здесь до моего возвращения.
За дверьми я должен был остановиться, чтобы перевести дыхание. Я был страшно взволнован. Я думал: «Если мне не удастся овладеть своими нервами, все пропало». Стал прислушиваться, но услышал лишь биение своих артерий. Прошел по коридору до лестницы. Никого не встретил. В доме царила тишина. Я думал: «Все уже в часовне, даже прислуга. Бояться нечего». Выждал еще две или три минуты, чтобы окончательно прийти в себя. В течение этих двух-трех минут напряженное состояние моего рассудка ослабело. На меня нашла какая-то странная рассеянность. В мозгу мелькали путаные, ничего не значащие мысли, не имевшие отношения к поступку, который я собирался совершить. Я машинально пересчитал столбики балюстрады.
«Наверное, Анна осталась. Комната Раймондо недалеко от часовни. Музыка возвестит о начале службы». Я направился к двери. Подойдя к ней, услышал прелюдии волынок. Вошел без колебания. Я угадал.
Анна стояла около своего стула, в такой живой позе, что я тотчас же догадался, что она только что вскочила, услыхав волынки своих гор, прелюдию старинной пасторали.
— Спит? — спросил я.
Она утвердительно кивнула головой.
Звуки продолжались, смягченные расстоянием, нежные, как во сне, немного глухие, заунывные, медленные. Четкие гобои наигрывали наивную, врезывающуюся в память мелодию под аккомпанемент волынок.
— Иди и ты на службу, — сказал я ей. — Я останусь здесь. Он давно заснул?
— Только что.
— Иди, иди же в часовню.
Глаза ее заблестели.
— Можно пойти?
— Да. Я останусь здесь.
Я сам открыл ей дверь и закрыл ее за нею. Подбежал на цыпочках к колыбели; заглянул в нее. Невинный спал в своих пеленках, на спине, сжимая большие пальцы в маленьких кулачках. Сквозь пелену век, казалось, мне видны были его зрачки. Но в глубине своего существа я не почувствовал слепого приступа ненависти и гнева. Мое отвращение к нему было слабее обычного.
Я не испытывал более того инстинктивного импульса, который раньше пробегал по моим пальцам, готовым на всякое преступное насилие. Я повиновался лишь импульсу холодной и ясной воли, вполне сознавая, что делаю.
Вернулся к двери, снова раскрыл ее, убедился, что в коридоре никого нет. Затем подбежал к окну. Мне пришли на память слова матери; мелькнуло подозрение, не стоит ли там внизу, на площадке, Джованни ди Скордио. С бесконечными предосторожностями открыл окно; струя ледяного воздуха охватила меня. Высунулся из окна, чтобы осмотреть все вокруг. Не увидел ничего подозрительного; слышны были только рассеянные звуки рождественской музыки. Отошел от окна, подошел к колыбели, с усилием победил сильное отвращение; тихо-тихо, сдерживая дыхание, взял ребенка; держа его подальше от слишком сильно бившегося сердца, поднес к окну; выставил его на воздух, который должен был умертвить его.
Я не растерялся; ни одно из моих чувств не изменило мне; я видел на небе звезды, которые мигали, точно горный ветер колыхал их. Видел обманчивые, наводящие ужас тени, которые оставлял колеблющийся свет лампады на портьерах; ясно слышал припев пасторали и отдаленный лай собаки. Движение ребенка заставило меня вздрогнуть. Он просыпался.
Я подумал: «Теперь он заплачет. Сколько времени прошло? Может быть, минута, может быть, меньше минуты. Достаточно ли этого короткого времени для его смерти? Поражен ли он насмерть?» Ребенок зашевелил руками, скривил рот, раскрыл его; он замедлил немного с плачем, который показался мне изменившимся, более слабым и более дрожащим, может быть, потому, что на воздухе он звучал иначе, а я всегда слышал его в закрытом помещении. Этот слабый, дрожащий плач безумно испугал меня; безотчетный ужас овладел мною. Я бросился к колыбели, положил ребенка. Вернулся к окну, чтобы закрыть его; но прежде, чем закрыть, я высунулся в него, бросил взгляд в темноту, но ничего, кроме звезд, не увидел. Закрыл окно. Хотя и объятый паническим ужасом, я все же избегал шума. А ребенок позади меня плакал все сильнее и сильнее. «Спасен ли я?» Я бросился к двери, посмотрел в коридор, прислушался. Коридор был пуст; проносилась лишь медленная волна звуков.
«Итак, я спасен. Кто мог видеть меня?» Посмотрев в окно, я снова подумал о Джованни ди Скордио и снова стал беспокоиться. «Да нет же, там никого не было. Я смотрел два раза». Подошел к колыбели, поправил ребенка, заботливо накрыл его, убедился, что все на своем месте. Его прикосновение вызывало теперь во мне непобедимое отвращение. А он все плакал и плакал. Что мне было делать, чтобы успокоить его? Я стал ждать.
Но этот непрерывный плач в этой большой уединенной комнате, эта неопределенная жалоба бессознательной жертвы терзали меня так жестоко, что, не будучи в силах выносить это, я встал, чтобы как-нибудь избавиться от этой пытки. Вышел в коридор, притворил за собой дверь; стал прислушиваться. Голос ребенка едва доносился до меня, сливаясь с медленной волной звуков. Звуки продолжались, смягченные расстоянием, нежные, как во сне, немного глухие, заунывные, медленные. Четкие гобои наигрывали наивную мелодию под аккомпанемент волынок. Пастораль разносилась по всему мирному дому, доходя, вероятно, до самых отдаленных комнат. Слышала ли ее Джулиана? Что думала и что чувствовала она? Плакала?
Не знаю почему, в мое сердце вонзилась эта уверенность: «Она плачет». И от этой уверенности родилось яркое видение, давшее мне сознательное и глубокое ощущение. Мысли и образы, мелькавшие в моем мозгу, были бессвязны, отрывочны, бессмысленны, составлены из элементов, не соответствующих друг другу; были неуловимы, загадочны. Меня охватил страх безумия. Я спросил себя: «Сколько же времени прошло?» И заметил, что совершенно утратил чувство времени.
Звуки смолкли. Я подумал: «Служба кончилась. Анна сейчас вернется. Придет, может быть, и мать. Раймондо больше не плачет». Снова вошел в комнату, окинул ее взглядом, чтобы убедиться, не осталось ли какого-нибудь следа покушения. Подошел к колыбели не без смутного страха, что найду ребенка без движения. Он спал на спине, сжимая большие пальцы в маленьких кулачках. «Он спит! Это невероятно! Как будто ничего не случилось!» То, что я сделал, начинало принимать нереальный характер сновидения. Я ждал — и мои мысли словно куда-то провалились; в голове образовалась какая-то пустота…
Услыхав в коридоре тяжелые шаги кормилицы, я пошел ей навстречу. Матери не было с нею. Не глядя ей в лицо, я сказал:
— Он еще спит.
И быстро удалился. Спасен!
XLV
С этого момента моим умом овладело какое-то почти тупое бездействие, может быть, потому, что я был истощен, обессилен, не способен ни на какое усилие. Мое сознание утратило свою ужасающую ясность, внимание ослабело, любопытство не соответствовало важности развертывающихся событий. Действительно, с этого момента все мои воспоминания становятся какими-то смутными, неяркими, составленными из утративших четкость образов.
В этот вечер я вернулся в альков, видел Джулиану, простоял некоторое время у ее изголовья. Мне было очень трудно говорить. Я спросил ее, глядя ей в глаза:
— Ты плакала?
Она ответила:
— Нет.
Но она была печальнее прежнего. Была бледна, как ее рубашка. Я спросил ее:
— Что с тобой?
Она ответила:
— Ничего. А ты как?
— Я чувствую себя неважно. У меня так болит голова…
Неимоверная усталость овладела мной; я чувствовал тяжесть во всех членах. Положил голову на край подушки; оставался некоторое время в этой позе, подавленный неопределенным томлением. Вздрогнул, услыхав голос Джулианы, говорившей:
— Ты что-то скрываешь от меня?
— Нет, нет. Почему?
— Потому что я чувствую, что ты что-то скрываешь от меня.
— Нет, нет, ты ошибаешься.
— Ошибаюсь?..
Она замолчала. Я снова опустил голову на край подушки. Через несколько минут она вдруг сказала мне:
— Ты часто его видишь.
Я в испуге поднялся и посмотрел на нее.
— Ты нарочно ходишь смотреть на него, ходишь навещать его, — добавила она. — Я знаю. Еще и сегодня…
— Ну и что же?
— Я боюсь этого, боюсь за тебя. Я знаю тебя. Ты мучаешься, ты ходишь туда, чтобы мучить себя; ходишь, чтобы терзать свое сердце… Я знаю тебя. Я боюсь. Ты с этим не примиришься, нет, нет. Ты не примирился. Не обманывай меня, Туллио. Еще сегодня вечером, только что, ты был там…
— Откуда ты знаешь это?
— Знаю это, чувствую это.
Кровь во мне застыла:
— Ты хочешь, чтобы у матери появилось подозрение? Ты хочешь, чтобы она заметила мое отвращение?
Мы говорили вполголоса. У нее тоже был испуганный вид. А я думал: «Вот сейчас войдет моя мать с криком ужаса: Раймондо умирает!»
Вошли Мария и Наталья с мисс Эдит. И альков повеселел от их щебета. Они говорили о часовне, о яслях, о свечах, о волынках и прочих подробностях.
Я оставил Джулиану, чтобы пойти к себе в комнату под предлогом головной боли. Когда я очутился в постели, усталость почти внезапно пересилила меня. Я уснул глубоким, долгим сном.
При дневном свете я почувствовал себя спокойным, как-то странно равнодушным, как-то необъяснимо лишенным всякого любопытства. Никто не приходил прерывать мой сон; значит, ничего особенного не случилось. Вчерашние события казались мне нереальными и очень далекими. Я ощущал огромную бездну между мной и моим прежним существом, между тем, чем я был, и тем, что я представляю из себя теперь. Между прошлым и настоящим периодом моей физической жизни образовался какой-то перерыв. И я не делал никакого усилия, чтобы собраться с мыслями, чтобы постичь это странное явление. Я чувствовал отвращение ко всякой активности; старался замкнуться в этой своего рода воображаемой апатии, под которой таилось смутное развитие всех пережитых мною раньше волнений; избегал углубляться в думы, чтобы не будить того, что, казалось, умерло, что, казалось, не принадлежит более моему действительному существованию. Я походил немного на тех больных, которые, потеряв чувствительность одной половины тела, воображают, что в постели, рядом с ними, лежит труп.
В дверь постучал Федерико. Какую новость принес он мне? Его присутствие вывело меня из состояния апатии.
— Вчера вечером мы не виделись, — сказал он. — Я вернулся поздно. Как ты себя чувствуешь?
— Ни хорошо, ни плохо.
— У тебя болела вчера голова. Правда?
— Да, оттого я и лег рано.
— Ты и сейчас какой-то зеленый. О Боже мой, когда кончатся все эти несчастья? Ты нездоров, Джулиана все еще в постели, сейчас я встретил маму, совсем расстроенную, потому что Раймондо ночью кашлял!
— Кашлял?
— Да. Вероятно, он немного простудился. Мама по обыкновению преувеличивает…
— Был доктор?
— Нет еще. Но ты, кажется, относишься к этому хуже мамы.
— Знаешь, когда дело идет о детях, всякие страхи понятны. Достаточно пустяка…
Он смотрел на меня ясными, голубыми глазами, и мне было страшно и стыдно их.
Как только он вышел, я соскочил с кровати. «Стало быть, — подумал я, — это начало последствий; стало быть, нет больше сомнений. Но сколько времени он еще проживет? Возможно, что он еще не умер… Ах, нет, невозможно, чтобы он не умер. Воздух был ледяной, захватывал дыхание». И снова я увидел в своем воображении ребенка, вдыхающего этот воздух полуоткрытым ротиком, ямочку на его шее…
XLVI
Доктор говорил:
— Нет повода для беспокойства. Это незначительная простуда. Легкие чистые.
Он снова наклонился над обнаженной грудью Раймондо, чтобы выслушать его.
— Абсолютно никаких хрипов. Можете убедиться в этом собственными ушами, — прибавил он, обращаясь ко мне.
Я тоже приложил ухо к хрупкой груди и почувствовал мягкую теплоту.
— Действительно…
Я взглянул на мать, в волнении стоявшую по другую сторону колыбели.
Обычных симптомов бронхита не было. Ребенок был спокоен, слегка покашливал через долгие промежутки, брал грудь так же часто, как обыкновенно, спал спокойно и ровно. Я сам, обманутый его внешним видом, начинал сомневаться: «Значит, моя попытка была тщетной. Оказывается, он не должен умереть. Какая упорная жизнь!» И прежняя злоба к нему снова поднялась во мне и еще больше обострилась. Его спокойный, цветущий вид приводил меня в отчаяние. Значит, я напрасно претерпел эти страдания, напрасно подвергался такой опасности! К моему глухому гневу примешивался какой-то суеверный страх перед изумительным упорством этой жизни: «Я думаю, что у меня не хватит мужества снова начать. Тогда что? Я стану его жертвой и не буду в состоянии убежать от него». И снова появилось передо мной извращенное видение, желчный и дикий ребенок, умный и полный злых инстинктов; снова он уставился на меня своими жесткими, серыми глазами, словно бросая мне вызов. И ужасные сцены во мраке пустынных комнат, сцены, созданные однажды моим враждебным воображением, снова представились мне, снова приобрели рельефность, движение, все признаки действительности.
День был бледный; чувствовалось, что пойдет снег. Альков Джулианы снова показался мне убежищем. Пришелец не должен был выходить из своей комнаты, не мог преследовать меня в этом убежище. И я весь отдался своей печали, не скрывая ее.
Я думал, глядя на бедную больную:
«Она не выздоровеет, не встанет». Странные слова, произнесенные ею вчера вечером, приходили мне на память, тревожили меня. Несомненно, пришелец был для нее таким же палачом, как и для меня. Несомненно, она думает только о нем и умирает с каждым днем. И вся эта тяжесть лежит на таком слабом сердце!
И с быстрой сменой образов, развертывающихся, как во сне, в моем мозгу всплывали некоторые обрывки из прошлой жизни: воспоминания о другой ее болезни, о далеком выздоровлении. Я остановил на них свое внимание, стараясь соединить все эти обрывки, восстановить то нежное и печальное время, когда я сам бросил первое семя моего несчастья. Тусклый дневной свет напоминал те полуденные часы, которые мы с Джулианой проводили за чтением стихов, склонившись над одной страницей, следя глазами за одной и той же строчкой. И я снова видел ее тонкий палец и следы ее ногтя на полях.
«Я схватил ее за руку и, медленно склонив голову, чтобы прикоснуться губами к ее ладони, прошептал:
— Ты… ты могла бы забыть?
Она закрыла мне рот и произнесла свое великое слово:
— Молчание».
Я вновь переживал, реально и глубоко, этот обрывок жизни; снова и снова переживал его и доходил до этого ужасного утра. Снова слышал ее смеющийся, прерывистый голос; снова видел жест, которым она отдавалась мне, и ее саму в кресле, после неожиданного удара, и все, что последовало за этим. Почему душа моя не могла более оторваться от этих образов? Тщетно, тщетно сожаление. «Слишком поздно!»
— О чем ты думаешь? — спросила меня Джулиана, которая, может быть, во время моего молчания страдала только моими страданиями. Я не скрыл от нее своей мысли. Она сказала исходившим из самой глубины души, слабым, но проникающим в меня сильнее крика голосом:
— А! Для тебя в моей душе было небо! — И прибавила после долгого молчания, во время которого, может быть, заглушала в сердце невыплаканные слезы: — Теперь я больше не могу утешить тебя! Нет больше утешения ни для тебя, ни для меня; и никогда его не будет… Все погибло!
Я сказал:
— Кто знает!
И мы взглянули друг на друга; было ясно, что мы оба думали об одном и том же: о возможной смерти Раймондо.
Я колебался минуту; потом, намекая на разговор, который однажды вечером был у нас под вязами, спросил ее:
— Ты молилась Богу?
Мой голос сильно дрожал.
Она ответила (я едва расслышал ее):
— Да.
И закрыла глаза, повернулась на бок и зарылась головой в подушку, съежилась, сжалась в комок под одеялом, точно охваченная сильным ознобом.
XLVII
Под вечер я пошел взглянуть на Раймондо. Я застал его на руках у матери. Он, казалось мне, был несколько бледнее; но был еще очень спокоен, дышал хорошо, так что никаких подозрительных признаков в нем не замечалось.
— Он до сих пор спал! — сказала мне мать.
— Тебя беспокоит это?
— Да, ведь он никогда не спал так долго.
Я пристально взглянул на ребенка. Его серые глаза безжизненно смотрели из-под лба, усеянного легкой молочной лихорадкой, и он все время шевелил губами, точно посасывая. Вдруг его слегка вырвало на нагрудник свернувшимся молоком.
— Ах, нет, нет; этот ребенок нездоров! — воскликнула мать, покачивая головой.
— Да разве он кашлял?
Как бы в ответ Раймондо закашлялся.
— Слышишь?
То был маленький, легкий кашель, не сопровождаемый каким-либо хрипом внутри. Он длился очень недолго.
Я подумал: «Нужно подождать». Но по мере того, как во мне пробуждалось зловещее предчувствие, мое отвращение к пришельцу уменьшалось, раздражение унималось. Я замечал, что сердце мое сжималось, болело и становилось неспособным к ликованию.
Я вспоминаю об этом вечере как о самом печальном из всех, пережитых мною в течение этого злополучного периода моей жизни.
Будучи почти уверенным, что Джованни ди Скордио должен быть где-нибудь неподалеку, я вышел из дому и направился по аллее, где мы с братом встретили его в прошлый раз. В прозрачных вечерних сумерках чувствовалось предвестие первого снега. Вокруг деревьев расстилался ковер из листьев. Голые, сухие ветви пересекали небо.
Я смотрел перед собой, надеясь увидеть фигуру старика. Я думал о нежной преданности старика своему крестнику, об этой скорбной старческой любви, об этих больших мозолистых и морщинистых руках, которые с трепетной нежностью касались белых пеленок. Я думал: «Как он будет плакать!» Я видел маленького мертвеца в гробу, в пеленках, среди венков из белых хризантем, между четырьмя зажженными свечами; и Джованни, преклонившего колени и плачущего. Моя мать тоже будет плакать, будет предаваться отчаянию. Весь дом будет окутан в траур. Рождество будет мрачное. Что сделает Джулиана, когда я появлюсь на пороге алькова, подойду к кровати и объявлю: «Он умер»?
Я дошел до конца аллеи, посмотрел вокруг; никого не увидел. Поля молча погружались во мрак; вдали, на холме, краснел огонь заката. Я повернул назад. Вдруг что-то белое задрожало перед моими глазами и исчезло. То был первый снег.
А позднее, сидя у изголовья Джулианы, я снова услыхал звуки волынок рождественской службы, в тот же самый час.
XLVIII
Прошел и этот вечер, прошла ночь, прошло следующее утро. Ничего особенного не произошло. Но при осмотре ребенка врач нашел, что у него ларингит и бронхит: легкое, незначительное заболевание. Тем не менее я заметил, что он старался скрыть некоторое беспокойство. Он дал несколько указаний, рекомендовал величайшую осторожность и обещал снова зайти днем. Беспокойство моей матери не имело границ.
Войдя в альков, я сказал Джулиане вполголоса, не глядя ей в лицо:
— Ему хуже.
Мы долгое время ничего больше не говорили. Время от времени я вставал и подходил к окну, чтобы посмотреть на снег. Я ходил по комнате, охваченный невыносимым волнением. Джулиана зарылась головой в подушку, почти вся спряталась под одеяло. Когда я подходил к ней, она открывала глаза и бросала на меня беглый взгляд, в котором я ничего не мог прочесть.
— Тебе холодно?
— Да.
Но в комнате было тепло. Я снова возвращался к окну, чтобы посмотреть на снег, на побелевшие поля, на которые продолжали падать медленные хлопья. Было два часа пополудни. Что происходило в комнате ребенка? Вероятно, ничего особенного, потому что никто не приходил звать меня. Но тревога моя так усилилась, что я решил пойти посмотреть. Открыл дверь.
— Куда ты идешь? — крикнула мне Джулиана, приподымаясь на локте.
— Я иду туда, на одну минутку. Сейчас вернусь.
Она оставалась в том же положении; была очень бледна.
— Ты не хочешь? — спросил я ее.
— Нет, останься со мною.
Она не ложилась на подушку. Странное волнение искажало ее лицо; глаза ее беспокойно блуждали, точно следя за какой-то движущейся тенью. Я подошел, уложил ее, поправил одеяло, ощупал у нее лоб и нежно спросил ее:
— Что с тобой, Джулиана?
— Не знаю. Мне страшно…
— Чего?
— Не знаю. Это не моя вина; я больна, уж такая я.
Но глаза ее все блуждали, не глядя на меня.
— Чего ты ищешь? Ты видишь что-нибудь?
— Нет, ничего.
Я еще раз ощупал у нее лоб. Жару не было. Но у меня разыгралось воображение, и я начал тревожиться.
— Видишь, я не покидаю тебя, я остаюсь с тобой!
Я сел и начал ждать. Состояние моей души было в томительном напряжении, как бы в ожидании близкого события. Я был уверен, что вот-вот кто-нибудь войдет и позовет меня. Я стал прислушиваться к малейшему шуму. Время от времени в доме слышался какой-то звон. Донесся глухой звук катящегося по снегу экипажа. Я сказал:
— Вероятно, доктор.
Джулиана не ответила. Я ждал. Время тянулось бесконечно долго. Вдруг я услышал шум раскрывавшихся дверей и звук приближавшихся шагов. Вскочил на ноги. В то же время Джулиана приподнялась.
— Что случилось?
Но я уже знал, в чем дело, даже знал, что именно мне скажет вошедшее лицо.
Вошла Кристина. Она казалась расстроенной, но старалась скрыть свое волнение. Пробормотала, не подходя ко мне, а лишь бросив на меня взгляд:
— На одну минуту, синьор.
Я вышел из алькова.
— Что случилось?
Она ответила вполголоса:
— Ребенку плохо. Поспешите.
— Джулиана, я выйду на минутку. Оставлю с тобой Кристину. Сейчас вернусь.
Вышел. Добежал до комнаты Раймондо.
— Ах, Туллио, ребенок умирает! — с отчаянием крикнула мать, склоняясь над колыбелью. — Посмотри на него! Посмотри!
Я тоже нагнулся над колыбелью. Произошла внезапная, неожиданная, необъяснимая, ужасная перемена. Личико его стало землистого цвета, губы посинели, глаза как бы ввалились, потускнели, погасли. Бедное дитя, казалось, испытывало действие сильного яда.
Мать рассказывала прерывающимся голосом:
— Час тому назад он был почти здоров. Кашлял, да, но больше ничего. Я ушла, оставила здесь Анну. Думала, что найду его спящим. Казалось, его клонило ко сну… Возвращаюсь и вижу его в таком состоянии. Посмотри: он почти холодный!
Я потрогал его лоб и щечку. Температура кожи действительно упала.
— А доктор?
— Еще не приехал! Я послала за ним.
— Надо было послать верхового.
— Да, поехал Чириако.
— Верхом? Нельзя терять времени!
Я не притворялся. Я был искренен. Я не мог оставить умирать этого невинного ребенка без помощи, не делая попытки спасти его. Перед этим почти трупом, когда мое преступление осуществилось, жалость, раскаяние, горе овладели моей душой. Я волновался не меньше матери в ожидании доктора. Я позвонил. Явился слуга.
— Чириако отправился?
— Да, барин.
— Пешком?
— Нет, барин, в коляске.
Вошел, запыхавшись, Федерико.
— Что случилось?
Мать, все еще склонившись над колыбелью, воскликнула:
— Ребенок умирает!
Федерико подбежал посмотреть.
— Он задыхается! — сказал он. — Разве вы не видите? Он больше не дышит.
Он схватил ребенка, вытащил его из колыбели, поднял его и стал трясти.
— Нет, нет! Что ты делаешь? Ты убьешь его! — закричала мать.
В эту минуту дверь раскрылась, и кто-то доложил:
— Доктор.
Вошел доктор Джемма.
— Я уже ехал сюда. По дороге встретил коляску. В чем дело?
Не выжидая ответа, он подошел к брату, еще державшему на руках ребенка; он взял его, осмотрел и нахмурился. Потом сказал:
— Тише! Тише! Надо распеленать его.
И положил его на кровать кормилицы, затем помог моей матери распеленать его.
Показалось голое тельце. Оно было такого же землистого цвета, как и лицо; конечности безжизненно повисли. Толстая рука доктора там и сям ощупывала кожу.
— Сделайте что-нибудь, доктор! — молила мать. — Спасите его!
Но доктор, казалось, был в нерешительности. Он пощупал пульс, приложил ухо к груди и пробормотал:
— Порок сердца… Невозможно! — И спросил: — Но как случалась эта перемена? Внезапно?
Мать стала рассказывать, но, не кончив, залилась слезами. Доктор хотел сделать последнюю попытку. Он старался заставить ребенка очнуться от оцепенения, заставить его закричать, вызвать рвоту, побудить его к энергичному дыханию. Мать стояла и смотрела на него, и из ее широко раскрытых глаз бежали слезы.
— Джулиана знает? — спросил меня брат.
— Нет, вероятно, нет… может быть, догадывается… может быть, Кристина… Останься здесь. Я пойду посмотрю, потом вернусь.
Я посмотрел на ребенка в руках у доктора, посмотрел на мать; вышел из комнаты, побежал к Джулиане. Перед дверью остановился: «Что я ей скажу? Сказать правду?» Вошел, увидел Кристину, стоявшую у окна; прошел в альков, полог которого был спущен. Она лежала, съежившись под одеялом… Подойдя к ней, я заметил, что она дрожала, как в приступе лихорадки.
— Джулиана, смотри — я здесь.
Она раскрылась и повернула ко мне лицо. Спросила меня чуть слышно:
— Ты оттуда?
— Да.
— Скажи мне все.
Я наклонился к ней, и мы начали говорить шепотом, приблизившись друг к другу.
— Ему плохо.
— Очень?
— Да, очень.
— Умирает?
— Кто знает! Может быть.
Внезапным порывом она высвободила руки и обняла меня за шею. Моя щека прижалась к ее щеке; и я чувствовал, как она дрожала, чувствовал хрупкость этой бледной, больной груди; и в то время, как она обнимала меня, в моем мозгу мелькали образы отдаленной комнаты: я видел ввалившиеся, потухающие глаза ребенка, его бескровные губы, видел, как у матери бежали слезы. Никакой радости не было в этом объятии. Сердце мое сжималось; душа моя была полна отчаяния, была одинока, и такою склонилась над темной бездной другой души.
XLIX
Когда наступил вечер, Раймондо не было уже в живых. В этом маленьком трупике с несомненностью обозначались все признаки острого отравления углекислотой. Личико стало сине-багровым, почти свинцовым; нос заострился, губы были темно-синего цвета; из-под полузакрытых век виднелись мутные белки; возле паха появилось красноватое пятно; казалось, что уже началось разложение, таким ужасным сделалось это детское тело, бывшее нежно-розовым несколько часов тому назад, когда его ласкали пальцы моей матери.
В ушах моих отдавались крики, рыдания и безумные слова моей матери, в то время как Федерико и служанки уводили ее.
— Пусть никто не трогает его! Пусть никто не смеет трогать его! Я сама хочу омыть его, хочу запеленать его… я сама…
Потом ничего. Крики затихли. Время от времени слышалось хлопанье дверей. Я оставался там один. Правда, доктор тоже был в комнате, но я был один. Что-то странное происходило во мне, но я еще ничего не понимал.
— Уходите, — сказал мне доктор тихо, дотронувшись до моего плеча. — Уходите отсюда, уходите же.
Я был покорен; повиновался. Медленно шел по коридору и вдруг почувствовал, что кто-то снова дотронулся до меня. То был Федерико; он обнял меня. Я не заплакал, не испытал сильного волнения, не понял того, что он сказал мне. Однако я услыхал, что он назвал Джулиану.
— Отведи меня к Джулиане, — сказал я ему.
Взял его под руку, дал вести себя, как слепой. Когда мы подошли к двери, я сказал:
— Оставь меня.
Он крепко сжал мне руку; потом оставил меня. Я вошел один.
L
Ночью в доме стояла гробовая тишина. В коридоре горел свет. Я шел по направлению к этому свету, точно лунатик. Что-то странное происходило во мне, но я не понимал еще, что именно.
Остановился, точно предупрежденный голосом инстинкта. Дверь была открыта; свет проникал через опущенную портьеру. Переступил через порог; откинул портьеру; вошел.
Колыбель, убранная белым, стояла посреди комнаты между четырьмя зажженными свечами. С одной стороны сидел брат, с другой — Джованни ди Скордио. Присутствие старика не удивило меня. Мне казалось естественным, что он был там; я ни о чем не спросил его; ничего не сказал ему. Кажется, я даже слегка улыбнулся им обоим, смотревшим на меня. Не знаю, право, действительно ли улыбнулись мои губы, но я как бы хотел им сказать: «Не беспокойтесь обо мне, не старайтесь утешать меня. Видите: я спокоен. Мы можем молчать». Сделал несколько шагов, сел у изножья колыбели между двумя свечами; к этому изножью я принес свою испуганную, приниженную, совсем лишенную первоначальных ощущений душу. Брат и старик все еще были там, но я среди них был один.
Маленький покойник был одет в белое: в крестильную одежду, или мне так показалось. Только лицо и руки были открыты. Маленький рот, так часто вызывавший во мне ненависть своим плачем, был неподвижен под таинственной печатью. Молчание этих крошечных уст было и во мне, было и вокруг меня. И я смотрел и смотрел…
И тогда, в этом молчании, загорелся свет внутри меня, в глубине моей души. Я понял. Слова моего брата, улыбка старика не могли мне открыть того, что в одно мгновение открыли крошечные немые уста. Я понял. И тогда меня охватила страшная потребность признаться в своем преступлении, открыть свою тайну, заявить в присутствии этих двух людей: я убил его.
Они оба смотрели на меня; и я заметил, что они оба беспокоились обо мне, что их тревожит мое состояние перед покойником, что оба с беспокойством и волнением ждали конца моей неподвижности. Тогда я сказал:
— Знаете, кто убил этого Невинного?
Голос среди тишины прозвучал так странно, что показался мне самому неузнаваемым, показался мне не моим. И внезапный ужас заледенил мне кровь, парализовал мне язык, затемнил мне зрение. Я задрожал. И почувствовал, как брат поддерживает меня, трогает мою голову. В ушах у меня так шумело, что слова его доносились до меня смутно, прерывисто. Он думал, что у меня лихорадка, и старался увести меня. Я дал ему это сделать.
Поддерживая, он проводил меня в мою комнату. Страх все еще не покидал меня. Увидя свечу, горящую на столе, я вздрогнул. Я не помнил, оставил ли я ее зажженной.
— Раздевайся, ложись в постель, — сказал мне Федерико, нежно ведя меня за руки.
Он заставил меня сесть на постель, еще раз ощупал мой лоб.
— Вот видишь? Лихорадка у тебя усиливается. Начинай раздеваться. Ну-ка, живо!
С нежностью, напоминавшей мне мою мать, он начал помогать мне раздеваться. Потом помог мне лечь в постель. Сидя у моего изголовья, он время от времени трогал мой лоб, чтобы следить за температурой; видя, что я все еще дрожал, он спросил меня:
— Тебе очень холодно? Озноб не прекращается? Хочешь, я тебя укрою? Хочешь пить?
А я, весь содрогаясь, думал: «Что, если б я заговорил! Если б я был в силах продолжать! Неужели я сам, собственными губами, произнес эти слова? Неужели это был я? А что, если Федерико, вдумываясь и вникая в эти слова, начнет подозревать? Я спросил: „Знаете ли вы, кто убил этого Невинного?“ — и больше ничего. Но разве у меня не было вида исповедующегося убийцы? Размышляя об этом, Федерико, конечно, должен будет спросить себя: „Что он хотел этим сказать? На кого возводил это страшное обвинение?“ И моя экзальтированность покажется ему подозрительной. Доктор… Нужно, чтобы брат подумал: „Может быть, он имел в виду доктора?“ Нужно, чтобы у него было какое-нибудь новое доказательство моей возбужденности, чтобы он продолжал думать, что мозг мой в лихорадке, находится в состоянии перемежающегося бреда». Во время этих рассуждений быстрые и ясные образы мелькали в моем мозгу с очевидностью реальных осязаемых вещей: «У меня лихорадка; и очень сильная. А если действительно начнется бред и я выдам бессознательно свою тайну?»
Я наблюдал за собой с гнетущим волнением. Сказал:
— Доктор, доктор… не сумел…
Брат наклонился надо мной, еще раз потрогал мой лоб и тревожно вздохнул.
— Не мучь себя, Туллио. Успокойся.
Он намочил полотенце холодной водой и положил его на мой разгоряченный лоб.
Ясные и головокружительно быстрые образы беспрерывно мелькали передо мной. С ужасающей яркостью представлялось мне видение агонии ребенка. Он умирал там, в колыбели. Лицо его было пепельного цвета, со столь мертвенным оттенком, что над бровями пятна молочной лихорадки казались желтыми. Нижняя губа была вдавлена, так что ее не было видно. Время от времени он раскрывал слегка посиневшие веки, и, казалось, вместе с ними закатывались и зрачки, так что виден был лишь мутный белок. Слабое хрипение время от времени прекращалось. В один из таких моментов доктор сказал, как бы прибегая к последнему средству:
— Скорее, скорее! Перенесем колыбель к самому окну, к свету. Несите, несите! Ребенку нужен воздух. Несите!
Мы с братом перенесли колыбель, казавшуюся гробом. Но при свете зрелище было еще ужаснее: при этом холодном белом свете выпавшего снега. А моя мать кричала:
— Он умирает! Смотрите, смотрите: умирает! Видите, у него нет больше пульса!
А доктор говорил:
— Нет, нет. Он дышит. Пока есть дыхание, есть и надежда. Мужайтесь.
И он влил в посиневшие уста умирающему ложку эфира. Спустя немного времени умирающий открыл глаза, закатил зрачки, испустил слабый крик. Произошло легкое изменение в цвете его лица. Ноздри вздрогнули.
Доктор сказал:
— Видите? Он дышит. До последней минуты не следует отчаиваться.
И он махал веером над колыбелью. Потом нажал пальцем на подбородок ребенка, чтобы оттянуть нижнюю губу и раскрыть ему рот. Прилипший к небу язык опустился как клапан; и я увидел нити беловатого гноя, собравшегося в глубине его горла. Судорожным движением он поднимал к лицу миниатюрные ручонки, посиневшие особенно на ладонях, на сгибах, суставах и у ногтей, — эти уже помертвевшие ручки, которые каждую минуту трогала мать. Мизинец правой ручки все время отделялся от других пальцев и слегка дрожал в воздухе; это было ужаснее всего.
Федерико старался убедить мать выйти из комнаты. Но она склонилась над личиком Раймондо так близко, что почти касалась его; следила за каждым его движением. Вот на обожаемую головку упала слеза. Мать тотчас вытерла ее платком и вдруг заметила, что родничок на черепе вдавился и запал.
— Посмотрите, доктор! — воскликнула она вне себя от ужаса.
И взор мой остановился на этом мягком черепе, усеянном сыпью молочной лихорадки, желтоватом, похожем на кусок воска, посреди которого сделали углубление. Все швы были видны. Синеватая жилка на виске терялась под сыпью.
Слабое оживление, искусственно вызванное эфиром, угасало. Хрипение принимало теперь какой-то особенный характер. Ручки безжизненно свисали вдоль тела; подбородок ввалился; родничок стал еще глубже и не трепетал больше. Вдруг умирающий сделал судорожное усилие; доктор быстро приподнял ему голову; из посиневшего ротика вылилось немного беловатой слизи. Но во время этого позыва к рвоте кожа на лбу натянулась, и сквозь кожицу видны были желтые пятна застоя крови. Мать испустила крик ужаса.
— Пойдем отсюда, пойдем! Иди со мной, — повторял брат, стараясь увести ее.
— Нет, нет, нет.
Доктор дал еще одну ложку эфира. Агония затягивалась, а с ней затягивалось и мучение. Ручки подымались снова, пальцы слабо двигались; между полураскрытыми веками показывались и снова исчезали зрачки, точно два поблекших цветка, точно два маленьких венчика, которые сморщивались и вяло закрывались.
Наступал вечер, а Невинный все еще умирал. На стекла окна падал точно отблеск зари; то был отблеск белого света на фоне сумерек.
— Умер? Умер? — кричала мать, не слыша больше хрипения, видя появившуюся около носа синеву.
— Нет, нет, дышит.
Зажгли свечу; ее держала одна из женщин; и желтый огонек колыхался у изножья колыбели. Вдруг мать раскрыла маленькое тельце, чтобы пощупать его.
— Он холодный, совсем холодный!
Ноги пожелтели, ступни посинели. Ничего не могло быть ужаснее этого кусочка мертвого тела, перед этим окном, погруженным в тень, при свете свечки.
Но какой-то неописуемый звук — не то плач, не то крик, не то хрипение — еще исходил из этого маленького, почти синего ротика вместе с беловатой слюной. И моя мать как сумасшедшая бросилась на застывшее тело…
Так я снова видел, с закрытыми глазами, всю эту картину; открывал глаза и снова видел ее с поразительной ясностью.
— Свечу! Убери эту свечу! — закричал я Федерико, приподнимаясь на кровати, потрясенный колыханием этого бледного огонька. — Убери эту свечу!
Федерико отошел, взял свечу и поставил ее за ширмы. Потом вернулся к моему изголовью; уложил меня; переменил холодный компресс на лбу.
И время от времени, в тишине, я слышал его вздох.
LI
На другой день, хотя я находился в состоянии чрезмерной слабости и отупения, я пожелал присутствовать при панихиде, при переносе тела, при всем ритуале.
Трупик уже положили в белый гробик со стеклянной крышкой. На голове у усопшего был венок из белых хризантем, и в сложенных ручках была белая хризантема; но ничто не могло сравниться с восковой белизной этих худеньких ручек, с посиневшими ноготками.
Присутствовали я, Федерико, Джованни ди Скордио и несколько слуг. Четыре свечи горели, истекая слезами. Вошел священник в белой епитрахили в сопровождении клириков, несших кропильницу и крест без древка. Все опустились на колени. Священник окропил гроб святой водой, произнося:
— Sit nomen Domini…[27]
Потом прочел псалом:
— Laudate pueri Dominum…[28]
Федерико и Джованни ди Скордио поднялись, взяли гроб. Пьетро открыл перед ними двери. Я следовал за ними. За мной шли священник, клирики, четверо слуг с горящими свечами. Пройдя по безмолвным коридорам, мы дошли до часовни в то время, как священник читал псалом:
— Beati immaculati…[29]
Когда гроб внесли в часовню, священник произнес:
— Hic accipiet benedictionem a Domino…[30]
Федерико и старик поставили гроб на маленький катафалк посреди часовни. Все преклонили колени. Священник прочел другие псалмы. Потом произнес моление, чтобы душа Невинного была взята на небо. Затем снова окропил гроб святой водой и вышел в сопровождении клириков.
Тогда мы встали. Все было готово для погребения. Джованни ди Скордио взял легкий гробик на руки, и глаза его остановились на стеклянной крышке. Федерико первый опустился в склеп, за ним старик с гробом; потом опустился и я со слугой. Никто не произнес ни слова.
Склеп был обширный, весь из серого камня. По стенам были выбиты ниши, некоторые уже прикрытые плитами, другие открытые, глубокие, полные мрака, ожидающие. С арки свешивались три лампады, наполненные оливковым маслом; спокойно горели они во влажном и тяжелом воздухе маленьким неугасимым пламенем.
Брат сказал:
— Здесь.
И указал на нишу, которая находилась под другой, уже прикрытой плитой. На этом камне было вырезано имя Костанцы; буквы слабо блестели.
Тогда Джованни ди Скордио простер руки, на которых лежал гроб, чтобы мы могли еще раз взглянуть на покойника. И мы посмотрели. Сквозь стеклянную крышку это маленькое посиневшее личико, маленькие сложенные ручки, и эта одежда, и эти хризантемы, и все эти белые предметы казались бесконечно далекими, неосязаемыми, точно прозрачная крышка гроба на руках у старика давала нам возможность увидать, как через отдушину, обрывок сверхъестественной тайны, страшной и влекущей к себе.
Никто не говорил. Казалось, что никто не дышал.
Старик повернулся к нише, наклонился, поставил гроб, тихонько вдвинул его в глубину. Потом опустился на колени и застыл в такой позе на несколько минут.
Тускло белел в нише погруженный в нее гроб. Ярко светились под лампадой седины старика, склонившего их к самому рубежу Мрака.
Леда без лебедя
© Перевод Н. А. Ставровской

Рассказывал об этом мне вчера, когда спускался вечер, на понтоне, что с отливом понемногу оседал на дно, под шорох тайной жизни окружавших нас песков, под жалобные выкрики совы в прибрежных зарослях покрытого цветами дрока и морского камыша, — рассказывал об этом Дезидерио Мориар,[31] истинный художник, пусть ничего не создал он и славы не снискал, который знает, как и я, что в жизни — еще больше, чем при чтении, — важней всего привычка ко вниманью.
Голос же его походит на ненастливые мартовские дни, сплошь из серебристых проблесков, внезапных шквалов, ливней, града, мелодичных пауз, когда кажется все время: явленное — только малость по сравненью с тем, что впереди. Исходит он из жадного, досадливого рта — как у мальчишки-лакомки, прилипшего с фальшивой гнутой денежкой к кондитерской витрине. Карие глаза, когда он говорит, порою так тревожно мечутся среди трепещущих ресниц, что капли крови в уголках их загораются, как киноварные мазки на некоторых вычурных портретах, порой же отрешенно отдаются воле грезы, понятной лишь ему, покачиваясь на ее волнах, как пара гладеньких ореховых скорлупок.
Не менее несхож он сам с собой анфас и в профиль: дерзкой чувственности, не сносящей принужденья, даже в миг порыва склонной выбирать, он, повернувшись, противопоставит сломленную волю человека, чьей судьбы капризы — и незатейливые, и замысловатые несут ему одно и то же чувство гнетущей пустоты. Его красивой лепки руки — то нервные, как у блистательного скрипача между смычком и грифом, то мягкие, бескостные, как у известного портного, примеряющего даме платье, — вдруг, вскинувшись, похрустывают пальцами, как будто пробуя тональность заключенного у них внутри скелета. Тогда по скулам, по вискам его, по подбородку пробегают волны, напоминающие мне породистых коней с их слишком тонкой шкурой, а иногда — смешные кроличьи мордашки.
Не чудо ли одушевленный этот инструмент, что жестом, тоном, паузой, намеком, взглядом может выявить значенье зримого и скрытого от взоров?
Вчера сказал он мне, ребячливый кудесник: «Разве ночь не вездесуща и не вечна? Сожму кулак — и вот средь бела дня она — в моей пригоршне!» Слушая его, я постоянно ощущал чудесный этот мрак, в котором проступали формы и события, божественную тьму, что заполняет складку юбки или трещину в разбитом сердце.
Не льстя себя надеждой даже приближенно воссоздать здесь яркое его искусство, я, приводя одну из слышанных историй, стараюсь представлять, что пережил все это сам.
То был один из тех тоскливых дней, как говорят, придуманных для двойственных натур наставником Нерона,[32] когда жизненные силы уходят из кругов души, как покидает желоб сукновального устройства или мельницы вода, обнажая в пересохших рвах у замерших машин обломки и отбросы.
Любая мысль пахнет, кажется, гниющим илом. Тело словно бы лишилось оболочки и вот-вот разломится: в своих усильях удержаться, опереться, найти позу, которая позволила б надолго обрести покой, оно напоминает старые распятья без креста, что в антикварных лавках выглядят распятыми на том, к чему случайно прислонились.
Способствовало мукам время года: в Ландах[33] шел какой-то дождь-недождь. Дырчатая туча окропляла полосу песка редкими большими, редко падавшими, тепловатыми, как будто бы с шумовки, каплями. За этой полосой песок был сух, а дальше — снова в брызгах, и опять сухой клочок — словно и земля недомогала, как будущие матери, когда бросает их то в жар, то в холод, если подскакивает в глубине бесформенный комок.
Я расставался у калитки сада с нежным и назойливым созданием из тех, которые, в отличие от юношеской грезы Данте, упрямо держат на руках свою угасшую любовь, «легко прикрытую лишь алой тканью», не решаются никак ее похоронить и силятся заставить нас «уловками» терзать их драгоценное сердечко, уж не способное пылать. Vide cor meum.[34]
Я слушал воздыхания — привычные, как гул, что поднимается под действием хинина в ушах больного лихорадкой после приступов. И все не совершал решительного шага, стоя у порога, покрытого цветочною пыльцой. Я наблюдал, как налипает эта мука дикорастущих трав на свежекрашеную новую калитку, заполняет щели, обволакивает пузырек камеди, взбухшей на живой еще сосновой перекладине, — так на ладони надувается волдырь, чтоб после стать мозолью.
В подвешенный к стволу со снятою корою глиняный горшочек с первым же движением древесных соков хлынула смола, плеснула через край, повисла карамелевыми нитями, и захотелось дать ей пожевать их, чтоб перемазали они докучливый язык и заманили нудные слова на нёбо. Под мягкой млечной сенью нерешительного облака фальшивила то тут, то там, подобно нерадивой ученице школы хорового пения, какая-нибудь птаха. И жизнь казалась мне одной из глупых аллегорий, заданных когда-то на экзамене преподавателем риторики. Я справился так скверно, что пришлось потом носить свой опус в наказание пришпиленным двумя булавками к спине. Сходя тогда лесными тропками туда, где зимние квартиры, я думал с завистью о ландских пастухах — немногочисленных потомках старых чудаков, шагавших на ходулях по рассыпанным в песках болотам и прудам со скоростью галопа пиренейских скакунов.
Несколькими днями прежде в зарослях я свел с одним из них знакомство. От легендарных тех шестов оставив жалкие обрубки, надев через плечо салатного оттенка зонтик и коричневую торбу, нахлобучив грибовидный шерстяной берет, он на одном и том же месте, опершись на палку, вяжет день-деньской, обремененный мыслями не больше собственного пса и равнодушный к бегу времени, как, видимо, песочные часы, годами не тревожа свой язык, застывший, наподобие сардины в масле, в безмолвии слюны.
Вдали от милых или уж не милых глаз свет кажется иным.
Небо входит в нашу спальню, лишь когда погаснут лампы.
Между соснами, едва очищенными от коры (чудилось издалека: к стволам прибиты рыжеватые козлячьи шкурки, что висят обычно у мясницких лавок), виднелся пестрый город Этизия,[35] объятый теплой сыростью — такой же мерзкой, как в перенятых Западом турецких банях, где с усердием потеют толстяки, расстелив на мокрых животах газеты — символы их веры.
Изящные дома, казалось, вырезаны из ажурной жести и папье-маше; радушное искусство архитектора-жирондца с летучим галстуком и остренькой бородкою дух лигурийского приморья примирило с таким же утешительным, присущим Озеру Четырех Кантонов.[36] На всех фасадах были выведены литерами в новом стиле названия, навеянные мифологией, ботаникой, городскими празднествами или же какой-нибудь сентиментальной глупостью. Во всех домах, наверное, имелись ваза с фальшивыми цветами под стеклянным колпаком, громадная причудливая раковина, статуэтка Жанны д’Арк в графитовых доспехах, часы с кукушкой, дабы накликала счастье или смерть.
За стеклами кристальной чистоты, которые отгородили, как аквариум, далекий мир, от взрывов кашля иногда вздымались ворохи тряпья и одеял, чтоб снова опуститься на плетеные шезлонги. Неведомо откуда нескончаемая вереница гусениц стремилась в вечность, легко и жутко сокращая бесчисленное множество колец. Пушистые их гнезда на концах ветвей порою походили на обмотанные корпией больные руки. Шарманки перенявшее натуру фортепьяно играло наверху пассаж из тех, где ноты обозначены цифирью, чтобы каждый палец попадал на нужный клавиш, и пробудившийся во мне какой-то романтичный предок любопытствовал, украшена ль обложка черною гондолой, плакучей ивой, арфой Оссиана, названо ли сочинение «Мечта Скитальца», «Юный раб» или «Последний день Марии Стюарт».
Мелькнула мысль — ребяческая и жестокая: «Вот закричу — и все больные устремятся к окнам и застынут с одним и тем же выражением на лицах, пористых как пробки, что свисают с рыболовной сети, растянутой для сушки после ловли».
В незанавешенном окне взметнулась белая рука — то ли отгоняя муху, то ли зовя меня к себе. Я был, по сути дела, отделен от смерти только тоненьким стеклом, и незнакомая рука могла его разбить.
Припомнилось: раз в Ницце моему кузену довелось полдня испытывать чудесную любовь супруги одного каноника из Кракова, почившей той же ночью вечным сном.
Но дверь потерянной избранницы моей была закрыта. В маленьком саду служанка в чепчике и деревянных башмаках намыливала пуделя каштанового цвета, казалось таявшего, словно шоколадный, и грязная вода ко мне стекала по тропинке на дорогу, подобная уродливой руке, которая как будто бы ощупывала землю, делаясь все шире и длиннее, в поисках чего-то мной оброненного.
Я не знал чего.
Я ждал, что кто-нибудь меня заботливо окликнет: «Синьор, постойте, вот глядите, что вы потеряли». Но никто не подал голоса; не поднялась, чтобы вернуть потерю мне, и жидкая рука: все щупая, она текла к канаве, мешая ассамблее устроившихся под холстиной гусениц, похожих сразу на змеиный выползок и на пустые высохшие соты.
Тем временем навстречу мне катилась трехколесная коляска, схожая с корзиной; усатый господин с посеребренной головой толкал ее с достоинством, присущим ветеранам войн за независимость и тем, кто посвятил себя спасенью утопающих и гибнущих в огне. В коляске возлежала престарелая особа; дни ее, похоже, были сочтены, однако же в глазах, венчавших сморщенные сумки, — в этих грозных спрутах с непременными унылыми мешками, волею неведомого случая лишившихся восьмерки щупалец с присосками, — светилась ненависть ко всей Вселенной. За два шага коляска стала — так неожиданно, что я невольно вздрогнул.
Через дорогу шествовала вереница гусениц, и горделивый господин, приставленный к коляске, жалостью ли движимый, брезгливостью иль предрассудком, находчиво пытался избежать резни. Он нажимал на задний край корзины, чтобы приподнять перёд, старуха ощутила тряску, собрала все силы, и два увечных осьминога извергли в недотепу яд. Колесо упало и разрезало мохнатую и дряблую кишку. Другие два и туфли довершили бойню.
С омерзеньем отвернувшись, я увидел за оградою мальчишку, чья громадная лоснящаяся рожа с глубоко сидящими свинячьими насмешливыми глазками едва не лопалась, как будто кто-то сквозь дыру в затылке беспрерывно подбавлял в нее топленый жир и молотое мясо.
Не правда ли, кишащая личинками на свалке дохлая дворняга — зрелище почти бодрящее в сравнении с отдельными явлениями человеческого безобразия, прикрытого одеждой?
Вдруг у меня над головой пронесся сильный ветер: кажется, подобные порывы исходят от чудесных рубежей иного бытия — непознаваемого, разве что порой оно проглядывает смутно в проблесках воспоминаний или вспышках беспокойства, когда, то ли памятуя что-то, то ли предрекая, дух напрасно силится освободиться от бесчисленных привычек, маний, немощей, гримас, обманов, страхов, которые и составляют нашу жизнь.
Встревоженные ветви будто бы курились золотой пыльцой, окрашивая ею порванное облако; меж двух клоков его, похожих на льняные лоскуты, покрытые лесною позолотою, на миг явился мне божественный из ликов воздуха.
И прежде чем раздаться неумелой ноте дебютанта-соловья, послышалось, как ветер от подножия и до макушки наполняет музыкой сосну, подобно духовому инструменту.
Достало хрупкой ноты, чтобы все переменилось.
Тогда с надеждою, что музыка мне приоткроет тайну этих всех картин, которые воспринял я благодаря не только зрению, но и еще какому-то мучительному чувству, я отправился не медля в город.
Молодой клавесинист, питомец Schola Canto rum,[37] усвоивший изящную и сильную манеру старых итальянских музыкантов, мне горделиво и любезно написал, что на своем концерте в этот день играть он будет только для меня.
Чудесная, замечу, проницательность вошедши в Казино,[38] я обнаружил, что, за редким исключением, местным свиньям — more biblico[39] — и в самом деле бисер оказался ни к чему.
Лишь единицы слушателей собрались в просторном зале, изукрашенном в турецком стиле, распаляющем воображенье унтер-офицеров в залах ожидания борделей. Не хватало только знаменитых благовонных свечек, именуемых гаремными. Местная Эвтерпа[40] — грубая, костлявая, — сопровождая редких слушателей к креслам, временами запускала руку в свой передник — думалось, что за такой ароматической свечой, чтоб воскурить ее в отполированной посудине для чаевых; но ожидания всегда оказывались тщетны.
В стеклянный потолок вновь хлынул ливень, и вот уж, кажется, в унылый полумрак проник проворный дух воды, неся с собой какое-то земное благовонье радости.
Разверзлись стены, неохватный остов из железа, алебастра, дерева и лака весь сметен одним порывом ветра, точно горсточка сосновых игл на берегу, в который бьются атлантические волны.
Вдруг отовсюду вырвались прозрачные фонтаны — так хозяин, приведя с загадочной улыбкой в тихий угол парка своих доверчивых гостей, незаметно поворачивает тайный ключ в колчане Купидона, открывая путь забавам и каверзам воды.
На газонах, между симметричными кустами, между стрижеными кронами самшита, из сосцов наяд, из раковин тритонов, из дельфиньих спин, из глоток бронзовых лягушек, что таятся у скамеек и у входа в грот, из куполов миниатюрных храмов, из резных балясин лестниц и террас, из арок над аллеями — повсюду бьют, текут, подскакивают, щелкают, преследуют и настигают струи — грозные, как сабли, пики, шпаги, ждущие в засаде.
Дамы, кавалеры кричат, бегут, хохочут, уклоняются, скрываются.
Но во всяком тайнике, в любом укрытье свежая гонительница тут как тут: брызжет искоса в затылок, в ухо, меж лопаток, снизу, будто в колокол, колотит глухо в фижмы, срывает с клокотом парик, пропитывает, треплет, обращая в пенный ком.
Амариллис,[41] наскочив на кустик роз, падает ничком, осыпав лепестки, задев шипы. Струи, полные коварства, — на нее толпой прозрачных гномов, обирают беззащитную красу. Перышко, вуаль, бантик, монограмма, тафтяная мушка, гребешок из черепахи, парчовый башмачок — легковесные прикрасы пляшут на верхушках струй, как выдутые яйца, с ними вместе и зеленый лист, и бурый шип, и белый лепесток.
«Спасите! Помогите!» Кавалер, чье имя Паламед,[42] не оборачивается, не мешкает, не слышит, улепетывая в панике под звон своих регалий: чулки прилипли к мощным икрам, в руке — пустые ножны от парадной шпаги.
Голося, пыхтя, все мчатся грабовой аллеей к лестнице из розового мрамора, как лебеди и гуси, вспугнутые чем-то из пруда.
Лишь только начали отряхиваться, думая: угроза миновала, вдруг розовые мраморные сфинксы маленькие, с аккуратными прическами, благообразные, как компаньонки, — опершись на лапки с безобидными когтями, изо ртов, загадок не таящих, выпускают широко распахнутые веера воды, которые, пересекаясь, накрывают все ступени.
Вновь — пленительная беготня, и кажется, что лестница, подобно вставшей пред Иаковом,[43] уходит в сладостное западное небо, где ласточки, снуя как челноки, плетут лиловую вуаль Печали.
И вот не выдержала нитка жемчуга, и зерна вместе с крохотными водопадами по гладким розовым ступеням заскакали вниз.
Вот лопнула вторая (из семи?), вот третья нить (из двадцати одной?), еще, еще — не счесть.
Жемчужинок все больше, больше, теплым градом сыплются со всех сторон, звенят, сверкают, прыгают, подхваченные ручейками, выглядят то драгоценным пузырьком воды, то капелькой текучей красоты.
Едва угомонились сфинксы — с грабов поднялись крича павлины, прельщенные нежданным угощением, слетают на дорогу, гонятся за зернышками, сложенными опахалами своими вытирая мокрый мрамор.
Вдруг откуда ни возьмись — пушистая компания ангорских кошек: дымчатые, белые, как сливки, синеглазые и с красными глазами.
Вдруг еще одна — блестящих, как стеклярус, черных обезьянок с бледными морщинистыми лапками, с золотыми колокольчиками на хвостах.
И киски, и мартышки носятся за звонким жемчугом, хватают бусины, кидают, ловят, резвятся, забавляются, дерутся, и все их позы, жесты, знаки в простоте своей прелестны и свежи.
А нитки наверху все рвутся, распускаются, все рассыпаются на зерна, словно там каким-то чудом происходит превращенье в бусы чувственного смеха Юности. (Что Амариллис там, внизу, средь розовых кустов, не потеряла ли сознание? Не отдала ли душу?)
То были сонаты Доменико Скарлатти.[44]
У молодого музыканта было чисто выбритое худощавое лицо со щетинистыми родинками, как у Франца Листа, на почти что греческом носу очки в золотой профессорской оправе, старомодная припудренная грива на манер Якопо Пери,[45] галстук, завязанный двойным узлом, на длинном черном бархатном жилете, как у франтов с литографий Гаварни;[46] но в упоительном искусстве своих пальцев и души являл себя он подлинным «маэстро клавесина», достойным восемнадцатого века и божественного Неаполитанца.[47]
Живость, дерзновенность, искренность, изящество, веселость, переменчивость и сладострастность этой музыки чудесным образом опять дарили мне утраченное ощущенье жизни, возвращали ему свежесть. Каждая соната, развивая в обеих партиях одну и ту же тему, казалось, складывалась из коротких линий, равно совершенных и несхожих, неожиданными модуляциями заставляя проявляться по-иному самые прозрачные из элементов.
Смежив веки, предавался я чарующим фантазиям, когда вдруг до меня донесся слабый шелест и женский аромат, какой исходит от примятого куста, так что подумалось мне было: потревожила меня моя же собственная греза. Амариллис?
Но, обернувшись, я увидел: рядом собралась расположиться молодая дама, и тотчас отметил свойство ее глаз: казалось, двигалась она вслепую. И сразу мир, рожденный у меня в душе той музыкою, рухнул и растаял, будто бы я выронил одну из тех хрустальных сфер, которые в руках английских ангелов Творения изображают шар земной. И струи не разили больше, как кинжалы, не разнизывались ожерелья. Душа, покинувшая как по волшебству свои пределы, отпрянула на несколько веков назад.
Наше бытие — магическое действо, не освещаемое светом разума, и тем оно богаче, чем более бывает от него удалено, разыгрываясь втайне, часто вопреки всем видимым законам. Когда нам мнится, будто бы мы спим и видим сны, то в сон на самом деле погружен Волшебник, переставший неожиданным и безошибочным своим искусством наши свойства сопрягать со свойствами того, что окружает нас. На время предоставлены самим себе, наверно, мы могли бы наблюдать за ним и познавать его, могли б разгадывать и тайну собственного бытия — не выключай он что-то в нас, как делает рабочий, запуская гвоздь или осколок в механизм, чтоб вывести его из строя. Сам же человек не спит с начала мира, и неидущий сон не в состоянии зарезать никакой Макбет.[48]
Что люди спят — такая же иллюзия, как время и пространство.
Постели наши — только символ ритуала, не понятого или понятого ложно, как в древнем мире ежегодный катафалк Адониса, а ныне — Иисуса, возводимый в нефе перед Пасхой. Там лежит не человек, а восковая кукла божества.
У незнакомки были очи из тех, что повергают нас в отчаяние и растерянность, как гладкая отвесная скала без перевалов. В оправе четких, жестких век они казались драгоценными камнями, напоминая мне глаза какого-нибудь бронзового бога или же атлета, сделанные из стеклянной массы или отливающего синью серебра и вплавленные или вставленные в выемки в металле, чтобы вечно требовать от смертных восхваления и подношений, не давая ничего взамен.
Цвет же неприкрытого лица ее, напротив, был так нежен, что взволновал меня, как никогда не удавалось даже первой плоской розочке, раскрывшейся на персиковой ветке. Бледное, оно светилось — может быть, благодаря особой крови или мощной лепке, ибо прежде я не видел лиц, изваянных природою с такой скульптурной щедростью, чтоб заставляли они думать и о величественном сотрясенье тверди в благородных землях, и в то же время о неповторимом сопряжении долин с холмами в самую погожую и тихую погоду.
Прикрыв глаза рукой, склонивши голову, я несколько мгновений слушал ее дыханье по ту сторону — а может быть, из глуби — музыки, что не струилась больше вдоль клавиатуры, а делалась безбурной, ровной, как в вечерний час отлива оставленные морем озерца, возвышенную красоту которых моя фантазия, питаемая Средиземноморьем, объясняет появленьем там одной из статуй, затонувших у Киклад.[49]
Чувствовать живую душу рядом так чудесно, что и сам не знаю я, какое заблуждение или трусость столь подолгу заставляют меня жить среди деревьев или на пустынных берегах. Но следует отметить: даже очень сильные, активные натуры противятся последующим усилиям, и нужен чрезвычайный интерес, чтоб, сладив с закоснелою привычкой, уловить подспудный ритм чужого бытия.
Внезапно на меня нахлынула волна печали, будто бы созданье это вновь проделало мой путь между домов с больными, вытерпело взгляд венчавших два морщинистых мешка старушечьих свирепых глаз и принесло мне снова мои мысли цвета пепла, сминаемые тою грязной растекавшейся рукой.
С силою галлюцинации, такой же неопровержимой, как реальность, охватило меня вдруг неясное, расплывчатое ощущение тревоги и беды, не связанное с этими лицом и телом, но разлитое вокруг — как будто я поднялся по зловещей лестнице и, нерешительно пройдя унылым коридором, оказался в полутемном помещенье со следами преступления. Наверно, я бы обнаружил в сумраке улики, если бы, открыв лицо, не повернулся в сторону соседки с невольной неучтивостью, которая, похоже, ее не столько оскорбила, сколько удивила.
Красота ее вошла мне в душу, словно заняв место, ей принадлежавшее, как в свой футляр ложится редкая вещица, в оттиск выпуклый рельеф. Тяжелое предчувствие сменилось у меня иным волненьем.
Силуэт ее был подчинен закону великих изваяний: где бы я ни представлял начало линии, она в текучести своей обречена, казалось, возвратиться к той же точке: начавшись у затылка, там и завершалась, у колена — к нему же и влеклась со свойственными ей одной лишь цельностью и совершенством и в единственно ей подобавшем ритме, как каждой музыкальной форме сообразен лишь один размер — «в три четверти» звучавшему Анданте, «в шесть октав» — Аллегро Доменико Скарлатти.
Она была в шиншилловом жакете легче пуха пепельного лебедя, в нецеломудренно ее стянувшей, словно путы, юбке цвета беж. Волосяная шляпка, украшеньем коей кроме ленты служили перья нумидийской цапли, похожие на два ножа, не скрыла мягкого каштанового, с золотым отливом шелка локонов, державшихся благодаря не шпильке и гребенке, а лишь собственной их густоте и силе.
Затянута в изысканный наряд была она по моде, словно бы подготовлявшей дам к тому, чтобы они удобно разместились в саркофагах фараоновых принцесс. Пространства, сидя в кресле, заняла она не больше, чем его имелось в этих деревянных разрисованных египетских гробницах. Под новомодными одеждами, однако, проступала линия, которая, рождаясь у щеки, очерчивала всю ее до пят такой, какой художники, должно быть, представляют Леду с древнего Эврота.[50] Ниже талии, казалось, прелести ее устремлены навстречу тайне «божественного Лебедя», как выразился Полифило.[51]
И снова мне подумалось о Леде Леонардо,[52] которую приятелю Пуссена Кассиано дель Поццо удалось в 1625 году увидеть в Фонтенбло,[53] а я по-прежнему мечтаю отыскать каким-нибудь невероятным образом.
— Бетховен? — удивившись, шепотом нарушил я не знаю сколько длившееся отрешенное молчание, когда вернул меня к реальности аккорд звучавшей музыки.
Из любопытства опустила она взгляд в лежавшую на муфте у нее программу и, видя, что я жду, откликнулась:
— Фердинандо Туррини.[54]
Имя итальянца назвала с какой-то детской и почти жеманной робостью, залившись краскою, преобразившей лик ее, как алый сок, которым свои горестные лица натирали девы из Апулии, готовясь заключить в объятья статую Кассандры на ее могиле.[55]
— Что же думать? — вопросил я с трепетавшим сердцем, радуясь предлогу. — Слышал ли он раннего Бетховена? Не знаю, право. Если нет, то как оригинальна, как значительна эта Соната ре-бемоль!
И тут же я увидел, сколь она к подобным тонкостям и темам от природы равнодушна — так певцу довольно первой пробной ноты, чтобы убедиться: в этом зале акустика плоха. Глаза ее меж четко обрамленных век вновь сделались непроницаемы. Я бессознательно чуть-чуть склонился к ней, приблизился к пределам тайны — но уже в растерянности, без порыва, в первые мгновения позволившего мне постигнуть, как она несчастна.
Струимый ею аромат лишал меня желания разгадывать ее загадку; смотрел я на нее теперь, как на бесценное сокровище, к которому проделан бесконечно долгий путь. Подобно неожиданному дуновенью, всколыхнувшему над головой моей сосну, катилась на меня волна далекой жизни, грозила опрокинуть, захлестнуть. В смятении я чувствовал, что обречен, что близок к добровольному безумию — к завороженности, от которой шаг до страсти.
Действительно, рассматривал я каждую ее черту в особенном каком-то свете, будто бы сквозь дымку времени — так, прежде чем с великой бережностью завернуть и спрятать на хранение вещицы, их разглядывает тот, кто знает, что настанет день, когда они пробудят драгоценные воспоминания, подарят упоение, лишь только он возьмет их в руки. И в сложном ощущении моем прошедшее сходилось с будущим, а настоящее служило лишь закваской.
Я говорил ей в мыслях, словно из грядущего: «Все у меня стоит перед глазами. Ты подалась слегка вперед, как будто для того, чтоб лучше слышать музыку. Казалось, что ты слушаешь не ухом, скрытым волосами, а припухшею губой, подобно детям, увлеченным сказкой. Правая рука твоя лежала в муфте. Дважды, вытащив, ты прятала ее со странной торопливостью, как если б опасалась что-то уронить. Перчатка у тебя держалась только на запястье, рука высовывалась в прорезь, и кожаная оболочка, свисая с тыльной стороны ее, хранила форму пальцев. Вдоль большого протянулась вмятина — едва заметный след прикосновения чего-то твердого…»
Вряд ли слушала она на самом деле итальянскую сонату. К музыке душа ее, по-моему, была почти глуха.
Тело женщин, чувствующих чистоту мелодий, наполняют они чем-то невесомым, как кости крыльев у летающих пернатых полны воздуха. Однажды на концерте, глядя, как моя согбенная невзгодами подруга вздрагивает от прекрасных стонов знаменитой скрипки, я представил почему-то пузырьки в потоке жаркой крови, бьющей на глазах охотника из птичьего крыла, где кость расколота свинцом. Прекрасный и глубокий образ вновь пришел на ум, когда я вглядывался в эту жизнь — наоборот, насыщенную, в плотную материю, в сокрытую столь благородной формой полнокровную животную природу.
Но неизвестная была исполнена тревоги, которая, должно быть, в этот миг рвалась наружу. И мука, изливавшаяся временами в нижнюю ее губу, была настолько очевидной, что казалось даже странным не видеть на ее пушистой шубке судорожных волн, какие пробегают елочкой по шкуре умирающих животных.
— Синьора, вам нехорошо? — решился я спросить, и взволнованный мой голос явно ее тронул.
Незнакомка повернула в мою сторону загадочный свой лик, мощной лепкой схожий с вытесанной из базальта головой Пастушьего царя.[56]
— Ничего подобного, — и рассмеялась — резко, глухо, как порой смеется куртизанка кому-то за своей спиною, глядя в зеркало, где отразилось жесткое, застывшее лицо, с каким она вонзает в шляпку длинную булавку.
И снова все фантазии мои развеялись. Она вдруг принялась болтать, как настоящая парижская кокотка, играя интонацией и округляя нежный и упругий рот так, что похоже это было на гримасы. Отозвалась с насмешкой о турецком зале, длинногривом пианисте, туповатой публике, с презрением — о жалкой и унылой жизни в этом городке, возникшем из бараков и лачуг, где жили сборщики смолы, с отчаяньем — о том, что вынуждена прозябать здесь чуть не целый год.
— Но почему? — спросил я робко. — Вынуждает вас здоровье?
Она расхохоталась снова — горько:
— Я выгляжу больной?
Во тьме, как будто становившейся прохладнее от ливня, зашелестевшего опять по серым витражам, кашляло то тут, то там какое-нибудь горло.
— Нет, нимало.
Она выпрямилась в кресле, почти непроизвольно вскинувшись всем телом — так иногда мы резко вздрагиваем от необъяснимого озноба. Ширина груди и плеч и крепкое сложенье соответствовали форме головы. В отверстье муфты проблеснуло что-то из стали и слоновой кости, похожее на рукоятку чуть не выпавшего револьвера.
— Может, пригодится по дороге, — пояснила мне она с улыбкою, наверное предвидя, что, заметив у нее оружие, я буду удивлен. — Я потом машиною в Бордо.
Теперь действительно казалось: губы эти не принадлежат ей и живут своей особой жизнью — игривая подвижность их никак не сочеталась со скульптурной недвижимостью всего лица, со страшной тайною прямого взгляда. Я вспомнил о сардинских танцах, исполняемых с угрюмым, отрешенным выраженьем, об арабских — когда лишь живот один все время движется на теле, будто завороженном змеей. Помада, нанесенная недавно, возможно перед входом, торопливою рукой — где ярче, где бледнее, — выступала кое-где за контур губ. Зубы — крепкие, внизу слегка неровные, сверкавшие, как будто бы осколки драгоценностей, — покрывала столь глубокая и чистая эмаль, что хотелось оценить их наивысшими каратами, словно то были сокровища, представленные в каталоге ювелира.
— Слушайте! — призвал я, тронутый какой-то нотой, звучавшей в завершение сонаты Доменико Парадизи.[57]
И наблюдал за ней из-под ресниц.
Внезапно с этих губ сошло притворство, и незнакомая серьезность на них легла такой же плотною чадрой, как у берберок в нашем светлом, в лунах, Гадамесе.[58]
Под звуки завершающей каденции, страшась финала, означавшего разлуку, я снова на нее взглянул, как на бесценное сокровище, к которому проделан бесконечно долгий путь.
Кожа у нее была такая гладкая, что я не мог вообразить морщинки и в ее горсти. Поистине, она была отполирована водой Эврота, поскольку ясно мне привиделась сверкающая галька реки Лаконии без лебедей меж голубыми узкими тенями от олеандров и от камыша. «Скажи мне, кто же ты, за невысоким лбом наверняка таящая коварную змею, хоть сердце у тебя готово изойти слезами?»
Как прежде многажды, все существо мое соприкоснулось с незнаемым — глубинной сутью жизни — через разлитый в теле мрак, через заполнившую потаенные местечки плоти тьму, потемки органов и полостей.
Я чувствовал, как, точно капли, медленно сочащиеся вниз по стенам сумрачной пещеры, все ближе, ближе подступают боль и смерть.
Полные отчаяния строки вошли отныне в мою плоть и кровь.
Она стояла между креслами, а слушатели покидали зал подобно жидкой грязи, что сметала к выходу костлявая Эвтерпа. Все представители людского рода выглядели согнутыми до земли, беспозвоночными, ползучими, бесцветными — все, кроме той, которая стояла предо мной прямая, молчаливая, исполненная боли, подобной абсолютной истине иль совершенной лжи, ей заменявшим жизнь.
Самые уединенные места — не на горах или в пустынях, не средь песков или бесплодных скал — там, где душа встречается с судьбою и несколько мгновений дышит воздухом, которым бы не смог дышать никто другой.
Она смотрела на меня теперь, чуть смежив веки, казавшиеся прежде мне застывшими, как у античных бронзовых фигур, — приподнятое обрамление глазниц, и взгляда холодней и зорче не могло быть даже у барышника, который покупает лошадь. Однако этот испытующий, из глубины зрачков идущий взгляд блестел, как смертоносное оружие — я чувствовал, — готовое мне нанести удар. В пушистой муфте цвета жемчуга скрывалась лишь вторая, оголенная рука — придерживала, видно, револьвер. Сверканье глаз ее, однако, было для меня куда страшней. Я ощутил себя каким-то слабым, бренным, угнетенным страхом наподобие того, что нас одолевает, когда ощупывает тело в поисках больного места врач. И у меня (на самом деле, сколь это ни покажется чудным!) невольно промелькнул в сознанье образ, может быть навеянный когда-то пережитым эпизодом, — странный мрачный образ страхового доктора, который щупает желудок, печень, выслушивает сердце, легкие, прикидывая срок. Я чувствовал: мой дух, при всех его умениях, возобладать над этим существом не в силах, божественное, чтоб приблизиться к нему, как в мифе, должно принять животное обличье.
Под оценивающим этим взглядом я чувствовал себя лишь жалким телом, обессиленным излишествами, взвинченным тревогою, на грани слома, непременно следующего за крайним напряженьем. «Разумеется, — хотелось мне сыронизировать в ответ на взгляд ее, — со мной покончить просто. Вся жизненная сила моя собрана у основанья черепа. Довольно резкого удара или дырочки не больше той, которую в курином горле прогрызает ласка…»
Но от какой из черт ее проистекало это пагубное веянье? Зачем она сама являла мне те разрушительные, гибельные силы, что таились в глубине ее натуры?
И все же не одна угроза исходила от нее, но и неясный крик, который, не достигнув еще уха, уже тронул мою душу.
— Пора, — промолвила она и устремилась с неожиданной поспешностью в унылый лабиринт из кресел.
Шла снова будто бы вслепую. Задев ногою, повалила кресло, еще одно, но продолжала двигаться вперед, где вновь и вновь вставали перед ней сплошные длинные ряды. Их приходилось опрокидывать, чтоб проложить проход. Все было как во сне — гнетущем и смешном.
Не знаю, потемнело ли на самом деле в этом зале, но мне он стал казаться жалкой церковкою, полной отголосками вечерни на Страстной неделе. И костлявая блюстительница в ярости спешила к нам со рвеньем ризничного сторожа, стремящегося уберечь от поругания святыню. Монетка успокоила ее, повергнув в неуемное веселье, и на притворный незнакомкин смех отозвалась она подобострастным, поднимая кресло и стремясь уверить нас и самое себя, что нет на свете приключения забавней.
Снаружи не было дождя. Лицо мое умыл насыщенный смолой, как дождевая влага, наполняющая баночки на соснах, свежий ветер. На западе виднелся в небесах слепяще-белый пенный гребень облаков.
В глазах у незнакомки я заметил серебристый проблеск, словно отсвет перламутра. На небе, отливавшем зеленью, как будто бы фея Моргана в нем отражала бледность Ланд, висела четвертушка месяца.
Вам есть на чем доехать? — В ее вопросе слышалось сомнение, воспользоваться коим не дала мне робость.
Выходит, знала, кто я и откуда?
— Доберусь пешком, — ответил я.
Она вглядывалась внутрь себя, в то, что оставалось для меня невидимым, но, мне казалось, заряжало все вокруг энергией, какая прорывается в бесшумном блеске молний порою летним вечером, когда душа с вершины сердца готова разлететься искрами, как в столкновенье с тучею — огонь. Лицо ее сводила судорога, для меня невыносимая, — казалось, мои собственные челюсти сжимает спазм, именуемый врачами тризмом.
Мое сознанье уподобилось ступице бешено вертящегося колеса.
— Всего хорошего, — промолвила она и, скованная узкой юбкой, двинулась к машине маленькими быстрыми шажками.
Сколь трогательная ирония заключена была в противоречии меж этой мрачной волей и изысканными путами!
— Мы встретимся еще?
Рука с оружием таилась, как и прежде, в нежном мехе.
— Кто же знает?
Под шум мотора я увидел сквозь окошко жест другой ее руки, в перчатке, — светлый взмах, напомнивший о том, что угадал я в незашторенном окне, в городе больных и умиравших. Мигом позже на дороге, в колее, остался только отсвет ослепительного облака, вбираемый дорожной жижей.
Неизвестная исчезла. Навсегда?
Поистине, проезд ее и в похоронных дрогах не смог бы вызвать ощущенья более глубокой тайны, большей безысходности. Отлично ли подобное исчезновение от смерти? Я должен был вернуть это лицо из мрака, равного могильному.
Обратно, вверх, я шел знакомым мне путем, шел снова через Зимние квартиры, чувствуя не столько направленье, сколько то пространство, сквозь которое судьба вела меня прямой дорогой, куда от молодой луны уже ложились тени, мягкость коих отзывалась в безутешном сердце болью.
Пришла пора домашних ламп, и с каждой новой выплескивалась из меня печаль — как будто для того, чтоб поддержать огонь.
Дома преобразились: жизнь, казалось, вся сосредоточилась в светящихся кругах, куда сходились тени — черпать свет, как к тихим родникам. Вокруг стояла мгла от испарений человечьих тел, будто бы дымилась легкая вечерняя горячка, разгорающаяся с заходом солнца в колонии больных.
Смеркаться только начало, и между прутьями решетки разглядел я паутинку-звездочку, среди травинок — маленький пушистый шарик, названия которых никогда не знал, — из тех, что, легковесней первой нити будущего шелкового кокона, несутся за пределы мира, чуть дунет в них какой-нибудь пострел.
В углу чьего-то сада одинокий тополь, одетый в переливчатое серебро, трепетал весь, будто восклицая: «Вон, там, — она, она!»
Вдруг — та, о ком в волненье возвещал он, в сравненье с ним вся — свет, вся — свежесть, чистота и свадебное ликование, стыдливая невеста, облаченная в свою невинность, — яблонька в цвету!
И что ни появлялось предо мною, распаленным моим чувствам виделось явлением, но всякий раз меня пронзала боль — почти физическая, вроде той, какую я испытывал когда-то, стремясь вдохнуть поглубже воздух моря грудью, где не срослись еще три сломанных ребра.
Я чувствовал давленье силы, над которой я не был властен и не знал, она ли часть меня, или я — ее.
Вкус пепла, появившийся во рту, когда спускался я туда, где суждена была мне неожиданная встреча, возник опять, однако же теперь к нему прибавился какой-то сладковатый привкус крови, вызвав горечь отвращения, едва не тошноты, поскольку мои мысли оказались ужасающе похожи на пиявок, коих в детстве на глазах моих бросали в миску с пеплом, чтобы они извергли выпитую кровь.
Когда же наконец, оставив позади район недугов и агоний, я углубился в лес, где шею и лицо защекотали мне натянутые меж ветвями невидимые нити, то осознал, что это дарит ласку мне весна, а до того во мне, должно быть, смутно отзывались муки, коими сопровождается ее рожденье.
На руку мне капнуло, потом на веко, сухая хвоя брызнула из-под ноги, скакнуло через тропку что-то влажное, наверно жаба, ушастый филин на своем гобое твердил одну и ту же ноту — во тьме подхваченная соловьем и разукрашенная трелью, она из темной бархатной преобразилась в прозрачный переменчивый кристалл. Весь лес стонал и пел, сочился дождевою влагой, истекал смолою, лакомой, как блюдо из душистых трав, неописуемой, как ощущенье полового созреванья.
Но в этом всеобъемлющем дыхании мое смятение искало лишь напоминания об аромате, «какой исходит от примятого куста», окутывавшем ту, что мне явилась стянутая путами. Неиссякаемая жажда приключений вновь овладевала мной и будоражила меня с безумной силой. На обладанье чем еще я мог рассчитывать? В каких еще надеждах обмануться? Меня глодала и терзала острая досада оттого, что я не захотел или не смог решительно использовать недолгие сомненья незнакомки, когда в ее застывшем взоре проблеснула обоюдоострая дилемма. Я презирал себя, как будто упустил по слабоволию и глупости роскошную добычу, позабыв, какой внушал мне страх тогда, меж кресел, пытливый ее взгляд.
Броженье леса наделяло меня мнимой силою, рождавшей безрассудные желанья. Ноги мои сами направлялись в сторону той дальней гонки, к главной магистрали. Успеть бы оказаться на ее пути, дождаться бы ее проезда вечером или ночью! Мне чудилось, что то, далекое безумие через просторы Ланд зовет к себе мое. Я шел быстрей, быстрей. Два раза я терял тропинку, вновь отыскивал ее, прокладывал дорогу через чащу, через ежевику, дрок — а сердце колотилось, словно у бандита, ждущего в засаде.
Горели лампы и в моем жилище. Тучи снова затянули небосвод и, мчась к востоку, задевали крышу. Когда вошел я, комнаты на нижнем этаже полны были тем смутным ужасом, что в опустевших помещениях воцаряется до появления хозяев, ибо кажется: лишь повернется человек, чтобы уйти, как место, где сидел он, занимает призрак. Тем временем волна росла, и чудилось мне: толпы женщин угрожающе горланят в дюнах, громыхают на веранде.
— Никто не приходил? — спросил я у слуги.
— Синьора, — был ответ.
Хоть сомневаться, кто имеется в виду, не приходилось, в сердце глухо шевельнулась у меня другая.
— Она была весьма встревожена, — добавил он. — Ждала вас до шести. Просила к ней прийти тотчас после обеда.
В одиноком бытии случаются часы, когда пределы восприимчивости тела словно расширяются до самых стен, так что порою, поднимая руку, чувствуешь биенье сердца кончиками пальцев.
Весь дом, казалось, подготавливался к встрече с неизвестным. Бесшумное событие могло войти в любую дверь. Вниманье стен все обратилось в ночь. Все комнаты утратили укромность и, пренебрегая сохранением тепла и примиреньем помыслов в них собранных и расположенных предметов, вслушивались в то, что близилось извне.
Я стал искать среди своих гравюр какую-нибудь Леду из известных. Под руку сперва попалось мне творенье Амманнати,[59] что содержится в Барджелло.[60] И ожило во мне воспоминание о давнем флорентийском происшествии. В тайной книге памяти своей я отыскал его, означенное днем 22 сентября 1899 года.
С волнением, причин которого я уяснять не смел, боясь его развеять, прочитал я: «Вчера — немыслимое дело — несколько служителей Барджелло опрокинули, передвигая, мраморную Леду, расколов ее на семь кусков. Осколки ныне в Камнерезной мастерской, где статую должны восстановить. Сегодня я отправился увидеть расчлененное на части сладострастие. Те из них, что наслаждались более всего, остались целы. Голова разбита, как и у меня… Из мастерской прошел в Музей — взглянуть на место, где она стояла до сих пор. Фантазия моя его заполнила более надменной красотой. Я представлял ее себе, когда внезапно все колокола, загромоздившие террасу, — позабытые, немые (рты, заткнутые кляпами) — в голове моей устроили трезвон…»
Страница, шедшая затем, была написана как будто в легком помраченье, но я не помнил уж, кого любил тогда, по ком скучал. «Кажется мне, протяни я руку — и в пространстве мог бы ухватить тебя и потащить, как тащит змея за веревку мальчуган, сражаясь с ветром, что грозит увлечь его за облака. Воздух вспыхивает, ты приоткрываешь рот, чтоб пить прохладу скорости. Смеешься, и я слушаю твой смех, я трогаю его, как ожерелье, бусину за бусиной. Вот-вот подступят слезы…»
Никогда магическое ощущенье жизни прежде не было во мне таким глубоким. Как музыка, забытая в тетради, оживает и является во всем великолепье, будто только сотворенная, лишь тронет струны музыкант, так соразмерен оказался моему дыханью этот ритм минувших дней. Какие-то слова являлись мне подобно тем, что, выписанные на зеркале когда-то пальчиком сестренки, проступали, только если, подышав, я затуманивал стекло. И наконец, я прочитал: «Старинное английское надгробие изображает Леди Бошан[61] склонившей голову не на подушку, не на верную борзую, по обычаю, — на спину лебедя, плывущего как будто к острову Артура.[62] Наверно, проберись я этой ночью в Мастерскую, увидел бы такой погубленную Леду…»
Закрыв глаза, вообразил я мысленно лицо представшей предо мною в путах, верхнюю губу, где отыскал не тронутый помадой краешек, в мгновения, когда ее охватывала дрожь, — бескровно-синеватый, между тем как тонкий нос ее, казалось, весь слабея, приобретал у выреза ноздрей тот пепельный оттенок, что бывает при потере чувств.
Пришел слуга — сказать мне, что фонарь готов. Я взял его, чтобы, идя к подруге, освещать себе песчаную дорогу среди луж. Ланды под затянутыми небесами лежали погруженные во тьму, но было так тепло, как на Маремме[63] нашей ночью при восточном ветре или при сирокко, когда лишь редко-редко раздаются в тамариске крики диких уток, тявканье лисиц на берегах пушистых от побегов камыша болот, хруст камней, раскрошенных копытами переходящих через невысокие ограды кабанов, стенанья, что доносятся из глубины веков.
А здесь я слышал, как вдали, за дюнами, кричат морские птицы, чьи голоса сливались иногда в тоскливый писк, и жалобные стоны Океана, и ноту филина, все время попадавшую мне в самую больную точку сердца, будто знал он, где она, верней, чем я.
Меня пронизывала неожиданная ностальгия, порождая ощущенья столь живые, что чудилось мне: это часть меня, взлетев из камышовых зарослей, бросалась вновь куда-то в воду, выходила из трясины, спускалась по тропинке попастись у пробкового дуба. Призраки животных уступили место поэтическому ощущенью родины, похожему на шепот духов, грезящих под сенью небожителей.
«Я не могу ее увидеть, с ней заговорить, услышать голос», — подумал я, остановившись и поставив на песок, в след человеческой ноги, фонарь.
Казалось, я не вынесу соседства дожидавшейся меня докучливой подруги, не вынесу общения и близости с любым ничтожным существом, которое бы призвало меня к себе, заставило опять войти в свои пределы, устремило прежним руслом удивительную жизнь, что била из моей груди, захлестывая все вокруг, и жаждала простора, новизны и созиданья.
Фонарь стоял у ног, и от того следа, где был он, расходились в стороны другие, теряясь за границей освещенного пятна. Белела борозда от колеса повозки, будто бы покрытая мукой, просеявшейся из дырявого мешка, но то опала с облака цветочная пыльца, а в параллельной колее стремилась в вечность вереница гусениц, легко и жутко сокращая бесчисленное множество колец, и поперек лежала ветка без листвы, с развилиной — такими ищут клады. Свет, падавший на землю, был неярок, но казалось мне, что стоит пожелать — мой дух исторгнет из себя всевидящий огонь, какие с орудийных башен военных кораблей исследуют враждебные пространства, выхватывая изо тьмы крадущуюся смерть. И я бы мог обозревать глубины ночи, приподняв второе веко, лежащее под тем, чувствительным, которым нравилось мне ощущать морскую свежесть, мигая им, как будто шлепая губой. Но страстное желание творить все время сдерживало излиянье духа моего вовне, мое стремленье в бесконечность, тяготенье к безднам, будто бы во мне имелся некий род таинственной закваски, сгущавшей мир идей в определенные фигуры.
На Ландах наступило полное безмолвие — беззвучно совершалось воцаренье терпеливой ночи.
Как устремляются пернатые на стекла маяка, как вьются насекомые у лампы, так жизнь безлюдья, подступив вплотную к низкому огню, дышала на меня, присматривалась, оставаясь для меня незримой.
Не без опаски я прислушался к каким-то странным звукам — то близким, то далеким, то в воздухе, то под землей, похожим на ритмичное постукиванье двух киев, на звяканье вязальных спиц. Пастух?
Конечно, это вечный ландский пастырь, на своих ходулях прислонился там, во тьме, к чешуйчатой сосне, а рядом дикая его собака, чьи глаза мерцают, точно светляки! Не в листья ли одет он? Не привешен вместо бороды пчелиный рой? Из-под усердных пальцев у него не кукурузные выходят ли метелки?
Так явственно представил я его обличье и преображение, что, если б погасил фонарь, остался бы уверен, что глазам моим действительно явились и человек, и полубог.
Но вновь я вслушался с тревогой — странный стук не утихал. Идя на звуки, я вступил во тьму с невыразимым чувством, будто бы, покинув освещенный круг, я вышел за пределы самого себя, чтоб воплотиться в некое ночное естество и в веществе, меня вбиравшем, услыхал биенье собственного пульса.
Но то был просто ветер в жестких копьевидных листьях одного из видов лилии, распространенного в песках.
Во мне же просто поселилось таинственное чудище любви: неукрощенное, несвязанное, непрестанно изменяясь, принимая множество разных форм, оно вводило тысячью обличий меня в соблазн и заблужденье, тысячью уловок мучило и обновляло.
Во мне и вне меня все было боль и перемена, нетерпенье и тоска.
Я шел куда придется, у земли раскачивая фонарем, высвечивал полоски удивительного мира, похожего на тот, что сквозь стекло скафандра наблюдает водолаз. Как и в морских глубинах, жизнь растений и животных различалась мало. В ужасе щетинились кусты, с жадностью ко мне тянулись бдительные ветви. И мне грозил удел того, кто, лишь завидев в гроте тень сирены, всплыть уже не смог.
Где эта женщина из мифа? Пустынную ли улицу из тьмы выхватывают фары перед быстрыми ее колесами иль вязкую дорогу, ослизлые булыжники или, быть может, край канавы? Разбита ль вся она своею тайной болью, как та статуя, воссозданная из осколков?
Внезапно вновь на сердце мне легла глубокая печаль — как в миг, когда, прикрыв глаза рукою, я напряг свой слух, пытаясь уловить сквозь музыку ее дыханье. В одно мгновение лесной туман рассеялся. Я обессилел, как случается, когда спадет температура. Стало трудно продвигаться по песку. Во мне не оставалось ничего нечеловеческого, ни недужного, ни жалкого.
Я вышел на привычную дорогу.
От тягостного зноя воздух становился вялым. С затянутого неба стал накрапывать почти что тепловатый дождь. Над зарослями понемногу нарастал какой-то треск. Из чащи доносились стоны соловья, напомнившие мне слова из тайной книги памяти: «Вот-вот подступят слезы…»
Сперва увидел я в окне светившуюся в доме розовую лампу. Сердце почему-то застучало, как от страха. Когда я наклонился у калитки, чтоб погасить фонарь, меня позвал тревожный хриплый голос, полный горя, перевернувший мою душу голос. Приблизившись, и я промолвил имя. За калиткою была моя подруга — взволнованная, бледная, легко одетая, она трясла ее обеими руками, силясь отворить.
— Что приключилось? Что с тобой?
Протянутые сквозь решетку руки — дрожащие, уже политые дождем — дотрагивались до меня, как будто проверяя, жив ли.
— Толкай! — произнесла она в смятении. — Толкай сильнее! Я не могу открыть.
Я надавил плечом — калитка устояла. От влаги свежеструганое дерево разбухло, а невысохшая краска соединила стык. Приплюснутые пузырьки камеди пачкали мне пальцы.
— Позовем прислугу, — предложил я ей, пытаясь сообразно положенью засмеяться.
— Нет, нет! — откликнулась она сквозь слезы с нетерпеньем и тревогой, вновь вцепляясь в перекладины. — Ты пробуй, пробуй!
Я снова попытался. Просунув руку еще раз через решетку, она потерянно ощупала мое лицо.
— Что это значит? Что с тобой?
Дождь припустил, хлестал вовсю. Не умолкая жаловался соловей. Казалось, Ланды удручены неизъяснимым горем.
Любовь рыдала, словно, пригвоздив к еще живому дереву, ее я бичевал.
Когда наутро я проснулся, образы минувших дня и ночи уж утратили реальность. Зыбкое воспоминание подобно было тени, навеянной весенним нездоровьем грезы. Всякое стремленье что-нибудь узнать, заняться поисками тотчас пресекали моя привычка жить в уединенье, время проводя в трудах, разумное намеренье не поддаваться искушеньям. Случай не способствовал ни новой встрече, ни появлению источника полезных сведений. К означенным причинам отречения добавились к тому же подозренья, надзор, усердные заботы надоедливой подруги. Затем были мучительный разрыв, болезни, причиненные тоской, небыстрое выздоровленье среди взгорий, лугов и возрожденье вкуса к созерцанью и раздумьям.
Однако образ Леды без прекрасной птицы являлся предо мной довольно часто, с поистине живым дыханьем на устах, уже не искажаемых притворством, неизменно приоткрытых, будто через них дышала больше чем одна душа.
Он посещал меня порой в час ламп, когда слуга еще готовит их и зажигает в комнате на нижнем этаже, а кажется: они уже горят, поскольку прежде них восходит темной лестницей какое-то чудесное предвестие, однако позволяя нам успеть изведать те не менее чудесные раздумья, что навевает расставанье с каждой из любезных сердцу нашему вещей другого света, уходящего на Запад.
Поскольку долгий день отшельника — всецело результат усилий его воли, он любит под вечер оставить незакрытой маленькую дверь, куда б могла проникнуть нищенка или колдунья, травница иль отравительница — в общем, та, что послана Неведомым, — и ожидает неожиданного, жаждая затрепетать. Но большей частью ежели и забредет, то лишь какой-нибудь невинный призрак.
Эту мою гостью привязывало к жизни много разных уз и чар, стесняла не одна лишь юбка, и всякий раз она, ко мне склоняясь, будто бы натягивала цепи, разбивала кандалы, рвала канаты. Я говорил ей в ободрение: «Не бойся! Покажись! Ты мне явилась в пору зрелости. Мне все понятно, догадаюсь обо всем».
Похоже было, что мой дух стремится к славному мгновению, когда он сможет все принять и обещать защиту, как города-прибежища, где укрывались осужденные безвинно или чересчур сурово, как священные места, где собирались в древности «головорезы и подонки». Но вел себя он двойственно и противоречиво. Ему была, по сути дела, тягостна надежда на рожденье чувства, которое могло бы управлять темнейшими из сил инстинкта и подняться выше сладострастия. Для этого не требуются милосердие и справедливость. Нужны иные качества, иные навыки, иные ритуалы.
Настала новая весна, и приближалась годовщина удивительного дня, казалось возвращенного обратно длинной вереницей гусениц по желтой от пыльцы дороге. И молодой клавесинист из Schola Cantorum едва ль не в тот же день опять давал концерт, играя итальянцев в сопровожденье соловьев. С ним была теперь его подруга, миниатюрная Испанка с Кубы, золотистым цветом кожи напоминавшая изысканный табачный лист; пообещав петь арии и ариетты Кариссими, Кальдары и Антонио Лотти[64] для меня лишь одного, она заставила подумать не без сожаленья о породе никогда не лаявших собак, которых обнаружили Конкистадоры на чудесном острове, где ныне они вывелись и не осталось даже памяти о них.
Клавесин, однако, снова отдал дань Доменико Скарлатти. Будто бы магическая формула, Соната ля мажор воссоздала загадочный тот час как явь — казалось, незнакомка вновь пришла и села рядом, и опять с предельной проницательностью я приник к пределам ее тайны.
Хоть слушателей собралось на сей раз больше, соседний стул остался пуст.
Вдоль ряда приближалась тень.
Мое волнение от мига к мигу нарастало так неодолимо, что с душой, припавшею к зрачкам, и рвавшимся наружу сердцем я невольно повернулся, словно приглашая красоту занять в душе моей привычное ей место. Увидел же простертые ко мне худые руки с пальцами лопаткой, услышал собственное имя, произнесенное знакомым голосом.
И сразу же узнал приятеля, потерянного было из виду: незаурядный музыкант, ценимый знатоками, сюда, на горестные Зимние квартиры, приезжал он в пору обостренья своего недуга.
— Ты здесь? Давно?
— Я с матерью провел тут зиму, дела мои не слишком хороши.
— А выглядишь прекрасно.
Челюсть, которой мог сокрыть он боль, иссохла; бритва, видимо, сняла с нее частицы омертвелой кожи, замещенные блестящим жиром глицерина.
— Да нет. Я догораю.
Рдяные, в прожилках скулы напоминали листья девственной лозы, осеннею порой увившей стену, — не без остатков прозелени и следов улиток. Увы, на угасание его взирал я теми же неумолимыми глазами, что заметили бы в шелковистых волосах иного существа легчайшую волну, на склонах век — прогалину от выпавшей одной ресницы.
— Догораешь? Что же это за огонь?
Он лишь махнул рукой — с небрежностью почти жестокой, но не сводя с меня при этом глаз — так смотрит иногда один мужчина на другого, проникая взглядом в душу в поисках поддержки, мужественного участья.
Теперь казалось мне, что и его глаза лишились оболочек, соприкоснулись с окружающей суровостью, как обнаженные чувствительные окончания, умерить ощущения которых не смогла бы никакая мазь. Их видеть было больно.
— Ты будешь еще здесь? — спросил я. — Хочешь, встретимся?
— Я уезжаю через два-три дня, наверное, в субботу. Увозит мать.
В его дыхании я уловил пары портвейна, но зубы отличались белизной, и рот от этого казался еще довольно молодым.
Все естество его я ощущал так остро, будто бы служил при нем я санитаром, вдыхая испарения его и зная все наперечет невзгоды и причуды.
И неожиданного ждал теперь и от него.
— Позавтракаем у меня? Я за тобой пришлю машину.
— Что же, я согласен.
Он судорожно стиснул мою руку. Мы умолкли — началась Соната фа минор. Мне показалось, музыка нас не сближала, а, напротив, разделяла: тот, кто сам творит ее, подумал я, должно быть, чувствует ее иначе. Приятель весь объят был беспокойством, передавшимся и мне.
— Что с тобой? Кого ты ищешь?
Он обернулся, вслед за ним и я. За нами справа, прислонясь к стене, стояла незнакомка. Она кивнула нам. Черты ее увиделись мне от волненья зыбкими, расплывшимися, как пастель, опущенная в воду.
— Ты с ней знаком? — тон был таким, как будто в опустевшей вдруг груди его пронесся ветер.
— Нет, не знаком. Однажды видел. Кто она?
Имя, прозвучавшее в ответ, не слившись с образом, повисло в воздухе пустым и чуждым звуком, как случается с названием далекого прекрасного холма, чей облик безымянным уж давно живет у нас в душе.
— До завтра, — прибавил он под завершение каденции и встал.
Как на подернувшейся пеплом головне внезапно вспыхивает пламя, так озарилось жаром изможденное его лицо. Он устремился к ней чуть горбясь, но с поспешностью, которая сквозила даже в складках его платья и рано поседевших волосах, что закрывали воротник. Приблизился, и, поздоровавшись, они ушли. Два слушателя позади позволили себе язвительные замечанья. Я поборол смятение, стряхнул с себя остатки одиноких грез и, вновь обретши зоркость взгляда, приготовился соприкоснуться с явью. Забылись и шутихи, и рассыпанные ожерелья, радостная беготня по лестнице и туфля Амариллис на верху струи, и вновь я ощутил, как, точно капли, сочащиеся медленно по стенам сумрачной пещеры, все ближе подступают боль и смерть.
Мой друг пришел, как мы уговорились. Мне все так же было жаль его, но я заметил, что отношусь к нему теперь почти как к средству достиженья цели, к орудию, с которым нужно обращаться то решительно, то осторожно. И мягкость, как нередко у меня случается, была не чем иным, как формой проявленья силы.
Ясности ума сопутствует порой почти животный ужас — видимо, расплата, уготовленная разрушителю иллюзий, попирателю приличий.
За завтраком приятель обнаружил скверные манеры человека невоспитанного и больного: жевал причмокивая, шумно, пил, не проглотив кусок, и не давал себе труда скрывать свою прожорливость и жажду. Заурядные повадки эти в монастырской келье, украшенной гравюрами и книгами, где я обычно только перекусывал, читая или размышляя, — повадки эти ужасали меня еще и потому, что я все время ощущал свое коварство, наполняя то и дело его тарелку и стакан, желая вдоволь накормить и напоить его, как делают, стремясь к себе расположить.
Действительно, казалось, будто должен он заполнить пищею обширные пустоты или накормить кого-то обитавшего внутри, кто угрожал иначе поглотить его со всеми потрохами. Возле дряблого его лица, чуть оживленного вином, в обрамленье длинной шевелюры и галстука, завязанного бантом, — лица, которое еще напоминало романтические маски Анри Мюрже,[65] — я представлял другое — загадочное, мощной лепкой сходственное с вытесанной из базальта головой Пастушьего царя.
И спрашивал безмолвно: «Стало быть, она твоя любовница? Тебе знакомы очертания ее колен? Ты трогаешь ее своими пальцами-лопатками? Ешь, пей!»
Среди заставленных томами стен витало дуновение таинственной природы, от коего душа моя дрожала, точно воздух, заключенный меж сухих дощечек сделанной как должно скрипки. Суть вечных книг, вливающаяся в течение уединенной жизни, застывшая в волнующих осколках удивительных шедевров вечность, преданье, винного оттенка гиацинтом отяготившее невидимый висок,[66] прозрачное сверкание вина, казавшегося воплощенным богом растворенья, и хлеб, и нож, и плод, преображенная огнем полоска мяса, край бокала, удостоенного милости луча, — все, что ни видел я перед собою и вокруг, являлось выражением меня. Полный разных смыслов, я играл с любовью и со смертью. Мой гость и та, которой с нами не было, мне, без вина хмельному, представлялись в сценах новой Пляски смерти.
— Кто это? — спросил он, поворачиваясь к очагу.
Там находился слепок в полный рост одной из тех восьми фигур в плащах, которые несут надгробье над могилой, где покоится Великий Сенешаль Бургундии. Она стояла рядом с таганом, ссутулившись под тяжестью незримой ноши, капюшоном скрыв лицо и выставив одну лишь руку с длинным большим пальцем.[67]
— Право, — произнес приятель, — у тебя не слишком весело.
И, обратив туманный взгляд на что-то, видное ему лишь, сник, как будто бы душа его свернулася клубочком на наполненном желудке.
— Пойдем, пойдем, — сказал я, вдруг поднявшись и с веселой дерзостью беря его непринужденно под руку. — Расскажешь о своих последних увлечениях.
— Каких?
— Завидую тебе. Роскошное животное.
Я усадил его в удобном кресле — слуга тем временем принес ликеры, сигареты — и встал у шкафа, как в засаде.
Взяв из своей самшитовой шкатулки табаку, в который был примешан опий, он пальцами — большим и указательным, такими желтыми, как будто смазанными йодом, — закатал его в бумагу. Изобразил прекрасно мне знакомую самодовольную улыбочку пресыщенного волокиты, одну свою интрижку плохо отличающего от другой, но слабая нога его, дрожавшая, опёршись на каблук, и взгляд, направленный на кончик туфли, мне напомнили крестьянина, который в поле преспокойно созерцал свою разутую стопу, где наподобие шестого пальца поместилась голова гадюки.
— Животное? — переспросил он. — Что, ее история тебе известна?
— Нет, я ничего не знаю. Кто это?
Он бросил оскорбительное слово — и запнулся, будто у него внезапно пересохло в горле.
— Так ты в нее влюблен?
Он начал говорить, исполненный обиды и смятенья, жаждущий отплаты и завороженный, и было это так же нестерпимо, как и зрелище агонии, фальшиво, как кривляние шута, достойно жалости и мерзко, трагично и смешно.
И показалось: Леда здесь — такая гладкая, что ни морщинки не могло быть и в ее пригоршне, истинно отполированная водами Эврота. И жизнь ее была иной.
Она принадлежала по рожденью к смешанной породе, пагубные свойства коей предрешаются таинственным стечением кровей и судеб рока, подобно силе тех с ума сводящих зелий, для приготовления которых корень мандрагоры варится в кобыльих соках. Отец ее, большой любитель лошадей, держал известную конюшню скаковых, но разорился, стал ловчить, пустился в авантюры и, катясь все ниже, не однажды преступал закон. Она росла среди берейторов, конюших и жокеев, давая выход прирожденной дерзости и страсти к цирку, скакала в полных зрителей манежах на трехлетних жеребцах; когда самой сравнялось восемнадцать, вышла замуж за француза-дворянина, в двадцать разошлась и стала жить сперва с любовником — холодным негодяем, а потом — одна, в нужде, завися от случайностей и подвергаясь домогательствам отца, стремившегося сделать из нее источник неплохих доходов не для нее самой, а для себя. Не в силах больше выносить лишения, готовая на все, она в одном курортном городке спозналась с аферистом, подыскивавшим там себе сообщников и жертвы, который ухитрился обручить ее с едва достигшим совершеннолетия болваном — сиротой, уже весьма богатым и к тому же вскоре ожидавшим куда большего наследства. Она, жених и сводник прожили два года вместе на большую ногу, переезжая из гостиницы в гостиницу, переходя от наслажденья к наслажденью, от тоски к тоске, от вечеринки к вечеринке, от игорного стола к игорному столу и представляя из себя довольно странный треугольник, так как суженая вплоть до заключенья брака собиралась оставаться непреклонной, а посредник над неопытным юнцом сумел забрать неограниченную власть, похожую на злые чары, — угощая снадобьем, которое употребляют при посредстве золотого шприца. Вводимый опытной рукою морфий привел его в такое сладостное состоянье духа, что легко, не вызвав подозрений, удалось добиться от него для строгой нареченной брачного залога — страхового полиса на сумму в полтора мильона. Когда же первый взнос был, как положено, уплачен, осмотрительность потребовала благодетеля убрать. Однажды на рискованной дороге в Пиренеях за приемом большей, чем обычно, дозы последовала виртуозно подготовленная катастрофа. После случайной остановки машина сорвалась в ущелье, оставив на дороге невредимого убийцу.
Разве не было все это мне знакомо? Да, само собой, таким историям числа нет в уголовных хрониках, в романах ужасов, что по сердцу консьержкам. Но за скопленьем заурядных фактов вился некий темный путь, которым дух мой проходил однажды и смутно узнавал теперь знакомые приметы. И оттого, что вел он так глубоко, меня страшило это приобщенье, приближенье к истинному мне, который не робел бы и не сделал ложный шаг перед лицом того, что зарождалось и готовилось явиться.
— Откуда ты все это знаешь?
Свой рассказ он оживлял порой такими откровенными признаньями, какие может делать тот, кто не боится потерять свое лицо.
— Я слышал это от нее самой.
— Каялась?
— Нет, просто говорила. Она не различает, где добро, где зло. Сначала скажет что-нибудь ужасное, не глядя на тебя, с такой несмелою улыбкой, будто пробует ногою доску, что перекинута через поток. Ну, а потом тебя сгибает, словно бремя, давит, как вина, и устоять непросто.
— А ты уверен, что она не выдумала свое прошлое, не продолжает жить иллюзией сейчас?
— Нет, оторваться от земли ей не удастся.
— Почему?
— Она живет с убийцей.
— Где?
— В этом городке.
— Давно?
— Два года.
— Она была его любовницей еще до катастрофы?
— Была — сначала за посредничество, после — так как стала соучастницей. Она его не переносит.
— Почему же терпит?
— Жених погиб при обстоятельствах сомнительных. Компания воспользовалась этим и оспорила законность полиса. Хотя и не было улик, а если были — слишком смутные, процесс затеяли, он длится до сих пор. И стало быть, тот тип ее все время держит под угрозой безрассудного признания и обоюдной гибели. Должно быть, когда тяжба завершится — теперь уж ясно, что в их пользу, — они поделят капиталы, как договорились.
— Остатками какого допотопного романа питается твоя фантазия?
— Все это правда, и еще не вся. Представь, живут они на берегу Лимана в гулком домике из тонких перекрытий и простенков, где слышны сердцебиенье и дыхание, где никуда не деться ни от запаха того, кто ненавистен, ни от плескания воды в его тазу.
— А что он представляет из себя?
— Вообрази-ка голову, как у удава, в форме усеченной пирамиды, четкую, как план геометра, незыблемую, как условия задачи или приговор, бесцветные глаза за стеклами очков — толстенными, как линзы потайного фонаря…
— На что они живут?
— Он по рожденью жалкий буржуа, отцу его принадлежит фарфоровый завод в Лиможе. У нее еще осталось что-то от приданого. Но слишком мало, ежели учесть ее привычку к элегантности и роскоши, по крайней мере показным. В надежде на удачу в тяжбе она берет вино у местных лавочников в долг под разорительный процент. Посредничать и здесь с успехом удается холодному удаву.
— А ты кто для него?
— В игре, уже привычной, — жертва. Дважды или трижды в доме над Лиманом я сидел за фортепьяно, как вдруг он возникал в дверном проеме, усмехался и, не говоря ни слова, уходил — наверное, туда, где мог бы посмеяться вволю. И был похож на призраков, каких рождает иногда сознание больных, стоящих у черты безумия, — которые то им являются, то исчезают, холодя их кровь. К моему несчастному товарищу, когда его еще не поместили в клинику, захаживал подобный гость, и он боялся обернуться, чтобы не увидеть его рядом. Теперь вот что-то в этом роде происходит и со мной…
— Однако, друг мой, призрак твой определенно снисходителен, чтоб не сказать услужлив.
— Превратностям судьбы, фантазиям, капризам, рожденным скукой и жестоким сердцем, он не мешает, просто наблюдает — как издали, так и вблизи. Единственная цель его — держать сообщницу прикованной к себе — пусть длинной цепью, которую он может отпускать. Боится же он только одного: что ей удастся вырваться, освободиться, ускользнуть. Но то оружие, которое готов пустить он в ход, известные угрозы, всякую ее попытку обрекают на провал. И все же избавление возможно — хоть и не на этом свете, в царстве тьмы. Вот то единственное, что она способна противопоставить средствам, с помощью которых он ее сломил.
— Так, значит, она может и покончить счеты с жизнью?
— В любой момент.
Мне вновь представилось оружие из стали и слоновой кости, сверкнувшее тогда в отверстии жемчужной муфты. И женщина, державшая в ней руку, встала предо мной — прямая и безмолвная, исполненная боли, подобной абсолютной истине или совершенной лжи, которые ей заменяли жизнь.
— В любой момент, с такой же простотой, как открывают дверь, шагают за порог, как сходят со ступеньки.
Все, что я слышал до сих пор, к лишенному изъяна образу ее имело отношения не больше, чем, допустим, к слепку Аполлона из Пьомбино,[68] поставленному мною на вертящийся квадратный шкаф для книг у фортепьяно. Я был не в силах ни прочувствовать, ни осознать, что все это на самом деле составляет ее жизнь. Она мне виделась все так же в ореоле тайны, как в золоте послеполуденного света — темная фигура божества, с которой не сводил я глаз. Описанные мне поступки были столь же непохожи на несчастное создание, как песнь Гомера или главы книги мифов далеки от напряженной формы изваянья, где обитает дух не менее непостижимый, чем жизненная сила дерева, когда на нем завязываются плоды.
Где та рука, что изваяла на маленьком божественном челе два ряда симметричных завитков? С не меньшей властностью, казалось мне, распоряжалось той душою прошлое. В скопленье заурядных фактов ум мой не желал усматривать малейшей связи, им владело поэтическое чувство, приобщавшее его таинственно к тому, что зарождается в молчанье. И потому так часто обращал я безотчетный взгляд свой к Аполлону, что, ограниченный орудием ваятеля в пространстве, каждой линией своею выражал он безграничную поэзию. Я снова доверялся форме и, слушая напрасные слова бесчестья, верил лишь тому, что выражала красота, отполированная водами Эврота.
Но вдруг такая красота предстала предо мною сцепленной со смертью, подобная камее, вырезанной в белом слое темного агата, и сделалась такою яркой, что затмила все вокруг. Сердце грохотало — странно, как не слышал мой приятель? Видно, оглушен был собственным смятеньем, которое пытался временами заливать он обжигающим глотком.
— Но почему, — спросил я, — почему же говорит она об этом нарочито, зачем, как часто женщины, кокетничает этим…?
— Двумя годами ранее она переживала пору нетерпимости и бешенства и чуть не каждый день вела игру со смертью. У нее имелась легонькая гоночная лодка, на каких проходят состязания в Монако, с шестнадцатицилиндровым мотором — подарил поклонник-аргентинец. Пропащая душа — механик отправлялся с ней в любое время дня и ночи, как только западный проклятый ветер поднимал в Лимане шторм и становилось невозможно выйти в Океан. Она была так изворотлива, что никому не удавалось ни уследить за ней, ни удержать. Потом обычно возвращалась в то же место, где уж не надеялись ее увидеть. Часами волны обдавали ее пеной, как ростральную фигуру корабля. Потом, наверно, еще долго тот, кто целовал ее, чувствовал соленый вкус на этих шелушащихся губах.
Я видел ее, будто бы причал был у меня внутри: в непромокаемом плаще и капюшоне из клеенки, обрамляющем лицо — прозрачное, как ламповидная плывущая медуза. И ждал ее я для того лишь, чтобы вновь уйти с ней в полумрак.
— Вскоре после расторженья ее брака на изысканном нормандском пляже за ней усердно увивался некий молодой любитель поло, предоставлявший ей своих роскошных лошадей. Не позволяя ничего ему, она свела его с ума от страсти, и он ей сделал предложенье. Она ответила насмешкою и стала изводить его настолько изощренно, что у него в конце концов хватило мужества уехать — видимо, отправился играть в свою игру на каком-нибудь английском поле в Индии. К нему любви в ней не было, была привычка только, как к рабу, который ей служил для испытания изобретенных ею мук; не чаяла она души в одном из жеребцов для поло, темно-гнедом, с шекспировскою кличкою Петруччо.[69] Когда узнала об отъезде, в тот же вечер отравилась, приняв несколько таблеток сулемы, и много дней лежала при смерти, все время с ложа скорби протягивая руку вверх ладонью, будто предлагала сахар своему Петруччо.
Теперь из-под опущенных ресниц мне виделось, как вынутая из перчатки длинная и крепкая ее рука с сухими гладкими суставами касается губы одной из Фидиевых маленьких лошадок, что, исполненные в гипсе, галопируют на фризе вдоль моей стены.[70] Недоставало разве деревянного шара и молота с подвижной рукояткою у статных всадников-афинян и пружинистого, гладко стриженного луга под копытами поджарых их коней. Видел я, как солнце косо врезается в обильную нормандскую траву, как четко отсекает золотым клинком пучок его лучей пару беспокойных ног, упертых в землю в резкой остановке. А сердце прыгало от дикой радости — ведь я услышал о сопернике: «К нему любви в ней не было»!
— Ровно год назад, в один из первых дней апреля, вечером…
Сердце замерло. И снова слышалось мне: опрокинутые стулья падают на гулкий пол в том темном зале, полном отголосков, точно церковь в час вечерни на Страстной неделе.
— Вечером?.. — ободрил я умолкший, будто бы подавленный моим волненьем голос. И как воочию увидел искаженное неодолимым содроганьем лицо, глаза, отсвечивавшие перламутром.
— Однажды вечером в Бордо из-за чего-то спорила она в машине с дядей одного несчастного юнца, с которым ей мешали встретиться, и внезапно выстрелила в грудь себе из спрятанного в муфте револьвера. Пуля зацепила легкое, застряла под лопаткой. Снова долгие недели — жизнь на волоске, кошмар больничной койки, в изголовье — ужасом охваченный удав…
Все виденное и предвиденное мною в давний тот весенний вечер хлынуло в меня с особой силой, вызывая ощущенье страшной боли, в полной мере испытать и вынести которую мне только предстояло. Сомнений не было, однако я спросил:
— Ты знаешь точно день?
— Да, пятое апреля.
— Причина, говоришь, — несчастная любовь?
Глухая ревность жгла меня.
— Выдуманная любовь и нетерпимость к пресной жизни. Этот Паоло, мальчишка, ею совращенный, доводится племянником виноторговцу — одному из тех, с кем вел дела удав в расчете на грядущее богатство, на преступный капитал. Представь, какая странная игра! Как будто мстя ростовщику, покорила она этого парнишку, не лишенного и внешней привлекательности, и определенной тонкости души. Скоро его было не узнать: он стал послушен ей, как ястребок, сидящий на руке под колпаком. Обнаружив это, родичи, не тратя понапрасну времени, прибегли к крайней мере — лишили Паоло свободы, увезли и скрыли неизвестно где. Довольно этого, чтоб прихоть превратить в «идею фикс». Она просила разрешения в последний раз его увидеть, с ним поговорить. Ответили отказом. Чуть не каждый вечер приезжала она к дому, где жила его родня, передавала письма — но всегда впустую. В тот вечер на ее посланье, повелительное, полное угроз, явился дядя — чтоб убедить ее отречься. Она была в машине, тот с ней говорил с подножки. Она твердила: «Я хочу с ним встретиться», но тот не соглашался ни за что. И вдруг внутри, под меховым жакетом, грянул выстрел — будто бы случайный. Торгаш отвез ее простреленное тело в клинику. Когда она пришла в сознанье и смогла шептать, то стала умолять позволить ей на миг увидеть Паоло. Но тщетно. Торгаши не знают жалости. У койки был один удав, за окнами — весна. Ту пулю вынули. А шрамы…
— Не хватало, чтобы ты их мне описывал!
Я не скрывал свое смятенье. Он умолк, отпил еще глоток — подлил немного жидкого огня туда, где заходилось обессиленное сердце. Пальцами-лопатками он целиком охватывал бокал, большим и указательным сжимая край, к которому прикладывался ртом, потягивая тепловатую уже эссенцию ликера. На блестящей маске — воплощении порока — трепетали ноздри. Все теперь мне в нем казалось оскорбительным и раздражало. Сквозь уродливые пальцы и почти расплющенное в них стекло я видел, как играет на его губах противная улыбка. Подумалось о свиньях, одержимых бесами, — в таких художниках обычно и живущих до тех пор, пока их не изгонит вдохновенье.
— Дальше, дальше! Что же привело ее к тебе?
Он горько рассмеялся в свой бокал.
— Наверно, запах падали.
— Скорбный этот смысл можно выразить изысканнее: ожиданье лебединой песни. Правда ведь, она напоминает Леду? Погляди-ка на гравюру Амманнати.
В голосе моем звучала неприязнь.
— Друг мой, — выговорил он прерывисто, глядя на меня в упор, — скажи-ка правду: ты вчера не притворялся, узнавая, кто она? Не познакомился ты с нею до меня? Не пережил все это сам?
— Да нет.
— А почему же ты ревнуешь?
— Я не ревную, но, пожалуй, мне чуть-чуть досадно. Знаешь ведь, я жизнь воспринимаю в образах. А ты туманными рассказами своими линия за линией во мне разрушил ее образ. Я должен снова обрести его, восстановить — при помощи любви и боли.
И тон мой, и улыбка были беззаботны.
— Она придет к тебе — полюбишь, будешь мучаться.
— Ты оставляешь мне ее в наследство?
— Конечно, я и сам не прочь уйти из жизни от подобных мук. Но, как Паоло, меня увозят прочь, лишают этого прекрасного удела. А ей — вот странно, — видно, суждено, чтобы намеченные ею жертвы непременно ускользали. Как ускользает от себя она сама.
— А не боялся ты, что передашь недуг свой раненому легкому?
Казалось, воздух в комнате стал колким — как в краях, где нет законов, нет и лжи. Я не был более способен ни на умолчанья, ни на мягкость. Я видел изумительную форму, сотворенную с таким же строгим благородством, что и образцы античного искусства, в коих мироощущение мое себе находит постоянно подтвержденье, и с нею рядом — этот человеческий очаг заразы, род постыдной похотливости, неотделимый в представлении моем от грязи и обмана. Соединенье их казалось невозможным. Вопрос был каверзный — я знал, приятель мой хвастлив и выше сил его признать, что обманулся в ожиданиях и он, как тот, скакавший на Петруччо.
— Ты действительно держал ее в объятиях? Она вдыхала воздух из твоей груди?
Я пожирал приятеля глазами. Невольный спазм, исказивший его губы, показал, что я был прав, однако же он стер его с лица, пронзительно расхохотавшись, и пошатываясь встал.
— Вопрос благоразумный и бесстыдный, — отозвался он. — Но, заразив ее, я только свел бы с нею счеты. Который час? Она зайдет сюда за мною около пяти, чтоб отвезти меня домой, и ты ее увидишь. Она желает посмотреть твоих собак. Я все равно уеду завтра утром. Так что принимай-ка эстафету.
Я распахнул окно веранды так поспешно, будто задыхался от миазмов.
Волна прилива — женская натура — вздымалась к дюне, ощетинившейся камышом. Вода, подрагивая и сверкая, затопляла отмели — такие бледные и мягкие, как высосанные сиренами тела погибших в кораблекрушеньях. Откуда-то из глуби доносился шорох, какой, должно быть, предвещает в льдистых странах пробивающуюся весну. Солнце, опускаясь, оставляло за собою светозарную дорогу — казалось, для своих огромных белых коней, уже свободных от ярма.[71] В одиночество мое, лишенное истории, вторгались мифы моей расы. Дух был пылок, плодотворен, движим роком, как бывает на заре любви. Предчувствие сбывалось, прорицанье крови истолковал я верно.
Мне не хотелось оборачиваться, чтоб не видеть охваченное разрушением лицо, ужасный череп — костяную маску, проступавшую через иссушенную кожу. То, что зарождалось, было сильнее и меня, и этого ходячего упадка и сходствовать должно было со мной. Некто утверждал: «Есть только то, чего еще не существует, живешь ты будущим и вспоминаешь тоже лишь о нем». Мое же сердце говорило: «Я беру все на себя. Она безвинна. Я ей все прощаю. Вот она». Как тополь, что стоял в тот вечер одиноко в углу сада, облаченный в переливчатое серебро. Картины давних сумерек и ночи осеняли меня вновь — и исчезали.
Глухо стукнула откинутая крышка фортепьяно. Я, не поворачиваясь, ждал — объятый трепетом, как если б не на клавиши легла рука, а на мое плечо.
Душу инструмента будто бы пронзила вспышка боли.
Умирающий заговорил на языке, что был ему всех ближе. Отчаянье порою словно подражало крику наивысшего блаженства и брало судьбу за горло крепкой по-бетховенски рукой. Все сказанное, все подуманное прежде было мелким, суетным, далеким. Свет сделался подобен тьме.
Я повернулся к косяку окна, уперся поднятой рукою, уткнулся в руку лбом, закрыв глаза. Устроил ночь в себе, чтоб видеть на ничтожном фоне жизни излучаемое музыкой сверканье. Пауза — и я повис над пропастью. Безмолвие, казалось, воцарилось навсегда. Но вот рыдания возобновились, стихли снова. И опять — как будто бы с порога двери, что должна закрыться, — смолкли. Ни один из нас не шевелился.
Внезапно у ворот раздался гул.
Он встал, я обернулся — и узрел себя: с бескровным, мертвенным лицом и серыми губами, как у всплывших бездыханными со дна. Чувства могут обладать пластическими свойствами, они порой едва ли не преображают человеческое тело, придают ему на миг иную форму.
Когда, еще во власти музыки, спускались мы к калитке, мне почудилось, что мы — единое создание, крупнее нас двоих, с совсем простой душой, и фантастическое это существо покачивается в одну сторону, хромает на одну из ног. Так продолжалось лишь мгновение — неизъяснимое, оно тотчас же растворилось в необъятности весны, покинуло пределы мира. Будь женщина наделена чудесным виденьем, она б узрела эту зыбкую химеру — разноликого Амура. Но что ни шаг, мы все отчетливее разделялись. Я ощущал волнение приятеля, сумбурно проступавшее через табак и алкоголь, через бессчетные его недуги, яды, растворенные в его крови. И чувствовал, как растекается мое волнение, подобное живительному соку, по легкому, почти не принявшему пищи телу, нарастая с каждым шагом, как если бы, дотрагиваясь до земли, я наполнялся ее жаром.
Она сидела в экипаже у ворот. Когда мы подошли к ней, соскочила вниз, движением своим подняв во мне бесчисленные волны, как порой в Лимане рыбки, что мелькают над водою золотой дугой, подобной молодой луне.
Теперь ее не стягивали путы. Уже отмеченному мной склоненью стана, точно у дарящей лебедя своими милостями Леды, благоприятствовала драпированная юбка, впереди завернутая чуть не свитком, похожим на закрученные лепестки тех крупных темных ирисов, которые известны под названьем сусских лилий.[72] Все складки, тень в них, отсветы на фалдах, покорность ткани и орнамент — проявленья юной этой жизни — трогали меня не меньше очертаний подбородка, прорисованных божественною молодостью. Я вбирал ее, простую и неисчислимую, — так воздух облекает наше тело всей своею массой, одновременно проникая в каждую из пор. Все было мне знакомо в ней и все неведомо — и в то мгновенье, и навек. И это восхищенье новизною, без сомнения, прочла она в моих глазах.
«Еще! Еще!» — твердил во мне какой-то дух, словцо того, кому всегда бывает мало, кто знает: за прекрасною картиною последует еще прекрасней.
И видимое, и незримое вдруг представало взгляду, словно выносимое течением стремительно, как в шлюзах, прибывающей воды.
От вспышки зноя, что на Ландах кажется уловкой западной Морганы, вздумавшей изобразить дыханье лета, парк стал очагом жары. Чуть дрогнет ветерок, пыльца срывалась с веток и растворялась в золоте лучей. На кончиках сосновых игл застыли капельки лазури.
Меж нами завязался разговор. Со стороны казалось, каждый слушал остальных и отвечал. Но было это как во сне, когда мы видим шевеленье губ — живых иль мертвых, — но не слышим звуков. Бесшумный вихрь соединял два жизненных потока воедино, третья жизнь была подобна тем обломкам, что туда затягивает, кружит, а потом отбрасывает прочь. Все совершалось тайно и одновременно явно, в сокровенной глубине и в окончаньях нервов, казалось посвящением и шагом к гибели. Уж одному из нас погибнуть явно было суждено, возможно, и двоим, быть может, всем, как в песне, что сложили греки о Хароне.
— Ты что?
Я не сумел сдержаться, только приглушил свой крик: он, вне себя, со страхом и мольбой вцепился безотчетно в ее руку. И было бесконечно грустно наблюдать, как, овладев собой, невольное движение пытается представить он невинной фамильярностью.
Она зарделась, отстранилась и побежала в сторону загона, где уже заволновались молодые псы. Мы ворвались на псарню вместе будто в пене разбивающихся волн. Тот, третий, не решился, опасаясь столкновенья, и остался ждать снаружи.
— Леда! Леда с лебедями!
Нередкие в античности Метаморфозы продолжаются и в наши дни.
В окруженье молодой природы вся она преобразилась; в ее хрустальные глаза, казалось, изнутри забил источник. Она сама была своим источником, своей рекой, и берегом, и тенью от платана, колышущимся камышом и бархатистым мхом… Бескрылые большие птицы налетали на нее, и, разумеется, она протягивала руку, касалась шелковых их шей тем самым жестом, что и Фестиева дочь.
— Леда с лебедями!
Она прижалась к дереву, чтоб выдержать наскоки обезумевших животных, и, когда пытался я хлыстом и голосом их отогнать, кричала:
— Перестаньте же! Не надо!
Борзые эти появились в августе у белоснежной Тамар, но казалось, их рожденье связано с божественною пеною, как эллинское прозвище Венеры.[73] На зов они неслись, как к рифу устремляется волна, и надо ль говорить, что всякий раз бывал я удивлен, у ног своих не слыша клокотанья? Сотворены были они, конечно же, из самых ценных материалов, никакая раковина не могла б сравниться с пастями, где розовые десны так изысканно переходили в белизну зубов. У некоторых светлые глаза напоминали капли первозданной свежести воды, вместившие, казалось, всю морскую флору.
— Довольно же!
Держась на задних лапах, все они старались ей лизнуть лицо и шею, страстно жаждя ласки, но один, слепящей белизны, нарушенной лишь несколькими пятнами — легчайшими, как тень от дыма, — преследовал ее, теснил упорней всех.
— Ах ты какой! — воскликнула она с любовью, отдавая предпочтение ему.
Других я отогнал, при ней остался лишь ее избранник.
О воображение, дающее желанию всевластие, глаза поэзии!
Меня охватывало наслажденье, прежде незнакомое. Приникнув к дереву, она удерживала трепетного зверя и разговаривала с ним словами, обращаемыми нежностью в пустые звуки. Длинной мордой тот прильнул к ее щеке; звериный рот и человеческий равно блистали юной свежестью. Нагие пальцы погружались в изумительную шерсть, как в нежный пух, растущий под крылом.
Порою встреча взглядов — таинство, свершаемое трепетанием ресниц. Иногда к тому же она — обмен дарами, по сравнению с коими все прочее теряет ценность.
Когда втроем мы молча шли к калитке, под ногами поскрипывала, словно сено, хвоя. Сосновые стволы блестели как закованные в медную броню, с обратной стороны чернея, словно смазанные дегтем. Обочины, усыпанные дикою мукой, казались золотыми. Под холстиной, похожей сразу на змеиный выползок и на пустые высохшие соты, проходили ассамблеи гусениц. Я вздрогнул: у меня над ухом вдруг раздался тот угрюмый звон, что давней ночью вызвал в представлении моем фигуру занятого нескончаемым вязаньем пастыря-молчальника. То потревожил листья-копья вечерний свежий ветерок.
— Ну что ж, прощай, — промолвил мой приятель возле дверцы.
— В самом деле завтра уезжаешь?
— Да.
— Я, может быть, приду к отходу поезда — проститься с твоей матерью.
Рот у приятеля скривился, словно его переполняла горечь. С трудом поднявшись, он уселся рядом с женщиной из мифа.
Она как будто не была знакома ни со мной, ни с ним. Меж жестких, четких век увидел я глаза, какие повергают нас в отчаяние и растерянность, как неприступная скала без перевалов. Те падавшие искоса лучи, что превращали чешую стволов в сплошные алые пластины, воспламенили на виске ее металл волос.
— Прощай, — сказал мой друг опять и поднял руку, извлекшую из клавиш жалобный ноктюрн.
«Она тебя не любит, нет, не любит».
Колеса с шумом тронулись, глубоко бороздя песчаную дорогу и оставляя за собою некий след того очарованья, которое далекой ночью высветил стоявший на земле фонарь.
Шум делался все тише, замер. Напрягая слух, я слышал лишь удары собственного сердца, отдававшиеся у меня в затылке. Тревога, жгучая, как разрушительное пламя, разгоняла мысли, вызывая вновь во рту тот пепельно-кровавый вкус, что появился на пути, приостановленном текучей грязною рукой, ощупывавшей землю в поисках неведомой потери.
Я вернулся к псарне, как возвращаются туда, где совершилось чудо жизни или искусства, чтобы вновь задать вопросы, на которые ответа нет.
Борзые высунули морды — длинные и влажные, взирая потемневшими с приходом вечера глазами, как смотрят лебеди на проходящего по берегу пруда в саду, уже объятом сумраком и сном.
Войдя, повел я с ними разговор при помощи понятных им гортанных звуков. Все бросились ко мне; одни, казалось, подражали гребням волн, начавших заворачиваться свитком, другие же вставали на две лапы, точны козы, пляшущие в память о сатирах. Лишь один, держась поодаль, впал в безумное веселье, точно маленький щенок, нашедший кость, подбрасывая что-то и ловя зубами. Это был любимец Леды.
Я звал его. Он прекращал игру и, глядя недоверчивым, лукавым взглядом, несколько мгновений колебался, извиваясь больше, чем волна в изображенье одного японца, и опять пускался прочь, подскакивая на сосновых иглах или семеня. Услышав более суровый оклик, подчинился, начал подбираться чуть ли не ползком, весь — грациозное смирение, к концу пути склоняясь набок, пока не опрокинулся у ног моих, как если бы лишился чувств иль находился при последнем издыханье. Но то, что было у него в зубах, держал он бережно и крепко, сжимая, но не нанося ему вреда.
— Что у тебя там? Что там? Покажи!
Он умоляюще отмахивался лапами. Чтобы ослабить хватку, я просунул пальцы в место смычки челюстей и наконец сумел отнять его добычу — черепаховую светлую гребенку из Лединых волос!
Она была чуть влажной от слюны. Держа ее в руке, я чувствовал: она живет какой-то тайной жизнью. Была она не тяжелей морской звезды. Пес все еще лежал, как будто в ожидании прощенья; меж бахромою приоткрытых губ поблескивали зубы, напоминавшие о тех, что оценил я наивысшими каратами.
Мной владела лишь одна мучительная мысль, рожденная неясною тревогой: попробовать ее увидеть снова, прежде чем наступит ночь. Потеря гребешка была предлогом благовидным. Возможно, отвезя приятеля, она поехала к себе. Дрожа, я думал: «Если бы застать ее одну! Поговорить бы с ней!» Любое промедление, казалось мне, содействует неведомой враждебной силе, отдаляет мое счастье. Облегчение в тревоге приносит только скорость.
Я оседлал прыжком велосипед, что было духу стал крутить педали. Первый из крутых подъемов дался без труда. Все мышцы налились какой-то странной силой, вечерний ветер в грудь мою входил, как в свежую листву. Так я пронесся через Зимние квартиры, городок больных. В окнах кое-где уже светились лампы. Справа, перед поворотом, вроде бы блеснула новым серебристым платьем яблонька. С Часовни доносился колокольный звон. В конце бульвара, за большим Распятием, поблескивал Лиман.
Я знал, что дом недалеко от пристани, четвертый слева. В поисках его пошел пешком, неторопливо — мною овладела робость. В этом доме не горело ни одно окно. Прошел вдоль сада: за оградою еще блестели в сумраке лощеные кусты. Через распахнутую дверь передней виднелась в глубине веранда — также раскрытая навстречу бледным небесам; под сводом веял свежий ветерок, легонько надувая занавески. Дом выглядел пустым. Прибой гудел в нем, как у пристани. «Быть может, она там, сидит во тьме. Сейчас меня узнает, встанет, вскрикнет…»
Я ждал, застыв в потоке ветра, сдувавшего по искре мою жизнь. Она была уже не впереди, а позади, как ледяная глыба.
На звук шагов я обернулся. Кто-то заходил из сада в дом. Интуитивная моя брезгливость и сверканье толстых линз мне подсказали: тот, чья голова имеет форму усеченной пирамиды.
— Кто там? — послышался пронзительный, холодный голос, расколовший монотонный гул прилива.
Назвавшись, в нескольких словах я объяснил свое присутствие и подал сверточек с гребенкой, чтобы он вернул ее владелице.
— Она еще не возвращалась, — был ответ.
И ледяным, безукоризненно учтивым тоном он предложил мне подождать.
Глазам моим, привыкшим к темноте, недвижная питонья голова предстала как в нелепом сновиденье, будто, не подозревая ни о чем, вошел я в комнату, а из угла враждебно смотрит, свившись кольцами в колонну с человечий рост, огромная рептилия, уползшая из зоосада.
— Благодарю, — ответил я, не в состоянии избавиться от наважденья. — Мне пора.
Я вышел и опять помчался во весь дух. В надежде повстречать ее доехал до конца приморского бульвара. Поднялся вновь на дюны. Пришел к себе, где среди книг и слепков все витал табачно-опиумный запах, снова увидал раскрытую клавиатуру, тень Бессмертного[74] на смолкнувшей слоновой кости.
Часть ночи прожил я с сознанием того, что не вполне уже собой владею. Я слушал, не раздастся ли тот крик, который, не достигнув уха, тронул мою душу.
Не знаю, долго ль от усталости я пробыл в забытьи, когда душа очувствовалась — вся в смятении, каким обуреваема толпа, внезапно услыхавшая сигнал тревоги. Приподнявшись на локтях, объятый дрожью, широко раскрытыми глазами я глядел во тьму, не зная, где я, что за день и час, что ждет меня, — так пробуждаются, чтобы уснуть навеки в рушащемся доме. Окно было открыто, как обычно, и по цвету неба в звездах понял я, что близится рассвет. Прохлада принесла успокоение. Я лег, но сон не шел.
Нет берега, куда бы билась мировая скорбь с такой же силой, как на Крайнем Западе, когда приходит новый день. Петуший крик на Ландах сипл и мрачен, словно птица помнит: предков приносили в жертву божеству, которое зачато было Ночью без помощи другого бога. Человек, разбуженный тем криком, чувствует себя бесплотной тенью, не сразу обретая ощущенье собственного тела, чтоб влачить земной свой жребий дальше.
Усталость снова одержала верх.
Проснувшись от слепивших солнечных лучей, я сразу вспомнил обещание проститься с матерью приятеля. И чтоб не опоздать, отправился с букетиком фиалок.
В бесстрашном, плодородном, полном возвращений и миграций небе дули западные ветры.
«Может быть, он не уедет, — думал я, представив горький его рот, услышав резкий смех. — Быть может, передумал».
Но другое мое «я», припомнив, как душу инструмента будто бы пронзила вспышка боли, говорило: «Уезжает. Он решил уйти. Он сломлен».
И я таил в себе загадку древнего и юного лица, напомнившего мощной лепкой вытесанную из базальта голову Пастушьего царя. Я ждал, не знаю сам откуда, некой вести, чтоб снова на него взглянуть открыто и без страха.
Вот я вступил на жалкую платформу. Вдоль перрона под навесом вытянулся поезд — закопченный, тяжеленный и дурацкий. Длинная скамья с нагроможденьем камышовых клеток, где теснились заморенные цыплята. Лица человеческих существ отмечены печатью рабства и бесчестья. Ландский петел пел для них.
Шагая вдоль вагонов в поисках приятеля и самого себя, я вдруг его увидел: прислонившись к материнскому плечу, сидел он будто в наркотическом дурмане, с восковым лицом и ватными ногами; меж приоткрытых век виднелись узкими полосками белки. Пожилая дама предупредила жестом неуместные поступки и слова. Потом ко мне склонилась бесконечно осторожно, чтоб не потревожить сына, и прошептала:
— Этой ночью она покончила с собой.
Вот что мне поведал Дезидерио Мориар.
Рассказ его, похоже было, подошел к концу, он молча вглядывался в мель (неяркую, без асфоделей и следов, впадину лежащего под нами мира[75]), и я спросил:
— Вы видели ее на ложе смерти?
— Видел, — был ответ.
— Лицо осталось невредимым?
Он кивнул; руки на коленях чуть дрожали.
Набравшись духу, я добавил еле слышно:
— И какое оно было?
Он погрузился в ночь, закрыв ладонями глаза, и не ответил.
Пляж с отливом сделался огромным; в мелководье, бездыханном и недвижном, отражалось замершее небо. Проливы, косы, отмели и дюны, мысы, пятна невысоких зарослей — все внутренние линии равнялись на океанский горизонт, выдерживая ритм возвышенного совершенства, дозволенного людям только в первый их посмертный час.
Западная красота простерлась в обнажившей ее тишине.
Три притчи прекрасного врага
© Перевод И. М. Заславской
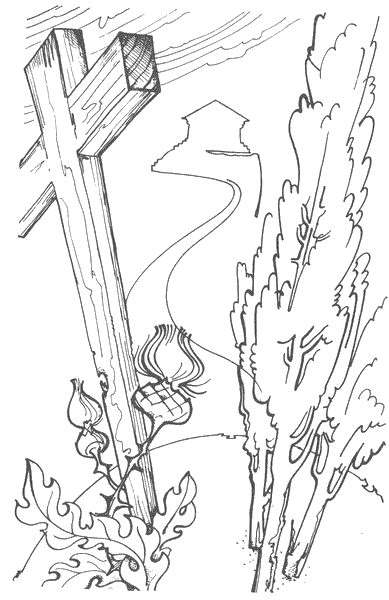
I. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОТИВНИКА
Вечер, 27 января 1897 (Багаццано)
Я жажду, сам не знаю отчего. Томлюсь, а отчего — не знаю. Тревожно, тяжело дышать; молю Бог весть о коей передышке, Бог весть какого пристанища ищу. Но передышки той страшусь, как будто насмерть она дыханье перехватит; пристанища страшусь, как будто стены его живые обрушиться способны на меня. Я ничего не знаю о себе; о, если бы нашелся кто-нибудь, кто что-то знал бы обо мне и мне поведал.
О, просвети, направь меня, любовь! Но только что высокая женщина с глазами, полными тоски и бесконечности, покинула меня. В печальной поступи ее почудился мне шелест лавра.
Она перевязала волосками мои пять пальцев, когда, приблизившись вплотную, я с нею говорил. Я был опутан волосками и мучился, как будто волоски оковами сдавили длани мне.
Я вскакиваю — не пойму зачем — и восклицаю:
— Берегись!
Она не внемлет предупрежденью, а лишь ответствует:
— Порви, порви их сам!
Я отстраняюсь, оглушенный биеньем сердца своего. И рвутся волоски, но узелок стянул навечно каждую фалангу.
Ни возгласа, ни крика. Вот она касается моей руки, которую сама окольцевала столь нежной болью. Я слышу, как падают ее слезинки. Нить за нитью рвется, и непонятный, сумрачный обрыв нас друг от друга отделяет. Мы оба говорим слова, но нет в них смысла и не в силах они утешить нас. Слезинка теплая скатилась в промежуток меж безымянным и средним пальцами; от этого я смутно ощущаю себя над схваткой. Да, разум внемлет лишь живым приметам живых страданий: порванным нитям, влаге остывающей. Жизнь точно ускользает, готовая разверзнуться.
— Куда ты?
— Я ухожу. А ты пребудешь с тем, кто светел и высок на фоне черноты твоей. Я знаю, он у тебя в душе. За ним до сей поры следишь ты взглядом.
Порой неистовая четкость привидений, моим воображением рожденных, меня в смятенье повергает. Не мне ль дано увидеть дивное созданье, что удаляется меж кипарисов, неся любовь на дланях, как агнца, стреноженного бурою веревкой, а может, то стрела, летящая из ножниц пустоты, сияющей в своей вселенской тщете?
Ведь мы еще намедни были вместе в Скуола ди Сан-Рокко. Тот светлый и высокий человек стоял на затененном фоне. Я помню все. Я думаю о нем.
Неужто и меня кому-нибудь удастся одолеть, стреножить, ведь дух мой владеет силой уничтожать и время, и пространство, и зримые, и мнимые пределы, земные и небесные запреты?
Пройдя под мостом Гамберайя, я поднимаюсь к перекрестку, что осенен распятьем древним и древними стволами кипарисов. Гляжу сверху на Арно, струящуюся по долине. Вновь слышу сердцем всплески, наморщившие гладь венецианского канала. Вновь мерзну меж колонн большого зала, где уж давно лампады не горят. Вот стая серафимов снялась в полет к святилищу Пречистой: то ястребиное стремленье в погоне за Горлицей. Безумье крыл как бы предвосхищает кровавую расправу. За скорбью матери, склоненной у парапета над немощным младенцем, кровавый призрак в средоточье ужаса застыл. Святая Мария Египетская, Святая Мария Магдалина, две грешницы покинутые, за себя не просят воздаянья ни единой живой душе; но против них восстал зловещий сумрак, странно прочерченный сполохами, — то ствол древесный, подобие громадной головешки; колючий гнев людской восстал, чтоб выместить небесную обиду.
Но что мне суетная слава, ежли себя я узнаю в мастеровом моей породы, ежли умею я подняться к любой вершине, ежли знаю, что я рожден для беспримерного геройства? Иду между оливами. Оливковою рощей поднимаюсь к Багаццано. Вползает сумрак. Я остановился. Страсть и молитва в саду меня взрыхляют, насквозь пронзая, открывая мне, что горечь одиночества и жертвы без оглядки суть кровное мое предназначенье.
Коль не смешон я сам себе, то что мне до чужих насмешек?
Оливы эти достойны моей жертвы, что выше даже самоотреченья; достойны моей мольбы, что выше святотатства. Отчего так тяжко болит душа при виде чужих мучений? Отчего так жжет меня в язычестве моем глоток из чаши, меня миновавшей? Отчего среди товарищей беспечных, средь верных братьев я думаю с презреньем о крепком сне его сытых учеников и о вторичном крике петуха?
Нет испытанья тяжелее для исполненья праведной души, для вечного ее самоотчужденья.
Исполниться означает утвердиться в блаженной отстраненности от многих испытаний; это есть темное и вместе очевидное усилье воли. Люблю в своем я взгляде нечто такое, что порой внушает ближнему невольный стыд.
И вот отяжелевших от пищи и ковыряющих в зубах соломками иссопа учеников одолевает сон.
И вот в лирическом запале Тинторетто я снова вижу бренные тела спящих под оливою, которая подпирает бодрствующего Иисуса. Вот ангел вырвался из огненного шара — мне видится он вспыхнувшим доспехом одинокого героя; тот грозным жестом, будто меч карающий, подносит ему чашу, полную прозрачной влаги. И вот пронзен сияньем череп оголенный ученика, не вовремя проснувшегося.
Виденья застят зренье. То ль это лик луны, возникшей вдруг из-за холма? Тот дальний холм — не вскрытый ли могильник всемощных серафимов? Не знаю. Свет извергается из камня точь-в-точь из кратера священного. А после проступает в нем лик коварный серафима. У искусителя два красных крыла, пухлые руки, голый торс и женственные выпуклости, дерзко украшенные множеством каменьев; обеими руками он предлагает два из них Иисусу, распластанному навзничь на узловатых, скрюченных корнях. Бессилен жест героя, поверженного наземь; искрометно коварство его прекрасного врага; обманчива и неверна пустыня.
Пить, пить хочу. Под вечер песнь свою заводят воды. Глубокое, певучее теченье долину бороздит. Но разве это Арно? Нет, музыка. Иль это шелест мельничного колеса? Нет, то пьянящее журчание потока. Я его вбираю не напряженным слухом, а ртом, от жажды раскаленным. Тело мое так иссушила жажда, что, кажется, на нет оно сошло. Осталась лишь душа. И так она заполонила тело, что, кажется, на нет оно сошло.
Так, значит, с неба свесилась скала? Скала, что у меня над головою. Скала, в которую ударил Моисей. Огромный столп воды взметнулся аркой, а там, внизу, он, сотрясатель. Жажда людская и звериная жажда стремятся к чуду журчащему. Рты, челюсти и руки, сложенные чашей, пустые кубки, вся жажда, вся ненасытность тянется к нему. На горизонте в облачном столпе Бог указует путь, и всадники копытами коней неудержимых пустыню будоражат.
Я остановился, закрыл глаза. Вот что-то рвется из меня, как тот поток воды из камня. Дрожу всем телом. На ногах едва держусь. Склоняюсь к стволу оливы. Век не размыкаю. Вновь слышу голос безутешной утешительницы, заступницы неблагостной:
— Пребудешь с тем, кто светел и высок на фоне черноты твоей.
Так это я — та темная стена? Я облечен той мрачной плащаницей на туманном фоне? Некто коснулся век слепцов иерихонских, и те, открыв глаза, прозрели. Некто моих коснулся век, смежив их накрепко, чтоб я прозрел.
Стихает внутри волненье. И в чаше моих ладоней теперь не бурная вода Хорива, но глоток воды Кедрона, скопившейся меж двух камней. На фоне черноты моей белеет фигура в длинном льняном хитоне, подобном трепещущей и негасимой мысли. Откуда он явился моему воображенью? Не от стен ли Скуола ди Сан-Рокко? Не из той ли безжалостной руки, направившей усилья неразумных на то, чтоб вору плаху возвести?
— Здесь, после великого порыва и буйства творчества (взгляни на более чем дантовскую страсть крыльев, что переносят Увечного, и задержи в себе, покуда сможешь, хоть на мгновение, дрожь перьев, осенивших земной разлом!), здесь, после столь плодотворной ярости, мастер Тинторетто изведал облегченье и вдохновился святой зарею, когда пропел вторично петух-отступник.
Так, значит, то Иисус безмолвно стоит перед Пилатом в хитоне белом, что дал ему тетрарх, чтоб выставить на осмеянье?
А может быть — о таинство невыразимой поэзии моей! — в ночи на Масличной горе тот юноша, обвитый плащаницей, апостол безымянный, коего лишь я боготворю средь всех апостолов, тот незнакомец, что примкнул в час роковой к Одиннадцати для пополненья их числа и не смыкает глаз ни в первый, ни во второй, ни в третий раз?
— И услыхал я глас мужской, возопивший: «О Гавриил, открой ему свое виденье!»
Размыкаю веки. Мне чудится: глаза мои открылись в ветвях оливы, как будто в ней живу, ее одушевляю. Мне чудится: на веках у меня листвы серебряная бледность. Склоняюсь я и в путь пускаюсь. На одном плече несу часть самого себя, как ворох листьев. Мои движения освящены той нежностью, которую один из древних назвал воздушной. И вдруг, сомнением объятый, застываю и стряхиваю с плеч легчайший ворох. И вновь накатывает мука. Мне чудится, что кто-то должен выйти из меня. Да, кто-то изнутри вот-вот подаст мне руку, и выйдет из недр моих, и пригвоздит, как на пути помеху, и разорвет, как путы. Изнемогаю от его натуги. И вдруг теряю ощущенье той посторонней силы. Она ль во мне? Я ль в ней? Я продолжаю путь неверным шагом, и клонится плечо к земле, точно на нем уже не ворох сребристых листьев, а серый куль. Вновь обретаю время, что вычеркнул, пространство, что отторг. Да, время мчится по пятам и наступает мне на пятки, косит под корень траву и краткое мое существованье. Меня незримо облетают предметы, устремляясь к горизонту, где голубеет холм, а прошлое встает как пепелище. Небесный свод почти недостижим, и я молюсь о первой звезде, что хоть немного смогла б ко мне приблизить эту твердь. Воспоминания о детстве из сердца вылетают и тихо садятся мне на пальцы. Когда вытягивал я руку с балкона в доме матери моей, чтоб поглядеть, не моросит ли дождь, то мне казалось, держу я на ладони груз небес — не тяжелее мокрой дрожащей птахи.
Куда иду? К какой вершине? И что творится у меня внутри помимо воли?
Ищу я дом пустой, заброшенную виллу и комнату, звенящую мне в ухо пустотой, подобно ракушке из вод морских. Душа как море, чей рокот неумолчен, даже когда замрут слова в устах твоих.
Очертанья старинной виллы медицейской все чахнут на холме средь пиний, кипарисов. Вхожу. Никто не ждет того, кто ждет одних лишь перемен.
В парадной зале камин с гербами медицейскими над дымоходом; в камине ни потухшей головешки, ни горсточки золы, ни костяка древнейшей саламандры. Легкий бриз, влетев с балкона, листает страницы требника. Склоняюсь и читаю негаданное слово. О том, что Бог есть вечный возлюбленный душ человеческих: «Deus qui animarum humanarum ae ternus amator es».
Я на балконе, подпираемом колоннами светлого камня, в коем угадываю лики кариатид, сокрытые подобно нимфам в стволах древесных. И старый, потускневший фриз стены так утонченно окаймляет мою печать фестонами плюща, гвоздикой в вазах. Потертые, расшатанные кирпичи колеблются у меня под ногами. Я вижу Арно, вьющуюся меж благодушных холмов, аллею мрачных кипарисов, которые спускаются к реке, чтобы напиться не склоняясь.
Я возвращаюсь в дом. Наткнулся в полумраке на остов разбитого кимвала — он стонет жалобно. Перехожу из залы в залу с опаской, что на голову обрушится кусок лепнины. Однако же печаль моя осталась на балконе, в плену у тусклого изящества стенного фриза.
В тебе есть нежность, способная доставить мне страданья, и есть жестокость, что тщится осчастливить. И благость, призывающая смерть, и скорбь, не насыщаемая жизнью. Есть отвращенье жаждущее и жажда отвращающая. Любовь, замешенная на ненависти, и ненависть, дрожащая под бременем любви.
Кто говорит со мною в этой угрюмой зале? Неужто возле уха все рокочет морская раковина?
Меня объемлет, увлекает демон бегства. Лес гигантских пиний меня сечет. Вот оскверненная часовенка пустой глазницей сверлит одичалый сад. Вхожу. И возлагаю руки на жертвенник немой. Вдыхаю ароматы мира, а может, это запах предрассветной лесной смолы? Читаю надпись над изгибом алтаря: «Propter nos homines»[76] — и содрогаюсь. Озираюсь. Смотрю. Внимаю.
— Пребудешь с тем, кто светел и высок на фоне черноты твоей.
Бреду наугад. Оливковая роща мне предстает толпой истерзанной, смятенной. Пусть говорит с оливами душа, они поймут ее скорее, чем я понять бы мог. А я ловлю лишь клочья слов, как будто взвихренных внезапно стихшей бурей. Сгущается безлунье, но зренье не подводит меня, как слух: смотреть мне легче, чем слушать. Ночь входит в свои права. И кто-то начинает с ангелом борьбу. Нет, не Иаков, а тут, вблизи пещер, бок о бок с каменотесами — иной каменотес, по имени Сумрак Ночи. Недолго бился Иаков с тем ангелом ночным. Увидев, что его не одолеть, коснулся Некто состава бедра его. А Буонарроти бился с ангелом своим всю жизнь, с заката до восхода. И ему, как Иакову, всякий раз ангел говорил: «Отпусти меня, ибо взошла заря». И всякий раз ответствовал творец: «Не отпущу, покуда я тебя не изваял, а ты меня, да, я тебя, а ты меня».
И бьется до сих пор. За эти озерки, за эти рощи, за каменоломни бьется до сих пор. Его я видел, вижу: уперся в землю, так что ногтями подошвы продырявил, и при каждой встряске колышутся божественные перья вокруг сурового чела.
Да, ежели борьба — искусство, искусство есть борьба. Я это знаю. Мне терзаться любо. И ежели бы он меня увидел, я стал бы люб ему. Его я вижу. Опять смежаю вежды. Снова жду, прижавшись к узловатому, худому, как стан борца, стволу оливы. Как он, дышу натужно и терзаюсь.
— Скажи мне свое имя! Имя свое открой!
И в зрении, и в слухе ощущаю приметы явные бессмертного недуга моего.
— Ты тайно в грудь свою приемлешь души, объятые живительным огнем.
Дрожу от ослепленья. Внизу, в тени, белеет чей-то образ. Он жив, я знаю. При каждом взмахе ресниц вбираю жизнь его с уверенностию воды, что проникает в уста и орошает горло. Меня уж не волнуют подспудные мучения олив. Дыханье раннего тепла пронзает холодную кончину января, и где-то, в верховьях сердца, стучится доверительно и тайно приход весны. Что это за одежды? Лен не бывает столь воздушен, и не видал ни разу я, чтоб он так празднично белел издалека. Наверно, то необычайный хитон из лепестков. Он так нежен и будто делит надвое долину, а вечер — на две синевы, а благовест — на два напева, что всколыхнули покой холмов.
— Тебя узрел я прежде, чем белизна твоя вспорола сердце ночи.
В душе любовь и страх. Скрываю от растущей тьмы под веждами блаженное сиянье. Не сам направил я стопы, они ведут меня с глухим шуршаньем крыльев по сумрачному склону сна. Я — звук, два звука, аккорд извечной музыки, я — пауза средь здравиц. Я следую за собственным обманом и верую в незыблемость свою.
— Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся и не прядут; но говорю вам, что и Соломон, Давидов сын, во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
А кто теперь вещает? Не он ли, одетый в белый хитон, тот самый, что в насмешку дал ему тетрарх?
Вот я склонил колени, распростерся в забвенье на траве, щекой к земле прижался, а надо мною древо-первоцвет.
И в мире все отныне творится между деревом и мной, травой и мной, землей и мной.
Глаза даны мне, чтобы видеть, я вижу. Уши — чтоб слышать, и слышу я.
И я парю, как горная вершина в небесах, и я глубок, как корень, ушедший в землю.
Дышу дыханьем всех земных существ и мыслю за все земное.
Мне чудится, что ум мой излучает вокруг себя свеченье, как будто мысль фосфоресцирует.
И то и дело дерево в цвету дрожит, искрится рябью той, которой налетевший ветерок морщит морскую гладь; и мысль по мозговым извилинам, и кровь по жилам бестрепетным бегут, искряся и дрожа, как бы давая начало превращенью.
Я превращаюсь, перевоплощаюсь?
Ну да, я просвещаюсь. Я постигаю суть мучительной и радостной тоски. Мне явственна теперь размытость моих пределов. Едва она стихает, млеет, стынет, я узнаю великое томленье, иль возгоранье, или ускоренье присущего мне гения. Я знаю: оплодотворяет меня какой-то новый бог; я — плод усилий неведомого божества. Я знаю: как это дерево в цвету, так и в цвету душа моя. Мы оба дышим единой дрожью. Одно и то же дуновенье колышет незапятнанные лепестки и шевелит страницы книги девственной. Эта книга, она во мне; я сам — живая книга. Нечто животное с духовным вместе преобразует содержание мое и видоизменяет форму. Быть может, я догадался, как трепещет грива льва святого Марка, что держит в лапах книгу, прижав ее к груди.
Уходит ли искусство? Уступает ли место иному божеству? Но кто ж внутри меня сгущает свет, доселе мной не видимый? Я полон огня и льда, стопы мои повернуты на запад. И у меня в руках зажата книга, ее я прижимаю к груди и к горлу. Ползком передвигаюсь по траве. Стебельки протискиваются меж страниц моих, и жил, и всех волокон. Касаюсь лбом древесного ствола; сжимаю его обеими руками; терзаю, как некогда терзал плющом повитый тирс. Очами повожу направо, в пустоту. И вижу. Ах, отчего оливы так белеют, точно когорта в белых одеяньях? Я тщусь поднять навстречу первой звезде штандарт когорты, колеблемый дыханьем вечера.
При каждом дуновенье дерево «высокое и светлое» дрожит, как бы мечтая укорениться близ меня.
И ни один цветок не пал на землю.
А голос все твердит:
— Но говорю вам, что и Соломон, Давидов сын, во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
Не существует внутренней и внешней красоты; не существует красоты телесной и духовной. Мне нравится, что я, как учит Федерико Борромео, «не делаю различий». Да, для меня вся красота едина; и есть один лишь способ ее создать, что я и делаю всенепрерывно, над самим собою, вне себя — живу, дышу, и задыхаюсь, и предаю себя самосожженью. Сгорю, погибну в стремленье создать жизнь «вне» — вне смерти, вопреки всей пошлости и лести. Я сознаю, что значит перед вечной красотой этот конец моего дня, это — начало моей ночи. Я знаю, с кем я был и с кем я есть. Я знаю. Я хочу остаться здесь, преодолев свой страх. Из риска я создал свое искусство, и другого мне не надо; другому я не позволю соблазнить себя и обессилить — нет, никогда.
Я не изгоняю своего дьявола, я превращаю его в своего бога.
Я поднимаюсь. Мне дела нет, что от моих лирических затей не остается ничего — лишь разве отпечаток тела на ложе трав? Скульптура, изваянная мгновенно, что вырвалась из пекла адова и в пекло возвратилась.
Я поднимаюсь. Поднимаю брови. И устремляю взор перед собой. Стою против Иисуса; ко мне он обращает лик — нет, не из тьмы Якопо, но с открытого пространства, не с безмолвной фрески, но из-под дерева звенящего.
Надо наконец его окинуть взглядом изнутри. Надо, чтоб я как враг истолковал, расшифровал его: истолковал для самого себя и самому себе расшифровал. Надо, чтобы мое Евангелие от противника заставило меня любить его в себе и в нем себя. Я не узрю его величья, коль скоро не позволю дьяволу во мне величия достичь. Не возлюблю его, коль скоро он не совершится в молчании и я не уравняю с собой его молчанье посреди пустыни жаждущей. Хвала цветку, живущему без устали, — вот первое его слово, которое меня волнует. Его геройское, жертвенное молчанье призвано посвятить меня истинной моей судьбе. Душе отважной изначально обещано спасенье, как изначально душа унылая обречена. Коль скоро нет на свете Бога, которого ослушаться бы мог, тогда какому сонму принадлежит мой дух, которого ослушаться я не смогу вовек? Не раз я спал во храме, не раз в нем бодрствовал. Порой я говорил: «Тебя скрываю, ибо люблю». Но чаще говорил: «Срываю с тебя покровы, ибо люблю».
Вот так. Я был рожден от грека с островов и от благоуханнейшей из женщин благоуханного Иерихона.
Я с гордостью осознаю, что Александр Македонский, пересекая Сирию, и направляясь в Египет, и подчинив себе могущество столь сильных городов, как Тир и Газа, решил наведаться в Иерусалим, где иудейский первосвященник почтил его своим вниманьем и напророчил ему победы, свершив во храме жертвоприношенье.
Я видел каннелюры, что высечены на столпе Закона рукою греческого камнетеса.
Я открываю на златоцвете Палестины во владеньях Антиоха Епифана следы от твердой поступи Афины Паллады, покровительницы людского племени.
Я оплакиваю школу, возведенную царем и жрецом по эллинскому подобию: там молодые иудеи упражнялись в атлетических играх и не боялись в наготе своей запретных нечистот — напротив, стыдились, скрывали свою обрезанную плоть, тогда как даже жрецы пренебрегали службой, дабы забежать в палестру для упражнений, не Господом помазанных.
Впервые встречаю Учителя в пальмовой роще Иерихона, где вознамерился достать плоды, отяготившие вершину чересчур высокой пальмы. Место пустынное. Я слышу легкие шаги и оборачиваюсь. Иисус, должно быть, пытается избегнуть теснящейся толпы, чей рокот уж слышен издали. Гляжу. Воистину, прекрасней он всех пальмовых рощ, возлюбленных племенем Вениамина.
Набедренная повязка прикрывает мою нагую плоть; на мне прозрачная одежда, белый складчатый хитон.
— Ты кто? — он вопрошает.
И голос этот робкий будоражит мое проворное воображенье. Из легенды о младенчестве его, не знаю где услышанной и неправоподобной, я быстро сотворил свой собственный рассказ.
— Иезус, Иасон, ты помнишь, как однажды с другими товарищами игр нам удалось вскарабкаться на стену до уступа, где были солнечные часы, застывшие в преддверии полудня? Тремя отважными богами явились мы на каменном уступе. Ты головой касался колонны из железа, ломая линию тени, указывавшую время. Внезапно один из нас толкнул другого, и тот слетел, сорвался с высоты и, грянувшись о землю, застыл бездвижно. О Иезус, Иасон, тебе был предназначен тот удар, приговорен был ты. Родня сбежалась, все испускали гневные, грозные, слезные вопли. А ты, однако, остался на уступе, пронзенный линией тени и времени. К тебе, задыхаясь, поднялись отец и мать. Она спросила: «Ты его столкнул? Так это, значит, правда? Отвечай». Ты не ответил. Ты спустился с часов, безмолвный, как будто продлил собою до земли линию тени и времени, линию гномона. Склонился ты над мертвым другом, который уж больше бы не мог тебя толкнуть, окликнул его по имени: «О Алсимис, Елиасис, неужто это я тебя столкнул?» Тот вздрогнул, шевельнул губами, взмахнул ресницами, приподнялся на локте: «Не ты, Господь». О Иезус, Иасон, ведь то был я, тот юноша воскресший, что стал тебе заступником. Алсимис, Елиасис — вот он я, перед тобою.
Он смотрит на меня, а сам молчит. Солнечные часы, зарешеченные пальмовыми листьями, дрожат над нами. В моем воображенье и искушении он словно бы окутан сверкающею сетью. Меня же обуяло вдруг жгучее коварство.
— Не узнаешь меня, не доверяешь. А я так помню еще тот день, когда твоя прекраснейшая мать тебя послала по воду с кувшином. Ты шел назад, кувшин наполнив, но тут один из сверстников твоих, толкнув тебя внезапно, сосуд разбил. Тогда ты взял свой плащ, собрал туда разлившуюся воду и так вот матери принес. Я помню, как сейчас, ведь это я с тобой тогда столкнулся на бегу.
Он смотрит и молчит. И чудится мне, будто золотая сетка опутывает нас все крепче и все сильней трепещет.
— Я жажду, Иезус, Иасон. А в складках твоего хитона теперь не скрыта влага. До того, как ты сюда пришел, я собирал вот эти фиги — нелегкий труд — и вслушивался — не журчит ли где источник. И вот ты здесь. Я вспоминаю, как мать твоя Мария раз на земле Египетской решила прилечь под сенью пальмы, усеянной плодами, и попросила твоего отца собрать ей фиги. А тот все плакался: мол, слишком ствол высок, а после сетовал, что пусты бурдюки. И ты вдруг повелел, чтоб наклонилась пальма, и дерево исполнило приказ — склонилось так, как ты того желал. Затем ты повелел, чтобы корнями она сыскала несколько подземных струй. И вновь повиновалась пальма: столь свежая струя еще не орошала столь знойную пустыню. А после ангел прилетел; сломивши ветку, пересадил ее туда, в сады долины. Внемли же мне, Иасон. Вели, чтоб наклонилась эта пальма, а корень утолил бы мою жажду.
Он смотрит и молчит. Но на устах его сейчас возникнет нечто — то ли улыбка, то ли слово. А я не в силах различить, что в нем трепещет — то ли солнца блик, то ли растерянность души.
— Так ты не хочешь, Сын Человеческий, Сын Божий, мою исполнить просьбу?
И тогда он молвит, сомкнув ресницы:
— Елиасис, здесь не пустыня, а ты не голодал сорок ночей и сорок дней, как я, когда ко мне спустился искуситель.
Я отвечаю с внезапным холодом в суставах, точно внутри меня разлился неведомый источник:
— Так ты не помнишь чудес из детства своего, не признаешь воскресения своего?
Теперь, когда он смотрит, — щурится немного: я вижу у него на лбу распятье, составленное дугами бровей с глубокой вертикальною морщиной.
Он говорит:
— А помнишь ли, какой показывали час те солнечные часы, когда полоска тени коснулась головы невинной, упиравшейся в уступ?
Мгновенно, без колебаний, точно душу мою пронзила солнечная стрелка, я отвечаю:
— Девятый, о Иезус, по расчисленью раболепного народа.
И к дрожи ломаного луча добавляются смятенье и вроде рокот, стремящийся от кистей к вискам моим, неясное ворчанье, что без уст и дланей выламывается изнутри меня. Но Иисус слегка сворачивает голову, плечо, прислушивается — нет, не к моей волнуемой груди, а к кронам пальм.
— Кто звал Сына Давидова?
С той стороны пальмовой рощи к нам приближается гудящая толпа. Средь стройных стволов я вижу муравейник униженных созданий в одеждах цвета грязи и навоза, густая, безрассудная нужда, вся — руки, очи, рты. Я слышу мольбы обезображенного горя и жалобы бесформенной тоски.
— Смилуйся над нами, о Господи!
Но он стоит вполоборота к тем, кто к нему взывает. Дрожащая, светящаяся сетка спустилась на плечи, теперь уж солнце клонится к закату; я чувствую дрожащий трепет его души, чела и груди. Видно, он стыдится и добродетели своей, и всех своих деяний. Он смотрит как будто сквозь меня; пронзает взор навылет глаза мои и сердце, тогда как тень его скользнула под ногами у меня, сливаясь позади с моей, а тень моя есть продолженье его тени в неведомом, неясном одиночестве.
— Кто жизнь дает, тот должен смерть принять.
Я чувствую под веками и на глазах — которые не видят, а провидят — тень смерти, опоясавшей его. И в средоточье своих мыслей я ощущаю неоформившийся ужас, бесхребетный страх.
— Послушай. Я восхваляю жизнь, увековеченную в смерти. Я восхваляю смерть-провидицу, которая собой являет высшее рожденье.
Вершина распятья на его челе все глубже западает, туманится. Однако глаза горят из-под бровей, точно сигнальные огни.
Он молвит:
— И кто ж тебя такому научил?
— Парвати, возлюбленная моей печали, василек в моем болоте!
Ну почему душа моя вот-вот взорвется пением ликующим? И отчего шум в роще вдруг умолк и нет в ней ничего, кроме тягучей паузы, что предваряет мелодии триумф?
Сын Человеческий склоняет лик к закату и движется навстречу людям. Он не велит мне следовать за ним, и я иду его стопами.
А тень его все удлиняется, прямая и стройная, как тени пальмовых стволов. Я ступаю в тени его, и поступь меня ни разу не подводит. Среди непобедимых пальм, стоящих неподвижно, я следую за тою, что идет вперед.
— О, смилуйся над нами, Сын Давида!
Молящие как будто состоят насквозь из праха, готового рассыпаться, но прах их не сверкает в косых лучах. Целитель замирает. Тут от толпы, что вся есть очи, руки, рты, вдруг отделяется слепой и падает на колени, немой — и падает на колени, калека — и падает на колени.
Пауза в глухом ропоте, трепет души, отринувшей сеть лживого соблазна, тень наложилась на тень, безмерность тела — на безмерность духа, непознанное, неясное одиночество, поставленный предел существованью, дьявол — противник Бога, Бог — противник человека; безоружная ненависть оборотилась вооруженною любовью; вздох задохнувшийся стал Благовестом, все стволы пальмовой рощи Иерихона пророчат, все фигуры превращаются в меня — следящего, скользящего, лживого, правдивого.
Я презираю, ненавижу учеников-невеж, что неспособны его понять, ему служить: Симона по прозванью Петр и брата его Андрея, Иакова Зеведеева и Матвея, сборщика пошлин, и Симона Кананита, и прочих, даже Иоанна — прежде всех Иоанна. Я знаю тайну Иуды; и лишь его сверлю глазами, лишь его взыскую и будоражу.
— Отчего не говоришь со мной, а лишь с твоими слугами? Как могут любить они тебя? Ведь они тебя не украшают; как могут повиноваться, когда не поняли тебя? Я же украшаю и понимаю тебя тем лучше, чем более тебе противлюсь. Рассыпая слова твои, хочу я обрести твое молчанье там, где ты сам его не ищешь. — Так говорю Целителю. — Познай меня, — я говорю ему. — Горит во мне светильник вечный, божественный, и чую я божественность в себе, как если б жил я десять и десять пятилетий во храме из мрамора, слоновой кости, ливанского кедра, бронзы и злата. Порой я начинаю шипеть и дымиться, точь-в-точь как головешка, опущенная в чан святой воды. Познай меня. Я знаю, как от крови зардеет роза, как от слезы зажжется злотоцвет. Из грязной толщи слеплен твой рабский сброд! Познай меня. При свете и дыханье ветерка я легок, точно златоцветы на утренней заре иль в полдень.
Всякая притча его попадает мне в руки еще вертящейся, словно глиняный кувшин, только что снятый с круга для просушки. Я рьяно сминаю глину, вновь ставлю ее на круг и начинаю обрабатывать с терпением, достойным самосских гончаров, настраиваю ритм ногой — она-то знает мелодию оси.
Вот он окончил притчу о блудном сыне. И только слово пронзило слух толпы, едва разнесся ветер пустыни, как сгрудились вокруг Целителя калеки со всех мест и умоляют дозволить им коснуться хотя бы края его хитона.
А я в сторонке уже перелепил насыщенную глину на потребу немногим честолюбцам необрезанным; а из оставшейся леплю двух горлиц, подобных тем, обетным, что Кармил попросил у Вирсавии и благовониями оросил.
— Иезус, Иасон, — говорю я Сыну Человеческому, Сыну Божьему, который, удаляясь, проходит вместе с Дидимом, Иудой и Филиппом, — сколько чудес ты совершил для них и ни единого не хочешь сделать для меня! Ты исцелил расслабленного в Капернауме, во всяком случае, уверен, что исцелил, ты изгнал легион бесов из одержимого в стране Гадаринской, во всяком случае, уверен, что изгнал, очистил десять прокаженных в Самарии и прочих зачумленных спас от грязи, во всяком случае, уверен в том; однако ж благость души, намеренной мир сделать совершенным, ты отрекаешься воспеть?! Вот нынче суббота. А помнишь, как тогда, в субботний день, мальчишкой ты слепил двенадцать ласточек из грязи? Случился мимо путник иудейский, узрел он труд ваятеля-ребенка. И тут же он осыпал упреками и бранью мать твою, за то, что позволяет заниматься недозволенным в субботу. И твой отец хотел забрать тебя. А ты захлопал в ладони, закричал, чтоб ласточки, из глины слепленные, взмыли в воздух. И птицы тут же снялись на крыло и всех повергли в изумленье. Иль ты не помнишь: закон против закона, свет против света? Так повтори для меня чудо с горлицами из глины, что я слепил согласно ритуалу и сну блудного сына. Ударь в ладони, о субботний Господи, и сотвори так, чтоб они взлетели и уселись на алтарь для вечернего жертвоприношения.
Подталкиваемый учениками, он, не отвечая, продолжает путь свой к храму.
— Ах, так сегодня ты боишься закон нарушить, о субботний Господи?! — кричу ему я в спину, а он пытается прикрыться рукавом. — Пусть лучше искушают тебя во храме законники? Иль ты желаешь, чтобы я написал о том, имея полномочья, и косвенно просил тебя о знаке свыше?
Лучше, чтобы босой левит в льняной тунике, притворяясь справедливым, следил за шевеленьем губ твоих, чтобы поймать тебя на слове? Но я за тобою, Иезус, Иасон. Я этих двух горлиц глиняных рискну направить в Суд Милосердный, где разглагольствуют торговцы жертвами, кудахчут менялы и купцы, где горлица сидит и где елей с пшеничною мукою рядом. И им поведают живые перья смятенье шелеста, и я увижу, как хлопают они крылами о стропила кедровые. Нет, от меня вы не дождетесь угодливого страха. Буду я бесстыден, как искуситель из пустыни пред постником из пустыни. Ты идешь ко храму? Там собирается совет против тебя, чтоб возложить на тебя руки, чтобы срубить тебя, убить тебя, Сын Божий. Вступаешь в плохо освещенный храм, и смерть идет тебе навстречу, чтоб осветить твой небосвод. Вон, заприметили тебя издалека, как братья Иосифа в Дофане, и говорят друг другу: «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его» — да, так они бормочут. Я возвещаю багряный час, о Иезус, для того порфирового сосуда, в коем на бракосочетанье ты превратил простую воду в чистое вино. Внемли же мне. Все исходит от человека и к нему возвращается. Все сотворенное бренно. Ничему из того, что взаправду живо, научить нельзя. Внемли мне. Будь подобен человеку, не слагай оружье. И не сдавайся, Иезус, не сдавайся!
Глас мой похищен южным ветром, что свистит и воет и будто разносит ввечеру кровь вершителей судеб, от крови Авеля, убиенного на прямой борозде, до крови Захарии, убиенного меж храмом и жертвенником. Догадки сердца опьяняют меня, как будто Парвати дала мне пригубить из чаши своего индусского напитка. Не ведая, в каком опьянении, я вижу, как Сын Человеческий опускает рукав, прикрывающий лик его, вскидывает голову, выпрямляется на пятках, как в пальмовой роще Иерихона, напоминая пальму, что шествует непобедимо; затем он властным жестом отстраняет сторонников своих, он отдаляет их от себя и делается выше, оставшись один; и так, один, он входит в храм, пламенеющий, дымящийся, бурлящий.
— Срываю с тебя покровы, ибо люблю.
Мое бесстыдство ему приносит жертву вечернюю. В глине чувствительной, что наполняет пригоршни мои, я ощущаю, как снова умирают две горлицы Вирсавии.
Теперь я не могу его покинуть. Те Двенадцать уж для него ничто, как и Одиннадцать. Он одинок, без всевиденья, без всемогущества, без чар и без чудес, один, с душой героя в хрупком теле, один, с неумолимым бессмертием своим в предсмертном теле. И только я, последователь его, привязанный к его тени, лишь я есть безрассудный ученик без имени и голоса, прикрывший нагую плоть льняным хитоном. А может, плащаницей?
Теперь уж не Паллада, а смерть мне видится защитницей людей.
И вот тень смерти нахлынула на Сына Человеческого, внезапно, точно облако на вершину Моава на склоне лета.
В нем дух волнуется, словно вода в купели Вифезды; когда нежданный ангел ее волнует своею трепетной красой, и скопище калек становится одною язвой вопиющей под пятью порталами.
Как на окраине пальмовой рощи Иерихона слепец из Вифсаиды, так каждый из несчастных вопиет к нему:
— Помилуй меня, Господи, Сын Давидов!
У них одежды цвета навоза и грязи. Они как будто состоят из праха, не успевшего еще рассыпаться в могилах. И, как женщина-хананеянка в стране Тирской, каждый вопиет к нему:
— Помилуй меня, Господи, Сын Давидов!
Они видали у того же храма калеку лет тридцати восьми, что, излечившись, взял постель свою и пошел в дом свой. И впрямь ли они видали того Гамула из Эммауса, который здесь напрасно ждал до старости движения воды? Неужто слыхали, как он ответил на чудотворный вопрос: «Так, Господин, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
Теперь же самые злосчастные твердят:
— Так, Господин, но не имею человека! Так, Учитель, но не имею человека! Так, Сын Давидов, но не имею человека!
Ни один крик не повторяется столь долго; и он пронзает сердце того, кто обещал царствие небесное во искупленье жизни на земле. И нет у них человека — ни братьев, ни сестер, ни детей — нет у них ничего, кроме их бед, их лохмотьев, ложа их боли и дыханья, чтобы воззвать и быть услышанным.
— Не имею человека!
Развязывают, распахивают, срывают они с себя одежды цвета грязи и навоза, обмотки, потники.
И ужас заразной плоти здесь обнажается, как корча корней, как раскол камней оцепенелых, как трещины на выжженной земле.
И возглас прокаженного исходит из язвы, в которую слилися нос и рот, под складками ужаснейшего снега, покрывшего лицо.
Слепой же на ветру невзгод почуял, как его потухшие зеницы стали сигнальными огнями маяков погожей ночью, о да, как темной ночью маяки, зажженные на башнях порта.
Глухонемой же кричит глазами, и молит, душу держа в горсти, и слышит костями черепа.
И вся плоть наказана пред лицем того, который несет в себе свидетельство извечной благодати.
— Не имею человека!
Все одиноки, все — скорченная боль, безбрежная тоска пред Сыном Человеческим; дабы исполнилось пророчество Исайи, дабы взял он на себя все их увечия и язвы.
Все одиноки, словно тот, Гамул. Ему подобно, все преумножали годы ожиданья, все старались, и истощались их надежды.
О, сколько ждали родичи единокровные, и ожиданье отторгали, как отторгли свои обмотки, и отреклись, и погребли в забвенье.
— Кто мать моя? Кто мои братья?
Теперь тот люд лиет в сторонке слезы, их утирая лохмотьями.
И скопище болящих вопиет едино слово голосом единым перед лицем могущего, что ничего не может:
— Господь, Господь, нет, не имею человека. Ты излечил Гамула, излечи же и меня. Ты сможешь, коль захочешь.
Едва же изнуренный у колонны хмурит чело и прячет среди пальм тот крест, что образуют брови с глубокой вертикальною морщиной, вдруг воцаряется пред храмом божественная тишина.
И он, как некто, что стыдится добродетелей своих и предает забвенью собственное имя, не ведает, что возвещает звезда его небес — день или ночь.
Кто ж царствует в царящей тишине, как не безмолвный самый?
Крик оборвался, и неизбежное присутствие затмило всю прочью власть. Труп больного водянкою полощется в воде у каменных ступеней. Он — в зараженном водоеме; он тоже одинок, и у него нет человека.
Но давит он, как рухнувшее бремя, вновь себя затаптывает, нудит, как всякий, кто возложил свой груз на плечи иль на шею, равно как груз греха, равно как иго смерти.
Здоровью положен круг. Живительный источник замутнен.
Елиашив, сын Адайи, метнулся, чтобы первому войти, и пал, чтоб боле не подняться, и здесь же умер.
И тут, меж камнем и водой, полощется он, лежа навзничь, раздутый, как бурдюк из бычьей кожи, с глазами, остекленевшими на мертвенном лице, как жухлый лист, с губами, отверстыми от жажды неутолимой в вечности.
Его накрыла облачная тень.
— О Сын Человеческий, Сын Божий, воскреси его! — кричит среди молчанья мужской голос. — Позови Елиашива! Позови его!
Но Сын Человеческий не в силах воскресить умершего. Идущий на смерть не в силах воскресить уже умершего. И незачем его напрасно звать. И он молчит, бездвижен в молчанье, столь же непререкаемом, как и молчанье раздувшихся останков меж камнем и водой.
Он одинок. Все одиноки.
— Не извлечет Господь ноги мои из сети, что скрытно поставили они для меня.
Он мучится в догадках сердца моего, он мучится в стремленье узнать свою кончину, узнать, как он окончит дни свои.
— Господи, рука твоя найдет всех врагов моих, десница твоя найдет всех, ненавидящих меня. Не скрой от меня лица твоего!
Он одинок, так быть должно. И ненависть вдруг вырвалась из чрева храма, схватила камни, чтобы побить его; он уклоняется, он отступает, скрывается на Масличной горе, гнездится в горе своего горя. Он одинок, так быть должно. Я не иду за ним. И боль его простерта со мною вместе от востока до запада. Это последний сон мой на возвышенности Акравимской.
— Я видел одиноких, смеющихся над болью в колючем терне и волчце, и понял я, что слушают они изреченную боль Господню, откровенную и вечную красоту.
Так молвит мне Парвати в маленькой хижине Агры, где сокрыта ее благость, как благость ибиса в папировой клетке. А я смеюсь над теми, кто тщится узнать земной предел и измеренье времени. Я оглушен тем грохотом, что эхом отдается во всем существе моем; подобно раковине морской, я полон далей и веков, полон фигур и тайн, я полон горизонтов и лабиринтов.
Кто еще вчера на берегу Иордана, на краю пустыни Иудейской, в долине той уединенной, в чащобе ив и тамарисков, окропил водой свои худые плечи?
И из каких глубин веков спустился на берег Ганга тот искупитель, чтоб окропить себя, очистить свою смертную оболочку от мрачных знаков слишком долгой и кровавой борьбы, чтоб опуститься на колени, и вперить в небо взор, и к смерти воззвать, и умереть пронзенным стрелою, и быть подвешенным на дереве злодеями на растерзанье коршунам?
Парвати молвит:
— О вода, освященная пятью благовоньями и молитвою, из моря ль, из реки, из ручья ль, из болота, иль из купели течешь, чиста, чтобы меня очистить, ты — суть жертвоприношенья, ты — исток свободы!
Из дальнего далека прислала она немного воды своего Ганга в небесно-голубом кувшине и, чтоб сохранить, напоила ее мастями и благовоньями.
А в темном узкогорлом кувшине прислала несколько глотков напитка, что вызывает бред, и вдохновляет оракулов, и вселяет божественное забвение в души девственниц, приверженных святилищу.
А с ними прислала свой цвет жасмина, что сверкает, подобно ее зубам, благоухает, как ее дыханье; она его выкопала в маленьком саду Агры и скрестила со смоковницею, что растет в Иерусалиме, многие ее считают древом терпения святого, другие же — безумия святого.
Парвати молвит:
— Свет моего сада, отдели от сикомора одну из твоих веток, самую гибкую, и обвей меня, как прежде обвивал.
Прежде она была одной из жриц в священной пагоде — поддерживала жертвенный огонь, и танцевала перед святой повозкой, и пророчила в забвенье, забвенье навевая нищим и ничтожным.
Ей ведомо, что тяга к божественному, страсть к забвенью, и жажда спасения, и жертвенный порыв к обновленью перепахали глубокие недра ее страдающего племени до того, как пастух египетский и пастух иудейский повели первые стада свои, до того, как дочь фараона наткнулась на корзину, сплетенную из тростника, до того, как Фивы семивратные, и Фивы стовратные, и Афины победные, но без эгиды, и Рим триумфальных арок, и Вавилон с его хрупкими стенами были основаны полубогами и царями.
— Скажи мне, Парвати, слышится ли до сих пор вдоль Ганга твоего плач Александра? И жив ли там до сей поры тот скорбный, бедный люд, что не желал богатством обладать и что раскапывал могилы своих умерших на пороге своих лачуг, и украшал их, и молился под сенью бога своего?
Парвати молвит:
— Я верую, что слышно до сих пор, как царь того народа ответствует Двурогому: «Могилы есть наши двери, пороги жизни истинной, пределы света и тени». Я верую, что слышно до сих пор, как он ответствует Двурогому: «Нищета ведет нас все дальше и все выше, туда, куда нет доступа твоим суетам». Я верую, что слышно до сих пор, как он ответствует Двурогому: «Ты смущен, Искендер? Насытился ли ты блаженством мира? Ты сыт? И на который из этих голых черепов похож будет твой череп, Искендер?» Двурогий сжимает в объятиях его и приглашает: «Иди. Пойдем со мной. Оставь со мною царство и блага всей моей огромной славы». А тот ответствует: «Довольно мне лишь того блага, что моя молитва дарит моей душе убогой. Спешу тебя оплакивать». И Великий плачет великими слезами.
Я думаю о Масличной горе, что кажется далекой, как самая далекая вершина в веках, как та гора Похищенных певцов. Ни часа настоящего, ни часа будущего больше нет. Мой дух — вечеря мудрых, созванных из недр сознанья моего. И ежели не плачу я, то потому, что знаю: есть во вселенной плач, вобравший боль — не той чета, что выразилась в страданье плачущего. И видится мне Александр, склонивший на левое плечо главу под львиной гривой, и влажен взгляд его.
И что-то неведомое трогает меня. И мысли, что теснятся со всех сторон, из всех времен, мне стягивают разум, как сандальи на ступнях женщины, уставшей от воспоминаний. И вопрошаю душу я свою: тот свет, что воссиял в лице людей, ослаб иль стал ярчее?
— Парвати, твои власы не трепещут ли под ветром, что веет издалека? Твое чело не тяготит венец, его не увенчавший? Я сплю, а ты не спишь? Иль мне привиделось, что ты спала? И что тебе приснилось?
Парвати молвит:
— Мне снилось, что кто-то связал мне ноги тетивою лука и танцевать заставил. Мне снилось, что кто-то зашил мне губы алой нитью, из крови вытканной, и петь заставил.
Я жажду того, что в ней незримо, и вопрошаю:
— А что за мысль тебя томит?
Парвати молвит:
— Я думаю о нашем святом, что львиц ловил и заставлял доить их, а после приказывал собрать то царственное молоко и разливал его по стеблям тростника, чтоб напоить всех жаждущих.
— А что еще за мысль томит тебя?
— Я думаю о зеркале, которое повесила себе на спину на двух тесемках, свиставших с плеч, когда служила в пагоде, с тем чтобы образ божественный мог видеть пред собою рвенье молящейся толпы. И поступь моя была подобна шагу той, что никогда колен не размыкала и двигалась бесшумно, не оступаясь, не пошатываясь. Все для того, чтоб зеркало ни разу не солгало, чтобы ничто не замутило истинность его.
Она прекрасна, как прекрасны очи, прежде чем из них изольется первая слеза, прекрасна, словно грусть вечерняя, прежде чем дыханье веспера ее коснется.
— О лотоса цветок, о василек из моего болота, как можешь ты ковать мою бронзу листом столь нежным и столь хрупким?
Моя тоска как будто растворяется в чуть слышном пенье.
— Азия, Азия, ты, что носишь прах веков, как семена без счета, ты, что хранишь все страхи и надежды бытия, ты, что прикрываешь свою тайну золотом ресниц, и ни один еще завоеватель мечом железным не смог сломить печати той!
Жизнь столетий пробуждается и клокочет: в душе ли страждущего? Иль в горле жаждущего? Десятый вал, мощнейший, обширнейший, меня настиг и накрывает, топит, сокрушает. Как может человек родиться там, где взвихряется могучая волна?
— О Парвати, сердце мое смешалось с музыкою моря: не того, что омывает Содом и Энгадди, а того, что омывает Делос с Лесбосом. О жизнь, люблю тебя!
И молвит женщина:
— Люби ее. Чем жизнь к тебе жесточе, тем больше ты ее люби. Любовь сладка, и самое ее коварство слаще всего на свете, кроме разве смерти, что освещает надежды живущих, смерти, что дарит свет, и человечьи руки более часа не в силах удерживать тот свет.
Наверно, я ее люблю. Она богата и новыми лучами, и древним ароматом. И втрое тяжелей одной из душ моих, той, что любит: оттого, что она бессмертна, бессонна, бесслезна. И чудится, как стонет чей-то глас во мне: «О Боже, будь я лишь человеком, будь доволен тенью, угнездившейся в плоти моей, будь закован во тьме сердец и внутренности, так не получил бы от тебя права на воздаяние!»
Парвати приближается. И вдруг протягивает мне фиал, наполненный напитком исступленья.
— Ты истомлен печалью. Вот, выпей глоток и позабудь о всем, опричь своей возлюбленной печали. Нет на свете духа сильнее дуновения весны. Позволь мне краешком листа моего лотоса выковать красную твою бронзу. Люби меня. Заклинаю тебя тем тайным чудом, что ласточка вершит под моей застрехою!
Отталкиваю ее фиал; беру ее губы.
Все вокруг нас так мягко, нежно, все — ненасытное блаженство. Вот подошвы ее сандалий, тонкие, как виноградный лист. Вот кофр, в котором ее белила, масти, благовонья. Вот факел из сердцевины тростника, покрытый пеленою восковою. Вот флейта и ее футляр из древа благовонного. Вот переметная сума, в которой хранятся все сорта семян для огорода. А вот кимвалы из благозвучного самшита. А вот коробочки для специй и отдушек. Вот утренний челнок, что просыпается и вместе с ласточкой стрекочет. Вот покрывало девственницы-жрицы, которое однажды ночью она нашла развешенным на ветвях бергамота, и ей почудилось, что серебристый свет его затмил сиянье полнолунья.
— Присядем в тени смоковницы.
Чтоб выйти в сад со мною, выбрала она два самых своих прекрасных одеянья: наряд танцовщицы священной, как будто хранящий в складках таинство движений, подобное превратностям светил небесных; и наряд святой певицы, в котором словно бы застыло дыхание молитвы.
— О пламя, что вбираешь жертвы аромат, что гнешь железо, как лозу, что пылаешь в безумии плясуньи, и в жилах загнанной газели, и в сильных руках сплетенных!
Она в моих объятьях, в тени смоковницы, что скрещена с жасмином. И на мгновенье перед очами предстает фигура богача Закхея, начальника иерихонских мытарей, что на смоковницу залез, дабы лицезреть пришествие Иисуса. Листва трепещет и вздыхает от забвенья, держащего меня в плену.
Во сне Парвати рвет тетиву, что стягивала ей лодыжки, но не затем, чтоб танцевать. И вырывает алую нить, стянувшую ей губы, но не затем, чтоб петь. За ними во сне же следуют и оба ее наряда.
Солнце клонится к острову, куда слетаются кормиться горлицы, куда забрел в скитаньях блудный сын. Из-за ограды пламенеют верхушки судных ворот. Красивые чернеющие тени избороздили зарево Голгофы. Маленький кирпичный дом, папировая клетка для ибиса как будто обескровлена, вся в сгустках. Слышен лишь грохот двух потерянных сердец у двух заблудших пчелок.
Скорей, Парвати шепчет; затем вдруг испускает вопль, похожий на хриплое рыданье; отпрянула и сжалась; пытается прикрыться своею наготой, вся напоенная багрянцем зари, стыдливости; теперь она лишилась и третьего наряда — тени смоковницы.
Спустилась ночь. Закончена вечеря, открыты окна в долину Кедронскую. Но на столе еще раскиданы пресные лепешки и травы горькие, пустые и невыпитые кубки, кости агнца пасхального и косточки плодов подгнивших, и все еще хранит трусливый, спертый воздух отпечатки ленивых локтей, сальных мешков, тяжесть утроб, тьму челюстей, медлительно жующих.
Я рыскаю, ищу, как пес бездомный и голодный. Без колебанья и без оболыценья. Ведь я все время подсматривал под окнами за их вечерей. В разбитой миске нахожу краюху обмакнутого хлеба. Это частица того, кто благословил умершего, частица его тела. А в кубке вижу глоток вина — то капля его крови. Беру и ем. Беру и пью.
Выхожу. Иду к Кедрону. И на бегу хитон мой как крыло, надутое тревогой. Скрываюсь в саду. Я есмь самый болящий из стволов олив, пустивших корни в выжженную землю, там, где гомонят ученики, пасущиеся на Пасху. Я стражду вместе с одиноким. Капли с его чела струятся по щеке моей; сгустки его отчаянного пота мне в глотку проникают.
Еще ужасней и мучительней ночь пробужденья спящих. Хитон мой пуст, изодран в руках вооруженных, но в нем свидетельство достоинства, что несравнимо с их мрачным лепетом. Великая срамная тишина меня связала с великой жертвой, подобно каплям и сгусткам пота с чела его.
Сын Человеческий теперь безмолвствует. Лишь смотрит — и ни слова. Лишь терпит — и ни слова. Сжимает кровавые, потресканные губы — и ни слова.
Нет, неправда, он не пошатнулся, не побледнел и не склонился до земли под тяжестью креста. Неправда, что Симон, Кирена житель, подставил плечо свое под крест, тем самым облегчив судьбу героя. Неправда, что Иоанн, презрев опасность, при кресте распятого стоял; что ученик женоподобный к нему привел хор плакальщиц.
Вот он проходит перед лачугой Агры, перед глинобитным домом, пред садом со смоковницей. В забвенье выходит женщина, спешит к нему и покрывалом, сорванным с ветвей бергамота, утирает пот и кровь с чела; затем протягивает ему кувшин с напитком. Он качает головой, кривятся губы. Идет вперед по склону. Безмолвствует.
О, если б он заговорил, о, если б голос сравняться мог с безбрежностью, с кошмаром агонии его, все люди попадали бы в пыль, и рухнули бы храм, и тюрьмы, и чертоги Маккавеев и Ирода, и башня Силоама, и усыпальница Давида, и вскрылись бы гробницы.
Ни слова. Неправда, что сказал он: «Отче, прости им». Неправда, что к злодею обернулся и отозвался на его слова. Неправда, что мать препоручил трусливому ученику. Неправда, что попросил напиться, поддавшись неумолимой жажде; неправда, что гнет мучений исторгнул из груди его сомненья крик; неправда, что на шестом и на седьмом словах прорвалось его натужное дыханье, последнее великое дыханье, взлетевшее преодолеть границы пустынь и бездн, небес и лет. Нет, ни одно из тех семи словес не произнесено, не внято. Лишь молчанье, одно молчанье, что от рожденья человека и до свершенья человека воплощено в величье жертвы, да, лишь молчанье достойно Посредника. Клянусь вам в том.
А римские легионеры еще страшнее иудейских рабов взирают на распятого Посредника снулыми воловьими глазами, те воины, что дрались под водительством Помпея против пиратов-мучеников и донесли до Тибра Марсова образ Митры, святого гения зари восточной.
Один из них, щетинистый и грязный, как козел, ему пронзает ребра железным острием копья.
Кровь и сукровица обдали меня струею. И сила внезапная ко мне взмывает по склону Голгофы, где печально меряю шагами землю — в отчаянье, что крыл лишен. Я повергаю подлеца на землю, топчу и вырываю из рук его копье. Скрываюсь в темноте меж вспышек светильников.
Острие того копья есть первый лист для будущего лавра.
О канун оружья и души в лачуге Агры, в доме из красных кирпичей, подобии свернувшейся крови, однако же радушном приюте для звонкой ласточки, — о, о тебе я умолчу! Я в тишине тебя миную, о мой великий предрассветный час, соединяющий свод звездный с расколотой землей, час боли моей геройской, ты творишь божественную радость на земле.
В тени Парвати задерживает жизнь свою, становится воздушной, невесомой, тает, как тогда, когда носила за спиной правдивое зерцало, предваряя небесный образ. В руке у ней все тот же лотос, а на колене покоится край того листа, что ради любви изваял мою бронзу из трех неведомых металлов.
Стоим в тени, молчим и не касаемся друг друга. Перед нами на ветвях бергамота трепещет покрывало; на нем следы от пота и крови. Мы оба застыли в рассветной белизне.
На коленях у Парвати дрожит листок, который вторит дрожи покрывала и на котором любовь как будто воскресила желанный образ. Да, мы оба трепещем не дрожью двух сердец разъединенных, но трепетом совсем другого сердца. А в комнате закрытой неужто от света покрывала заря взошла?
— Он поднимает веки, мир освещая. День отделяется от ночи, и все живое воспряло духом.
Я выхожу. А женщина загадок и наваждений в тени задерживает жизнь. Меж нами нет ни расставания, ни слез. И на коленях у нее остался трепещущий лист лотоса. Со мною же уходит кровавый лавра лист на острие жестокого копья.
Переступил порог, в ночь возвращаюсь. Еще рассвет не занялся над Иерусалимом. Из пяток поднимается мне в грудь та сила Голгофы, не превращаясь в неутомимое крыло, но повергая меня в бег, в тревогу, в неведомую даль. Каким путем идти? Тем, что уже открыл в страхах, и пытках, и покушениях рабам мятежным законник беззаконный с главою овна, сверкающей от жреческих обманов?
Я покидаю город, обагренный кровью, пропитанный зловоньем. Иду на юг, к пустыне, меж Иудейских гор и Мертвого моря, к Идумее, к аренам Сура, к местам, где перемены не связаны с мученьями, к местам, где от скалы к скале проверенной, измеренной тропой карабкаются люди к Богу, а Бог нисходит к людям.
Иду я тьмой ночною, рассветом, зарей, полуднем. Не мешкаю. Уж я познал Победу, что, запыхавшись, мешкала, дабы поправить сандалью на лодыжке, склоняя свою эгиду.
Одолеваю жажду; я — деспот своей жажды и не посмею от нее погибнуть. Ищу я свой источник, а из чужого не стану пить. Утес мой не в Хориве, нет, не в Хориве, где беснуется толпа. Не с посохом взберусь на свой утес, а с этим вот копьем, что жжет мне сжатую ладонь, что вырезает на моей ладони сеть знаков роковых.
Неужто острие сего копья — не первый лист для будущего лавра?
II. ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
…Disspavit substantiam suam, profuse vivendo.
Было у человека два сына. И звали их Елиуй и Кармил; и жили оба в отчем доме, взрастая в юности беспечной, подобно кедрам у родного порога. И пока старший помогал родителю подсчитывать коры пшеницы, младший ловил лис и лисенят, чтоб не портили их виноградника в цвете. И пока тот помогал родителю подсчитывать барыши от торговли, этот подглядывал за наемными работницами, что раскладывали в горшочки мед, нардовую мирру и шафран и приправляли песнями да смехом душистую свою работу.
Приходили к отцу его должники, приносили множество батов масла и коров пшеницы, а юный Кармил глядел с балкона, как стекаются долги их в обширные житницы и в глубокие точила, но при этом не упускал из виду полноводной реки, что, разливаясь по долине, обильно орошала окрестные земли.
Любил он эту реку, и грезилось ему, что исполнит она однажды все его заветные желанья, даст лицезреть цветущие края, далекие, неведомые города, превратит безжизненные его богатства во всякого рода живые увеселения.
Потом спускался он в сад и плел венки из самых свежих цветов, украшая ими наполненные точила и житницы — как видно, в знак своих неудержимых мечтаний.
Как-то раз сказал ему Елиуй, брат его, застав за странным таким занятием:
— О Кармил, зачем тебе все это?
А Кармил, уже познавший речь скорых на язык купцов, что почитали бога Гермеса, сказал в ответ:
— Затем, чтобы за плодом ты не позабыл о цветке, о Елиуй. Работая в полях, помни о садах.
Осердился Елиуй и сказал:
— Тогда как я служу отцу нашему, ты не ведаешь иного, о Кармил, как бездельничать на балконе или в саду. Я слежу за работниками и считаю баты с маслом и коры с пшеницей, а тебе бы все розы нюхать!
На что Кармил, усвоивший обхожденье купцов заморских, отвечал:
— Чего серчаешь? Или не видишь, как благодаря моему искусству твое богатство улыбается тебе?
И впрямь, тяжелые двери житниц, похожие на темницы, украшенные венками, точно улыбались, точно из них, из тех цветущих обручей лучилось блаженное богатство, подобно тому как внутренний свет изливается из очей.
И надо было случиться, что женщина, сбежавшая с невольничьего судна, что проходило мимо по реке, нашла прибежище в богатом доме и упросила хозяев принять ее в число тех наемных работниц, что раскладывали мед и благовония по горшочкам; в той напоенной ароматами зале и увидал ее Кармил.
Как матка пчел своих, так всех работниц она превосходила красотой. И как пчелы, жужжа, наполняют соты, так и эти женщины наполняли горшочки с пением, дабы не поддаться сладкому дурману ароматов, которые навевали сон. И в слиянье голосов голос чужеземки звучал нежнее прочих, а двигалась она так плавно, словно исполняла какой-то заученный танец. И с того дня во всем — в бурленье ручьев, в изгибах стеблей, в колыханье занавесок — виделись Кармилу движения ее прекрасного тела.
Звалась та женщина Лиддою и рождена была на острове, куда слетаются горлицы. Волосы ее были так светлы, что Кармилу поначалу казалось, будто мед, который капал с перстов ее, струится по ланитам ее. А глаза у нее были голубиные, как небо в полуденную жару. А уста ее были знойные, как плоды мирта, и Кармил любил смотреть, как из них бесшумно вырывается дыханье.
Однажды предстала она распаленному юноше среди цветущих роз. Ни слова не говоря, скинула она тунику и открыла ему сосцы, подобные набухшим, пламенеющим бутонам. И такой хмель, будто на затянувшемся пиру, ударил ему в голову, что готов был Кармил тотчас же бросить к ее благоуханным ногам все богатства, скопленные за долгие годы отцом его. Внимая, как таинству, стуку сердца беглянки, унесся он грезами по манящим водам реки к морю. Изнывая в любовной истоме, как в сладостный миг смерти, он слушал отдаленный рокот никогда не виданных волн.
Остров, куда слетаются горлицы, предстал ему тогда осененным тенями синими от ресниц; под ними же узрел он белоснежные города, рассыпавшиеся по берегам извилистых бухт, узрел прекрасных юношей, и доступных женщин, и статуи, и пенящиеся ритуальные кубки, и роскошные одеяния, и мягкие ложа, на которых под пение вечных гимнов пребывали в сладостном соитии обвитые венками мужчины и женщины, покорные власти богини, той самой, которую Лидда именовала Афродитою.
И сказала ему Лидда:
— О Кармил, а ты не хочешь ли поклоняться Афродите? Кто не видал ее лица, тот не знает полного счастья. Далеко-далеко она стоит и смеется под колоннами храма, открытого морским ветрам.
И сказал Кармил:
— О Лидда, я хочу с тобою поклоняться Афродите, а ежели позволено мне будет, то и тем, кого ты именуешь Харитами и у кого златые веретена, и всему прочему, что услаждает взор и сердце человека.
И поднялся он, и предстал перед отцом своим, и сказал:
— Отче, дай мне следующую мне часть имения.
Отец его был мудр, он не смутился, не осерчал, а позвал к себе старшего сына и сказал:
— О Елиуй, брат твой просит дать следующую ему часть имения.
И сказал Кармил с улыбкою:
— О Елиуй, ухожу я свивать венки в других садах. Хочешь отправиться со мной?
И сказал Елиуй:
— Нет, пусть тебе другие сопутствуют. Я остаюсь служить отцу.
И сказал Кармил:
— Будь счастлив, брат. Пусть много батов масла войдет в твои точила и много коров зерна — в твои житницы, и пусть никакое приказание отца не будет для тебя тяжкой обузой. А я привезу тебе издалека необычайный подарок.
И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав все и наняв судно, отправился с женщиною-островитянкой вниз по реке к морю, над коим владычествовала богиня, которую Лидда именовала Афродитою.
Вознеся на родине Лидды хвалы богине, взложив на жертвенник ее множество пар горлиц, узрел Кармил белые города с храмами, где к алтарям стекались толпы блудниц. Познал он и священный пот, омывающий тела во время соития, и таинство ритмических движений, ведущих к апогею сладострастья. Открыл все тайны, изведал все утехи. И рука его всегда была щедра: подстилал он пурпур под томно изогнутые спины, швырял золото к стройным ногам, летал к любовницам на конях, взнузданных ветром, и на триремах, что обгоняют чаек. Богатство на краткий срок сделало его царем. И возжелала богиня Афродита прежде, чем он станет нищим, оказать ему последнее свое благорасположение, и завела напоследок в город Элевсин, куда сбирался на торжественное празднество весь люд той страны. И там, в толпе, на берегу моря узрел он глазами смертного блудницу, прекраснейшую из прекрасных, что прозывалась Фриною, и развязала она пояс, и сбросила одежды, и распустила волосы, и предстала нагая восхищенному взору толпы, и вошла нагая в волны, и плескалась там, обласканная безудержным смехом богини, коей нравилось вот так являть свое присутствие смертным.
Вот какое зрелище увидел Кармил, прежде чем стать нищим. И в тот же самый день отправился он в порт и поднялся на судно, готовое к отплытию; и пустился он к берегам Азии, назад в свою землю, и в докуке дальнего путешествия утешало его душу виденное в Элевсине диво, что возникало вновь и вновь в остающихся за кормою пенных бурунах. Но едва судно стало на якорь, он, расточивший в скитаньях все до последней драхмы, вспомнил об отце, о брате, о процветании отчего дома, о полных житницах, на дверях которых развешивал он некогда венки из свежих цветов, о комнате, напоенной ароматами меда и мастей, и смеющихся женщин.
Ныне остались скитальцу лишь лохмотья да маленькая глиняная статуэтка Афродиты, что дала ему Лидда при слезном прощании. И он начал нуждаться и пошел нищенствовать, но тем прокормиться не мог, ибо настал великий голод в той стране. И пристал он к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
И вот сидел он как-то у подножия дуба, бледный как мертвец, и все прижимал к груди священный амулет из глины, дабы согреть сердце, объятое стужею. И думал он о доме, оставленном ради женщины-беглянки, и о груженом судне у речного причала, и об искрящемся звонком море, и об острове, куда слетаются горлицы, и о величии храмов, и о неге постелей, и о бренности наслаждений.
Чувствуя смертный час, воскресил он в памяти брата, что пересчитывает наполняющие точила и житницы баты с маслом и коры с зерном, принесенные должниками. И молвил:
— Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих.
Встал и, оставив свиней пастись, повернул стопы к отчему дому. По дороге питался он кореньями, пил из ручьев, и стоило присесть передохнуть, как думалось: не встать ему более. Кожа его иссохла, кости размягчились, живот весь подвело, будто ядовитый змей изгрыз всю внутренность его. И все же продвигался он вперед, точно лист, гонимый ветром.
И увидел он вдруг, уже приближаясь к отчему дому, волов на обильных пастбищах, и овец, и ослиц, и верблюдов во множестве, и ведра, доверху молоком налитые, и ульи, ломящиеся от меда. И признал он дом каменный, и сени с толпящейся прислугою, и высокие балконы, откуда в былые времена глядел он на реку. И заметил издали отца, в задумчивости сидящего на пороге; волосы его совсем поседели. И сжалось сердце в груди у сына, и сдержал он крик, боясь показаться на глаза родителю. Но увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему:
— Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим:
— Принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое.
Он сказал ему:
— Брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Елиуй осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
Но Елиуй сказал в ответ отцу:
— Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Отец же сказал ему:
— Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что сей брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
И Елиуй вошел и целовал брата, но не было легко у него на сердце.
И сидел тут Кармил на почетном месте, одетый в лучшее платье, чистый и благоуханный; а одна из служанок умащивала ему бальзамом ноги, израненные дальнею дорогой. И будто бы он смыл с себя в теплой купальне весь позор, всю вину свою, ибо имел он вид именитого гостя, что улыбается пирующим, но даже с какою-то надменностию, словно некто, чья жизнь всегда была полна изысканной роскоши.
И поставил он пред собою полный кубок и созерцал его, прежде чем испить, привычный сперва блага вбирать глазами, а уж после устами.
И, повернувшись к брату своему, который не сводил с него пристального взора, сказал ему:
— О Елиуй, тот мастер, что отлил этот кубок, глух был к музыке. В дальней стороне я пивал из кубков, на кои довольно взглянуть, словно были они выплавлены из любви самой, каковую изливает цитра под умелою рукою. И мгновенно становились они любы благостному сердцу, и так сладко было, прежде чем пригубить из того кубка — равно осыпать лепестками розы их совершенную красу, как голову красавицы, что может поцелуем наполнить забвеньем душу.
И сказал ему Елиуй не без укора:
— Отчего ж ты не привез с собой, о Кармил, из дальней стороны тех золотых кубков, кои так любы твоему сердцу, а тот, что подносят тебе в отчем доме, презираешь?
И сказал Кармил:
— Так ведь они же хрупки, о брат мой. — И, прикрыв глаза, осушил залпом свой кубок.
А как завели певцы пиршественный напев, он прислушался, желая оценить красоту аккордов, но, видно, не ласкали они слуха его. Затем сделал он знак главе певцов, чтоб перестали играть, и сказал ему:
— Тот, кто сложил эту музыку, никогда не ведал счастья. Надобно тебе настроить голоса и инструменты на иной лад. Я научу тебя. Я слыхивал в дальней стороне такие напевы, что возвышали всякого так, будто он есть царь всего рода человеческого. Никогда прежде не заносился я в своих думах столь высоко, никогда столь великие надежды не волновали сердца моего. Каждую весну новые песни перелетали вместе с ласточками от острова к острову. Никакое судно, груженное несметными богатствами, не встречали в порту с такими почестями, с какими встречали новую песню. Одна мелодия запала мне в память, о Елиуй, и я научу ей главу певцов, чтоб он благостными звуками потешил отцовскую старость.
И сказал Елиуй:
— О Кармил, ты, как видно, учить нас сюда приехал.
И сказал Кармил:
— Да, брат мой, могу и поучить, коли желаешь.
И сказал Елиуй:
— Так, стало быть, твои суда скоро прибудут к нам по реке, груженные такими диковинами, коих мы и не видывали?
И сказал Кармил:
— Суда мои потонули, но память о тех диковинах, коих ты и не видывал, во мне осталась.
И сказал Елиуй:
— А помнишь ли, о Кармил, как на прощанье ты мне посулил необычайный подарок?
И Кармил в ответ лишь улыбнулся лукаво. А после пошарил он под складками одежды, у самого сердца, и сказал:
— Вот что я припас для тебя, о брат мой.
И вытащил на свет маленькую глиняную статуэтку Афродиты, которую всегда носил возле сердца с того самого дня, как оставил Лидду для новых увеселений.
Показав ее всем, точно святыню, сказал он словами чужеземного гимна, что рвались из его горячего сердца:
— О Елиуй, то образ нетленный божества, что люди из дальней стороны нарекли Афродитою, богини плодородия, из пены морской рожденной; любит она веселье, и мягкие ложа, и венки, и пляски, и втайне милует, и зажигает буйные желанья в сердцах племени людского, и птичьего, и звериного, и подводного; она дает начало всему, мать видимых и неделимых тяг, ночная, воздушная, цветущая, благоуханная, непобедимая; волосы ее — чистое золото, брови изогнуты, смех звонок, на голове фиалковый венец; о, та богиня слаще меда и ярче пламени. И вылепил ее из глины мастер по прозванью Автомед. Многие годы она меня хранила, воспламенила кровь мою и наделила нежной силой, что продлевает наслаждения на ложе. И посейчас врачует она мои истерзанные члены от долгого пути, дарит забвение от понесенных невзгод, и препоясывает силою чресла мои, и зажигает в очах сиянье жизни новой. Ее-то, о брат мой, я тебе дарю. Но прежде, чем ты ее получишь, желаю принести неизъяснимой богине жертву вот с этого щедрого стола.
И наклонился он к служанке, что умащивала его ноги бальзамом, ибо почувствовал в пальцах ее любовный пыл. Склонился и сказал ей:
— Ступай и принеси мне двух горлиц и чан с благовониями.
И поднялась служанка, и пошла, и поймала двух горлиц, и предстала с ними и с благовоньями перед лицом Кармила, который на нее тем временем взирал.
И сказал он, на нее взирая:
— Хочу послушать, как звучит имя твое.
И она сказала ему в ответ:
— Вирсавия.
Она была девой во цвете юности, быстрой, как лань, трепетной, точно струна; а с перстов ее еще капал бальзам, коим она врачевала раны его.
И сказал ей Кармил:
— Как нежны твои персты, о Вирсавия.
И погрузил он горлиц в благовония, а после отпустил их, и несмело они вспорхнули над столом, касаясь чела пирующих влажными перьями, и все щедрое застолье оросили благоуханными брызгами. Но краток был их полет: отяжелели перья. Терпкий аромат оборвал паренье крылатых жертв.
Протянула руки Вирсавия, чувствуя, как уходят из них силы, ибо принесла она в жертву самых любимых своих птиц, и умирающие горлицы укрылись на лоне той, что выкормила их пшеничною мукою и маслинами.
И сказал Кармил:
— О Вирсавия, ты избрана богиней.
И в сердце своем возжелал эту деву для своего ложа.
И сказал он брату:
— Вот тебе мой подарок, о Елиуй.
И протянул руку. Но Елиуй не сказал ни слова и не шелохнулся; и все пирующие застыли в безмолвии.
И встряхнул плечами Кармил, и спрятал образ под одеждою, возле горячего сердца. И при гробовом молчании застолья сделал знак главе певцов, дабы зазвучал напев, что некогда услышал Кармил из любвеобильных уст во граде, прозываемом Митилена — цветущая ветка на стволе моря.
III. ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
19. Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura, et bysso; et epulabatur quotidie splendide.
20. Et erat quidam mendicus nomine Lazarus, qui jacebat ad januam ejus ulceribus plenus,
21. cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis.
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
И было всего вдоволь в богатых его домах и в пышных его садах; и были дома его полны наложниц и певцов; и были сады его полны плодов и цветов благоуханных. И каждый день пробуждался он к жизни, точно цветущий край, готовый к будущему процветанию. И каждый день пробуждались, подобно звонким источникам, все новые желания во плоти его.
И любовался он то стройными формами колонн, которые возводил зодчий перед входом в дом его; то сильными и красивыми ногами пращника, коими тот упирался в землю, перед тем как метнуть орудие; то стремительным, молниеносным, точно огонь, подгоняемый западным ветром и травы пожирающий, бегом борзых псов по полям.
Подобно царям мидийским и персидским, повелевал он умащивать тела наложниц своих ароматными маслами и каждый день требовал, чтоб составляющий масти изыскивал новый аромат в цветах, древесных смолах, железах животных. Но когда летний ливень внезапно омывал жаркую, иссушенную землю, безмолвно, прикрыв веки, вдыхал он этот свежий запах земли, позабыв на этот миг о женских ароматах и золотых горшочках с притираниями.
Любил он также застолья, дневные и ночные. И подавали на стол ему лучшие яства в драгоценной посуде; и сласти, которые так долго томились на огне, что неразличим в них был вкус отдельных плодов; и вина, пробуждающие в крови те древние легенды, что изображены на кубках; и все те диковины, неодушевленные с виду, чью скрытую благодать способен оценить лишь самый изысканный вкус. Повара его кухонь умели извлечь из туши убитого зверя нежнейшую мякоть, притаившуюся в толще мышц, словно второе сердце, и, подобно певцу, настраивающему орудие музыкальное, знали точно, сколько следует держать ее на огне и чем приправить. Однако же случалось ему спрыгнуть вдруг с коня и напиться соку из древесной коры иль уподобиться простому пастуху, высасывая сотовый мед и запивая родниковою водой, зачерпнутой пригоршнями.
Он ведал истинное наслаждение благодаря тонкой чувствительности, каковая со всего тела стекалась к оконечностям перстов и изливалась наружу, как изливается свет из лампы алебастровой. Желая продлить это наслаждение, не раз повелевал он рабам вводить к нему наложницу, укутанную сотней многоцветных покрывал, подобно редкому плоду, который долго надо очищать от кожуры; и покуда снимал он один за другим все покровы, нарастала в нем сладостная дрожь, и персты, предвкушая жар женской плоти, добирались постепенно туда, где ощутимо райское блаженство. Однако и песок на морском иль речном берегу, ржавый и шершавый, точно львиная шкура, либо светлый и рыхлый, как шкура оленя, либо серебристый, как овечья шерсть, и теплый, как все они вместе взятые, тоже немало приятствовал босым его ступням.
И не только при звуке флейт и гимнах певцов трепетало в груди его сердце, но с тем же чувством внимал он и звонкому ржанью и хрипу, вырывающемуся у породистых его коней, когда конюхи спешили засыпать подогретого овса в бронзовые ясли.
Мог он и одаривать щедро, и плакать, и убивать, и придумывать пытки, и порождать в тишине мудрые мысли. Так, подарил он красивое, быстроходное и хорошо оснащенное судно неизвестному юноше, одиноко созерцавшему с берега далекий горизонт.
И вот однажды восседал он за столом на открытой галерее, обращенной к садам, а по обе руки его сидели две наложницы, избранные из трехсот, именами Адония и Эласа. И там же были певцы, и певица, и мальчик-абиссинец, чья черная кожа была натерта маслом и оттого сверкала, как эбеновое дерево.
Адония клонила набок голову, зачарованная звуками, ибо музыка всегда завладевала ее томной душою, как ветер завладевает податливым огнем. И персты ее, поднесенные к устам, напоминали золотые ости в маковом венчике; и вся жаркая нега летнего дня как будто вплетена была в пышные ее волосы.
Эласа же вдыхала аромат сладостей, стоящих перед нею на роскошном блюде и словно тающих в расплавленном янтаре. Полуобнаженные груди ее румянились — каждая, точно луна, выплывающая из-за холмов, — а тело все лучилось, как светильник, сквозь дымчатую завесу одежд.
А как умолкали певцы, слышала Адония цокот копыт и хриплые крики, от коих билось сердце ее, ибо знала, что там, внизу, под галереею, прекрасный юноша, коновод Талмон, укрощает необузданного коня.
Слышала и Эласа цокот сей и крики, билось и у ней сердечко украдкою, ибо сила и краса Талмона походя оставили в душе ее след глубокий и жгучий, какой оставляют на ниве ветры из Ливийской пустыни.
А сиятельный господин обращал то на одну, то на другую свою наложницу ласкающе-жестокое око, ибо и ему внятно было желание, воспламененное в рабской их крови. Про себя он уж положил натешиться ими в последний раз и умертвить обеих, и любо было ему взирать на обреченные их прелести.
Обеих осыпал он лестью и похвалами любовными и говорил:
— О Эласа, Эласа, никогда еще не была ты столь прекрасна и желанна, как в этот час, о Эласа. Сосцы твои сверкают, как луна, встающая над поросшими травою холмами. Уста твои как сотовый мед. Очи твои подобны гаваням царства, куда прибывают суда, груженные винами, и зерном, и ливанским кедром, и нардовой миррой, и киннамоном.
Обеих осыпал он лестью и похвалами любовными и говорил:
— О Адония, Адония, никогда еще не была ты столь нежна, гибка и благоуханна, как в этот час, о Адония. Гибка и нежна ты в волнах музыки, как прутья ивы в хрустальном ручье. Губы твои как невысказанное слово, косы твои как знойный лабиринт. Очи твои подобны гаваням царства, когда прибывают туда заморские посольства под мачтами, что расцвечены флагами, трепещущими на ветру.
Встревожились наложницы, услыхав такие речи, ибо видели они, что очи его подобны царскому чертогу, где возжжены все факелы, кроме одного, возле коего не дремлет палач.
И стихла музыка, и снова сказал он, напрягая слух:
— А Талмон-то обуздал коня своего.
В галерее и в саду на несколько мгновений воцарилась глубокая тишина, как в чреве музыкальных орудий, не тронутых ничьею рукой. И смолкло все в сиянье солнца, как перед божеством, рассылающим во все концы света полуденный ветер, дабы похитил он пыльцу невиданных цветов. И слышно было, как треснул в саду слишком спелый плод граната возле отцветшего венчика (ибо то был сезон гранатовых яблок).
А сиятельный подумал о женщинах, коих еще не знал, ибо в этот час везут их на верблюдах через пустыню для ложа его, и о дереве альгуммим, что наемные торговцы обещались достать ему для нового ложа. Древо то никогда еще не видывали в сей стороне, а в дальних краях, говорят, делают из него гусли.
Сказала Адония:
— Кто это плачет там у ворот?
Сказала Эласа:
— Да, кто это молит там у ворот?
И залаяли псы.
И повелел господин черному мальчику:
— Выдь посмотри.
И пошел мальчик, и отпер ворота, и псы перестали лаять, и снова послышались жалобы и стоны.
А был то некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его.
И сказала Эласа:
— Это нищий там издыхает.
Обе они с Адонией, как увидели человека в струпьях, отвели ясные очи и содрогнулись в чистой плоти своей.
И сказала Адония черному мальчику:
— Дай хлеба ему и закрой ворота.
Но богатый господин сказал:
— Нет, мальчик. Пусть войдет он и приблизится. Хочу, чтобы и он изведал ныне блаженство.
И привел мальчик нищего к столу. И была плоть нищего как жухлый лист на осенней лозе, с которой сняли уже все гроздья. И опустился он без сил на зеркальный мрамор, и псы, рядом стоя, его не трогали, и женщины от него отворачивались.
И спросил богач, от него не отвернувшись:
— Кто ты таков?
И отвечал нищий:
— Я Лазарь.
И спросил сиятельный:
— Откуда же ты взялся, Лазарь?
И отвечал нищий:
— Из праха разоренных городов.
И спросил сиятельный:
— Чего же надобно тебе, Лазарь?
И были то слова царя, готового одаривать щедро.
Но отвечал Лазарь:
— Дозволь мне, господин, напитаться крошками, падающими с твоего стола.
И были щеки его бледны и впалы, как след в золе, и тень смерти лежала на веждах его, и видно было, когда говорил он, что уж ничего живого не осталось на нем, кроме десен его. И душу свою убогую держал он на ладони руки своей.
И сказал ему сиятельный:
— Наполню я блаженством и счастием уста твои.
И тут же повелел черному мальчику, чтобы поставил перед ним самое изысканное кушанье в самой дорогой посуде. И повиновался мальчик, и поставил пред оголодавшим золотое блюдо.
Но не смел Лазарь коснуться руками своими изъязвленными царской еды. Возлежал он, точно слепец, и слезы катились из очей, и мнилось: дух уже не держится в нем, ибо голод высосал всю плоть его и опустошил кости его, как шомпол опустошает ствол духового ружья. А борзые псы, что сгрудились вокруг него, в мгновение ока сглотнули кушанье с золотого блюда.
И сказал богач:
— О горе тебе!
И повелел мальчику, чтобы подал тому самого лучшего вина в кубке драгоценном. И повиновался мальчик, и протянул нищему сверкающий кубок абиссинского топаза.
Но столь сильно дрожали руки Лазаря, что кубок выпал из них на мраморный пол и разбился; и пролилось душистое вино под ноги псам.
И опять сказал сиятельный:
— О горе тебе!
И повелел черному мальчику, чтоб нашел для него сирийское платье и дал надеть. И повиновался мальчик, и вернулся с одеждою узорчатой работы, и дал ее в руки нищему.
И сказал богач:
— Ну, вставай же, Лазарь, и одевайся в красивое платье.
И поднялся Лазарь, но, одеваясь, наступил нечистою подошвой на тончайшую ткань, и та разорвалась с визгом, похожим на щебет ласточки.
И сказал тогда сиятельный:
— О горе тебе!
А по саду тем временем проходил коновод Талмон, ведя в поводу взмыленного коня. И господин заметил и подозвал его, взяв одною рукою за локоть Адонию, а другою Эласу. И вздрогнули женщины, ибо увидели они, что очи его подобны царскому чертогу, где возжжены все факелы, кроме одного, возле коего не дремлет палач.
И сказал сиятельный:
— Приблизься, Талмон, со своим конем укрощенным.
И приблизился Талмон со своим конем, у коего было звонкое копыто и крутая шея; и, улыбаясь, трепля его густую гриву, сказал коновод:
— Видишь, господин, в руках у меня кроток он стал, как ягненок.
И бахвальство своею силою стерло печать рабства с чела его.
И стоял выпрямившись Талмон меж двух столбов, и лицо его пылало, и струился по челу пот, как у борца, и воистину прекрасен он был. А конь дрожал от страха при виде нищего, покрытого ступьями. И породистая кровь, как негасимый огонь, играла в его жилах. А жилы шейные сплетались с жилами крупа, подобно нервам его.
И сказал сиятельный, отдыхая взглядом на славном животном после струпьев нищего:
— Ты получишь заслуженную награду, о Талмон. Пойди сними с коня путы, коими ты его взнуздал, и принеси их мне тотчас. Я жду тебя.
Сказал так, ибо зародилась уже в голове у него мысль, а наложниц своих все держал под руки: при виде коновода вздрогнули они от желания, теперь же дрожали от страха, что пробирал их до костей.
И, продолжая речь свою, сказал он Лазарю:
— О Лазарь, раз язык твой не умеет отличить яств от нечистот и ни кушаньем, ни вином, ни одеждою не смог ты насладиться, желаю я проверить, способен ли ты вкусить любви. Отдаю тебе моих женщин.
И вскричала Адония:
— Что задумал ты, господин?
И вскричала Эласа:
— Господин мой, что ты задумал?
И задрожали еще пуще и ударились в слезы, и вся плоть их наполнилась ужасом при виде изъязвленного.
И рыдала Адония:
— Не ты ли сказал, господин мой, что нет для тебя никого нежнее меня?!
А Эласа:
— Не ты ль говорил, что сосцы мои сияют для тебя, как луна?
Но не внимал их плачу господин и бестрепетно срывал с них одежды.
И молила Адония:
— Не напускай на меня эту порчу, господин, неужто я тебе больше не нравлюсь?!
А Эласа:
— Лучше кинь меня псам своим, господин, пусть разорвут меня на куски!
И сказал сиятельный:
— Вот идет Талмон и несет прекрасные свои путы, о Адония, о Эласа.
И пришел коновод, и принес длинные пурпуровые постромки крепче самого крепкого аркана.
И сказал сиятельный нищему:
— О Лазарь, этих женщин я любил, теперь они твои. Совокупися с ними.
Вот так властно изрек он мысль свою.
Тогда мальчик-абиссинец расстелил на мраморе ковер, и был на него брошен Лазарь, и две рыдающие наложницы были брошены на него, повитые путами коновода. И был Лазарь точно жухлый осенний лист меж двух ярких гроздьев виноградных.
И сказал сиятельный главе певцов, желая перекрыть крики наложниц:
— А ну, сыграйте-ка мне песнь звонкую.
Но женщины и без того не кричали больше и не вырывались: должно, ужас их сковал. А черный мальчик покрыл ложе пытки их багряницею. И тени от колонн все удлинялись, ибо солнце клонилось к закату.
И сказал сиятельный:
— А ты ступай со мною, Талмон. Желаю наградить тебя по-царски.
И удалился с юношей в сады, к тому тайному месту, где работал ваятель родом из Греции, именем Аполлодор, и ваял он такие статуи, что у человека при виде их омывалась душа росою забвения.
Став на пороге и оборотившись к коноводу, сказал он с улыбкою:
— Слишком красив ты, о Талмон. Но бренны красота и молодость смертного. Жизнь, что владеет красотой твоею, пробежит скорее челнока. А я желаю, чтоб вечным оставалось твое совершенство. Вот тебе моя награда.
И взошел он и сказал ваятелю:
— Вот этот юноша обуздал сегодня бешеного коня. Он столь же силен, сколь и красив, он достоин, о Аполлодор, чтобы ты увековечил его в чистой бронзе.
И эллин в восхищении смотрел на азиата, что собирался воздать бессмертные почести простому юноше, укротившему коня. И вспомнил он священный город Олимпию на берегах реки Алтей, осененной платанами, и торжественные Игры, и статую, им изваянную, в честь знаменитого атлета, именем Псавмид, коего великий Пиндар превознес в своем крылатом гимне. И предстал ему во всем великолепии смеющихся богов полуостров, изрезанный, как лист шелковицы, рассекающий море надвое.
И продолжал сиятельный:
— Отдаю тебе, о Аполлодор, этого смертного юношу, с тем чтобы сделал ты его бессмертным.
И, как в комнате трещал огонь, расплавляющий металлы, отвел он ваятеля в сторону и сказал ему:
— Сумеешь ли ты вживе сделать с него слепок, бронзу растопив, как топишь воск?
Засим сказал он коноводу:
— Ты больше не раб. Твоя красота вступает в вечность, о Талмон. На бронзе твоей освящу я путы укрощенного коня.
И приставил к нему стражу для охраны.
Уходя, думал он о таинственном счастье, коим наполняют статуи сердце человеческое, так что может всякий наслаждаться ими, не испытывая плотского желания. А как стал он взбираться на башню, дабы поглядеть вниз на землю и на море, не показались ли вдали караваны Сивы и корабли Фарсиса, кои должны были скрасить жизнь его новыми радостями, нагнал его черный мальчик и сказал:
— Ангелы спустились к нам во двор и на крыльях своих вознесли нищего на небо, а один из них остался. Он там, рядом с мертвыми женщинами, и лицо у него пылает.
Не поверил господин таким чудесам, но все же направил стопы к дому своему. И был вечер, и звезды рассыпались мириадами по своду небесному, и цветы ночные распустились в садах, точно чары ассирийские, и столь сокровенна была тишь вокруг, что слышно было, как ходит рыба в водоемах.
И сказал мальчик, объятый страхом:
— Видишь ангела, мой господин?
И впрямь узрел господин небесное создание, ибо и впрямь расслабила сердце одного из посланцев Божиих красота Адонии и Эласы, что лежали тут нагие и бездыханные, и лучились опаловым блеском тела их.
А колонны на галерее, ангельским светом осиянные, стали прозрачны, точно хрусталь, а багряница сделалась белоснежною. И ослабли путы, ибо промеж них не было уже Лазаря, коего ангелы вознесли на лоно Авраама.
И сказал богач небесному созданию:
— О посланец Божий, будь благословенна для тебя крыша моего дома! Все, что имею, отдаю тебе, коли пожелаешь жить со мною в домах моих.
И ангел рек ему в ответ:
— Пребуду с тобой, дабы насладиться тем, что имеешь ты.
И пали с плеч серповидные крылья его, будто обрубленные невидимым мечом, пали, будто листва в лесу, бесшумно. И затрепетали на земле близ женщин, нагих и бездыханных, всеми перьями своими, и вспыхнули последним светом, и остались лежать потухшие.
Сказал тогда сиятельный:
— Попируем же, посланец Божий, взвеселимся теперь, когда освободился ты от крыл своих. Идут ко мне караваны Сивы и корабли Фарсиса с женщинами, конями, одеждами, винами и смолами ароматными, со всем, что радует и красит жизнь человека.
И устроил он той ночью великий пир с музыкой и плясками. И открыл он небесному созданью путь ко всем земным утехам. И с той ночи повсюду в счастливой жизни его сопровождал тот ангел бескрылый. А был он прекрасен — не чета Талмону, — подобен царственной деве, лишь на плечах его два шрама багровели и жгли, отчего все неистовей стремился он к неописуемому земному блаженству.
И оставил богач того ангела наследником, ибо умер он, не вполне насытившись отмеренными ему днями.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его.
И, возопив, сказал:
— Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
Но Авраам сказал:
— Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.
Тогда сказал он:
— Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
Авраам сказал ему:
— У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их.
Он же сказал:
— Нет, отче Аврааме, но, если кто из мертвых придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему:
— Если Моисея и пророков не слушают, то, даже бы кто и воскрес из мертвых, не поверят.
Но он сказал:
— Если я пойду к ним, поверят. А к тебе приведу и того ангела, что унаследовал богатства мои. Молю тебя, отче, пошли меня к ним.
И возжелал он вновь воскреснуть и обрести, хоть на короткий срок, благословенные богатства свои. Но Авраам не ответил ему, а Лазарь возлежал нем и бездвижен на лоне у Авраама, одетого светом.
И сказал он:
— О Лазарь, помнишь ли, как положил я для тебя изысканное кушанье на дорогом блюде, а ты не посмел его коснуться, и псы под носом у тебя вмиг его проглотили. Горе тебе, что не отведал ты того вкуса!
Но Лазарь оставался нем и бездвижен на лоне у Авраама.
Тогда сказал он:
— О Лазарь, помнишь ли, как поднес я тебе душистого вина в драгоценном кубке, а ты обронил кубок и разлил вино? Горе тебе, что не познал ты силы того напитка!
А Лазарь оставался нем и бездвижен на лоне у Авраама.
И сказал он:
— О Лазарь, помнишь ли, как подарил я тебе платье тончайшей сирийской ткани, узорчатой работы, а ты разорвал его, наступив ногою? Горе тебе, что не испытал ты нежного прикосновения легкой ткани той!
Но Лазарь оставался нем и бездвижен на лоне у Авраама.
И сказал он Лазарю:
— О Лазарь, помнишь ли, как возложил я тебя с двумя женщинами, избранными из трехсот, на прекрасный ковер? Как возложил тебя с Адонией и Эласою, точно жухлый лист меж двух виноградных гроздьев, а ты умер, и ангелы вознесли тебя. Вспомни, о Лазарь, как стройны были члены их — даже один из посланцев Божиих ими соблазнился! И умерли они. Горе, горе тебе, что не насладился ты ими!
И вздрогнул Лазарь на лоне Авраамовом.
И сказал он:
— О Лазарь, воспою я в вечности блага, коими ты не насладился. И языки пламени адова станут моими гуслями.
Тогда пламя, его объявшее, и вправду зазвучало, как огненные гусли; и запел он, перечисляя и прославляя блага жизни.
И пел он так:
— Вот видели очи мои все это, слышали уши мои все это, вкушал язык мой все это, чуяли ноздри мои все это, осязали персты мои все это, и плоть моя всем этим насладилась!
И блага, порожденные памятью его и напевом его, сообщали изменчивому пламени все свои причудливые формы; и вот уже караваны Сивы и корабли Фарсиса достигли той области с роскошными грузами своими. А песнь о счастливой жизни все лилась нескончаемо.
И встал Лазарь с лона Авраамова, дабы послушать песнь о счастливой жизни сей, и, слушая, приближался. И вскоре ступил он на край пропасти.
А тот, кто предлагал ему блюдо, и кубок, и платье, и любовь, тот богач, тот сиятельный, вновь возопив, говорил ему сквозь гул изменчивого пламени, в коем звуками его напева пробуждались формы и движенья бесконечной радости, вновь, возопив, говорил ему:
— Горе тебе, Лазарь! Горе тебе, что напитался ты разве крошками! Вот очи мои видели все это, уши мои слышали все это, язык мой вкушал все это, ноздри мои чуяли все это, и вся плоть моя исполнилась блаженства!
А Лазарь, словно бы забывшись, потянулся за той блистательной тщетою и низвергся в великую пропасть.
VI. ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ
Quinque autem ex eis erant fatuae, et quinque prudentes.
Десять дев, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.
Шли они по садам благоуханным, поначалу в молчании, одна за другою, зорко следя за огоньками, что дрожали в фитилях светильников чеканного золота, уподобленных горлицам; и складки легких одеяний их, колышемых шагами, напоминали взмахи многих весел, рассекающих море благовоний, переливавшихся из-за ограды на дорогу, как вино переливается из кубков на столы.
Пять дев шли впереди, ибо поступь их была проворнее: Махалафа, Иезавель, Фамар, Азува, Иедида. Они несли в руках лишь зажженные светильники; и только Иезавель, у коей волосы на голове были как пурпур, несла с собою еще псалтирь десятиструнную.
Остальные же пять поотстали, ибо клонились набок под тяжестью кувшинов, что держала каждая в руке своей, в то время как другой рукою поддерживала ярко горящий светильник; наполнили они кувшины чистейшим оливковым маслом, дабы не угасло неверное пламя. И имена этих мудрых дев были: Гомер, Ходеша, Орфа, Афара, Иеруша. Опасаясь не догнать подруг, их опередивших, воззвали они к ним. А те, смеясь, оглянулись; звонкий смех их разнесся в воздухе, подобно весеннему дождю, сотрясающему серебристыми струями молодую листву.
Сказала Гомер подругам, внезапно ощутив в сердце девственном укор веселости той:
— Вольно же нам тащить с собою эти тяжелые кувшины! Не лучше ль было пойти на пир без такой обузы? Видите, как отстали мы от них? Они первыми явятся пред женихом, когда прибудет он со свитою, и лучшие места отведут им за столом.
Сказала Иеруша:
— В конце те окажутся достойнее, чьи светильники дольше будут гореть. А как погаснут наши светильники, нечем нам будет их заправить и поддержать в них огонь до глубокой ночи.
Сказала Орфа, глядя в просвет меж крыльев золотой горлицы, что сверкал не хуже хризолита:
— Оливковое масло прогорает быстро, а ночь еще не наступила.
Но неразумные девы всё смеялись, и по временам примешивался к смеху звон псалтири, чьи струны, задетые случайно, играючи, как бы воспевали гармонию и грацию желанного девства, коему сумрак был божественным покровом.
Сказала Иезавель, у которой волосы были как пурпур:
— Слышите голос Афары? Слышите голос Ходеши? К нам они взывают, чтобы мы обождали их.
Сказала Фамар, чьи губы подобны были виноградинам, напитавшимся жаром солнечных лучей:
— Постоим тут под деревьями. Может, и гранатовые яблоки уже поспели. Видите — отягощены ветви, как никогда.
Сказала Махалафа, благоухающая миррою, повесив на ветку свой светильник:
— Вот одно смеется, показывает свои гранатовые зубы.
И от светильника озарился в листве царский плод, коим украшают храмы; и впрямь сквозь трещину ранней зрелости проглядывал частокол темно-красных кораллов.
Иезавель, Иедида, Фамар и Азува также повесили на ветви светильники и принялись собирать плоды. Обнаженные их руки, жадные и проворные, сквозь светящуюся листву казались крылами, что трепещут возле свитых гнезд.
Но когда от жадности насбирали они уже сверх меры, сказала Иедида:
— А в чем же понесем мы этакую гору?
И ответила ей Фамар, ссыпая плоды в подол своего платья узорчатой работы:
— Я в подоле понесу, а ты возьми мой светильник.
И наполнила подол до краев. А Иедида взяла два светильника.
Нагнали их мудрые девы и, запыхавшись, сказали:
— Для чего награбили вы столько плодов? Не боитесь разве, что сердитый сторож вас здесь настигнет?
Добытчицы в ответ лишь рассмеялись, направляясь к кипарисовой роще. И шла впереди Фамар без светильника, неся в подоле спелые плоды, глядя на первые звезды, что зажигались тут и там в небесных кущах.
А как дошли они до кипарисовой рощи, то остановились все и взглянули в ту сторону, откуда должен был прибыть жених со свитой певцов. Но ничья тень не появлялась с той стороны, но ни звука оттуда не слышалось. Тогда взглянули они сквозь стволы древних кипарисов, как в просвет меж колонн, и увидели за рощею дом, белеющий, как снежный холм, с дверями из кедра на золотых петлях; и двери те вели в летнюю трапезную, где приближался брачный пир.
Сказала Гомер, поставив у подножия кипариса свой кувшин с маслом:
— Замедлил что-то жених. Надобно подождать.
Сказала Иезавель:
— Присядем вот тут на скамьях и будем ожидать. А едва покажется он вдалеке, выйдем ему навстречу двумя вереницами, как в танце.
И сели все, кроме Фамар, а та ко всем подходила и угощала гранатовыми яблоками.
Но мудрые девы не тронули угощенья, ибо желали сохранить уста в чистоте для брачного пиршества. Сидели они строго, безмолвно, и каждая прижимала к себе свой светильник и свой кувшин с маслом; сидели, подперев ладонью подбородок, поставив локоть на колено, и взирали, не покажется ли долгожданный. А извилистая линия холмов на горизонте была безмолвна, как эти недвижные уста.
Сказала Фамар, разломив самый сочный плод, словно ларец сирийский, полный драгоценных каменьев:
— Воздадим хвалу Господу, даровавшему нам плод сей, самый прекрасный из всего, что породила земля. Восславьте со мною Господа за бесценный дар его!
Сказала Азува:
— Это любимый плод Господа в доме его. Разве не сделал Хирам царю Соломону в доме Господнем сетки плетеной работы для венцов, вылитых из меди, которые были на верху столбов, и не положил разве на венцах рядами кругом по двести гранатовых яблок, чтобы покрыть венцы, которые на верху столбов?
Сказала Иедида:
— А еще сделал Хирам цепочки, как во святилище, и сделал сто гранатовых яблок и положил на цепочки.
Сказала Махалафа:
— И не восхвалял ли царь Соломон ланиты невесты, и не говорил ли: как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими?
И тронула Иезавель перстами, окрашенными соком гранатовым, струны псалтири. А четыре девы устами, влажными от пьянящего сока, сочащегося из раздавленных зерен, запели псалом Господу Богу Израилеву.
Так пели они:
1. О Господи, прими дар добровольный уст моих, что наслаждаются творением твоим.
2. Дивно знамение, которое возложил ты на ладони рук моих для наслаждения моего.
3. Возблагодари, душа моя, благодать Господню, что питает сладостью язык твой,
4. ибо от цветка огненного создал он гранатовый плод, святилищу подобный,
5. и разделил он цвет гранатовый на две половины, как святилище разделено надвое завесою из яхонтовой ткани, на коей изображены херувимы,
6. и на обеих половинах устроил он столько отделений, сколько было вокруг храма скрижалей каменных, сулящих погибель нечестивым,
7. и сколько столбов возведено было для приношений во дворе Израилевом.
8. И равное число избрал он для святилища и для плода, покрытого оболочкою.
9. И явил он свою мудрость и величие в той и в другой постройке.
10. Благослови Господа, душа моя, ибо сотворил он это чудо для твоих очей, для твоих уст и для твоих дланей.
11. И во дворе Израилевом воздам тебе по обету не сиклями, не горлицами, не деревом, не благовоньями, не золотом, но соком гранатовых яблок моих.
Так пели они. И проснулись от пения того необычайного стаи голубей и горлиц, что расселись спать на кипарисах; и возмутило трепетанье перьев без числа черные кроны дерев над головами дев сидящих.
В благословенной тишине, воцарившейся после пения, сказала Ходеша, внезапно поднявшись на ноги:
— Вот, жених идет!
И все тогда взяли светильники и поднялись на ноги, глядя в ту сторону. Но ничья тень не появлялась с той стороны, но ни звука оттуда не слышалось.
И сказала со смехом Фамар:
— Заснула ты, что ли, Ходеша? Видать, сон забрался под вежды твои. Так спи же, спи, Ходеша.
И вновь уселись девы и опечалились; и смотрели, как блещут созвездия в глубинах Божиих.
Но вскоре великое сияние озарило твердь небесную, соединившись с дыханием жизни их. Разливалось блаженство в тишине ночи, подобно тихому морю цветов неукорененных. С древних кипарисов, чьи ветви отягощены были птицами, спустилась тончайшая завеса сумерек, тоньше, чем покрывала языческие с острова Кос. И слышались по временам трепет крыл и прерывистое воркованье, точно журчала вода из садового источника, наполняя купальни.
Пробормотала Иезавель невнятные слова, склонив лицо, сном размягченное, на спящие кудри и виском уткнувшись в резную слоновую кость, что прижимала она к груди своей. Светильник, возложенный у ног ее, бросал отблески на узорчатые сандальи, и на струны псалтири, и на камни берилла, вставленные в золотые гнезда на поясе ее. И, как роза, росою напоенная, уста ее отверстые дышали покоем.
И все девы одна за другою задремали и уснули вслед за Иезавелью. Поначалу дыхание их перерывалось вздохами, затем же стало ровным, словно ритм, отбиваемый главою певцов. Легла на лица их печать неведомой дали, той, куда сны увлекали невесомые души их, как будто благословенная смерть, поднявшись из глубины вод бездвижных, запечатлела свой поцелуй на устах дев. Горели светильники у ног их, возле края одежд их, подобно бессмертным светилам на верхушках кипарисов. А время тянулось, точно перерывы между псалмопениями.
Но в полночь раздался крик:
— Вот, жених идет. Выходите навстречу ему.
Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
Сказала Фамар:
— Ах, потух светильник мой.
Сказала Махалафа:
— Ах, угасает светильник мой.
Сказала Иедида:
— В моем ни капли масла не осталось.
И Азува с Иезавелью то же самое сказали. И раскаялись, ибо слышали вблизи звуки музыки.
Другие же заправили светильники свои маслом, что принесли в кувшинах, готовые и радостные в лицах.
Неразумные же сказали мудрым:
— Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.
А мудрые отвечали:
— Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
Сказала Азува:
— Ночь темна. Где будем мы искать продающих масло?
Но мудрые, не отвечая им, отправились навстречу жениху, грядущему со своею свитой.
Сказала Иедида подругам своим, что отступили в тень со светильниками потухшими:
— Что же делать нам теперь?
И прошел жених с головою, обернутою дымчатым покровом, сквозь который блистали очи, точно драгоценные каменья, оправленные в перстень. И следовали за ним факелы, и звуки, и ветви мирта и пальмы, и благовония. И вся свита двинулась меж кипарисов к дому, что белел в глубине, точно снежный холм, двинулась к дверям из кедра на золотых петлях, ведущим в летнюю трапезную, где приближался брачный пир.
А Иезавель, и Махалафа, и Иедида, и Фамар, и Азува с того места, где прежде задремали они, смотрели, как входит жених на брачный пир, а с ним пять невест с возжженными светильниками. И двери затворились.
Сказала Иедида:
— Что же нам теперь делать?
Сказала Фамар:
— Пойдем постучим у двери, пусть жених отопрет нам. На пиру столько факелов возжженных, нет нужды, чтобы и наши светильники сияние излучали.
И пошла она по кипарисовой роще, наполненной трепетом птичьих перьев.
Сказала Иезавель, у коей волосы были как пурпур, Иезавель, что на псалтири играла:
— Нынче и горлиц любовный хмель объял.
А Махалафа, благоухающая миррою, вздохнула о том, кого любила душа ее.
И подошли они к запертым дверям, большим и светлым, из кедра, на золотых петлях. И стали стучать в двери светильниками погасшими и возопили:
— Господи! Господи! Отвори нам.
И услышали они шаги возле дверей, и возопили все вместе:
— Господи! Господи! Отвори нам.
Он же сказал им в ответ:
— Не знаю вас.
И взмолились они:
— О Господи, отвори нам.
А он:
— Истинно говорю вам: не знаю вас.
И услышали они, как удаляются шаги от дверей, и донесся до них сквозь кедровое дерево гул пиршественного веселья; и прислушались, не признают ли в нем голоса мудрых подруг своих.
Сказала Иедида:
— Какое-то место отвели им на пиру?
Сказала Фамар:
— Какое бы ни отвели, все одно веселиться они не умеют.
А Азува:
— У них в кувшинах было довольно масла, но не захотели они поделиться с нами.
А Фамар:
— Да что проку? Все одно не знает их душа веселья.
А Махалафа:
— Что ж, так и будем стоять здесь перед закрытыми дверями?
А Иедида:
— Что ж нам делать теперь?
А Иезавель:
— Воспоем вновь и вновь уснем под звездами. Ночь коротка, и холмы уже белеют, чуя дыхание зари.
И тронула она струны псалтири, а подруги подхватили ее напев. И пошли так, распевая хором в ночи, теплой, словно ванна, умащенная бальзамами. И оставили за спиною запертые двери, позабыв о них. И об одном лишь сожалели: что не превратятся светильники потухшие в сладкозвучные систры.
И вернулись на место сна своего, где сели уж не на скамьи, а на землю, усыпанную златоцветом. И одна склонила голову на грудь иль на колена другой, и прижались девы друг к другу потесней, чтобы не упустить нить сна. И души их подобны были ткущим женщинам, что, оставив работу, вновь возвращаются к ткальным колодам и вновь берут челнок, что поет, будто ласточка, и мелькает туда-сюда по разноцветной основе.
Сказала Иезавель, прикрывая грудь Фамар пурпуром своих волос:
— Как ароматны груди твои, о Фамар!
А Фамар, что носила между грудей мирровый пучок, вздохнула о друге своем.
И спустя краткое время легкие души их вновь взялись ткать разноцветные сны.
Первой пробудилась Фамар, ибо приснилось ей, что левая рука ее друга у нее под головою, а правая обнимает ее, и лобзает он ее устами своими, и ласки его лучше вина. Дрожью тела своего разбудила она Иезавель, и все стряхнули с себя сон, как бы перейдя от одного блага к другому. И сила жизни бурлила, точно струя источника, в свежести их членов. А одежды на телах юных были как нежная шелуха миндаля, которую надобно очистить, дабы насладиться плодом.
И вскрикнула Фамар, оборотившись к холмам:
— Вот, солнце встает. Выйдем навстречу ему.
И поднялись девы вместе с горлицами из кипарисовой тени, и направились к холмам, и оставили на истоптанном златоцвете золотые светильники свои; и ни одна не обернулась, чтобы поглядеть, как белеют позади запертые двери, ибо уже позабыли они о пиршестве.
И только Иезавель, у коей волосы были как пурпур, взяла с собою псалтирь свою и сказала:
— Выйдем навстречу ему с песнею.
И ударила по струнам. А подруги ее подхватили новый напев.
И пошли они так, и пели хором меж отягощенных лоз виноградных, меж пряных огородов, меж садов с гранатовыми яблоками, меж текучих вод, осененные крылами горлиц, пошли навстречу высшему знамению Господа.
И каждая смотрела, не предстанет ли ей в первых утренних лучах возлюбленный, что бел и румян, лучше десяти тысяч других, и знамя его — любовь.
ИИСУС И ВОСКРЕСШИЙ ЛАЗАРЬ
22 июня 1907 (Флоренция)
Прежде чем спуститься в город и поглядеть в мастерской Доменико Трентакосты на нового Христа его, я провожу около часа под открытым небом, на той кривой скамье, которую поставил под сенью конского каштана. То для души моей час напряженного вниманья и видений. Один лукавый мастер флорентийский с несвязным выговором и осанкою, такой, что кажется уже не человеком, а орудьем податливым, его мне начертал меж гроздьями плодов, сменяющихся девизом: ВИЖУ, ВНИМАЮ. И точно гроздь меж двух розеток, мое искусство не подвешено ль промеж сих важных слов?
Перечитал я Страсти по Иоанну. Уж сколько раз я приближался к теме этой и с дрожью отступал! Мне кажется, никто до сей поры не смог объять с положенною силой глубокую трагедию сию (да, самую глубокую и темную из всех, что мне встречались); и начинается она с момента, когда внезапно, как облако покрыло гору Моав на склоне лета, надвинулась тень смерти на Сына Человеческого. В притворе Соломоновом, придя в Иерусалим на праздник обновленья, объявил он иудеям, что обступили его враждебно:
— Я и Отец — одно.
Тут иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там, дабы избегнуть искавших схватить его. Уверенность в кончине, близкой и ужасной, явилась ему как раз в тот миг, когда он перепутал себя с Отцом, когда он объявил, что он с Отцом — одно, когда сказал:
— Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне; а если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в Нем.
И нерушимо верит он в свое предназначенье и глубоко осознает свое достоинство Мессии; но вот гонения и смерть его настигли, вот нависает над ним угроза исчезновенья до прихода Царствия Небесного, и должно примирить ему, Посланцу Бога, в смятенной душе своей приятие страданий и пыток со свершеньем высокой миссии своей. Вот здесь исток его божественной тоски; здесь истинная сила трагедии, что пронимает нас до самого нутра.
Я говорю не как истолкователь, но как поэт; меж всех чудесных сюжетов я избираю самый трогательный: воскрешенье Лазаря. Христос в Вифаваре — первое явленье; Христос в Вифании — второе. Как получил он посланье двух сестер, сказал ученикам:
— Пойдем опять в Иудею.
Ученики же ему сказали:
— Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?
Они ему противополагают виденье смерти, ужасной и позорной, он же в этот миг провидит тайну смерти во плоти того, кого он любит.
— Лазарь умер, — он говорит им прямо.
Коптские апокрифы Евангелия от двенадцати апостолов запечатлели таинственную сцену между Учителем и Дидимом: вот исключительная тема для разработки. Но более приводят в умиленье слезы Иисуса пред могильным камнем, еще не отнятым.
Умерший уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. При громком воззвании Иисуса выходит, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Так вот, согласно тому апокрифу, Адам в жилище мертвых слышит голос; и голос этот Лазаря зовет; Адам выталкивает Лазаря вон из жилища мертвых и направляет послание тому, кто называет его своим Творцом. Брат Марфы и Марии, значит, был четыре дня в жилище мертвых, он, значит, знает тайну переправы и видел то, что там. И вот перед угрозой тех, кто совет собрали и положили его убить, Иисус вновь избегает кары: идет в страну близ пустыни, в город, называемый Эфраим. Но, безусловно, душа его влечется назад, к созданью, им воскрешенному, что, сбросив пелены и будучи очищен от смрада, возлежит в доме сестер своих. Томимый страшною тревогой, Иисус, оставив учеников, идет один в Вифанию под покровом ночи, и в дверь стучится к Лазарю, и предстает опять пред тем, кто четыре дня в жилище мертвых пребывал.
Ах, как хотел бы воссоздать я силой моего воображенья тот разговор ночной, что состоялся в комнате высокой, где кучею лежали испачканные мазью пелены и издавали зловонье и слышался по временам охрипший, приглушенный стон горлиц из гнезда при меркнущем сиянье лунном.
Рассказы
© Перевод Е. Г. Молочковской
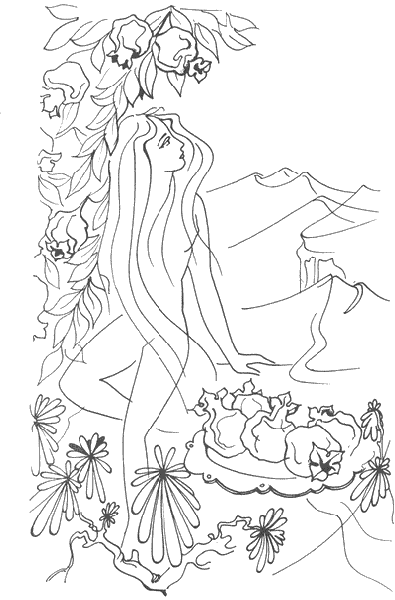
КОЛОКОЛА
Месяц март заразил Биаше любовью! Две, три ночи он не смыкал глаз: бросало в жар, по коже бегали мурашки, тело покалывало иголками, будто из него вот-вот должно было проклюнуться множество почек, веток и бутонов шиповника. В эту каморку неведомо откуда проникал свежий, необычно терпкий аромат пьянящего сока, молодого боярышника, цветущего миндаля. Он готов поклясться Святой Барбарой Покровительницей, что, когда последний раз видел Дзольфину, она стояла, обхватив ствол именно миндального дерева, и смотрела на два крыла барки в открытом море; над головой ее было что-то радостно-белоснежное, шуршавшее на солнце и ароматное, тело волнами окутывало небесно-голубое цветение льна, глаза сияли двумя раскрывшимися, невиданной красоты барвинками, и в сердце, наверное, тоже благоухали цветы.
Биаше здесь, в конуре, размышлял об этом сиянии, обо всем весеннем журчании жизни, и его обуревали желания; вдали едва брезжила заря, робко проступала граница Адриатического моря, когда он проснулся и полез по хрупким деревянным ступенькам на вершину колокольни, где ласточки свили гнезда.
В воздухе дрожали странные неясные шумы: прерывистое дыхание, вздохи листьев, треск живых ветвей, взмахи крыльев; свернувшись калачиком еще спали дома, равнина дремала под легким одеялом тумана, и здесь, наверху, над этим безбрежным стоячим озером легкий бриз раскачивал верхушки деревьев. Вдали, на фоне пепельного горизонта, виднелись мягкие, всех оттенков фиолетового холмы, стальной полосой сверкало море, в тени темнели несколько парусов, и надо всем этим сиял чистый прозрачный небосвод, на котором постепенно бледнели одна за другой звезды.
Три оцепеневших, пустотелых бронзовых колокола с орнаментом ждали Биаше, его рук, чтобы победоносно закачаться в утреннем воздухе.
Биаше взялся за веревки и потянул — самый большой колокол, Волк, дрогнул всем телом, огромная пасть его расширилась, сжалась и еще раз расширилась, поток металлических звуков, подобный протяжному завыванию, обрушился на крыши, вместе с ветром разнесся по всей равнине, над морем. Удары накладывались друг на друга, бронза словно ожила и пришла в исступление, как чудовище, обезумевшее от ярости или от любви; колокол устрашающе раскачивался то вправо, то влево, изрыгая от удара до удара на фоне непрерывного гула две мрачные, тягучие ноты; он то сбивался с ритма, то ускорял его, все это сливалось в гармоничное, хрустальное звучание и торжественно наводняло пространство. Поток света и звука пробуждал там, внизу, поля, туман дымился и постепенно таял, утро становилось прозрачным, холмы приобретали медный оттенок… И вот раздался новый звук — удары Колдуна, хриплые, пронзительные, остервенелые, как лай собак на ощерившегося зверя; зазвучал частый перезвон Певчего, радостный, чистый, вызывающе звонкий, словно удары града по хрустальному куполу, а затем вдалеке откликнулись другие пробудившиеся колокольни; там, внизу, колокольня Святого Рокко, красноватая, заслоненная дубами, колокольня Святой Терезы, огромная, резная, белая, словно сахарная головка, колокольня Святого Франческо, монастырская колокольня, — в общей сложности двенадцать металлических содрогающихся зевов, многоголосый радостный, бодрящий воскресный гимн разнесся над торжествующе залитой солнцем равниной.
* * *
Перезвон опьянял Биаше. Надо было видеть, как этот нервный, худенький паренек с красным шрамом на лбу, тяжело дыша, работал руками, повисал на веревках, словно обезьяна, как мощно и властно поднимал его Волк, как он вскарабкивался на галерею, чтобы исторгнуть последние звуки Певчего, качавшегося среди двух других мрачно сотрясавшихся усмиренных чудовищ.
Там, наверху, он был королем. Разросшийся плющ в молодом порыве тянулся вверх по старой облупленной стене, обвивался вокруг перекладин навеса, словно вокруг живых стволов, устилал кирпичи шатра мелкими кожистыми, блестящими, будто покрытыми эмалью листьями, свисал в широкие пролеты тончайшими зелеными змеевидными ростками, достигал черепицы, где весело ворковали в гнездах влюбленные ласточки.
Биаше считали придурковатым, но на своей колокольне он был королем и поэтом. Когда прозрачное небо изгибалось над цветущей равниной, глаза Адриатики наполнялись солнцем и оранжевыми парусами, когда на улицах кипела работа, он на галерее, словно вольный сокол в часы досуга, приникал ухом к бронзе Волка, своей гордости и своего любимца, который однажды ночью рассек ему лоб, и постукивал по нему костяшками пальцев, прислушиваясь к протяжному, поразительному гулу. Рядом поблескивал изящный Певчий, весь в узорах и цифрах, с барельефом, изображающим Святого Антония. Колдун в глубине скалился размытым зевом с обломанными краями, трещина рассекала вдоль его тело. Какие фантазии приходили Биаше в голову, какие странные мечты об этих трех колоколах! Какие исполненные страстной истомой стихи! И образ грациозной красавицы Дзольфины всплывал из глубин этих звуков в знойный полдень или на закате, когда Волк благовестил меланхолично и устало, а звон медленно ослабевал и замирал.
* * *
Однажды днем в апреле они встретились на зеленой равнине, белеющей ромашками, за орешником Монны. Небо, опаловое в вышине, на востоке светилось фиолетовыми пятнами. Дзольфина, напевая, косила траву для стельной коровы, аромат весны ударил ей в голову, вызывая головокружение, словно дым сусла в октябре. Она нагнулась, юбка легко скользнула по голому телу, будто чья-то ласковая рука; она прикрыла глаза от удовольствия.
А вот и Биаше шагает навстречу ей враскачку, кепка — на затылке, за ухом — букетик гвоздик. Он не урод, Биаше, у него черные большие глаза, исполненные буйной печали, почти ностальгии, глаза дикого зверя в клетке, голос не лишен привлекательности, есть в нем какая-то нечеловеческая глубина, ему не свойственны модуляции, гибкость, мягкость; один, в обществе своих колоколов, там, высоко, в море света и воздуха, он усвоил звучную, с неожиданно резкими, мрачно-гортанными металлическими нотами каденцию.
— О, Дзольфина, что вы делаете?
— Кошу траву для коровы дядюшки Меккеле, — объяснила белокурая Дзольфина, не разгибаясь; грудь у нее колыхалась, когда она собирала скошенную траву.
— О, Дзольфина, вы чувствуете этот запах? Я был наверху, на колокольне, видел барки на море, их паруса раздувал северо-восточный ветер, а вы прошли внизу, напевая «Цветочек полевой», вот что вы пели…
Он умолк, чувствуя, что у него перехватило дыхание, они стояли молча и слушали протяжный шорох орешника и далекий плеск моря.
— Хотите, я вам помогу? — прервал наконец молчание бледный как полотно Биаше, он склонился над травой и жадно отыскивал среди чувственно свежих растений руки вспыхнувшей Дзольфины.
На жаре две яркие ящерицы проскользнули через поле и стремительно скрылись в кустах боярышника.
Биаше схватил ее за руку.
Оставь меня! — прошептала бедняга, голос ее не слушался. — Оставь меня, Биаше! — и прижалась к нему, подставляя лицо и отвечая на поцелуи. — Нет, нет! — повторяла она, протягивая свои красные, влажные, как плоды кизила, губы.
* * *
Их любовь подрастала вместе с лугом, а колышущиеся травы все поднимались и поднимались; среди этого моря зелени Дзольфина, прямая, с красным платочком, повязанным на голове, казалась прекрасным пышным маком. Какие жизнерадостные частушки звучали под низкими рядами яблонь и белого тутовника, в кустарниках, изобиловавших мушмулой и жимолостью, среди желтых полей цветущей капусты, когда Певчий с колокольни Святого Антония изощрялся в радостных вариациях, словно влюбленная сорока.
Но однажды утром, когда Биаше ждал ее в Фонтаччьа с прекрасным только что собранным букетом левкоев, Дзольфина не пришла: она слегла с температурой — заразилась черной оспой.
Бедняга Биаше, узнав об этом, покачнулся сильнее, чем в ту ночь, когда Волк рассек ему лоб, кровь похолодела у него в жилах. И все-таки ему пришлось подняться на колокольню и с усилием тянуть за веревки, в отчаянии он слушал весь этот шум вербного воскресенья, песнопения и молитвы, смотрел на святотатственное сияние солнца, на оливковые ветви, на яркие полотнища, на дымок ладана, а его несчастная белокурая подруга, думал он, одному Богу ведомо, как страдает, о Благословенная Мадонна, она так страдает!
Это были ужасные дни. С наступлением темноты он кружил вокруг дома больной, словно шакал вокруг кладбища, останавливался у закрытого окошка, освещенного изнутри, вспухшими от слез глазами смотрел на тени, мелькавшие в окне, прислушивался, крепко прижимая руку к изболевшейся от вздохов груди, затем продолжал кружить, сам не свой, или бежал укрыться на галерее колокольни. Там длинными ночами рядом с недвижными колоколами, убитый горем, бледный как покойник, он смотрел на пустынную дорогу, где под лунным светом царило безмолвие, вдали виднелось печально поблескивающее море, волны с монотонным бормотанием набегали на безлюдное побережье, и надо всем простиралась нестерпимая голубизна. А под крышей, которую едва заметно сверху, мучилась в агонии Дзольфина, распростертая на постели, беззвучная. С ее почерневшего лица стекали густые гнойные выделения, она ничего не произнесла, даже когда лунный свет поблек в предрассветных сумерках, и шепот молитв сменился всхлипываниями. Она несколько раз с трудом приподняла свою белокурую голову, будто хотела сказать что-то, но слова так и не сорвались с ее губ, ей не хватило дыхания, свет померк, она хрипло потянула ртом воздух, словно прирезанный агнец, и окоченела.
* * *
Биаше пошел проститься со своей несчастной усопшей подругой. Пораженный, он смотрел остекленевшими глазами на гроб, благоухавший свежими цветами, среди которых покоились изуродованные оспой останки молодого тела, влажное зловоние гниения чувствовалось даже под снежно-белым льном. Он посмотрел одно мгновение, затерянный в толпе, затем вышел с кладбища, вернулся в свою конуру, поднялся до середины деревянной лестницы, взял веревку Певчего, завязал петлю, сунул туда голову и скользнул в пустоту.
Певчий в тишине Страстной Пятницы, когда тело Биаше повисло на веревке, внезапно разразился несколькими радостными серебристыми звуками и так ярко сверкнул, что ласточки выпорхнули из тени навеса на солнце.
ДЕЛЬФИН
На побережье его прозвали Дельфином, и не зря: в море он удивительно напоминал дельфина — спина, почерневшая от зноя, изогнута дугой, голова — крупная, лохматая, руки и ноги исполинской силы, корпус он выбрасывал высоко и так прыгал и нырял, что становилось страшно. Надо было видеть, как он, вскрикнув, кидался вниз со скалы Де-Феррони, будто орел с подстреленным крылом, а потом выныривал из зеленой воды локтей на двадцать впереди, глядя широко открытыми глазами на солнце. Стоило на это посмотреть! А может быть, еще внушительнее выглядел он на своей барке, когда сирокко, надрываясь, свистел между веревок, красный парус, казалось, вот-вот лопнет, буря рычала, словно собиралась растерзать рыбака, а он цепко держался за мачту.
Дельфин был сиротой, мать свою, образно говоря, он убил сам, родившись осенней ночью лет двадцать назад, отца отняло море — поглотило однажды вечером, когда юго-западный ветер завывал, как стая волков, а небо на западе пылало кровавым багрянцем. С тех пор эта бескрайняя стихия воды завораживала Дельфина, он прислушивался к морю, словно ему был внятен язык волн, разговаривал с ними, как некогда с отцом, преисполненный любви и детской нежности, и изливал эти чувства, распевая во весь голос дикие песни или протяжные напевы, проникнутые тоской.
— Отец там спит, — сказал он однажды Дзарре, — и я туда уйду. Он ждет, я знаю, он меня ждет, я его вчера видел…
— Видел? — удивилась Дзарра, и ее огромные смоляные, как киль лодки, глаза округлились.
— Да, там за мысом Каракатиц, где море гладкое, словно масло, он посмотрел на меня, прямо на меня.
У девушки от испуга по спине пробежали мурашки.
* * *
Ну до чего же гордая дикарка эта Дзарра! Высокая и стройная, словно фок-мачта, гибкая, как пантера, с острыми зубами, алым ртом, грудью, которая пробуждает желание укусить и погладить, клянусь Святым Франческо Покровителем!
Они с Дельфином любили друг друга с тех пор, как играли вместе, бегали вдвоем за лягушками, опрокидывали крабов или прыгали в бирюзовой воде. Они часто целовались на солнечном берегу и не раз пели дикие песни молодости солнцу и морю… О прекрасная, сильная, дерзкая молодость, ты закалена соленой водой, словно стальное лезвие!
* * *
Дзарра ждала его возвращения каждый вечер, лишь только небо за Майелла начинало сливаться с морем и на воде возникали фиолетовые блики.
Лодки, словно стая птиц, появлялись далекодалеко, у мыса Каракатиц. Барка Дельфина плыла первой, прямая, стройная, красный парус надут ветром, загляденье! А он сам стоял на корме недвижный, словно гранитный столп.
— Эй-ей-ей! Как улов? — сгорала от нетерпения Дзарра.
Он отвечал ей, чайки взлетали горластыми стаями со скал, и по всему побережью разносились крики рыбаков и запах моря.
Этих двоих запах моря опьянял. Порой они подолгу, словно зачарованные, пристально смотрели друг другу в глаза, она, сидя на борту лодки, он, растянувшись на дощатом дне, у ее ног, а прибой баюкал их песней, зеленоватая вода колыхалась, словно майский луг под порывами ветра.
— Что у тебя за глаза нынче? — шептал вечером Дельфин. — Готов поклясться, ты — морская волшебница, из тех, что плавают в открытом море, наполовину женщины, наполовину рыбы, видно, так и есть; когда они поют, волосы у них извиваются, словно змеи, и человек каменеет. Однажды ты снова станешь такой волшебницей, прыгнешь в воду, а я останусь на берегу зачарованный.
— Сумасшедший! — цедила она сквозь зубы, приоткрыв рот и запустив руки в его волосы, и повергала его на землю дрожащего, как пойманный леопард.
А море благоухало как никогда.
* * *
Однажды в июне на заре мужчины взяли с собой Дзарру рыбачить. Белесый туманный воздух дышал свежестью, в крови разливался приятный озноб, все побережье было окутано испарениями. Внезапно луч солнца пронзил туман, словно золотая божественная стрела, за ним другой, потом — целый пучок лучей; снопы пунцового, пятна фиолетового, дрожащие разводы розового, бледная бахрома оранжевого, завитки голубоватого — все эти цвета сливались в поразительную симфонию. Испарения словно вымело порывом ветра, они исчезли, и солнце засияло огромным кровавым глазом; над темно-лиловыми, мерно покачивающимися вдоль берега волнами летали стаи чаек, касаясь воды пепельными крыльями, издавая гортанные крики, звучавшие подобно раскатам человеческого смеха.
Барка лавировала зигзагами, временами подрагивая, как живая; на востоке в направлении скал Де-Феррони еще стояли перистые облака — карминовые, словно краснобородки.
— Посмотри-ка! — сказала Дзарра Дельфину, который управлял баркой вместе с косым Чатте и сыном Пакио, двумя загорелыми до черноты и крепкими как железо парнями, — какие там на берегу дома, маленькие-маленькие, вроде рождественских яслей у дядюшки Ньезе.
— И в самом деле! — пробормотал Косой, улыбаясь.
А Дельфин промолчал, он смотрел на круглые пробковые поплавки над бирюзовой водой, они едва-едва покачивались.
— Ну и красавец же сын дядюшки Ньезе, а, Дзарра? — с легкой иронией сказал после паузы Косой, уставясь на нее своими акульими глазами. Она не дрогнув выдержала этот жгучий взгляд, только прикусила нижнюю губу.
— Должно быть, — ответила она рассеянно, отвернулась и стала наблюдать за стаей чаек, круживших в небе.
— Да будет тебе, так оно и есть! И форма у него таможенного гвардейца, глаз не оторвешь, желтые полосы, перо на шляпе, палаш! Я бы…
Дзарра в истоме запрокинулась назад, грудь ее выпукло обрисовывалась, губы полуоткрылись, волосы развевал мистраль.
— Святой Франческо Покровитель! — прошептал сквозь зубы бедняга Дельфин, чувствуя, что внутри у него что-то оборвалось.
— Поворачивай, Косой, поворачивай!
* * *
Этот таможенный гвардеец и вправду напрашивался, чтобы ему перерезали глотку. Проходя мимо Дзарры, он постоянно отпускал ей комплименты, подкручивал свои короткие белобрысые усы, положив руку на эфес палаша. Она смеялась, а один раз даже оглянулась.
— Кровь красная! — загадочно-мрачно говорил Дельфин, когда сын дядюшки Ньезе горделиво прохаживался с ружьем на плече перед качающимися на якоре рядами барок.
И однажды в последний день июля, вечером, все увидели, что кровь действительно красная, да, все увидели.
Солнце садилось среди пылающих облаков, жара нависла над побережьем, словно чаша раскаленного металла, порывы сирокко жгли лицо, словно огненные языки, волны, шумно пенясь, накидывались на скалы, будто бранились. Перед зданием таможни собирали новую лодку для дона Кардилло, запах смолы разносился по всему побережью.
— Знаешь, Дзарра, я его снова видел, — сказал Дельфин с горечью, сидя на песке, прислонясь снаружи к борту баркаса, лежавшего на суше, словно выпотрошенный кашалот. — Он повторил, что ждет меня. Пойду к нему, тем более здесь мне делать нечего. — Губы его искривила недобрая улыбка, потом он запустил руку в волосы. — Тем более здесь мне делать нечего, — подтвердил он.
В мощном, словно гранитная скала, и широком, как море, сердце бедняги Дельфина бушевала буря, в нем перемешались суеверия, ненависть и любовь, его непреодолимо, роковым образом притягивали темно-лиловые волны, но казалось, что там, в глубине, не будет ему покоя, если не отомстит.
— Ах, Дзарра, Дзарра! И ее у меня отняли…
Они молча слушали морской прибой и вдыхали запах смолы, она не решалась вымолвить ни слова, стояла с угасшим взором, поникшая, недвижная, как статуя.
— Бедная моя барка… — прошептал Дельфин, поглаживая черный деревянный бок своей подруги, столько раз встречавшей с ним бурю и до сих пор невредимой, в глазах у него по-детски стояли слезы. — Прощай, Дзарра, я пошел.
Дельфин поцеловал ее в губы и побежал по песку к таможне, кровь его закипала от ярости. Он настиг таможенного гвардейца как раз под фонарем, бросился на него, как тигр, и прирезал одним ударом — тот не успел даже воззвать к Богу.
Пока сбегались люди, Дельфин бросился в море, в самую яростную пучину, и исчез, потом выплыл, сопротивляясь стихии всеми своими мощными мышцами, его увидели еще раз на пенистом гребне морского вала; словно дельфин, он то появлялся, то исчезал, и в конце концов навеки погрузился в зыбкий сумрак под свист сирокко и отчаянные вопли дядюшки Ньезе.
ДЕВСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Под неистовым июньским солнцем белесая дорога дымилась удушливой пылью, устремляясь вперед среди иссохших, усыпанных красными ягодами зарослей кустарника, среди поникших гранатовых деревьев и редких, бурно расцветших агав.
Свиньи, семенившие по дороге, поднимали огромные клубы пыли. Тулеспре шагал следом, подгоняя палкой глухо похрюкивающее, чавкающее стадо; черноватые разгоряченные спины источали острое зловоние. Тулеспре понукал животных, горло у него пересохло, лицо раскраснелось, пот лил ручьями. Йоццо, пес-овчарка в черных пятнах, вывалил язык и понуро плелся рядом. Они направлялись в дубовую рощу Фары — свиньи за сытными желудями, Тулеспре на любовное свидание.
Итак, они продвигались вперед. У базилики Святого Клименте Казаурия, в тени каменных аркад, их взгляду предстала куча спящих, распростертых в изнеможении чочарцев с обгорелыми лицами, обнаженными ногами и руками, разрисованными синей татуировкой, слышался громкий храп, от всего этого скопления человеческих тел разило терпким запахом дичины. Когда стадо поравнялось со спящими, кто-то приподнялся, опираясь на локти. Йоццо потянул носом воздух, сделал стойку и разразился яростным лаем, свиньи бросились во все стороны, визгливо похрюкивая под ударами палки. Чочарцы, испуганные неожиданным вторжением, повскакали, щуря заспанные глаза от яркого света, пыль окутывала весь этот хаос людей и животных перед фасадом величественной базилики, увенчанной лучами солнца.
— О Святой Антоний! — взмолился Тулеспре. Он пытался собрать разбежавшееся стадо и не вслушивался в яростную брань чочарцев. — Скотины окаянные! — И, то нахлестывая палкой, то швыряя камни, начал загонять свиней на дорогу к дубовой роще, зеленевшей вдали, — там их ждали желуди, густая тень и песни Фьоры.
* * *
Сидя под кустом ежевики, Фьора распевала во весь голос, а овцы вокруг щипали листья, взбираясь на холм; она пела и упивалась благостным ароматом воздуха и наслаждалась светом, глядя на гигантские дубы с их возносящимися мощными стволами, с распластавшимися узловатыми ветвями, усеянными желудями. На всей растительности чувствовалось дыхание горного ветра, шелестела листва, раскачивались ветки, мелькали желуди, у подножия дерева под веселым прищуром солнца тени принимали причудливые формы. Свиньи разбрелись и с довольным видом похрюкивали от изобилия пищи. Растянувшись на земле, Фьора пела о гвоздике; Тулеспре, тяжело дыша, вкушал свежесть воздуха и ее голос, а над всей этой здоровой, благостной мощью молодых растений, животных, людей простиралось лазурное небо.
Тулеспре приник к влажной нетронутой траве и почувствовал, как кровь в его жилах закипает, бродит, словно молодое вино. Мало-помалу прохлада освежила его перегретую кожу, испарения от копны сена щекотали разгорченные ноздри сладострастным ароматом, в глубине травы копошились насекомые, он ощущал, что по коже и по волосам как-то странно побежали мурашки, сердце застучало в такт необузданному напеву Фьоры.
Свинопас слушал. Затем он пополз по траве, будто ягуар за добычей.
— Вот ты где! — закричал он, вскакивая на ноги, и раскатисто засмеялся.
Пастушка не испугалась, выразительная насмешливая улыбка искривила ее губы.
— Ну и кем ты прикидываешься? — в голосе ее звучал вызов.
— Никем.
Они умолкли. Там, вдалеке за холмом, в густых зарослях, у подножия безлесых гор рокотали воды Пескары.
Все существо Тулеспре сосредоточилось в зрачках, а зрачки не отрывались от этой строптивой меднокожей пастушки.
— Пой! — прервал он наконец молчание дрогнувшим от страсти голосом.
Фьора повернулась, на ее карминных губах играла улыбка, обнажавшая два ряда миндалевидных белых зубов. Она вырвала с корнем пучок свежей травы и страстно швырнула ему в лицо, словно запечатлела поцелуй. Тулеспре весь затрепетал, он ощутил аромат женщины, еще более острый и пьянящий, чем запах сена.
* * *
Йоццо лаял, по приказу хозяина сгоняя разбредшееся стадо. Наступил вечер. Теплая дымка окутала вершины деревьев, дубовые листья отливали серебром при каждом дуновении ветра, стайки диких птиц, мелькнув в алеющем воздухе, улетали. Со стороны карьера Манопелло порыв ветра время от времени доносил запах асфальта и голос Фьоры, удалявшейся по лощине среди зарослей можжевельника.
Свиньи, с трудом волоча набитые животы, спускались по склону, усеянному красными цветами люпина. Тулеспре шагал следом, напевая частушку о гвоздиках, и прислушивался, не донесется ли еще раз трепетный женский голос. Стояла тишина, в которой зарождалось множество неопределимых звуков, из всех церквей легкими волнами грусти лилась «Аве Мария». Влюбленному Тулеспре аромат цветущих деревьев напоминал женщину.
Вышли на проселочную дорогу, на обочине дремали припорошенные пылью кустарники, полная луна расстилала впереди по земле настораживающе белую полосу, стадо смотрелось темным пятном, и во всеобъемлющем покое, при лунном свете иногда раздавалось в тишине приглушенное хрюканье, потом монотонный топот, однообразное заунывное пение возчиков, вялое позвякивание бубенцов на сбруях лошадей.
* * *
Роща в Фаре оказалась подстрекательницей. Этим утром посвистывали дрозды, резная листва смотрелась на фоне бирюзового неба словно вышивка, слышался радостный шелест, в каплях недавно прошумевшего дождя искрились тысячи переливающихся радуг.
А вблизи и вдали вся обласканная солнцем окрестность от холма Петранико до оливковых рощ Точче дымилась испарениями.
— Эй, Фьора! — окликнул Тулеспре девушку, резво, словно телочка, спускавшуюся вслед за стадом овец по тропинке, среди гранатовых зарослей, прямо к воде.
— Я к реке, — отозвалась она, и вместе с овцами скрылась из виду.
Тулеспре услышал треск ломающихся ветвей, прерывистое блеяние на склоне, топот, потом всплеск, позвякивание колокольчиков и льющийся прозрачной струей напев. Он забыл про свиней на пастбище и бросился вниз по склону, будто зверь, почуявший самку.
Над пропитанной влагой почвой бурно пульсировала, била ключом энергия стволов, побегов, стеблей, напоминавших малахит; они стлались по земле, переплетаясь, как змеи, не ослабляя крепких объятий в борьбе за ласку солнца. Желтые, синие, ярко-красные орхидеи, пунцовые маки, золотистые лютики испещрили всю эту цепкую зелень, жаждущую влаги; плющ, жимолость, перебрасываясь от ствола к стволу, витками впивались в кору; с кустарников, заслоненных от света, гроздьями свисали ягоды, ветер, словно напряженное человеческое дыхание, вздымающее грудь, предвещал бурю, сок с кисловатым запахом расползался в тени, и посреди этого триумфа растительности пронзительно трепетала любовь двух юных существ: Фьора и Тулеспре наперегонки мчались по крутому склону к Пескаре.
Они спустились вниз, продираясь сквозь преграду кустарника, стволы, крапиву, заросли тростника, разрывая на ходу одежду, не щадя израненных в кровь рук и ног, вдыхая воздух расширенными легкими, обливаясь потом; внезапно порыв ветра обдал их мелкими брызгами. Вода разбивалась о валуны, дробилась, превращалась в изумительные, белые, свежие клубы пены у подножия безнадежно растрескавшихся под лучами палящего солнца скал, струи обтекали камни, бурлили у запруд, проносились под слоем сухой травы, нервно подрагивавшей наподобие брюха погрузившегося в воду ящера, врывались, все еще пенясь, в камыши. На вершинах остроконечных скал — ни пучка зелени, ни пятнышка тени; вздыбленные, словно прорезанные серебристыми бороздами, обнаженные, пугающе прекрасные, они вырисовывались на фоне неба.
Фьора прильнула к воде и жадно пила. Наклонившись к каменистому руслу, она глотала воду, подталкивая ее языком, грудь ее вздымалась, изгиб спины и бедер напоминал пантеру. Тулеспре пожирал ее затуманенным от желания взглядом.
— Поцелуй меня! — от страсти у него перехватило дыхание.
— Нет…
— Поцелуй!
Он схватил ее голову, притянул к себе и, прикрыв глаза, отдался охватившему все его существо наслаждению от прикосновения этих влажных губ к своему разгоряченному рту.
— Нет, — повторила Фьора, подаваясь назад, и провела рукой по губам, будто пыталась стереть поцелуй. Но она трепетала сильнее, чем верхушки деревьев на ветру, тело ее, разгоряченное бегом, сотрясал озноб, а воздух, солнце, ароматы источали сладострастие.
Черная голова овцы вынырнула из листьев и уставилась желтоватыми, кроткими глазами на этот клубок человеческих тел. А Пескара пела свою нескончаемую песню.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЛЕНДАНЫ
Турлендана вел верблюда и ослицу вдоль морского берега.
Весна уже разукрасила всеми оттенками зеленого пологие, светлые приморские холмы, бурно поросшие травами и кустарниками, увенчанные деревьями в цвету. По замыслу Творца легкие порывы ветра раскачивали ветви и осыпали лепестки — вблизи склоны выглядели розовато-лиловыми, весь пейзаж казался колеблющимся и блеклым, словно фотография в ванночке для промывки или расплывшаяся акварель.
Незамутненную гладь моря, ослепительно сверкавшую персидской бирюзой, окаймляло побережье бухты, слегка изогнутое к югу. Кое-где извивались темными струйками подводные течения.
* * *
Турлендана, долгие годы оторванный от родины, плохо помнил окрестности. За время бесконечных скитаний чувство любви к родине почти угасло в нем, он шагал, тяжело прихрамывая, ни на что не отвлекаясь.
Верблюд же замедлял шаг возле каждого пучка травы. Турлендана понукал его резким, хриплым окриком. Только тогда розовая громада на четырех ногах медленно поднимала шею, не прекращая жевать трудолюбивыми челюстями.
— Ху, Барбара!
Ослица, маленькая, белоснежная Сузанна, везла на спине самца макаки; изнемогая от его суетливой беготни, она жалобно ревела: дескать, избавьте меня от этого седока. Неугомонный Дзавали, словно заводной, остервенело ползал по спине ослицы и тряс передними лапами, то приходя в ярость, то желая привлечь к себе внимание; он вскакивал ей на голову, хватал за длинные уши, дергал обеими лапами и тянул вверх кисточку хвоста, искал в ее шерсти блох, исступленно царапая когтями, а потом совал пальцы в рот и жевал, энергично гримасничая. Внезапно он усаживался в седло, держа передней лапой согнутую заднюю, напоминавшую корень кустарника, и замирал, оцепенело глядя на воду круглыми, изумленными, оранжевыми глазами, на лбу его собирались морщинки, а тонкие розовые уши дрожали от возбуждения. И столь же внезапно с лукавым видом начинал все заново.
— Ху, Барбара!
Верблюд послушно продолжал путь.
Когда они поравнялись с ивняком возле устья Пескары (уже виднелись флюгера-петушки на реях барок, бросивших якорь у пристани Бандьера), Турлендана остановился на левом берегу — испить речной воды.
Река его родины испокон веков струила в море свои мирные воды. Берега под покровом растительности безмолвно отдыхали, видимо утомившись от нелегкого труда — орошения земель. Надо всем царила глубокая тишина. Лагуны, оправленные слоем кристаллической соли, безмятежно сверкавшей на солнце, казались выпуклыми сферами. Стоило измениться направлению ветра, и листва ивняка меняла зеленый цвет на белый.
— Пескара! — шестым чувством угадал Турлендана и с пробудившимся любопытством стал вглядываться.
Затем он подошел к реке по блестящей, обкатанной гальке и опустился на колени — зачерпнуть ладонью воды. Верблюд, наклонив шею, пил не спеша, размеренными глотками. Ослица тоже. Макака, подражая человеку, согнула лодочкой тоненькие лапки, фиолетовые внутри, словно неспелые плоды апунции.
— Ху, Барбара!
Верблюд послушно оторвался от воды. С его мягких губ на грудные мозоли обильно стекали капли, бледные десны и крупные желтоватые зубы были обнажены.
По тропинке, протоптанной в лесу моряками, путешественники продолжили путь. Солнце садилось, когда они приблизились к верфи Рампинья.
Турлендана спросил моряка, шедшего вдоль кирпичного парапета:
— Это Пескара?
Моряк, изумленно уставясь на животных, подтвердил:
— Да, она самая.
И, забыв про свои дела, присоединился к иноземцу.
За первым моряком потянулись и другие. Вскоре целая толпа зевак сопровождала Турлендану, который спокойно продвигался вперед, не обращая внимания на выкрики любопытных. По плавучему мосту верблюд идти отказался.
— Ху, Барбара! Ху! Ху!
Турлендана стал терпеливо уговаривать животное, подергивая за веревку, привязанную к уздечке. Верблюд упрямо лег на землю и опустил голову в пыль, словно решил остаться здесь навеки. Ротозеи, оправившись от первого удивления, галдели вокруг и выкрикивали хором:
— Барбара! Барбара!
Пескарцы не впервые видели обезьян — из дальних рейсов моряки привозили мартышек вместе с попугайчиками и какаду, — и зеваки, кто во что горазд, дразнили Дзавали и протягивали ему крупные зеленые плоды миндаля, макака открывала их и жадно пережевывала свежий, сладкий орех.
Настойчивые уговоры и крики Турленданы сломили наконец упрямство верблюда. Неуклюжее существо, кожа да кости, раскачиваясь, поднялось над напиравшей толпой.
Со всех сторон на плавучий мост стекались матросы и пескарцы. За вершиной Гран-Сассо садилось солнце, озаряя весеннее небо розоватым светом; за день с влажной равнины, с поверхности прудов, рек и моря испарилось много влаги; дома, паруса, реи, растения — все казалось розоватым, предметы виделись прозрачными, размытыми, как бы колеблющимися, утопленными в закатном свете.
Мост, опиравшийся на просмоленные лодки, скрипел под тяжестью толпы, словно плот на плаву. Зрители радостно гудели. Турлендану с животными стиснули посредине моста. Огромный верблюд, стоя против ветра, возвышался над людскими головами и тянул носом воздух, медленно поворачивая шею, похожую на поросшего шерстью сказочного змея.
Зеваки уже запомнили имя животного и с какой-то врожденной шумливостью кричали в порыве веселья, обуревавшего всех на закате этого весеннего дня:
— Барбара! Барбара!
Слушая одобрительный шум, Турлендана, прижатый к груди верблюда, испытывал почти отцовскую гордость.
Внезапно ослица надрывно, со страстью разразилась такими пронзительными и неблагозвучными руладами, что толпа ахнула. Простодушный смех прокатился от одного до другого конца моста, словно журчание ручья, низвергающегося по каменистому склону.
Турлендана начал протискиваться сквозь толпу. Его никто не знал.
Когда он добрался до ворот города, где женщины торговали утренним уловом в больших плетенных из камыша корзинах, к нему подошел Бинке-Банке, коротышка с желтым, словно выжатый лимон, морщинистым лицом, и привычно, как это было заведено со всеми приезжими, предложил устроить на постой.
Сперва он кивнул на Барбара.
— Свирепый?
— Какое там! — улыбнулся Турлендана.
— Ладно, — успокоился Бинке-Банке, — тогда вам в самый раз постоялый двор Розы Скьявона.
Повернули к Рыбной лавке, к церкви Святого Августина, толпа повалила за ними. Женщины и дети высовывались из окон и дверей, с изумлением смотрели на вышагивавшего верблюда, восхищались изяществом маленькой белой ослицы, смеялись над ужимками Дзавали.
Внезапно Барбара заметил, что с низкой лоджии свисает высохшая былинка, он вытянул шею, ухватил растение губами и откусил. Перегнувшиеся с лоджии женщины в ужасе вскрикнули, их поддержали на соседних лоджиях. Зеваки громко смеялись и кричали, словно маски на карнавале:
— Ура! Ура!
Новизна зрелища и весенний воздух пьянили.
Перед постоялым двором Розы Скьявона, неподалеку от ворот Портасале, Бинке-Банке подал знак остановиться.
— Здесь, — объявил он.
На стенах убогого строения с единственным рядом окон непристойные слова перемежались со скабрезными рисунками. На архитраве красовалась вереница распятых летучих мышей, под центральным окном покачивался фонарь, оклеенный красной бумагой.
Здесь останавливался бродячий люд без постоянного дохода, вповалку спали кучера из Летто-Манопелло, рослые и пузатые, цыгане из Сулмоны, торговцы вьючными животными, лудильщики, продавцы веретен из Буккианико, бабенки из Читта-Сант-Анджело, промышлявшие проституцией среди солдат, волынщики из Атины, горцы, дрессировщики медведей, шарлатаны, псевдонищие, карманники, ворожеи.
Главным маклером этого сброда был Бинке-Банке, справедливейший покровительницей — Роза Скьявона.
Хозяйка, услышав шум, вышла на порог. Воистину она напоминала дочь свиньи, согрешившей с карликом.
Прежде всего покровительница бесстрастно осведомилась:
— В чем дело?
— Здесь вот один христианин, донна Роза, хочет поселиться со скотиной.
— Сколько скотины?
— Верблюд, донна Роза, обезьяна и ослица — трое.
Зеваки не обращали внимания на этот диалог. Кто-то поддразнивал Дзавали, кто-то ощупывал ноги Барбара, разглядывая жесткие круглые мозоли на коленях и на груди. Два охранника соли, которым довелось побывать даже в портах Малой Азии, громко превозносили разнообразные достоинства этих особей и сбивчиво рассказывали, как на их глазах отдельные верблюды ходили пританцовывая, а на спине у них восседали музыканты и полуголые женщины.
Слушатели жадно впитывали поразительные сведения и умоляли:
— Рассказывайте! Рассказывайте!
Они стояли, затаив дыхание от удовольствия, с широко раскрытыми глазами и жаждали слушать еще и еще.
Тогда один из охранников, старик с веками, вывернутыми морским ветром, принялся потчевать их небылицами об азиатских странах. Постепенно собственные россказни увлекли и опьянили его.
Казалось, закат дышит экзотической негой. Воображение слушателей рисовало им сказочные сияющие берега. На арку Портасоле уже упала тень, сквозь нее видно было, как раскачиваются на реке покрытые кристаллами соли грузовые лодки, минерал поглощал сумеречный свет, и чудилось, что лодки сверкают драгоценными каменьями. На зеленоватом небе поднимался молодой месяц.
— Расскажите! Расскажите еще! — не унимались самые молодые.
Турлендана тем временем устроил животных, дал им корму и вышел на улицу в сопровождении Бинке-Банке, а толпа все стояла перед входом в хлев, где за высоко натянутой веревочной сеткой то появлялась, то исчезала голова верблюда.
Выйдя на улицу, Турлендана поинтересовался:
— Здесь есть погребки?
— Да, синьор.
Бинке-Банке поднял толстые, не отличавшиеся чистотой руки и, загибая по одному пальцы левой руки указательным и большим пальцами правой, перечислил:
— Погребок Сперанцы, погребок Буоно, погребок Ассау, погребок Дзарриканте, погребок неуемной жены Турлендана…
— А! — спокойно отреагировал приезжий.
Бинке-Банке поднял свои пронзительные, зеленоватые глазки.
— Ты, синьор, здесь не впервые? — И, не ожидая ответа, с врожденной разговорчивостью пескарцев продолжил: — У жены Турлендана большой погребок, там подают самое лучшее вино. Она четвертый раз замужем…
Он принялся смеяться, и все его желтое, словно желудок жвачного, лицо пошло морщинами.
— Первым ее мужем был Турлендана, моряк, он плавал на судах неаполитанского короля в Индию, во Францию, в Испанию и даже в Америку. Пропал в море вместе с кораблем, только его и видели! Всего тридцати лет. Сильный был, как Самсон, якоря вытаскивал играючи одним пальцем… Бедняга! Кого море зовет, тому один конец.
Турлендана спокойно слушал.
— Пять лет она вдовела, потом вышла второй раз замуж за сына Ферранте из Ортоны, окаянный был мужик, связался с контрабандистами во время войны Наполеона с англичанами. Возили они сахар и кофе на английских судах из Франкавиллы в Сильви и Монтесильвано. Неподалеку от Сильви — башня Сарацинов, под ней — лес, оттуда и подавали сигналы. Когда проходил патруль — «дзинь-дзинь-дзинь», — мы слезали с деревьев… — Воспоминания воодушевили рассказчика, и он в подробностях описывал контрабандную операцию, сопровождая повествование жестами и восклицаниями. Забыв обо всем на свете, этот толстокожий коротышка изображал действующих лиц и словно становился то выше, то ниже. — В конце концов сын Ферранте погиб, солдаты Джоаккино Мурата попали ему ружейным выстрелом в почки. Третий муж, Титино Пассакантандо, умер в собственной постели от дурной болезни. А четвертый жив. Это Вердура, славный мужик, у него вино натуральное, что надо! Сам увидишь, синьор.
Бинке-Банке проводил Турлендану до погребка, который так расхваливал, и они распрощались.
— Всего хорошего, синьор!
— Всего хорошего!
Турлендана спокойно вошел, ничуть не смущаясь под любопытными взглядами завсегдатаев, выпивавших за длинными столами.
Он сказал, что зашел поесть, и Вердура провел его в верхнюю комнату, где столы уже были накрыты к ужину.
Там не было еще ни одного посетителя. Турлендана сел и принялся есть, откусывая большие куски и опустив голову, как это свойственно голодным. Он был почти лыс, глубокий красноватый шрам пересекал лоб и опускался до середины щеки, густая седая борода начиналась от выпуклых скул, кожа, опаленная солнцем, коричневая, сухая, шероховатая, обветрилась от непогоды, изможденные щеки ввалились; казалось, все его лицо вместе с глазами давным-давно омертвело, не сохранив ни искры жизнерадостности.
Любопытство мучало Вердуру, он сел напротив приезжего и уставился на него. Сам хозяин был тучным, красное лицо покрывали тончайшие, как на бычьей селезенке, вены.
Наконец он спросил:
— Из какой же вы страны?
— Издалека, — не поднимая головы, спокойно сказал Турлендана.
— И куда направляетесь?
— Останусь здесь.
Вердура, пораженный, умолк. Турлендана ел рыбу за рыбой, отрывая им головы и хвосты и пережевывая косточки. Каждые две-три рыбины он запивал глотком вина.
— У вас здесь есть знакомые? — поинтересовался Вердура.
— Может быть, — просто ответил гость.
Обезоруженный немногословностью собеседника, хозяин приумолк во второй раз.
На фоне гула подвыпивших посетителей внизу слышно было, как медленно и тщательно пережевывает Турлендана. Через некоторое время Вердура предпринял еще одну попытку:
— Откуда этот верблюд? Горбы у него от рождения? Неужто можно приручить такое огромное, сильное животное? — Турлендана безучастно слушал. — А как ваше имя, синьор иностранец?
Собеседник поднял голову от тарелки и спокойно ответил:
— Турлендана.
— Как?
— Турлендана.
— A-а! Здешний Турлендана?
— Здешний.
Вердура широко открыл большие голубые глаза и воззрился на приезжего.
— Значит, вы живы?
— Да.
— Значит, вы муж Розальбы Катена?
— Да, муж Розальбы Катена.
— И что же теперь? Нас двое?
Вердура смущенно развел руками.
— Нас двое.
На мгновение воцарилось молчание. Турлендана спокойно дожевывал последнюю корочку хлеба, в тишине слышалось негромкое похрустывание. Благодушный до беспечности, возвышенно-легкомысленный Вердура глубоко не задумывался, он лишь оценил ситуацию. Внезапный порыв радости нахлынул на него изнутри и переполнил все существо.
— Пойдем к Розальбе! Пойдем! Пойдем!
Он тянул возвратившегося скитальца за руку мимо подвыпивших посетителей и возбужденно кричал:
— Вот он, Турлендана! Турлендана-моряк, муж моей жены, Турлендана, которого считали мертвым! Вот он, Турлендана! Вот он!
ЦВЕТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
Как сладострастно краснели под июльским солнцем среди густой зелени перцы и помидоры, когда Нара, напевая, поливала иссохшие междурядья грядок. Прохладная вода мгновенно исчезала, побулькивая и пенясь, в растрескавшейся земле, все эти плебейские растения, измученные полуденным зноем, с пересохшими листьями, отливавшими металлом, подрагивали от наслаждения, чувствуя, как по всем капиллярам от корней до кончиков листьев пробегает победоносная влага. Ленивый напев Нары разносился среди вялых широких листьев, тыкв, напоминавших чудовищно желтые черепа, среди зеленоватых дынь и блестящих, словно лакированных, арбузов.
Нара в белой юбке, наклоненная спиной к солнцу, издалека напоминала овцу, но вот она встала, распрямилась среди лилового цветения редьки, и сразу стало видно — это красивая, пышущая здоровьем женщина. Она запела погромче, груди, налитые молоком, покачивались, она дышала медленно и глубоко, лицо, оттененное ярким платком, зарумянилось, серые глаза сияли, в них таилось больше покоя, чем в бескрайней летней дали, чем в безбрежной адриатической голубизне, где роились оранжевые паруса. Песня прозрачно лилась на фоне типично южной тишины, непринужденно и диковато звучала мелодия:
Цветочки льна, цветочки льна,
прозрачно-голубые лепесточки,
сотки мне, милая, льняного полотна.
Огород, раскинувшийся вокруг, бобовое поле, гумно — все поглощало звуки; северо-восточный ветер, тянувший с моря, наводнял этот зеленый простор ароматным шелестом; несколько выше по склону работала Франкавилла с благородным, мавританским профилем, вся в белом, высвеченная торжествующим солнцем, словно инкрустация на голубом небе.
Маламоре, работавший ниже по склону на изнурительной жаре, узнал голос жены и заслушался, он думал, как хорошо освежиться ломтиком ледяного арбуза, как весело смеяться там, на гумне, среди распустивших хвост индюков, под бормотание сынишки, выбирающего спелые вишни из корзинки.
А жена пела:
Цветочек мяты — дыханье милой,
цветочек мяты все тайны знает,
как славно милая меня ласкает.
ЧИНЧИННАТО
Он был невысокого роста, тонкий, гибкий, как тростник, львиная голова слегка наклонена к левому плечу, непокорная копна кудрявых каштановых волос опускалась волнистыми прядями почти до спины и развевалась на ветру лошадиной гривой. Бороду он носил, как жители Назарета, нестриженой, в ней постоянно торчали соломинки, взгляд его был опущен — он смотрел на пальцы своих босых ног. Когда он поднимал на кого-нибудь глаза, человек терялся, что-то было в них неуловимо странное; застывшие, они порой казались бессмысленными, веки подрагивали, словно его бил озноб, цвет радужной оболочки напоминал то зеленовато-вязкую стоячую воду пруда, то слепящее сверкание толедского клинка.
С вызывающим видом он носил на плече, наподобие испанского плаща, поношенный красный пиджак, в его осанке было нечто элегантное и благородное. Звали его Чинчиннато, ходили слухи, что он не в своем уме, и еще — что ему изменила возлюбленная, он ударил кого-то ножом и скрылся…
Я познакомился с ним тринадцатилетним мальчишкой, в семьдесят шестом году, он мне нравился. В самые знойные летние часы, когда на главной площади, залитой солнцем, ни души, а на раскаленных плитах валяются несколько бродячих псов, когда издалека доносится монотонный скрежет точильного круга Бастиано-точильщика, я из-за прикрытых ставень часами наблюдал за ним. Он неторопливо прогуливался на солнцепеке с видом скучающего гранда, иногда подкрадывался к собакам медленно, осторожно, чтобы они его не заметили, поднимал камень и легонько швырял между ними, потом отворачивался, словно он тут ни при чем. Псы плелись к нему, виляя хвостами, а он, крайне довольный, по-детски звонко и раскатисто смеялся. Я тоже.
Однажды, когда он проходил под моим окном, я набрался смелости, выглянул и окликнул его:
— Чинчиннато!
Он мгновенно обернулся, увидел меня и расплылся в улыбке, я взял гвоздику из вазы и бросил ему. С этого дня мы стали друзьями.
Он звал меня «кудрявенький». Однажды вечером в субботу я стоял один на мосту и смотрел, как возвращаются рыбацкие лодки. Был восхитительный июльский закат, на небе замерло множество алых и золотистых облаков, река в устье сверкала и искрилась, холмистые, поросшие лесом берега любовались своим зеленым отражением в воде, я рассматривал заросли тростника, островки камыша, высоченные, напоминавшие шатры тополя, вершины которых, казалось, спали в алеющем воздухе. Лодки медленно приближались к устью, радуя глаз большими, оранжевыми и красными парусами в полоску и черным орнаментом; две барки уже стояли на якоре и разгружали улов. Волнами доносился говор рыбаков и свежий запах скал.
В какой-то момент я обернулся — передо мной стоял потный Чинчиннато, правую руку он держал за спиной, будто что-то прятал, а на пухлых его губах играла обычная, по-мальчишески озорная улыбка.
— Ой, Чинчиннато! — обрадовался я и протянул ему свою незагорелую руку.
Он шагнул вперед и подал мне букетик огненных маков с золотистыми колосьями.
— Спасибо! Вот уж спасибо! Какие красивые! — И я с восторгом взял их.
Он вытер рукой пот, струившийся по лбу, посмотрел на свои мокрые пальцы, потом на меня и рассмеялся.
— Красные маки растут там… в поле… среди желтых колосьев… Я увидел, сорвал… принес тебе, и ты говоришь: «Какие красивые!» Чинчиннато их сорвал в поле… Там светило солнце… Огненное солнце…
Он говорил вполголоса, разделяя слова паузами. Трудно ему давалось поспевать за ускользающей мыслью, в его воображении перемешалось множество образов, он выхватывал два-три самых поверхностных, самых ярких, остальные терялись. Это было заметно по выражению его глаз. Я смотрел на него с любопытством, мне он казался необыкновенно красивым. Он заметил это и тут же отвернулся в другую сторону, к лодкам.
— Два паруса… — сказал он раздумчиво, — один — над водой, другой — в воде…
Он, по-видимому, не понимал, что в воде — отражение. Я постарался объяснить подоходчивей, он слушал меня как завороженный, но, вероятно, не понимал. Помню, его поразило слово «прозрачная».
— Прозрачная… — пробормотал он, странно улыбаясь, и снова принялся рассматривать паруса.
Маковый листик упал в реку. Он проводил его взглядом, пока тот не скрылся.
— И поплывет он далеко-далеко… — заметил Чинчиннато невероятно меланхолично, словно этот лист был ему Бог весть как дорог.
— А ты из какого селения? — помолчав, спросил я.
Он повернулся в противоположную сторону, где небо светилось чистейшим бериллом. Контуры лиловых гор проступали на горизонте, напоминая «циклопа, лежащего навзничь». Несколько в стороне над рекой протянулся железный мост, рассекая небо на мелкие квадраты, внизу под ним темнела зелень деревьев. Из казармы доносился несмолкающий шум: выкрики, раскаты смеха, взвизгивание.
— У меня был дом… белый… Да, был… а рядом огород… с персиковыми деревьями… И приходила Тереза… вечерами приходила… Красивая! Какие глаза! Красивая Тереза… Но он…
Чинчиннато резко оборвал рассказ, наверняка в голове его пронеслась какая-то тягостная мысль, взгляд помрачнел.
Потом лицо его просветлело, он отвесил мне глубокий поклон и ушел, напевая: «Любимая, мне засуши цветок…»
В дальнейшем мы с ним частенько встречались, я всегда окликал его, едва заметив на улице, и угощал хлебом. Однажды я предложил ему мелкие монетки, которые мне давала мама, он посерьезнел, оттолкнул их с негодованием и повернулся ко мне спиной. Вечером я встретил его за Порта-Нуова, подошел и сказал:
— Прости меня, Чинчиннато!
Он бросился опрометью бежать, словно медвежонок, на которого подняли палку, и скрылся за деревьями.
На следующий день он поджидал меня возле моего дома и с лучезарной улыбкой, смущенно протянул мне прекрасный букет ромашек. Глаза у него были влажные, а губы дрожали, бедняга Чинчиннато!
В другой раз в последних числах августа мы сидели с ним в глубине бульвара, а солнце уже скрылось за горами. Спящие окрестности иногда оглашались далекими голосами, непонятными шумами, сосновая роща темным краем тянулась к морю, в небе среди фантастических облаков тихо всходила медная луна.
Он смотрел на луну и шептал по-детски:
— Вот сейчас ее видно, а теперь нет… Опять видно… И опять нет.
Он на мгновение задумался.
— Луна… У нее и глаза, и нос, и рот, как у человека, она смотрит на нас и неведомо о чем думает, неведомо…
Он принялся напевать песенку, из тех, что поют в Кастелламаре, протяжную, грустную; на наших холмах она звучит пламенными осенними закатами, после сбора винограда. Издалека быстро приближались фары паровоза, похожие в темноте на два широко открытых глаза неведомого чудовища. Поезд проскочил с грохотом, оставляя за собой дым, послышался пронзительный свисток на железном мосту, затем тишина снова объяла бескрайнюю темную окрестность.
Чинчиннато поднялся.
— Мчись, мчись, — воскликнул он, — далеко, далеко, черный, длинный, как дракон с огненными внутренностями, их в тебя вдохнул дьявол… вдохнул…
Моя память навсегда запечатлела его выразительную фигуру в этот момент.
Внезапное появление паровоза на фоне погруженной в глубокий покой природы поразило его. На обратном пути он был задумчив.
* * *
Однажды в погожий октябрьский полдень мы отправились к морю. Блестящая, словно лакированная полоса четко отделяла бескрайнюю интенсивноголубую массу воды от опалового горизонта, рыбацкие лодки плыли парами, подобные огромным неведомым птицам с желтовато-алыми крыльями. За ними вдоль берега тянулись рыжие дюны, а дальше серовато-зеленое пятно ивняка.
— Огромное бирюзовое море… — говорил он тихо, словно самому себе, в голосе его звучало восхищение и ужас. — Огромное, огромное-преогромное, в нем водятся рыбы-людоеды, заперт в железном сундуке Кашей, он кричит, да никто не слышит, и он не может выбраться оттуда, а ночами приплывает черная лодка, кто ее увидит — умрет…
Он замолчал. Подошел к берегу так близко, что волны подкатывали к ступням. Бог весть что творилось в этой несчастной больной голове. Он видел пределы далеких светящихся миров, сочетания световых потоков, некий беспредельный, загадочный простор, разум его терялся среди этих миражей.
Это угадывалось в его несвязной, всегда красочной речи. На обратном пути он долго не произносил ни звука, а я все смотрел и смотрел на него, и сердце мое отзывалось на многие его странности.
— У тебя мама дома… Она ждет тебя… целует… — прошептал он наконец едва слышно и взял меня за руку.
Сияющее солнце садилось за горы, блики играли на поверхности реки.
— А твоя где? — проговорил я, с трудом сдерживая слезы.
Он заметил двух воробьев, присевших на дороге, поднял камешек и, словно прицелившись из воображаемого ружья, далеко зашвырнул его. Воробьи вспорхнули и помчались стрелой.
— Летите, летите! — напутствовал он, громко смеясь, провожая взглядом полет птиц в перламутровом небе. — Летите, летите!
* * *
Я уже давно заметил, что он изменился; казалось, у него постоянный озноб, он носился по полям, как жеребенок, пока, задыхаясь, в изнеможении не падал на землю, и лежал так часами, поджав колени к животу, неподвижный, с застывшим взглядом под неистовым полуденным солнцем. Вечером он набрасывал на плечо старый красноватый пиджак и прогуливался по площади крупными, плавными шагами испанского гранда. Он избегал меня. Не приносил больше ни маков, ни ромашек. Я страдал. Правду говорили бабки: этот человек заворожил меня. Однажды утром я решился и пошел ему навстречу, он не поднял глаз и покраснел как мак.
— Что с тобой? — спросил я возбужденно.
— Ничего.
— Неправда.
— Правда.
— Нет.
Я заметил, что он пламенным взглядом смотрит куда-то позади меня. Обернулся — на пороге лавочки стояла дородная девушка-простолюдинка.
— Тереза… — пробормотал Чинчиннато, побледнев.
Я все понял: бедняга видел в этой девушке обольстительницу из своего селения, из-за которой помутился его рассудок.
Два дня спустя они встретились на площади. Он приблизился к ней улыбаясь и прошептал:
— Ты прекраснее солнца!
Она закатила ему пощечину.
Вокруг вертелись мальчишки, они принялись шумно дразнить Чинчиннато; он стоял одинокий, потрясенный, бледный как полотно. В него полетели огрызки, один попал в лицо. Он бросился на мальчишек, рыча словно разъяренный, раненый бык, схватил одного и швырнул на землю, будто тюк с тряпьем.
* * *
Я видел из окна, как его вели в наручниках два карабинера, кровь струилась у него из носа по бороде, он шел под оскорбительные выкрики односельчан, ссутулившийся, униженный, дрожащий. Я проводил его взглядом, в глазах у меня стояли слезы.
Мальчишка-озорник, к счастью, отделался несколькими синяками — Чинчиннато выпустили через два дня.
Несчастный! Его было не узнать! Он помрачнел, стал недоверчивым, озлобленным. Иногда я видел, как он вечером по-собачьи юркал в грязные, темные переулки.
Однажды в прекрасный октябрьский день, когда солнце сияло на кобальтовом небе, его нашли раздавленным на железнодорожных путях, возле моста, — сплошное кровавое месиво. Одна нога, отрезанная колесами, была отброшена на двадцать шагов вперед, в волосах запеклась кровь, лицо без подбородка смотрело двумя распахнутыми жуткими зеленоватыми глазами.
Бедняга Чинчиннато! Ему захотелось увидеть поближе чудовище, которое мчится, как он говорил, далеко-далеко, черного длинного дракона с огненными внутренностями, как у дьявола.
ЛАЗАРЬ
Он стоял под тоскливым облачным небом возле хибары, отупевший, прямой; грязный свитер висел на нем мешком и морщил на тощих бедрах. Он смотрел на убогую, безмолвную, унылую деревню, на скелеты деревьев, выступавшие из низко стелившегося тумана, смотрел, и в его глазах разгорался недобрый огонек голода; хибара рядом, в полумраке, накрытая промокшими под дождем кусками парусины, напоминала огромное, костлявое животное с провисшей кожей.
У него уже целый день ничего не было во рту, последние крошки хлеба отдал утром сыну, этому чудовищу с распухшей, как на дрожжах, безволосой головой, похожей на большую тыкву; живот у Лазаря пустой, как этот барабан, в который он безнадежно бьет, чтобы какой-нибудь негодяй принес хоть сольдо на этого уродца-сына. Но кругом ни души, а младенец валяется там, на куче грязного тряпья, поджав тощие ножки к рахитичной голове, стучит зубами от озноба; и удары в барабан отзываются болью в висках Лазаря.
С темного неба сыпал неистовый, беспрестанный, пронизывающий до костей дождь, кровь холодела от него.
Барабанные удары ватно падали в эти бескрайние, печальные, осенние сумерки, даже эхо молчало. Лазарь, посиневший, замерзший, бил стоя в барабан, уставясь в сумерки, словно собирался проглотить их, и напряженно прислушивался от удара до удара, не послышится ли хоть пьяного выкрика. Он обернулся несколько раз посмотреть на этот кусочек плоти, натужно дышавший на куче тряпья, и встретил взгляд безутешного страдания.
Никто не появлялся. Из темного переулка выскользнул пес, пробежал мимо, поджав хвост, потом остановился за хибарой и принялся обгладывать невесть откуда взявшуюся кость. Барабан молчал, порывы ветра взметали под дубом высохшие листья, наступила тишина, слышался только хруст кости, капание воды, приглушенный хрип ребенка, хрип сродни тому, что вырывается из перерезанной глотки.


La pioggia nel pineto
Taci. Su le sogliedel bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole piú nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,
o Ermione.
Odi? La pioggia cade
su la solitaria
verdura
con un crepitío che dura
e varia nell’aria
secondo le fronde
piú rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al bianto il canto
delle cicale
che il pianto australe
non impaura,
né il ciel cinerino.
E il pino
ba un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancóra, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immersi
noi siam nello spirto
silvestre,
d’arbórea vita viventi;
e il tuo volto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
Ascolta, ascolta. L’accordo
delle aeree cicale
a poco a poco
piú sordo
si fa sotto il pianto
che cresce;
ma un canto vi si mesce
piu roco
che di laggiú sale,
dall’umida ombra remota.
Piú sordo e piú fioco
s’alienta, si spegne.
Sola una nota
ancor trema, si spegne,
risorge, trema, si spegne.
Non s’ode voce del mare.
Or s’ode su tutta la fronda
crosciare
l’argentea pioggia
che monda,
il croscio che varia
secondo la fronda
piú folta, men folta.
Ascolta.
La figlia dell’aria
è muta; ma la figlia
del limo lontana,
la rana,
canta nell’ombra piú fonda,
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,
Ermione.
Piove su le tue ciglia nere
sí che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pèsca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polie tra l’erbe,
i denti negli alvéoli
son come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intri ca i ginocchi)
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m’illuse, che oggi l’illude,
o Ermione.

Дождь в сосновом лесу
Тише. На полянахлесных я не слышу
слов твоих
человечьих. Я слышу,
как капли и листья
шепчут слова на странных
наречьях.
Послушай. Литься
продолжают капли
по веткам провисшим,
тяжелым лапам,
по чешуйкам сосновым,
колючим кронам,
листам зеленым
лавровым,
по мокрым кистям
и листьям дрока,
по цветам с душистым
тягучим соком,
по нашим одиноким
лицам
вода струится,
по ткани,
по легким чистым
одеждам
и по нежданным надеждам.
И дождь станет
лаской,
волшебной сказкой,
что прежде
тебя манила, меня так манит, о
Эрмиона.
Ты слышишь? Колышет
дождь печальные
ветки —
частые, редкие,—
меняя звучание
на кистях и листьях —
звонче, тише…
Послушай. Так близко
вторят хором
дождю цикады,
словно им не преграда
нависшее низко
небо и тучи.
И звучны
песни сосен и мирта
и говор дрока,
словно пальцами дождик
к струнам
прикасается странным.
И в юном
лесном мире
лишь двое
на поляне в роще,
и лицо твое строго
и вдохновенно,
кудрей сплетенья
пахнут неуловимо
цветами жасмина
и резедою,
о созданье земное,
чье имя
Эрмиона.
Слушай, слушай. Летучих
цикад стрекотанье
все глуше,
и тучи
все звонче плачут.
Тени
прячут в сплетеньи
ветвей набухших,
как тайну,
трескучий отзвук
далекий. Слушай,
звук гаснет.
Лишь влажный воздух
задержит эхо. Звук гаснет.
И снова дрожит. И гаснет.
Шума моря не слышно
за шумом капель. Листья
колышет
дождь серебристый,
звенит по лужам,
стучит торопливо
по иглам смолистым —
звонче, глуше, —
послушай.
Молчалива
дочь неба птица;
в глуши тенистой
за корягой
заговорила
дочь ила.
И влага на твоих ресницах,
Эрмиона.
Дождинки на черных ресницах,
кажется, что ты плачешь,
и на наши лица иначе
упала тени зелень,
словно с лесом нас породнила.
И сок жизни в жилах
хмелен,
и сердце плодом застыло
сладким,
и кажутся родниками
два глаза черных,
и зубы в деснах —
миндальные зерна,
и мы идем без оглядки,
и нам на поляне
оплетают ноги
травы стеблями,
мочат влагой росной,
и мы идем куда-то, куда же?!
По нашим одиноким
лицам
вода струится,
по ткани,
по легким чистым
одеждам
и по нежданным надеждам;
и дождь станет
лаской,
волшебной сказкой,
что прежде
меня манила, тебя так манит,
о Эрмиона.